Ефремов, Василий Сергеевич
Эскадрильи летят за горизонт
[1] Так помечены страницы, номер предшествует.
{1} Так помечены ссылки на примечания.
Ефремов В. С. Эскадрильи летят за горизонт. — М.: Воениздат, 1984. — 160 с. — (Военные мемуары). / Литературная запись А. М. Хорунжего // Тираж 65000 экз.
Аннотация издательства: Автор — известный летчик-бомбардировщик — более трех лет воевал в 33-м (впоследствии 10-й гвардейский Киевский Краснознаменный, ордена Суворова II степени) авиационном бомбардировочном полку в качестве командира звена, а затем эскадрильи. За успешное выполнение заданий командования был дважды удостоен высокого звания Героя Советского Союза. В воспоминаниях обрисованы многие боевые товарищи автора, хорошо показаны процесс совершенствования их летного мастерства, самоотверженность в боях и верность в дружбе.
Содержание
Вместо предисловия [3]
Первые испытания [5]
На киевском направлении [16]
Будем летать и ночью! [27]
Относительное затишье [43]
Летим на юг [57]
Сталинград [67]
Будни войны [91]
В наступлении [122]
На земле Белоруссии [149]
Академия. Служба. Встречи с прошлым [148]
Примечания
Вместо предисловия
Василий Сергеевич Ефремов, автор книги «Эскадрильи летят за горизонт», родился и вырос в Сталинграде, работал на заводе имени Куйбышева электриком. Когда страна призвала молодежь овладевать современной боевой техникой, быть готовой к защите границ Родины, многие сталинградцы пошли в военные школы. Среди них был и сын потомственного рабочего Василий Ефремов, избравший авиацию.
В 1939–1940 годах летчик В. Ефремов участвовал в советско-финляндской войне.
Когда началась Великая Отечественная, В. Ефремов в составе 33-го (впоследствии 10-й гвардейский Киевский Краснознаменный, ордена Суворова II степени) авиационного бомбардировочного полка с первого дня на фронтах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками.
За оборону Киева сталинградец Ефремов был награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды.
В суровые, грозные дни фронтовые газеты часто упоминали имя командира эскадрильи капитана Василия Ефремова, мастера бомбовых ударов, штурмовок и разведывательных полетов. В мае 1943 года мужество и боевое мастерство В. Ефремова были отмечены высшей наградой — званием Героя Советского Союза.
В Сталинградской битве Ефремов сделал более ста успешных боевых вылетов, уничтожил 11 самолетов, 15 автомашин с войсками и грузами, несколько зенитных прожекторов, зенитных орудий и много другой вражеской техники, а также две переправы на Дону и на Маныче. Командующий 8-й воздушной армией генерал Тимофей Тимофеевич Хрюкин не раз называл лучшим среди других летчиков Сталинградского фронта В. Ефремова.
В наступательных боях на Украине командир эскадрильи В. Ефремов снова днем и ночью, в одиночку и в группе [4] наносил бомбовые удары по немецко-фашистским войскам.
В августе 1943 года В. Ефремов вторично был удостоен звания Героя Советского Союза.
За годы войны дважды Герой Советского Союза В. Ефремов совершил более 340 успешных боевых вылетов, уничтожил 32 вражеских самолета на аэродромах и 4 — в воздушных боях, разрушал вражеские переправы на Днепре, Сейме, Десне, Ворскле, на Дону и на Маныче, уничтожил много военной техники и живой силы врага.
В Волгограде на проспекте имени Ленина сооружен бронзовый бюст героя. В. Ефремов является почетным гражданином этого города.
В 1967 году во время открытия памятника героям Сталинградской битвы В. С. Ефремову была оказана высокая честь: зажечь факел от Вечного огня на площади Павших борцов и доставить его на Мамаев курган.
В воспоминаниях «Эскадрильи летят за горизонт» автор рассказывает о своем пути военного летчика, о боевых товарищах и друзьях, с кем вместе уничтожал врага, будучи командиром звена, эскадрильи. В книге хорошо показано, как в сложнейших условиях боя формировались характеры героев — верных сынов Отчизны.
А. Чуянов,
бывший первый секретарь Сталинградского обкома и горкома партии в 1938–1946 гг., член Военного совета Сталинградского и Донского фронтов [5]
Первые испытания
Ровные ряды палаток на прибрежной возвышенности у реки Рось. Теплая украинская ночь. Летчики, молодые крепкие ребята, спят богатырским сном. По аэродрому, где стоят двухмоторные бомбардировщики СБ, неустанно шагают часовые, прислушиваясь к таинственным звукам уходящей ночи. В предрассветных сумерках проглядываются в полях очертания лесозащитных полос. Внизу, под обрывом, всплескивает в омутах крупная рыба, иногда в камышах крякнет сонная утка, в деревне прокричит петух, и снова все тихо.
И вдруг — труба горниста. В лагере гремит сигнал боевой тревоги.
Я скатился с широких нар, где спали еще пять человек, крикнул что есть силы: «Тревога!» — и стал быстро одеваться. Палатка наполнилась торопливыми шорохами, глухими со сна голосами. Я выскочил из палатки. Со всех концов лагеря бежали к аэродрому летчики, техники, радисты.
— Коля! — позвал я, обернувшись к палатке.
С Николаем Абдурахмановичем Хозиным мы друзья. Молоденькими летчиками вместе пришли в часть, вместе овладевали искусством полетов, дрались на Карельском перешейке зимой 1939/40 года. Николай за проявленную доблесть был награжден тогда орденом Красного Знамени, я — медалью «За отвагу». А в ту июньскую ночь, о которой веду рассказ, мы с Хозиным мчались на аэродром.
За последнее время боевые тревоги бывали часто — командование готовило нас к предстоящим боям. И на этот раз казалось нам, через час-другой прозвучит «Отбой», и мы проведем выходной день так, как условились вчера. Однако, прибежав на аэродром, сразу получили указание рассредоточить самолеты как можно дальше друг от друга, нарядить пулеметы, подвесить боевые бомбы, установить [6] дежурство стрелков-радистов за турельными пулеметами и даже отрыть щели для укрытия.
Перед восходом солнца мой экипаж уже устраивался на новом месте, за границей летного поля. Техники осматривали самолет, проверяли заправку бензином, маслом, водой. Заряжали оружие, сгружали с подошедшей машины бомбы. Я, старший лейтенант Михаил Николаев и стрелок-радист Иван Швец копали невдалеке от самолета узкую зигзагообразную щель. Когда вырыли ее на высоту человеческого роста, я выбросил наверх лопату, вытер платком струившийся по лицу пот и сказал ребятам:
— Ну, товарищи, отдохнем. Пойду посмотрю, что делается у соседей.
Выбравшись из щели на влажную траву, я привел в порядок одежду, подтянул потуже ремень, поправил кобуру пистолета и огляделся по сторонам.
Аэродром стал неузнаваем. Самолеты были разбросаны на огромной площади, вокруг деловито сновали люди, подъезжали автомашины, бензозаправщики, там и тут виднелись коробки из-под патронов, деревянная тара из-под бомб, стреляные гильзы и самое главное оружие бомбардировщиков — голубовато-серые громады бомб. Позади самолетов свежие отвалы земли обозначали только что отрытые щели. Из кабин самолетов раздавались отрывистые пулеметные очереди, которые перемежались цепочками разноцветных трасс. Все это было непохоже на учебную тревогу...
Взгляд останавливался на серебристых самолетах, готовых подняться в воздух. Мы любили наш скоростной бомбардировщик СБ, двухмоторный моноплан, вооруженный четырьмя пулеметами, поднимающий более тысячи килограммов бомб и экипаж из трех человек. Он уже потрудился в районе Халхин-Гола в боях с японскими милитаристами. На нем советские летчики помогали республиканцам защищать революцию в Испании, нанося удары по фашистским интервентам и по мятежникам Франко. На нем зимой 1939/40 года успешно бомбили и штурмовали войска Маннергейма. Сейчас СБ стал уже стареющим ветераном с небольшой, 350 километров в час, скоростью. Но все равно этот первенец скоростной советской авиации был хорош в бою...
К нам бежал Хозин.
— Ребята, война! — еще издали громко кричал он.
Новость так ошеломила нас, что в первый момент мы не поверили своим ушам. Но затем нас собрал командир полка полковник Федор Степанович Пушкарев и прочитал сообщение [7] о вероломном нападении гитлеровской Германии на Советский Союз. Окончив читать, Пушкарев призвал всех нас дать отпор врагу и уничтожать его, не жалея ни сил, ни самой жизни для грядущей победы.
Затем выступил заместитель командира полка по политической части батальонный комиссар Фадеев.
— Многие из вас, — сказал он, — уже били немецких фашистов в Испании, японских самураев на Халхин-Голе, сражались на линии Маннергейма в Финляндии. Коммунисты, летчики, штурманы, стрелки-радисты, инженеры и техники, поклянемся, что не выйдем из боя, пока не разгромим немецко-фашистских захватчиков, напавших на нашу Родину!
Над аэродромом и над рекой прогремело многоголосое «Клянемся!»...
Мой экипаж собрался в тени под крылом. Коренастый, загорелый до черноты техник-лейтенант Шаповалов, штурман Николаев, стрелок-радист Швец доложили о готовности машины к боевому вылету.
А вскоре полк получил задачу нанести бомбовый удар по артиллерийским позициям противника западнее города Сокаль.
Бомбардировщики быстро выстроились на старте по три для взлета звеньями, как и отрабатывали раньше. Из кабины своего СБ я посматриваю на командира звена старшего лейтенанта Еремина, прислушиваюсь к гулу моторов. Что-то у него не ладится, упорно не запускается левый мотор. Командир скатывается по плоскости на землю и, махнув рукой товарищам по экипажу, направляется к моему самолету. Его штурман и стрелок-радист, не снимая парашютов, тоже бегут к нам. Еремин еще издали подает руками знак «оставить самолет». И мне, как ни стремился участвовать в первом бою, пришлось вместе с товарищами освободить машину. Не успел экипаж Еремина разместиться в кабинах, как на старт уже вырулила последняя эскадрилья полка.
Отбрасывая упругие вихри воздуха и приминая траву, самолеты тройками устремлялись ввысь. Последними взлетели СБ Еремина и Хозина. Глядя на удаляющиеся самолеты, я и мои товарищи испытывали горечь и обиду.
Вдруг техник-лейтенант Шаповалов тронул меня за плечо:
— Товарищ командир, а вы на Ар-2 летаете? Инженер полка оставил на всякий случай в резерве Ар-2. Бомбы на нем подвешены, пулеметы заряжены, заправлен полностью. [8]
Руководитель полетов майор Архангельский не сразу согласился выпустить одиночный экипаж, который мог стать легкой добычей вражеских истребителей. Но все же дал мне «добро».
— Лети! — сказал он. — В случае опасности уходи в облака или переходи на бреющий...
На высоте двух тысяч метров нам открылись неоглядные просторы украинской земли. Под нами проплывали огромные желтые массивы хлебов, зеленые луга, змеясь, блестели тихие реки, синели леса. Прямо по курсу самолета, внизу, виднелся большой город.
— Приближаемся к Житомиру, — доложил штурман.
Вскоре мы догнали свой полк. Но в это время откуда-то снизу вынырнули вражеские истребители. Маневрируя, они выбирали удобную позицию. Один из них, переходя с одного фланга на другой, не заметил нас и оказался прямо перед носом Ар-2. Штурман несколькими длинными очередями спаренных пулеметов прошил «мессершмитт». Тот загорелся и сразу стал терять высоту. Но два других набросились на наш самолет, и мне пришлось искать защиты под огнем воздушных стрелков СБ. Загорелся еще один Ме-109 и, увеличивая угол, перешел в пикирование.
Мы заняли свое место в строю. Командир звена Еремин какое-то время с удивлением посматривал на незнакомый Ар-2, но, узнав меня, приветливо помахал рукой. Мы находились среди боевых друзей и потому по-настоящему испытали радость первого боевого вылета и первой победы...
На аэродроме самолеты быстро заруливали на свои стоянки. Автомашины и бензозаправщики подвозили бомбы, патроны, масло, горючее. Деловито суетились техники и механики. Штурманы и стрелки-радисты вместе с оружейниками заряжали пулеметы, подвешивали бомбы.
Я отошел в сторону, присел на пустой патронный ящик, закурил. Руки сжимались в кулаки, словно еще держали штурвал.
От самолета шел старший техник-лейтенант, мой друг Владимир Сумской. Форма на нем, как всегда, была хорошо подогнана и выглядела очень красиво: гимнастерка перехвачена в поясе широким ремнем, бриджи с безукоризненной складкой, хромовые сапоги начищены, синяя пилотка на кудрявой голове чуть сдвинута набок, даже пистолет в старой аккуратной кобуре с медным шомполом казался необходимой деталью его туалета.
— Я видел, как взлетел полк, — возбужденно заговорил он. — Видел, как построился, как лег на курс. Все было [9] сделано быстро и четко. И вдруг, представляешь, минут десять спустя какой-то «пират» бешено вырулил к центру аэродрома и словно прыгнул в воздух. Мы так и не смогли узнать, кто это был. Теперь я понял. Дай пожму твою руку.
Сумской, оказывается, побывал сегодня в Белой Церкви — получал там запчасти. Заодно заскочил домой повидать жену. Говорил и с моей женой Надей. Обе женщины собираются уезжать или в Воронеж, к его родным, или в Сталинград, к моим старикам.
Поговорив с Володей, я подумал, что для нас с ним и для Николая Хозина, наверное, были лучшие дни жизни, когда все трое ходили в гости к девушкам. Как было весело, а какие ужины готовили девчата! Мне стало грустно и немножко смешно. Вспомнился разговор перед женитьбой с заместителем командира нашей эскадрильи по политической части Анатолием Андреевичем Козявиным.
...Весна сорок первого года. Полк в лагерях. Я в палатке Козявина.
— Женитьба — дело хорошее, — говорит он, — но, понимаешь, время сейчас уж больно тревожное.
— Мне хоть денечка два.
— Вот разве что с субботы на воскресенье...
В воскресенье к обеду пришли Володя с женой и Николай со своей подружкой. Выпили за нас с Надей. Немного пошумели, спели несколько русских и украинских песен. Вот и вся свадьба. В шесть часов вечера все трое уехали в лагерь...
— Надя передала тебе сверток, — прервал мои невольные воспоминания Сумской.
На следующее утро полк направился тремя девятками, которые возглавил Пушкарев, в район Любачев, Ярослав, Яворов. Там воздушный разведчик Николай Хозин обнаружил в раннем полете скопление движущихся на восток войск противника.
Я шел в звене командира нашей эскадрильи капитана Рассказова. За Яворовом увидели большую колонну, двигавшуюся со стороны Ярослава. Пушкарев повел группу вдоль дороги, по которой, поднимая тучи пыли, по нескольку машин в ряд двигались танки, самоходные орудия, автомашины с солдатами, артиллерия, тягачи, цистерны. Ведущий покачал крыльями, и все летчики открыли бомболюки. На колонну обрушилось полтораста тяжелых бомб. Внизу взметнулись огромные столбы огня и дыма, забушевало пламя. Немецкие солдаты бросились врассыпную. Но зенитные орудия, скорострельные пушки и пулеметы, рассредоточенные [10] в колонне, ударили по нашим самолетам. Свинцовым ливнем ответили советские стрелки и штурманы.
В нашей эскадрилье вспыхнул СБ летчика Калина, и он направил горящую машину в гущу вражеской техники. Этот героический поступок произвел на нас огромное впечатление. Вскоре, теряя высоту, оставляя дымный след, потянул на свою территорию Панченко. Мы из пулеметов обстреливали разрозненные остатки фашистской колонны.
Много вражеских солдат, танков, автомашин, орудий навсегда остались на этом рубеже войны.
Так начались полеты. Полеты днем и ночью, в любую погоду. Личное отступило на задний план, все было подчинено одной задаче — борьбе с врагом. Несколько экипажей, считавшихся погибшими, через два-три дня возвратились в полк. Встречали их радостно, старались оказать особое внимание, заставляли по нескольку раз рассказывать о пережитом.
В первые дни войны всем в нашей эскадрилье запомнилась ничем особым не примечательная, но, в общем, довольно типичная история, происшедшая с лейтенантом Бочиным.
— И вот, значит, падаем, — рассказывал он. — Самолет горит. Над нами кружат два «мессера», но близко не подходят. У стрелка-радиста Егорова есть еще патроны, и он время от времени стреляет по фашистским истребителям. Перед нами поляна. «Держитесь!» — кричу и сажусь на фюзеляж. Треск, грохот, дым, пыль, огонь... В следующее мгновение выскакиваем из кабин и отбегаем в сторону, укрываемся за стогом сена. Наш СБ охвачен огнем. А «мессеры» настырно кружат над нами. Немецкие летчики спикировали по пять-шесть раз и улетели. Видимо, поняли, что расстрелять нас не удастся...
Где-то западнее Шепетовки посадил в поле свою поврежденную машину лейтенант Панченко. Штурмана Кравчука сильно бросило вперед, от удара он получил травму позвоночника.
— Я был беспомощен, — морщась от боли, рассказывал позже Павел Кравчук товарищам, — а гитлеровцы по очереди пикировали, стреляли из пушек. Но лейтенанту Панченко все-таки удалось вытащить меня из кабины. А стрелка пришлось похоронить там же, у маленького хуторка.
На попутных машинах Панченко доставил друга в полк. Теперь он выздоравливает, но передвигается пока плохо. И все же не теряет надежды, что снова будет летать...
Прошло совсем немного времени с начала войны, а как [11] изменились люди: стали инициативными, находчивыми, бесстрашными в бою. Хозин, Корочкин, Панченко, Бочин, Рассказов, Козявин, Хардин, Скляров... Каждый из них вносил в тактику боя что-то новое, необходимое для успешной борьбы с врагом.
За последние дни произошли некоторые изменения в экипажах нашей 3-й эскадрильи. Командир звена старший лейтенант Еремин перешел во 2-ю эскадрилью, я принял его звено. Здесь были самые молодые летчики Василий Панченко и Петр Бочин, штурманы лейтенант Дмитрий Чудненко и старший лейтенант Иван Зимогляд. Вместо стрелка-радиста Швеца со мной стал летать старший сержант Петр Трифонов, старожил полка, опытный воздушный боец.
Командование полка рассредоточило эскадрильи по разным площадкам. Наша перебазировалась на поле, к которому полукругом подступал лес. Место оказалось удобным для работы. А километрах в пяти от нашего нового аэродрома в мареве летнего дня угадывались контуры Белой Церкви, что стала родной нам за время службы, ведь там находились наши близкие.
Я подошел к группе летчиков и техников. Хозин, Орлов, Николаев, Сумской, Бочин, Шаповалов обсуждали события последних дней. В связи с приближением фронта всех волновал и другой вопрос: как быть с семьями?
— Смотрите! — вдруг пронзительно крикнул кто-то.
В ясном небе четко обозначились силуэты тяжелых самолетов. Они шли в направлении городка растянутым клином.
— Ю-88! — уверенно произнес Бочин.
На северо-западной окраине Белой Церкви взметнулись клубы черного дыма.
— Эх, будь я истребителем! — вздохнул Бочин. — Не один фашистский стервятник сгорел бы здесь!
Последние слова лейтенанта покрыл оглушительный грохот. В направлении городка пронесся бомбардировщик Пе-2. Распластавшись над землей, он в стремительном полете гнался за «юнкерсами».
— Один против восемнадцати, — произнес кто-то.
Пе-2 между тем сближался с группой вражеских самолетов. Вот он нагнал их и одного обстрелял снизу.
Фашистский летчик резко отвернул, стараясь выйти из-под удара. Но Пе-2 всем своим корпусом врезался в Ю-88. Вверх рвануло огненное облако. На землю полетели пылающие обломки. Немецкие самолеты, шарахнувшись в разные стороны, продолжали уходить на запад. [12]
— Вот как нужно биться с фашистами, — уважительно сказал Бочин.
— Вечная память герою! — склонил голову Шаповалов и снял пилотку. Остальные тоже обнажили головы, отдавая дань бесстрашному соколу...
Над нами внезапно пронесся самолет. Спустя десять минут на поляну вышли трое в синих комбинезонах, с кожаными планшетами, висевшими на длинных ремнях. Двое сняли шлемы и, как видно, не особенно внимательно слушали третьего, который, размахивая руками, что-то им доказывал. Несмотря на жару, он был в шлеме и летных выпуклых очках, сдвинутых на лоб.
Все обменялись приветствиями с экипажем Игоря Сидоркина, который летал на разведку и, очевидно, сейчас докладывал командиру полка что-то важное о передвижениях врага. Раскрасневшийся от возбуждения, Сидоркин сообщил, что в районе Броды, Берестечко, Дубно идут сильные наземные бои. Вокруг все горит. Переднего края нет. На дорогах немецкие танки, бронемашины, самоходная артиллерия, мотопехота. Противник повсюду встречал наш самолет зенитным огнем.
— Мы им тоже хорошо всыпали, — сказал стрелок-радист Иван Вишневский. — Я использовал все патроны двух пулеметов.
— Ну это для них, что слону дробина, — свертывая козью ножку, заметил Сидоркин.
К нам подбежал боец, обратился к комэску капитану Константину Ивановичу Рассказову:
— Из штаба передали: быть в готовности к полету. Бомбы оставить те же, только заменить взрыватели.
— На какие?
— Не запомнил.
— Надо запоминать! — укоризненно заметил Рассказов. — Птичкин!
— Есть Птичкин! — протиснулся к командиру эскадрильи старший техник-лейтенант.
— Уточнить в штабе, какое требуется замедление, и установить нужное время на всех взрывателях, — строго предупредил Рассказов.
Мы вылетели двумя девятками. Группу вел капитан Рассказов со штурманом капитаном Мауричевым и начальником связи полка младшим лейтенантом Лазуренко. Я шел замыкающим во второй девятке справа и потому чувствовал себя свободнее, чем другие летчики, стесненные плотным строем. За переплетами кабин видел лица товарищей, уже побывавших [13] в горячих схватках с врагом: Хардина, Барышникова, Сидоркина, Шабашева, Матвеева, Баталова, Бочина, Склярова, Панченко... Это были лучшие экипажи полка. Девятки, построившись клином, безукоризненно выдерживали интервалы и дистанции. Невольно подумалось: «Если бы нас, вот таких, было раз в десять больше». А мы несли потери. Не стало моего друга Николая Хозина и его штурмана Орлова. Будучи в разведке, они передали по радио важные сведения о передвижении вражеских войск, но до аэродрома не долетели. Израсходовав все боеприпасы в воздушном бою, ребята таранили фашистский самолет... Нет уже экипажа старшего лейтенанта Храпая. Под Бродами он направил свой подбитый, загоревшийся самолет на мост через речку Шора, возле которого скопилось много фашистских машин. Вместе с летчиком погибли его боевые друзья штурман лейтенант Филиппов и стрелок-радист Тихомиров...
Замысел капитана Рассказова мы поняли немного позже. Солнце уже клонилось к горизонту, когда мы, углубившись в тыл врага, развернулись на восток и стали снижаться. Впереди темнел большой лесной массив, невдалеке от которого тянулась ровная, как стрела, дорога. Вражеская колонна растянулась километров на тридцать. Мы снизились до четырехсот метров. Проходя точно над колонной, сбросили бомбы короткими сериями. Промахов не было: внизу бушевал огонь, горели танки, бронемашины, самоходки.
Мой самолет, вздрагивая от взрывных волн, пронесся над врагом. Колонна, разорванная во многих местах бомбовым шквалом, остановилась. Огромная масса солдат в панике ринулась прочь от дороги.
Сбросив бомбы, наша группа принялась обстреливать пехоту. Гитлеровцы, очевидно, приняли наши самолеты за свои бомбардировщики и кое-где выбросили в стороне от дороги сигнальные полотнища. А пламя завершало начатое дело и на обочинах, и на дороге...
В этом бою лишь две наши машины получили незначительные повреждения. Оказывается, враг не так страшен, если действовать умело и продуманно, если больше проявлять инициативы и смелости в бою.
* * *
Наскоро поужинав, летчики разошлись по своим палаткам. Тяжелые дождевые тучи плотно закрыли небо. Тревожно, как осенью, шумел лес.
Ворочаясь с боку на бок, я долго не мог заснуть. Перед глазами проносились вершины деревьев, автомашины, застывшие [14] на дороге, искореженные орудия, сигнальные полотнища, падающие немецкие солдаты...
Утром следующего дня я получил задание вылететь со своим звеном в район Сквиры, чтобы соединиться там с группой самолетов и вместе с ними лететь в Броды на по» давление артиллерийских позиций врага.
Ведомые Вочин и Панченко сразу пристроились к моему самолету крыло в крыло. Готовые к бою стрелки-радисты полоснули в небо пробными очередями. Это взбодрило.
— Вот и Сквира. Впереди два звена, к которым будем пристраиваться, — доложил штурман Николаев.
Я слегка качнул крыльями и увеличил обороты моторов. Бочин и Панченко следовали за мной. Все шло нормально, но идущие впереди растянулись на километр. Дистанция между нами не сокращалась. Я выжимал из моторов все, на что они были способны, однако приблизиться к группе не удавалось.
А время шло. Внизу проплыл Житомир, уже показался Новоград-Волынский. Но самолеты продолжали идти отдельными группами.
Под нами раскинулись Броды. Внизу блеснули на солнце крылья взлетающих самолетов. Вскоре первое звено было атаковано вражескими истребителями, затем на него обрушилась зенитная артиллерия. Стали падать сбитые бомбардировщики, вслед за ними рухнул взорвавшийся в воздухе немецкий истребитель. «С первым звеном покончено», — с ужасом подумал я. В следующее мгновение четыре «мессершмитта», вынырнув снизу, атаковали второе звено. Бомбардировщики сбросили бомбы и стали разворачиваться, отстреливаясь из всех пулеметов.
Я дал сигнал своим ведомым и, резко снижаясь, на предельной скорости устремился вперед. Только так можно было избежать встречи с вражескими истребителями и нанести бомбовый удар по цели. Но артиллерийских позиций мы так и не обнаружили. Зато на железнодорожной станции Броды оказалось несколько эшелонов и скопление войск.
Николаев сбросил стокилограммовые бомбы на железнодорожный путь. Вспыхнули вагоны, загорелась станция, в панике забегали солдаты. Убедившись, что ведомые хорошо держатся в строю, я снизился еще немного. Штурманы и стрелки-радисты открыли пулеметный огонь по скоплениям машин и фашистских солдат.
Выйдя из боя, мы увидели, как высоко слева уходил от преследования истребителей наш маленький, юркий Ар-2, [15] а справа медленно летел еще один бомбардировщик, с дымящимся левым мотором. Фашистские летчики опомнились только тогда, когда по ним ударили сзади шесть пулеметов нашего звена. Один из истребителей был сбит и врезался в землю. Другой, получив повреждение, сел в поле, оставив за собой густые клубы дыма и пыли.
Как только звено приземлилось на родном аэродроме, к моему самолету подъехала эмка, из которой вышли Рассказов и Козявин.
Я подробно доложил о перипетиях неудачного вылета. К этому времени появился и поврежденный бомбардировщик, с трудом опустившийся на летное поле. К концу моего доклада подъехала машина с Шаповаловым и его штурманом Ивановым. Они доложили командиру почти все то, что и я, но при этом не пощадили ведущего группы.
Внимательно всех выслушав, Рассказов поручил адъютанту эскадрильи Виктору Шестакову составить обстоятельное донесение в полк.
— Об ошибках командира звена Ермакова я сообщу сам, — сурово произнес капитан и уже другим тоном добавил: — А сейчас — отдыхать.
Летчики разошлись к самолетам. Мы с Николаевым уселись на ящике недалеко от нашего СБ, а Трифонов, забравшись в кабину, занялся пулеметами.
— Привет мастерам бомбовых ударов!
Перед нами стоял старший техник-лейтенант Сумской. Как и все, кто оставался на земле, Володя с болью встречал искалеченные в бою самолеты, опаленных огнем друзей. Эти люди всячески старались охранять покой летчиков на земле, а потому взяли на себя самый тяжелый труд — подготовку машин к полету. Мы в свою очередь тоже не гнушались никакой работы, охотно помогали техникам и оружейникам. Эта взаимная забота скрепляла коллектив узами дружбы и товарищества.
— Чем порадуешь, Володя?
— Во-первых, вот этим, — он протянул мне и Николаеву по пачке «Казбека».
Я с удовольствием принял подарок.
— Бери и мои! — отдал свою пачку штурман. — Нашел чему радоваться! Будь я командиром эскадрильи, всем бы запретил курить в приказном порядке.
— Тогда держи это, — Сумской протянул Николаеву две большие конфеты в красивой обертке.
— Это другое дело, — хмыкнул штурман и спросил: — И где только ты умудрился достать такие дорогие подарки? [16]
— Конфеты и папиросы — ерунда, — серьезно сказал Сумской. — Сегодня рано утром мы с пятью техниками общими усилиями отвезли на вокзал двадцать пять семей и разместили их для отправки...
После обеда три экипажа пошли на разведку: я — на северо-запад, в сторону Коростеня, Бочин — на запад, к Тернополю, Сидоркин — к Виннице. Осмотрев заданный район, я вышел к Коростеню. В безоблачном небе группа советских бомбардировщиков вела бой с немецкими истребителями. На земле тоже шел бой.
Выполнив задание, мы подходили к Житомиру с северо-запада. По шоссе двигалась к городу большая колонна войск.
Я энергично развернул машину в сторону шоссе и крикнул Николаеву, чтобы приготовил пулеметы.
Низко пластаясь над землей, самолет пересек колонну, паля из пулеметов. Фашисты не успели сделать и десятка прицельных выстрелов, как мы исчезли.
Под Бердичевом по нас ударила зенитная артиллерия, и шапки черных разрывов повисли совсем рядом.
— И здесь немцы! — со злостью крикнул Николаев.
Из-под кромки мощного облака вывалился самолет и, крутясь по спирали, врезался в землю. На большой высоте тоже, оказывается, шел воздушный бой.
Вернувшись домой, мы доложили командиру о результатах разведки. Всех поразило, что враг уже захватил Житомир и Бердичев...
На киевском направлении
В начале июля фашистские полчища вышли большими силами на киевском направлении к Житомиру, Бердичеву, Казатину. Войска нашего Юго-Западного фронта наносили контрудары по врагу с востока, а части и соединения 5-й армии атаковали гитлеровцев со стороны Коростенского укрепленного района, сковывая тем самым значительные силы гитлеровцев на решающем направлении. Завязались ожесточенные бои, в результате которых силы сторон временно уравновесились.
Но фронт стабилизировался ненадолго. Немецко-фашистское командование выдвинуло на левом фланге заслон против нашей 5-й армии. Вражеские войска прорвали оборону Юго-Западного фронта на житомирском и бердичевском направлениях. [17]
Чтобы дать возможность соединениям и объединениям Юго-Западного фронта организованно отойти на новые позиции, 5-я армия опять ударила по флангу вражеской группировки на рубеже Малин, Бородянка.
Обстановка на фронте резко менялась, склоняясь в пользу то одной, то другой стороны. Именно поэтому с 10 по 16 июля советская авиация беспрерывно бомбила и штурмовала немецко-фашистские войска. И хотя наши бомбардировщики летали небольшими группами, их действия были эффективными, помогали сдерживать натиск противника и обеспечивать организованный отход своих соединений. Малочисленность же самолетов компенсировалась большим количеством вылетов. Этому способствовало то, что базировались они в то время всего в десятках километров от линии фронта.
Летчики нашего полка работали так же напряженно: бомбами и огнем пулеметов они громили врага, содействуя то войскам 5-й армии, то механизированным корпусам, действовавшим под Житомиром и Бердичевом...
Ранним утром 11 июля мы с техником тщательно осматривали мой СБ, проверяя обшивку, шасси, моторы. Накануне я вел разведку в районе Казатин, Житомир, Коростышев и внезапно был атакован истребителем И-16 над территорией, занятой противником. Увидев, как пулеметные трассы проносятся над кабиной, я крикнул Трифонову:
— Куда смотришь? Бей фашистскую гадюку!
— Да это же наш истребитель, — ответил стрелок-радист. — Я ему подаю сигналы «Мы — свои», а он нахально подходит почти вплотную и стреляет.
— Подпусти поближе и бей наверняка! Истребитель, видимо, был захвачен фрицами. Сбить его надо любой ценой!
Через одну-две минуты снова застрочил пулемет Трифонова.
— Командир, есть! — крикнул он. — Угодил прямо в мотор...
На подходе к Житомиру я вынужден был выключить левый мотор — в нем резко, скачками, стала расти температура воды и масла. С трудом дотянули до аэродрома. Техники принялись за ремонт.
Поздно вечером теперь уже комиссар полка Фадеев собрал открытое партийное собрание полка.
— Товарищи, — начал он взволнованно. — Над столицей Советской Украины — Киевом нависла опасность. Враг [18] прорвался через боевые порядки советских войск в районе Житомира, его механизированные части движутся по шоссе к Коростышеву. Красная Армия сдерживает этот натиск, но силы неравны, и мы вынуждены отходить в направлении Фастова и Киева... Нашим наземным войскам нужна помощь с воздуха. Нужна безотлагательно. Им необходимо закрепиться на местности, иначе враг может выйти к окраинам Киева. Опасность огромная. Завтра с рассветом вылетаем в бой. Командиров прошу разъяснить всем летчикам и техникам сложность и серьезность задачи. Мы должны, понимаете, должны разгромить и остановить передовые отряды фашистов... Уверен, что примером для остальных будут действия коммунистов и комсомольцев.
С короткими, но выразительными речами выступили коммунисты — командиры звеньев Матвеев, Корочкин, Барышников, командир эскадрильи Шабашев, техник звена Шаповалов. Они заверили командование, что не пощадят своей жизни, чтобы образцово выполнить любое сложное и опасное задание.
С восходом солнца шесть наших звеньев взлетели друг за другом и взяли курс на Житомир и Коростышев. Звенья вели командир полка Пушкарев, его заместитель Головин, командиры эскадрилий Шабашев, Рассказов и комиссар эскадрильи Козявин.
Мы выполнили свою задачу: разгромили вражескую автоколонну, оставив на дороге груды разбитой техники и сотни трупов...
Вернувшись домой, я решил немного поразмяться в ожидании заправки и подвески бомб. На душе было грустно: я знал, что после выполнения очередного задания приземлюсь уже на другом аэродроме, за Днепром. Забравшись в кабину, сказал об этом технику Шаповалову.
— Я уже слышал. Нам приказано приготовиться к перебазированию, — ответил он.
— Советую всю дорогу держать ухо востро, — заметил я. — Раздай патроны младшим специалистам. Пусть зарядят винтовки и карабины и держат их наготове. Помни: небольшие отряды фашистских мотоциклистов просачиваются и сюда, в наш тыл.
Пожав руки товарищам, члены моего экипажа стали готовиться к вылету.
Наш полк в тот день израсходовал все боеприпасы и горючее, разгромил несколько колонн врага, взорвал мост через реку Тетерев и произвел посадку восточнее Киева. [19]
К заходу солнца мы прочно обосновались на новом месте. Рассредоточили и замаскировали самолеты, отрыли глубокие зигзагообразные щели.
Летчики, штурманы и стрелки-радисты разместились в пустующей школе. В полку теперь едва насчитывалась половина состава летчиков, поэтому звенья были сведены в две эскадрильи, одной командовал Рассказов, другой — Шабашев.
Выбрав свободное время, комэск и комиссар осмотрели наше общежитие.
— По-моему, здесь неплохо, — подытожил свои впечатления Козявин. — Помещение светлое, просторное. Только нужно наверти чистоту. Пусть этим займутся командиры звеньев. Коек еще нет, а потому придется набить матрасы соломой.
— Да отоспитесь как следует, пока не подвезли горючее и бомбы, — посоветовал Рассказов.
— Поспать — дело полезное, — засмеялся Корочкин. — Не вредно бы и поужинать. Чтобы сон был крепче.
— А врачи говорят, что ужин перед сном вреден — всю ночь будут мучить кошмары, — лукаво заметил Козявин.
— Ха, кошмары, — хмыкнул краснощекий Барышников. — Мы сегодня такого насмотрелись — на всю жизнь хватит.
— Верно, ребята, поработали мы здорово, — поддержал Барышникова комиссар. — И что самое главное: полк не имеет ни одной потери. А ведь враг стрелял, как и в любом другом бою. Видимо, мы в чем-то превосходили его и на этот раз.
— Безусловно, — продолжил мысль Козявина комэск. — Удары наносились по нескольким целям одновременно, внезапно и смело, большим количеством групп, с разных аэродромов. Группы умело маневрировали, сочетали малые высоты с бреющими полетами. Противник просто растерялся. Но иногда мы все же действуем плохо, — с горечью заметил он. — Взять хотя бы полет Ермакова под Броды, где он потерял половину эскадрильи. Или налет эскадрильи Белова на танковую колонну. Наши пятнадцать минут утюжили воздух на виду у врага: никак не могли найти колонну длиной в пятнадцать километров! И к чему это привело? Немцы заранее изготовились и первым же залпом сбили два самолета, в том числе и командира эскадрильи Белова.
— Ефремов, так было дело? — прищурившись, спросил Козявин. [20]
— Да, все верно, — подтвердил я. — Самолет командира взорвался. Я пытался к кому-нибудь пристроиться, да где там! Так и пришел домой один.
— Поэтому и говорим все время: извлекайте уроки из каждого полета, не повторяйте ошибок, учитесь... Ну а теперь перейдем от теории к практике и первым делом накормим наших орлов, — подытожил Козявин.
— Председатель колхоза «Жовтень» обещал помочь нам, пока прибудет батальон аэродромного обслуживания, — сообщил Рассказов. — Пойдемте посмотрим, что успели подвезти в столовую колхозники.
В небольшом школьном саду под старым деревянным навесом стояли уже накрытые столы, уставленные едой. Мягкий летний вечер, окутанный тишиной, предвещал нам первую с начала боевых действий спокойную ночь...
Утром следующего дня Бочин, Панченко, Сидоркин и я пошли знакомиться с селом. Вдоль центральной улицы во дворе каждого дома пышно цвели цветы, зрели яблоки, груши, сливы. Остановились у большого пруда. Берега его густо заросли осокой. До самой воды опускались ветви огромных верб.
«Отличное место для рыбалки», — подумал я. Но любоваться природой не было времени. Мы зашагали обратно.
В просторном общежитии шла предварительная подготовка к полетам. В одном углу под руководством Трифонова занимались стрелки-радисты. Штурманы особой группы уселись на койках, развернув на коленях карты района боевых действий. Их консультировал штурман полка капитан Мауричев. Летчики углубились в таблицы иностранных самолетов...
Ранним утром следующего дня в деревню втянулась большая колонна автомашин, запрудившая улицу у школы. Громкие голоса людей, гудки сирен, рокот моторов разбудили летчиков. Мы выскочили на улицу. А с машин прыгали уставшие от долгой тревожной дороги техники, механики, мотористы, летный запасной состав, работники штаба.
Я отыскал машину Сумского. Володя, как всегда подтянутый и свежий (кажется, к нему одному не пристала пыль), помогал Кравчуку выбраться из машины.
— Да ты уже ходишь? — обрадовался я, увидев Кравчука, опиравшегося на палочку.
— Надеюсь, еще и полетаю, — как-то смущенно отозвался он.
Машины опустели. Только на одной, заполненной доверху [21] различными вещами, сидели две закутанные в платки женщины.
— Эй, девчата, вы чьи? — спросил Бочин.
— Нам нужна столовая. Мы официантки, — звонко проговорила одна из них, снимая платок и стряхивая с него пыль.
— Так это здесь! Спускайтесь. Мы поможем.
Одна из девушек оказалась рослой и сильной, вторая — маленькой, с симпатичным личиком и выразительными голубыми глазами. Рослую девушку звали Тоней, ее подружку — Галей...
После настоящего обеда, приготовленного нашим поваром, командир собрал летчиков и объявил приказ: небольшими группами бомбардировщиков содействовать войскам 5-й армии, наносящей из районов Малина, Бородянки контрудар по противнику.
И снова началась непрерывная боевая работа: аэродром, маршруты за Днепр, бомбежка врага, воздушные бои. И опять мы теряли товарищей.
Но это было без меня. С группой пехотинцев я шагал в это время по лесной дороге за тремя подводами на северо-восток, в направлении железнодорожной станции Ирпень.
Сегодня во второй половине дня наше звено с высоты пятисот метров атаковало скопление немецких машин и войск южнее Малина. Эта колонна двигалась к полю боя на помощь своим частям, отступавшим под натиском воинов 5-й армии. Мы застигли врага врасплох, машины не успели рассредоточиться, а пехота еще оставалась в кузовах, когда на них обрушились бомбы. Барышников, качнув крыльями, начал разворот для новой атаки. Впереди в клубах дыма и огня летчики увидели брошенную колонну горящих машин и бегущих по полю солдат. Самолеты открыли огонь из пулеметов. Затем, проскочив над колонной, Барышников развернулся на восток и стал набирать высоту. «Промчаться бы сейчас на бреющем, да еще разок рубануть по фашистам», — подумал я и сейчас же увидел внизу, на фоне зеленого поля, несколько истребителей с тонкими фюзеляжами, мчавшихся навстречу.
— Смотри, сзади «мессеры», — крикнул я стрелку. — Передай другим экипажам.
Вскоре загремели пулеметы трех бомбардировщиков. В течение пяти минут мы успешно отражали атаки врага. Послав длинную пулеметную очередь, от которой завибрировал СБ, я услышал ликующий крик: «Мессер» горит!» Но стрелок тут же подавленно сообщил, что кончились патроны. [22] .. А вскоре пушечная очередь «мессершмитта» прошила крыло нашего самолета. Левый мотор сразу заглох, и мы начали отставать от своих. Фашисты обнаглели и с коротких дистанций стали расстреливать нашу безоружную машину. Вспыхнуло левое крыло. Я бросил СБ вниз и заскользил вправо, пытаясь сбить пламя. Но все было напрасно, огонь разгорался и внутри фюзеляжа. Пламя уже обжигало мне спину.
— Прыгай! — крикнул я штурману, и он тут же выполнил приказ, за штурманом последовал и стрелок-радист. Я в последний раз осмотрел свой самолет: винт левого мотора не вращался, крыло было охвачено пламенем. И еще на мгновение я увидел совсем рядом лица двух гитлеровских летчиков: они равнодушно расстреливали машину, ожидая конца.
«Ну нет, гады! Я умирать не собираюсь! Мы еще встретимся!» — закричал я и погрозил фашистам кулаком.
Парашют раскрылся на высоте около ста метров, сильно встряхнув меня. Опустился в каком-то селе, прямо на огород вблизи небольшой хаты. Ко мне подбежал мальчик лет двенадцати.
— Немцы есть? — спросил я.
— Есть красноармейцы, — ответил парнишка, помогая мне собрать парашют.
Потом, шагая вместе через грядки, мы вышли на площадь. Там я увидел группу красноармейцев и три запряженные повозки. Бойцы молча кивнули в ответ на мое приветствие.
— Это ты опустился на парашюте? — спросил молодой, обвешенный оружием лейтенант-пехотинец.
— Да. А моих товарищей, штурмана и радиста, не видели?
Лейтенант отрицательно покачал головой и предложил:
— Пойдем с нами. Мне удалось собрать двадцать восемь человек. Имеем пятнадцать винтовок, немного патронов и три подводы с ранеными.
Лейтенант, в выгоревшей, просоленной потом гимнастерке, сбитых кирзовых сапогах и лихо сдвинутой на ухо пилотке, производил впечатление бывалого вояки. Я не раздумывая принял его предложение.
В вечерних сумерках группа покинула деревню. Впереди на худых лошадях ехали два разведчика, за ними шагали два бойца с винтовками, а в двухстах метрах позади двигались подводы с ранеными и обессиленными бойцами. Остальные шли следом, с винтовками через плечо. [23]
За околицей к нам подошел крестьянин и спросил, не можем ли взять с собой раненого летчика, при этом он махнул рукой в сторону брички, стоявшей у обочины дороги. Я направился к ней и увидел Николаева.
— Что с тобой?
— Да, кажется, ничего страшного, — закряхтел он, пытаясь приподняться. — Понимаешь, парашют раскрылся не полностью. Ну и ударился о землю на увеличенной скорости. Спасибо, деревья смягчили удар. А сейчас все болит, особенно правое бедро.
Подбежали красноармейцы. Узнав, что пострадавший — штурман моего экипажа, бережно перенесли его на свою подводу.
— Ох и тяжелый ты, старший лейтенант! — смеялись бойцы, укладывая Николаева на сено.
— Какое там тяжелый, — отмахнулся штурман. — Это, ребята, вы отощали...
В середине ночи я вызвался сменить передового дозорного. Обогнав пеших, вскоре поравнялся с двумя конниками. Один из них уступил свою лошадь, а сам остался у дороги, поджидая обоз.
Под утро мы с напарником заметили далеко впереди светящуюся багровую точку. А вскоре оба убедились, что в лесу у дороги горит костер. Оставив товарища продолжать наблюдение, я побежал к основной группе.
В нескольких словах объяснил лейтенанту обстановку. Посоветовавшись между собой и с Николаевым, мы решили выслать разведку, чтобы затем атаковать, если это окажутся фашисты. На месте оставили раненых и человек пять охраны. Остальные двинулись вперед, маскируясь в лесу.
Увидев зарево костра, лейтенант остановил людей и подозвал двух бойцов, которых, очевидно, хорошо знал. Выслушав командира, они бесшумно растворились в темноте ночи. А через несколько минут один из разведчиков внезапно вынырнул из кустов и доложил:
— Товарищ командир, фрицы! Совсем недалеко, метрах в двухстах... На поляне у опушки стоит танк. Костер угасает, видно, спят. Их не больше десяти. Невдалеке — три мотоцикла с колясками и пулеметами.
— Ну, командир, действуй, — шепнул я.
— Не беспокойся, — ответил лейтенант. — Мы расколошматим их в два счета, если, конечно, к ним не подойдет подкрепление. А ты иди к повозкам. Услышишь выстрелы, гони галопом вперед по дороге. [24]
Пока лейтенант шепотом объяснял задачу бойцам, я напряженно вслушивался в тишину, но не мог уловить ни треска сучьев, ни малейшего звука. Тишина стояла такая, будто на много километров вокруг не было ни единой живой души. Постояв немного, я направился к повозкам. Потом вернулся на прежнее место и, томясь ожиданием, ругал себя за то, что не пошел вместе со всеми. Наконец вдали блеснул огонь разорвавшейся гранаты. Гулкое эхо прокатилось по лесу. Вслед за ним грохнул слитный залп винтовочных выстрелов, прострочил автомат, раздалось еще несколько выстрелов, и все смолкло.
Через несколько минут повозки на рысях промчались мимо небольшой полянки, освещенной ярким пламенем: там только что закончилась короткая, решительная схватка.
— Танки и мотоциклы удалось сжечь, — возбужденно говорил лейтенант. — У них, оказывается, не было горючего. Мы слили все, что осталось, и подожгли машины. Все десять гитлеровцев уничтожены. Кое-какие документы и пять автоматов мы прихватили с собой...
Остальную часть ночи и половину дня группа находилась в пути и наконец прибыла на станцию Ирпень. Оставив бойцов в тени кирпичного здания, мы с командиром группы и со штурманом Николаевым отправились искать коменданта.
На станции было оживленно. На путях разгружались эшелоны. К вагонам подвозили на повозках раненых. Близость фронта ощущалась во всем.
Комендант в звании майора отдавал десятки приказаний, отвечал на вопросы, бегал куда-то сам. Но все же с интересом выслушал нас.
— Так, так, — перебил он доклад лейтенанта. — Вам удалось добить тех, кто пытался вчера вечером захватить станцию. У них было три танка и несколько мотоциклов. После короткого боя мы подбили один танк и уничтожили нескольких мотоциклистов. Остальные ушли в лес, но все-таки умудрились каким-то образом вывести из строя паровоз... Немедленно грузите своих раненых вон в тот эшелон, — уже иным тоном посоветовал майор, указывая на санитарный поезд. — Немецкие автоматы и документы сдать. Группу накормить, я напишу записку. И ждать указаний. Вас и вашего штурмана, лейтенант, — комендант повернулся ко мне, — не задерживаю. Можете ехать до Киева любым поездом. Все. Желаю успехов.
Мы с Николаевым тепло распрощались с бойцами. [25]
Переночевали на Киевском вокзале, а утром, проехав немного трамваем, пошли пешком к Днепру. Николаеву о трудом давался каждый шаг. Передвигался он с помощью большой суковатой палки. Приходилось часто устраивать передышки. Остановились на мосту через Днепр, вдыхая свежий запах воды и подставляя разгоряченные лица под струи влажного ветра.
Насмотревшись на широкое приволье зеленых островов, на утопающее в дымке левобережье, двинулись дальше. Вдруг возле нас остановилась грузовая машина.
— Эй, Ефремов, Николаев! Давайте сюда! — кричали знакомые голоса.
— Ба! Да это же Корочкин со своим экипажем! — обрадованно воскликнул мой штурман.
Удобно устроились в кузове на душистом сене. Долго длились взаимные расспросы. А когда улеглось возбуждение, вызванное столь необычной встречей, принялись анализировать последние события.
— Вас атаковали те же истребители, что сожгли и наш самолет, — высказал предположение Корочкин. — Немцы следят за пролетом бомбардировщиков через линию фронта и обратно. И нападают преимущественно, когда бомбардировщики возвращаются с задания. До тех пор пока мы летаем без прикрытия истребителей, стрелкам-радистам нужно вообще запретить расходовать боеприпасы по наземным целям! — безапелляционно заявил он. — А еще — нам необходимы собранность, дисциплина, внимание экипажей на всем маршруте. Вот когда посадишь самолет, зарулишь на стоянку, ступишь на родную землю — только тогда ты уже не в бою... Послушайте, а где ваш радист? С кем вы летали?
— С нами летел Сирота, — ответил Николаев. — Мы покинули самолет над лесом, стрелок тоже приземлился благополучно, я в этом уверен. Его, видимо, подвела ориентировка...
— Ну это вы, товарищ командир, напрасно так думаете, — басом заговорил стрелок-радист из экипажа Корочкина, широкоплечий сержант Егоров. — Многие радисты ориентируются не хуже летчиков. Даже ночью по звездам.
— Особенно когда возвращаются с гулянки, — подмигнул Корочкин.
— Я не хотел вас обидеть, товарищ сержант, или в чем-либо усомниться, — улыбнулся Николаев.
После этих слов Егоров приободрился и стал внимательно [26] всматриваться в домики и сады показавшегося впереди селения.
— А ведь это наша деревня! Узнаю на расстоянии! — весело крикнул он.
— Молодец, сержант! Вот это ориентировка! — похвалил Егорова мой штурман, тоже обрадовавшийся приближавшимся хатам.
Да, мы подъезжали к своему аэродрому. А в это время стрелок-радист сержант Сирота, о котором шла речь выше, спал на опушке леса близ станции Ирпень.
...Израсходовав в бою патроны, задыхаясь от дыма, сержант успел покинуть самолет, который через несколько минут упал на кроны деревьев.
Изодранный парашют запутался стропами в ветвях. Сирота по стволу спустился на землю. И тут увидел, что кобура расстегнута, а пистолет исчез. Повернувшись спиной к солнцу, он двинулся через заросли. Пройдя сотню шагов, заметил на земле тускло поблескивавший предмет. «Неужели?!» — мелькнула радостная догадка. Бросился к предмету и увидел свой слегка припорошенный песком ТТ. Еще раз оглядевшись, сержант зашагал дальше, стараясь, чтобы солнце все время светило в спину. И это была ошибка. Он надеялся выйти на восток, к своим, а вместо этого оказался у позиций, занятых врагом.
Дождавшись ночи, стрелок-радист выбрался из укрытия и понял, что находится в расположении немецкой танковой части. Крепко зажав в руке пистолет, он хотел повернуть назад, чтобы скорее удалиться от опасного места. Но позади неожиданно раздалось: «Вер ист да?» Обернулся на голос и оказался нос к носу с фашистом. Раздумывать было некогда. Сирота изо всех сил ударил его пистолетом по голове. Немец рухнул ничком, а сержант повесил на грудь немецкий автомат, прикрепил к поясу длинный тесак в ножнах, забрал полевую сумку с документами и, уже не испытывая страха, отправился в путь.
Дорога к своим оказалась для Сироты нелегкой: все-таки подвела ориентировка. Только к концу третьего дня измученный сержант добрался до опушки леса в районе станции Ирпень. Убедившись, что вышел к своим, он бросил на землю полевую сумку, растянулся рядом и мгновенно заснул. Здесь его обнаружили проходившие мимо ополченцы и доставили в комендатуру.
Возвратившись в часть, Алексей Сирота до конца войны много раз летал и в моем экипаже, и в экипажах других летчиков. [27]
Будем летать и ночью!
Мы с Корочкиным рассказали командиру и комиссару о своих неудачах и злоключениях в последнем полете.
— По-моему, самое время переходить уже сейчас на ночную работу, — сделал вывод комиссар. — Это позволит сохранить кадры полка и машины. Кроме того, будем систематически изматывать врага. А коли потребуется, станем действовать и днем. Чего бы это ни стоило.
— Наземные войска, — начал, хмурясь, Рассказов, — днем нуждаются в авиационной поддержке гораздо больше, чем ночью. Поэтому летать днем придется обязательно, и без истребителей, и в их сопровождении... А вот какую тактику избрать во время дневных полетов, надо еще подумать. Давайте, молодежь, высказывайте свои соображения, — посмотрел комэск на Корочкина, Барышникова и на меня.
— Я думаю, — поднялся Корочкин, — что при отсутствии истребителей прикрытия самое правильное действовать только по ближним целям в тактической зоне противника. Тогда нас будет поддерживать зенитная артиллерия, а в случае воздушного боя легко отойти на свою территорию. Зато ночью можно ходить на любые расстояния. Даже на полный радиус нашего самолета.
— Хорошо, это мы учтем при докладе командованию. Кто еще хочет что-либо предложить или добавить? — спросил Рассказов.
Взяв слово, я напомнил некоторые рекомендации и указания из боевого устава авиации. Эти прописные истины известны каждому командиру, но в спешке подготовки к боевому вылету о них порой забывают. Забывают, скажем, о внезапности удара по цели, о возможностях маневра наших самолетов не только в районе цели, но и на маршруте, о рациональном использовании стрелкового оружия и методов бомбометания... А как мы используем облачность, малые высоты, раннее утреннее время или вечерние сумерки? Я обратился к примеру нашего последнего вылета. День был ясный, видимость на пятьдесят километров. Звено шло на высоте пятьсот метров. По нас стреляли все фашисты, кому было не лень. Не дойдя до цели, самолеты звена уже получили пробоины, а немецкие посты наблюдения тем временем сообщили своим истребителям о нашем пролете. Те, конечно, ждали нас, наверняка зная, что возвращаться мы будем по старому маршруту, на той же высоте. [28] Они хорошо изучили нашу тактику — уж больно она проста.
— Ну а что бы ты сделал, когда все видно как на ладони? — спросил Барышников.
— Если подумать, многое можно сделать. Например, отбомбившись, перейти на бреющий полет, чтобы избежать встречи с истребителями. Выполнив задание, можно возвращаться домой по другому маршруту.
Вскочил энергичный, подтянутый капитан Хардин.
— У нас много шаблона, и в этом виноваты командиры! — запальчиво произнес он. — Сами так действуем и подчиненных не учим логичным, целеустремленным действиям. Не учим тому, чтобы не только поразить цель, но и остаться невредимыми.
— Постой! Откуда ты взял, что мы не учим летчиков? — уставился на Хардина Козявин. — Разве они плохо выполняют задания?
— Смелости и отваги у наших летчиков хоть отбавляй. Но этого мало, — не успокаивался Хардин. — Нужно совершенствовать мастерство, серьезно готовиться к вылетам...
— Верно, — подытожил Рассказов. — Двух мнений тут быть не может. А теперь, стратеги, давайте решать конкретную задачу. Получен приказ нанести удар по аэродрому вблизи Житомира. Враг сосредоточил там большое количество тяжелой бомбардировочной авиации. Будем действовать группами в составе эскадрильи. Вылетим на рассвете. До линии фронта идем с набором высоты — за это время успеем достичь шести-семи тысяч метров. От линии фронта — с пологим снижением, на увеличенной скорости следуем прямо на цель. После бомбометания разворот вправо на Малин, со снижением — и на свой аэродром. Вопросы есть?
Вопросов не было.
* * *
Я получил очередную весточку из дому. На сей раз адрес был написан не отцом, а Надей. Отошел в сторонку, чтобы собраться с мыслями: это было первое письмо жены со времени разлуки.
Письмо было короткое, но каждая его строчка о многом говорила мне. Захотелось уединиться, мысленно встретиться с прошлым, совсем недавним и таким дорогим...
Как-то глубокой осенью тридцать девятого года меня откомандировали в Киев, чтобы подменить Колю Хозина, который участвовал в экспериментах по выброске парашютного десанта с боевых самолетов. [29]
В Фастове была пересадка. За билетами образовалась довольно большая очередь. В самом ее конце стояла тоненькая девушка.
Подойдя к очереди, я остановился в нерешительности.
— Товарищ летчик, подходите, берите билет. Пожалуйста, — послышались голоса.
Купив два билета, я подошел к девушке.
— Вам ведь до Киева? Я взял билет и для вас.
Лил холодный дождь. Мы зашли в зал ожидания. Здесь было тепло, шумно и тесновато. Я предложил заглянуть в буфет выпить горячего чая.
До Киева мы ехали вместе. Время за разговорами пролетело незаметно. Прощаясь, девушка, которую звали Надей, дала мне телефон городской больницы, где работала медицинской сестрой.
Как-то вечером, шлепая по мокрому тротуару, я снова увидел в толпе знакомое лицо. Надя Панчук шла с подругой. Я окликнул их и предложил зайти в кино, посмотреть комедию «Волга-Волга». Предложение было принято. После кино проводил Надю до дома.
— Здесь я живу у дальнего родственника, — сказала она и добавила: — А родители в деревне, недалеко от Володарки. Заходите, Василий. Мне будет приятно...
Так завязалось наше знакомство.
Вскоре мы поженились и стали жить вместе.
Затем наш полк перебазировался в лагеря — осваивалась материальная часть новых самолетов. Мы упорно учились летать в сложных метеорологических условиях не только днем, но и ночью... Все реже появлялись летчики в городке.
Потом — война. Надя уехала к моим родителям в Сталинград. И вот у меня в руках ее долгожданное письмецо...
В три часа дежурный поднял летный состав, участвовавший в боевом вылете.
На аэродроме мы получили задание командира эскадрильи и разошлись по самолетам. Когда над горизонтом появился красный диск солнца, эскадрилья на большой высоте уже пересекала линию фронта.
Утро было ясное, видимость на десятки километров. Немецкие зенитчики не замедлили сделать несколько залпов из крупнокалиберных орудий, располагавшихся в районе Фастова. Но черные шапки разрывов легли слева и сзади. Эскадрилья с пологим снижением шла к Житомиру, скорость ее полета, постепенно нарастая, приближалась к пятистам километрам в час. «На такой скорости можно уходить [30] даже от преследования истребителей», — подумал я, оглядываясь по сторонам.
Передо мной открывалась неоглядная даль полей, лесов, деревень и сел, озер и речушек. Все это было знакомо и дорого сердцу. Но сейчас здесь хозяйничал враг. Вот далеко слева, в излучине реки Рось, наш старый аэродром. Там тоже фашисты. И везде, куда ни глянь, на лежавшей под нами обширной территории бесчинствовали оккупанты.
Оглянувшись назад, я увидел одиноко летящий самолет. «Вот еще наказание, — подумал с раздражением. — Это Ермаков опять отошел в сторону, когда мы попали под огонь артиллерии над Фастовом, и теперь не может пристроиться».
В утренней дымке прямо по курсу показался город. Он быстро приближался, вырастая на глазах. Ведущий начал отклоняться на несколько градусов к югу, чтобы обойти город, и все самолеты четко повторили маневр, следуя в плотном строю. Ведомый Ермаков уже догнал эскадрилью и теперь устойчиво держался справа от моего самолета.
«Гостей» не ждали на земле так рано. Немецкая зенитная артиллерия молчала. Через одну-две минуты на всех самолетах одновременно открылись створки бомболюков. На аэродроме к небу поднялись столбы черного дыма и пыли. Один за другим вспыхивали на стоянках самолеты. Их тут же окутывал дым, сквозь который пробивались широкие языки багрового пламени. На границе аэродрома взметнулся огненный смерч, круша и сметая все вокруг. Так обычно взрывались склады боеприпасов. Только после этого немцы открыли ураганный огонь из всех видов оружия. Они так нервничали и спешили, что снаряды рвались далеко в стороне, не задевая наших самолетов.
«Удар нанесли точно. Теперь бы избежать встречи с истребителями» — так думал, наверное, каждый из нас. И вдруг в наушниках моего шлема послышался голос радиста Трифонова:
— Командир, вижу сзади четырех истребителей. Похожи на «мессеров».
— Укажи другим экипажам, где эти самолеты, и проверь пулемет, — быстро ответил я, продолжая внимательно наблюдать за ведущим, который вел девятку все ниже и ниже к земле, чтобы на малой высоте лишить гитлеровцев свободы маневра.
Когда мы пересекли линию фронта, наша зенитная артиллерия разогнала массированным огнем фашистские истребители, а несколько из них запылали и врезались в землю. [31]
— Как дела, штурман? Что ты там натворил в стане врага? — спросил я, когда группа шла уже над своей территорией.
— На первый взгляд, сожгли с десяток самолетов... густо они там стояли... А еще подорвали склад боеприпасов.
На аэродроме после нашего приземления засновали машины, подвозя бомбы, патроны, горючее. Техники суетились у самолетов, приводя их в боевую готовность. Летчики, разбившись на небольшие группы, отдыхали, покуривали, вели оживленный разговор. Чувствовалось, что настроены люди весьма бодро. Мы действительно были довольны результатами полета.
— Ты что это плелся в хвосте от Фастова до цели? — спросил я у Ермакова.
— Да, понимаешь, сильно подболтнуло... самолет заскользил вправо. Пока очухался, вы уже, черти, вон где. Насилу догнал. Я знаю, ты хочешь сказать, что отставший самолет становится легкой добычей истребителей...
— Вот именно! И следи, чтобы такое не повторилось...
За завтраком наши официантки Галя и Тоня с особым усердием и радушием обслуживали прилетевших с задания летчиков.
* * *
11 июля передовые части 1-й танковой группы противника достигли реки Ирпень и предприняли попытку захватить Киев с ходу. Эта попытка была сорвана. Однако войска Юго-Западного фронта оказались расчлененными на отдельные группировки. Наша 5-я армия, находившаяся на правом крыле фронта северо-западнее Киева, около полутора месяцев вела бои на позициях Коростенского УРа. Своими действиями она сковала до десяти немецко-фашистских дивизий, что существенно облегчило положение советских войск, оборонявших город. А сама армия в третьей декаде августа по указанию Ставки ВГК отошла на новый рубеж обороны — севернее Киева...
Бомбардировочный авиационный полк Пушкарева, несмотря на значительные потери и усталость летного состава, активно поддерживал действия наземных войск на киевском направлении. Уже полтора месяца дрались с врагом летчики полка, летая днем и ночью, в любую погоду. Они возвращались в полк после боев израненными, обгоревшими, пропахшими пороховым дымом, но гордыми и непобежденными, чтобы после короткой передышки снова подняться в небо. [32]
За это время многие летчики нашего 33-го авиационного бомбардировочного полка совершили по сорок — пятьдесят боевых вылетов, выполняя самые разнообразные боевые задания.
Заглянув однажды в свою летную книжку, я удивился: в графе «количество боевых вылетов» стояла цифра 73, а в графе «время» — 175 часов 32 минуты. Такое время до войны можно было налетать только за целый год!
Мы воевали только два месяца, а сколько событий в жизни каждого произошло за это время! Вспомнились кинжальные трассы пулеметного огня, разрывы зенитных снарядов, падающие, охваченные пламенем самолеты над Кристинополем, Бродами, Дубно, Берестечко, Ровно, Млыновом, Любаром, Тернополем, Фастовом...
Совсем недавно над аэродромом, недалеко от Белой Церкви, где мы с Виктором Шестаковым выполняли бомбежку, пришлось вступить в бой с вражеским истребителем. Ночь была темная, моросил дождь, слепили прожекторы. Фашистский летчик оказался настойчивым и искусным в бою. Он сильно повредил наш самолет. Уже дымился правый мотор, и машиной трудно было управлять. Немецкие зенитчики, очевидно, торжествовали победу своего истребителя и цепко держали советский бомбардировщик в лучах четырех прожекторов. Но вот удалось совершить бросок в сторону и выскользнуть из лучей. Прожекторы заметались по небу, освещая тяжелые дождевые тучи. Один из них снова выхватил нас из тьмы. И сразу все четыре взяли в перекрестие. Шестаков, ошеломленный неожиданностью, увидел прямо перед собой как на ладони атакующий фашистский истребитель, но не растерялся. Длинная очередь его спаренных пулеметов прошила «мессер» от мотора до хвостового оперения... А мне в тот раз все же удалось довести израненный самолет до аэродрома.
Несколько позже, тоже ночью, но уже над другим аэродромом, я с экипажем попал под такой ураганный огонь зенитной артиллерии и пулеметов, что едва сумел вырваться. Оба мотора самолета были повреждены. Один заклинило сразу, над целью, а другой заглох только тогда, когда машина с трудом перетянула за Днепр.
Не раз я попадал с экипажем в такие передряги, что казалось — все, конец. И обходилось, однако.
А сколько трудностей еще впереди! Впрочем, поживем — увидим...
Я долго плескался у рукомойника, подставляя под струю голову, спину, грудь. Насухо вытер полотенцем лицо, шею, [33] руки, стал причесываться перед осколком зеркальца. «Неужели седина?» Да, в волосах появились белые пряди. Не зря, видимо, говорят старшие товарищи, что бывают в нашем деле такие ситуации, когда буквально в момент человек может стать седым...
Обернувшись, увидел веселую физиономию Бочина.
— Отдыхаем? Не хотите ли пойти со мной в гости? Я познакомлю вас с моей девушкой.
— Разве что ненадолго, — согласился я и стал одеваться.
Но в тот день наша прогулка не состоялась. Не успел я привести себя в порядок, как к нам подошел посыльный штаба, а следом за ним прибежал Трифонов.
— Получен приказ... Где-то прорвались немцы... — возбужденно заговорил стрелок-радист. — Вот слышите, гудят. Наши пошли на задание.
Через час Бочин и я со своими экипажами уже были в воздухе.
Перелетев через Днепр над Ясногородкой, я увидел, что горят Горностайполь, Мануильск и села по реке Тетерев. Противник уже подошел к Днепру.
— Вижу орудийные вспышки, — доложил штурман.
Через одну-две минуты бомбы полетели на позиции фашистских батарей. Это были орудия крупного калибра, так как стояли довольно далеко от линии фронта. Внизу четко различались вспышки пулеметов, видно было, как вырывалось пламя из жерл зенитных орудий. В течение двадцати минут мы обстреливали вражеские огневые точки, опускаясь иногда до пятидесяти — тридцати метров.
В ту ночь летчики полка сделали по два-три вылета. А утром узнали, что враг захватил деревянный мост через Днепр в районе Окуниново, перебросил на левый берег сильную группировку и двинулся в направлении Остера, но был отброшен к Днепру контрударами советских войск.
Наш полк и другие авиационные части Киевского укрепленного района в тот же день разрушили и сожгли мост дотла, что довольно редко удавалось сделать бомбардировщикам даже в более простых условиях.
А спустя несколько дней майор Рассказов, теперь уже заместитель командира полка, вызвал к себе в палатку командиров и штурманов звеньев.
— Вот что, товарищи, — начал он. — Только что получено сообщение из штаба дивизии. Противник навел понтонную переправу возле Окуниново. Вы понимаете, что это значит! Мы должны всеми наличными средствами нанести бомбовый удар по переправе и разрушить ее... У нас всего-навсего [34] пять исправных самолетов. Удар должен быть внезапным, прицельным и безошибочным. Каждый экипаж действует самостоятельно. Полетят Корочкин, Барышников, Еремин, Ефремов. Ведущий группы — капитан Шабашев.
В десять часов начал взлет командир группы. Я должен был идти вторым. Но у ведущего что-то случилось с левым мотором. Сделав короткий разбег, Шабашев начал разворачиваться влево, по большому кругу, постепенно уменьшая скорость, и наконец остановился. Поняв, что он взлетит нескоро, я поднял руку. Трое летчиков тотчас ответили тем же, что означало: «К заданию готовы».
Один за другим СБ пристроились ко мне.
В строю, напоминающем ромб, мы легли на курс. Набрали заданную высоту, перешли Днепр и, пройдя немного на запад, перестроились в пеленг. Теперь все внимание сосредоточилось на отыскании цели.
Сначала я увидел слияние рек Тетерева и Днепра, затем, южнее, — остатки сгоревшего моста и тут же рядом тонкую ленту понтонной переправы, замаскированную обгоревшими сваями.
Цель быстро приближалась, я начал снижаться. Высота пятьсот. Враг молчит. То ли еще не видит, то ли пытается разобраться, свои или чужие самолеты цепочкой приближаются с запада.
Штурман открывает створки бомболюков. Ветер врывается в кабину. Замираю в напряжении, удерживая самолет на боевом курсе. Он, как по нитке, надвигается на цель. Потом вздрагивает, освободившись от бомб, и сейчас же вокруг нас возникают черные шапки от разрывов зенитных снарядов. С земли тянутся красные трассы. Сразу же замечаю огневые точки зенитных орудий и, резко переведя самолет на снижение, кричу экипажу:
— Бейте по расчетам!
И мы закрутились над головами немецких артиллеристов, давая возможность остальным самолетам прицельно отбомбиться по переправе.
Развернувшись, мы со штурманом увидели зияющий провал в понтонах, затем столбы воды возле переправы, вспышки огня, поднятые в воздух доски.
— Ура! Еще одно попадание!
Снижаюсь до бреющего и ухожу на юго-восток, сопровождаемый шквальным огнем взбешенных фашистов.
Через минуту-другую оказалось, что наш самолет поврежден, [35] а моторы сильно перегрелись. Перетянув за Десну, мы были вынуждены сесть в поле, вблизи Семиполок.
Моторы целы, пробоины в фюзеляже и плоскостях не в счет — заделаем на аэродроме, — но несколько мелких осколков раздробили соты радиаторов, и из них вытекло много воды. Сюда бы хороших механиков с инструментами — и через три-четыре часа можно взлетать.
— Вот что, Петя, — обратился я к Трифонову. — Надо добраться до полка.
— Пешком? — удивился он. — До аэродрома сто километров.
— Можно поездом. Вон станция Заворичи, — штурман указал в сторону железной дороги. — Оттуда — до Нежина, из Нежина — на Малую Девицу... А там — на аэродром.
— Все понятно. — Трифонов пожал нам руки и быстро зашагал к станции.
— Ждем вас завтра утром! — кричу ему.
— Смотри не заплутайся и не махни в Москву, — напутствует стрелка-радиста Усачев.
Мы глядели вслед Трифонову до тех пор, пока его все уменьшавшаяся фигура не скрылась из глаз.
Потом взялись за дело. Немало пришлось потрудиться, пока сняли передние капоты с обоих моторов. Соты радиаторов стали хорошо видны, и можно было определить, насколько сильно они повреждены.
Усевшись в тени от самолета, решили подкрепиться галетами и шоколадом. Это занятие нисколько не мешало наблюдать, что происходит вокруг. На обширной равнине кипела прифронтовая жизнь. По дороге Киев — Остер, через Семиполки, беспрерывно двигался поток автомашин, и над полем в той стороне висела густая пелена рыжей пыли. В небе проплывали группы тяжелых «юнкерсов», направлявшихся в сторону Конотопа, Бахмача, Нежина — оттуда, со стороны железной дороги, слышались глухие разрывы бомб и выстрелы зенитной артиллерии. Иногда на большаке, что шел к Семиполкам, возникали клубы черного дыма, и земля вздрагивала от разрывов тяжелых бомб. По железной дороге Киев — Конотоп беспрерывно двигались эшелоны, оттуда доносились тревожные гудки паровозов, выстрелы зенитной артиллерии, взрывы бомб.
Прямо над нашими головами прошла группа немецких бомбардировщиков в сопровождении тонких, как гончие псы, «мессершмиттов».
— Пошли на Нежин, — прокомментировал Усачев. — Как бы они там нашего Петра не застукали. [36]
Шестерка «юнкерсов», попав под сильный зенитный огонь в районе Козельца, рассыпалась, беспорядочно бросая бомбы.
Вокруг шел бой. А ветерок навевал прохладу, пахло чебрецом и сеном.
— Бери фляги и раздобудь где-нибудь воды, — сказал я Усачеву.
— Да где же? Только в Калите, — отозвался он, рассматривая карту.
— Пока ты сходишь, я прочищу и подготовлю радиаторы к пайке.
Вечером мы забрались на крыло самолета. Вскоре засверкали звезды. По туманному горизонту зловеще багровели пожары, метались по небу упругие лучи прожекторов, в разных местах висели гирлянды осветительных бомб. Время от времени откуда-то вырывались разноцветные струи грассирующих пуль, рассыпаясь и тая в безоблачном небе.
Штурман протиснулся через люк в свою кабину и закрыл дверцу. Я уселся на парашют в своей кабине, задвинул все шторки и, откинув голову на бронированный, обшитый кожей наголовник, приготовился ко сну.
— Командир, — послышался глухой голос Усачева. — Я хотел спросить: что за машина подъезжала сюда, когда я ходил за водой?
— А... Это ребята с поста противовоздушной обороны. Спрашивали, не нужна ли нам помощь...
— Эх, мать честная, побывать бы дома, — с тоской произнес Усачев. — Да еще посмотреть бы на своих детишек!
— А сколько их у тебя?
— Двое. Наташа и Анатолий. Совсем еще малыши... А что слышно у твоих?
— Да ничего особенного. Мать и отец живы, здоровы. Недавно получил письмо от жены. Осенью и у нас будет сын или дочь.
— О!.. Это очень хорошо, — проникновенно сказал Усачев. — Как получишь известие, не забудь сказать. Обязательно выпьем за здоровье нового гражданина...
Перед утром я услышал шум подъезжавшей машины. Сдвинув колпак, выскочил на плоскость и увидел в кузове автостартера старшину Трифонова, техника-лейтенанта Стрельцова и выходившего из кабины старшего техника-лейтенанта Шаповалова.
— Ребята, привет!
— Доброе утро! — замахали пилотками приехавшие. [37]
Выбрался из своей кабины штурман. Поговорили о новостях. Полковник Пушкарев пошел на повышение, командиром полка назначен Константин Иванович Рассказов, комиссаром — Анатолий Андреевич Козявин.
Затем, не теряя времени, под руководством Шаповалова мы сначала почистили соты радиаторов, затем подготовили инструменты и материалы для пайки и, наконец, вымыли капоты. Петро тем временем рассказывал, как добирался до аэродрома и чем закончился вылет, в котором мы принимали участие.
Шабашев, оказывается, тоже успел слетать. На цель вышел последним и видел результаты нашего удара. Говорит, что все бомбили хорошо: зафиксировано три прямых попадания в переправу, потерь не было. Но вчера во время полета на разведку погиб Корочкин. Экипаж ушел на задание на самолете Пе-2. Выполнив задание, ребята уже возвращались домой, когда над Кагарлыком их атаковали два «мессера». До самого Днепра стрелок Пикалев отбивал атаки. Потом кончились патроны. А над Днепром «мессер» неожиданно ринулся в атаку с высоты. Корочкин стремительно развернулся навстречу истребителю. Пе-2 и «мессер» оказались близко друг от друга, на встречных курсах. Корочкин не отвалил в сторону... При ударе Пикалева выбросило из машины, он приземлился на берегу Днепра, где его, израненного, подобрали красноармейцы.
Помолчали, с грустью думая о погибшем друге. Видя, что мы приуныли, Трифонов вдруг заулыбался и громко сказал:
— А Павел Кравчук уже начал летать! И ходит нормально, хотя с палочкой...
В полдень наш самолет оторвался от земли. Машина с техниками тоже покатила на восток.
На аэродроме я доложил инженеру полка Николаю Петровичу Поповиченко о том, что сумели сделать техники в полевых условиях. Поповиченко, пожилой загорелый мужчина, с искорками юмора в живых карих глазах, весело хлопнул меня по плечу:
— Хорошо! Значит, есть еще порох в наших пороховницах...
Штурман и радист направились в столовую, а я пошел к командиру эскадрильи капитану Хардину.
Увидев меня, Хардин поднялся со стула и протянул руку.
— Все знаю. Вчера рассказал Шабашев. Молодцы! С заданием справились хорошо. Но не кажется ли тебе, что [38] ты иногда неоправданно рискуешь? Сколько раз тебя уже подбивали?
— Не помню точно. Наверное, раза три или четыре.
— Вот видишь, а воюем только два месяца... Честно говоря, я сам не люблю осторожных да расчетливых, — признался Хардин. — Но все-таки... — И он погрозил пальцем. — Сегодня отдыхайте, а завтра посмотрим...
В ту же ночь я получил задание уточнить расположение артиллерийских позиций врага на противоположной стороне Днепра.
Взяв курс на северо-запад, мы набрали высоту. Вышли в район Чернобыля, потом развернулись на юг, миновали Горностайполь, Ирпень и полетели вокруг Киевского оборонительного района, засекая артиллерийские позиции и огневые пулеметные точки врага.
— А теперь, командир, разворачивай на север, — передал штурман. — Пойдем в обратном направлении. Держи высоту четыреста метров и доворачивай самолет по моим командам, а я буду глушить бомбами огневые точки — на каждую по одной бомбе.
— Слабовато, — заметил я.
— Что поделаешь? Зато будем держать их в напряжении и хоть на время заставим замолчать.
Когда были сброшены все десять соток, я снизился до пятидесяти метров, а штурман и стрелок-радист короткими, экономными очередями стали бить по огневым точкам врага, по огням автомашин, двигавшихся по дорогам. Иногда вражеские зенитчики открывали сильный огонь по самолету. Но штурман и радист были начеку, их пулеметы тотчас отвечали гитлеровцам.
Так в течение часа мы подавляли немецко-фашистские войска на переднем крае их обороны. Остальные экипажи действовали таким же образом. То тут, то там ночное небо прошивали разноцветные густые трассы пуль, которые глушили пулеметы врага и уничтожали пехоту. Летчики делали все, чтобы облегчить положение наземных войск.
* * *
Утром 2 сентября девятка самолетов, ведомая командиром эскадрильи, теперь уже майором, Хардиным, выполнив боевое задание, произвела посадку на аэродроме в районе Малой Девицы. После того как самолеты зарулили на стоянки, Хардин построил эскадрилью и до появления командира полка дал команду «Вольно». Удовлетворенный выполнением стоявшей перед эскадрильей задачи, он с удовольствием [39] оглядывал своих подчиненных. На правом фланге, недалеко от меня, стоит Иван Скляров. На земле он кажется медлительным, но в бою проворен, отважен и смел — настоящий сокол, незаменимый разведчик. Рядом — улыбающийся чему-то Барышников. Этот хитер и осторожен, но, когда нужно, бросается в атаку очертя голову. Ближе к левому флангу — рослые, смелые Бочин и Панченко — мастера разрушительных бомбардировок, душевные друзья, любимцы полка. На самом краю — Сидоркин. На первый взгляд, он беспричинно вспыльчив, любит поспорить и повздорить по пустякам, но во фронтовой обстановке готов в любую минуту броситься в огонь и в воду. За летчиками стоят штурманы — Николаев, Усачев, Ильяшенко, Кравчук, Зимогляд и другие. Все, как один, смелые, отличные бомбардиры и стрелки. Замыкают строй опытные воздушные стрелки-радисты Лазуренко, Трифонов, Пикалев, Егоров, Сирота, Семиякин, Федосеев, Капитонов и другие.
Увидев выходящего из палатки командира полка, Хардин скомандовал:
— Смирно! — и доложил Рассказову: — Задание выполнено. Эскадрилья потерь не имеет.
— Товарищи, — обратился к нам Рассказов, — командование дивизии за отличную работу сегодня, за разрушение переправ на Десне в районе Шостки объявляет вам благодарность.
— Служу Советскому Союзу! — произносит строй на одном дыхании.
— Знаю, вы устали от беспрерывных боев, — продолжал командир полка. — Но нам все же легче, чем наземным войскам. Не исключено, что обстановка может потребовать от нас еще большего напряжения сил. Командование будет использовать авиацию для действий на любом направлении. Возможно, придется вести боевую работу в условиях полного окружения. А потому нужно быть готовыми ко всему.
Затем выступил комиссар.
— Нас осталось мало, — сказал он. — Но фашисты отлично знают наш полк, так как он причиняет им много неприятностей... Товарищи, километрах в семи отсюда создается ложный аэродром. Там будет электрическое посадочное «Т» и несколько навигационных огней, имитирующих самолеты... Не спутайте ложный аэродром с настоящим. Помните: на ложном — одни только ямы и кочки, которые разнесут самолет в клочья... Командирам звеньев особая задача: хорошо замаскировать самолеты на действующем аэродроме, сделать их невидимыми для врага. Дисциплина, [40] организованность и сплоченность — это на сегодняшний день слагаемые нашей победы... Я надеюсь на вас, мои боевые товарищи, — проникновенно закончил свое короткое выступление комиссар.
К вечеру аэродром был неузнаваем. Вернувшись с задания, мы не сразу нашли его и просто не верили своим глазам. Казалось, все на месте: и знакомая деревня, и железнодорожная станция с водонапорной башней, и небольшой лесок... Только не было ни аэродрома, ни самолетов. Так тщательно была организована маскировка.
И как раз в ту ночь враг, видимо, решил всерьез расправиться с полком. С наступлением темноты над нами появились «юнкерсы». Назойливо завывая, они шныряли во всех направлениях, пытаясь нащупать нашу базу. А у нас к тому времени уже действовал ложный аэродром. Там периодически включалось электрическое «Т», мигали навигационные огни «самолетов». Фашистские летчики методично бомбили их. На земле вспыхнули «пожары» — горели тряпки и ветошь, заранее облитые маслом и бензином... Ободренные первыми «успехами», гитлеровцы снова обрушили туда бомбы. А в это время наши СБ уходили бомбить вражеские войска. Выполнив задание, они производили посадку, ориентируясь на еле заметные посадочные огни и подсвечивая себе фонарями.
На следующий день, теснимые со всех сторон гитлеровцами, на наш аэродром перебазировались истребители. Их командование и штаб разместились в длинном деревянном сарае, а летчики — прямо под крыльями своих машин. Теперь и мы редко ездили в село. Зловещее вражеское полукольцо продолжало сжиматься.
Рано утром 7 сентября эскадрилья Хардина и два звена Шабашева вылетели на бомбардировку вражеской переправы через реку Сейм в районе Батурино. Это было в семидесяти километрах от аэродрома. Я шел справа в звене Хардина, временами посматривая на хмурое лицо комэска.
За Бахмачем, по Десне и на всем протяжении Сейма пылали города и села, клубились густой пылью прифронтовые дороги, вздымались к небу черные султаны взрывов.
На этот раз не удалось внезапно атаковать переправу. Еще на дальних подступах к Батурино немецкие зенитчики открыли ураганный огонь. Хардин, не меняя курса, начал снижаться, увеличивая скорость, и все самолеты, точно связанные невидимой нитью, устремились за командиром.
Пока ведущий штурман Ильяшенко выводил группу на [41] цель, все штурманы и стрелки-радисты беспрерывно вели огонь из пулеметов.
Эскадрилья била из тридцати пяти пулеметов. На малой высоте полета эффективность огня была исключительно высокой. Немецких зенитчиков на некоторое время удалось парализовать. Они бросали пулеметы и орудия, пытаясь спастись бегством. Огонь фашистов ослабел, стал торопливым и неточным. А наша группа шла в плотном строю на боевом курсе. Открылись бомбовые люки. Аэрофотоаппараты зафиксировали прямые попадания.
Эскадрилья тем временем круто разворачивалась за ведущим.
Через два часа полк снова нанес удар по переправе и скоплению вражеских войск на берегах Сейма. В этот раз первую девятку вел майор Рассказов, слева от него шел комиссар Козявин, справа — я, вторую девятку возглавлял майор Хардин.
Эскадрильи вышли на цель внезапно, на бреющем полете и бомбы замедленного действия сбросили с малой высоты. Все машины полка вернулись на свой аэродром невредимыми.
В полночь 9 сентября, сделав по два-три вылета, мы ехали в деревню, чтобы немного отдохнуть и собрать личные вещи. Завтра, после очередного вылета, нам предстояло перебазироваться на другой аэродром. Наземный эшелон под руководством инженера полка Поповиченко уже приготовился к дальнему переезду в район Зеньково.
Утром, перед восходом солнца, мы прибыли на аэродром. Самолеты стояли открытыми. Чистые, заплатанные, готовые взвиться в небо.
— Товарищ командир, самолет к вылету готов, — доложил техник-лейтенант Стрельцов.
— Запускай моторы и жди нас здесь. Упакуй все как положено, чтобы не терять времени при погрузке.
— Слушаюсь! — радостно блеснул глазами техник и побежал к самолету.
— Куда пойдем, командир? — спросил Николаев, разворачивая карту.
— Как указано в задании, — ответил я, разглядывая на карте район действий. — Будем искать и бомбить врага в полосе между Десной и железной дорогой Нежин — Конотоп.
— Давайте пройдем вот здесь, — водя карандашом севернее железной дороги, предложил Николаев.
Я согласился и предупредил, что патроны надо расходовать бережно. [42]
Мягко зарокотали моторы.
Под нами дымилась широкая степь, по дорогам проносились отдельные машины, мотоциклы, тащились повозки, шагали небольшие группы людей.
— Куда же делись войска? — спросил я штурмана.
— По-моему, основные силы немцев продвинулись дальше к югу, — высказал предположение штурман и предложил: — Давай-ка пройдемся туда.
Мы пересекли железную дорогу Бахмач — Конотоп. За Ромнами настигли колонну мотопехоты. Сбросили сериями десять стокилограммовых бомб. Пехота, как горох, посыпалась с машин, разбегаясь по полю. А через несколько минут прямо перед нами повис, распластавшись, как жаба, аэростат с черными крестами. Под ним болталась примитивная открытая корзина, в которой находились два захваченных врасплох гитлеровца.
Николаев длинными очередями спаренных пулеметов сначала ударил по гондоле, а затем по аэростату. Вспоротая пулями, вспыхнула оболочка баллона и вместе с гондолой горящими лохмотьями полетела к земле.
— Кор-р-ректировщик! Паскуда! — крикнул штурман. — Туда ему и дорога.
Внизу шел бой. В разрывах дымилась земля.
Далеко позади осталось поле сражения, промелькнули широкие нивы, леса. Впереди показался наш аэродром. Выпустив шасси, я с ходу произвел посадку и, сбросив в кабине парашют, скатился по крылу на землю. Там стоял только техник Стрельцов. Я распорядился, чтобы загружали самолет, а сам побежал в столовую.
В столовой на ходу перекусывали летчики-истребители. Я подошел к одиноко сидевшему лейтенанту, спросил, куда подевались официантки.
— Да тут нет никого с самого утра. Все ушли. И правильно сделали. А ты бомбардировщик? — спросил лейтенант.
— Да.
— Если у тебя есть самолет, давай жми отсюда, и немедленно. Наши сейчас улетают, а я остаюсь, — грустно произнес лейтенант. — У меня нет машины, подожгли, сволочи, прямо над аэродромом.
Мне стало жаль лейтенанта, предложил захватить его с собой.
— Нет, дружище, — решительно сказал он, выбираясь из-за стола. — Я здесь не один «безлошадный». И товарищей не брошу. [43]
Пожав лейтенанту руку, я побежал к самолету. На аэродроме горели неисправные машины, полыхали пламенем бочки с бензином и маслом, трещало и корежилось в огне здание столовой. Мощно взревев моторами, одна за другой стремительно набирали высоту стайки истребителей.
Прощай, киевская земля! Мы все к тебе скоро вернемся!..
Относительное затишье
Утром 19 сентября прибыла основная часть наземного эшелона нашего полка.
— Особых приключений в дороге не было, — докладывал инженер Поповиченко командиру полка. — Пришлось обходить заставы, населенные пункты, занятые немцами, даже строить переправы через речушки. Были короткие стычки с фашистскими разведчиками. Но все обошлось благополучно. Сумской с шофером остался у неисправной машины. Они должны скоро появиться...
Незаметно наступила осень с дождями, туманами, холодными ветрами. Наш полк вынужден был перелететь дальше на восток, в район Воронежа. К этому времени линия фронта на юго-западном направлении стабилизировалась и к началу ноября проходила через Ливны, Тим, восточнее Купянска, Красного Лимана и далее на юг. Наступило относительное затишье. Летали мало — мешала непогода. За октябрь и ноябрь каждый летчик сделал не более двадцати вылетов. Личный состав полка получил возможность привести себя в порядок и по-настоящему отоспаться.
В общежитии появился старенький патефон. В длинные осенние вечера частенько рассказывали то, что знали из прочитанного. Особенно интересовали всех героические дела советских летчиков, боровшихся в гражданскую войну против Деникина, Колчака, Врангеля, басмачей...
Однажды, помогая технику Стрельцову, я спросил, почему в последнее время стало часто барахлить зажигание.
— Моторы сильно поизносились, — ответил он. — Забрызгиваются свечи. Образуется плотный нагар, магнето начинает работать с напряжением, получается неполное сгорание в цилиндрах, отсюда хлопки, тряска моторов.
Поговорили и взялись за дело. Проверили и установили одно магнето, принялись за другое. Но в это время слабо моросивший дождь перешел в ливень. [44]
— Давай в кабину, — крикнул я Стрельцову, быстро взбираясь на крыло. Он так же проворно очутился в кабине штурмана. В машине было сухо и тепло. Тут-то и поведал мне авиатехник свою заветную мечту — стать истребителем. Я пообещал передать его рапорт командиру полка...
В один из особенно ненастных дней в полк возвратился шофер машины, на которой перебазировался Сумской. Шофер прибыл из госпиталя, где лечился после ранения, полученного в неравной стычке с гитлеровцами, во время которой погиб Володя Сумской...
* * *
Второй день свирепствует снежная буря. Ни пройти, ни проехать, а снег валит и валит.
Все до единого человека брошены на расчистку снега.
В полдень стало известно, что из Воронежа приехал командующий авиацией Юго-Западного фронта генерал-лейтенант Ф. Я. Фалалеев, что он привез награды для личного состава полка и что обед будет немного позже, после торжественного вручения наград.
Окончив расчистку снега, мы быстро привели себя в порядок и собрались в столовой, по-праздничному нарядной и чистой. За столом, покрытым красным сукном, сидели генерал-лейтенант Фалалеев, майор Рассказов, комиссар Козявин и Виктор Шестаков, раскладывавший документы. На столе лежало много красных коробочек.
Генерал прочитал несколько приказов, в которых командование отмечало успешные боевые действия полка и выражало благодарность личному составу за мужество и стойкость. Затем огласил два Указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении высшей награды Родины — звания Героя Советского Союза летчику Ивану Склярову и стрелку-радисту Василию Капитонову.
Все бросились к героям, обнимали, жали руки, хлопали по плечам, одним словом, искренне и бурно выражали свою радость за боевых товарищей.
Когда буря восторга утихла, началось вручение орденов. Орден Ленина прикрепили к своим гимнастеркам отважные воздушные бойцы Рассказов, Козявин, Хардин. Генерал поздравил награжденных, пожал им руки, а они поклонились залу, откуда гремели аплодисменты. А какое оживление началось, когда стали вызывать летчиков, штурманов, техников, радистов! Каждому устраивалась овация независимо от того, получал он орден или медаль. Так в счастливом возбуждении прошло около часа. Бочину вручили орден [45] Ленина. Ордена Красного Знамени были удостоены Усачев, Кравчук, Панченко, Сидоркин, Святенко, Лебедев, Заварихин, Шестаков, Барышников и еще несколько человек. Николаев и я получили сразу по два ордена: Красного Знамени и Красной Звезды.
Когда все ордена и медали были вручены, генерал-лейтенант Фалалеев поздравил нас с наградами Родины и выразил уверенность, что мы и впредь будем, не жалея ни сил, ни самой жизни, громить немецко-фашистских оккупантов.
— Коммунистическая партия, товарищ Сталин возлагают большие надежды на действия авиации по разгрому главной вражеской группировки на московском направлении, — сказал генерал-лейтенант. И закончил свою короткую речь такими словами: — Наше контрнаступление продолжается. Войска Калининского, Западного и Юго-Западного фронтов успешно продвигаются вперед, причиняя врагу большие потери...
После обеда начался концерт художественной самодеятельности. Настоящей сенсацией явилось для всех нас выступление недавно прибывшего в полк скромного, малоразговорчивого летчика Кости Горелова. У него оказался такой замечательный голос, что мы были просто потрясены. Зал замер: и песня была новая, и исполнялась она вдохновенным мастером. А чуть позже мы узнали, что Костя, уже будучи летчиком, несколько месяцев проучился в консерватории, куда был направлен командованием своей части, а когда началась война, сбежал из консерватории на фронт...
* * *
В один из дней мы собрались в землянке командного пункта. Командир полка подозвал к столу меня с экипажем. Объясняя боевую задачу, Рассказов показал по карте, как надо проложить боевой курс и выполнить маневр в районе цели. А штурман старший лейтенант Немцов, делая какие-то свои пометки на карте, поставил крестик у железнодорожной станции Орел.
Мы вылетели ранним вечером и взяли курс на северо-запад. Погода была сложная. Над самолетом, клубясь и цепляясь за кабину, проносились тяжелые массы облаков. С увеличением высоты видимость по горизонту расширилась. В туманной дымке, далеко в той стороне, где должен находиться Орел, стали просматриваться нечеткие, длинные цепочки огней, сходившихся где-то в одной точке на северо-западе. Это машины с зажженными фарами шли к Орлу. Их было тысячи. Гитлеровцы отходили на этом участке. [46]
Снижаемся до тридцати — сорока метров. Штурман и стрелок-радист одновременно ударили из пулеметов короткими очередями. Автомашины, попав под огонь, мгновенно гасили фары, останавливались, наскакивали друг на друга, сползали в кюветы. Передние же продолжали двигаться вперед с зажженными огнями.
Из ближних населенных пунктов по нас открыли огонь пулеметы и малокалиберная артиллерия. Их трассы исчезали в облаках. А на белом безбрежном поле под нами уже появились окрестности Орла. Набираю высоту, чтобы создать условия для бомбометания. Немцов миганием сигнальных огней командует, куда следует довернуть, чтобы точно выйти на цель.
Самолет внезапно выскочил на станцию. Гитлеровские зенитчики молчали: то ли не хотели вскрыть раньше времени систему своего огня, то ли посчитали появление самолета случайным. Штурман, мигая сигналами, снова уточнил направление. Самолет вздрагивает и, освободившись от бомб, облегченно рвется вперед. Выдерживаю курс по прямой. Немцову необходимо убедиться в результатах бомбометания. А фашисты уже усиленно бьют из зенитных орудий и пулеметов. Снаряды с треском лопаются вокруг нас, осыпая машину брызгами осколков. Резким разворотом я пытаюсь выйти из-под огня противника. И в этот момент из леса, к которому мы разворачивались, начинают строчить зенитные пулеметы. Один из снарядов разорвался под правым мотором. Самолет резко качнулся, заваливаясь налево. Я с трудом выравниваю машину, набираю высоту и вхожу в облака. Где-то сзади еще рвутся снаряды. Но возбуждение, вызванное схваткой с врагом, спадает. Внимательно осматриваю приборы. Сразу бросается в глаза критическая температура воды и масла на правом моторе. Снижаюсь под облака. А температура на правом моторе продолжает расти. Как положено в таком случае, выключаю с большим сожалением неисправный мотор.
Израненный бомбардировщик низко летел на восток над той же дорогой, по которой отходил противник. И это зрелище приносило чувство огромного удовлетворения...
Снег вскоре посыпал гуще и мгновенно скрыл горизонт, поля, дороги, движущиеся машины. В темной кабине фосфорическим светом мерцали приборы, показывая, что самолет пока летит правильно, что левый мотор тянет исправно, сохраняя высоту. И все же наш СБ стал неустойчивым. Порывистый ветер раскачивал его. Руки и ноги немеют от напряжения и усилий, сопротивляясь давлению рулей. Беспрерывно [47] движущиеся стрелки приборов двоятся в моих усталых глазах, создавая искаженное представление о полете. Приходится напрягать всю силу воли, все внимание. Кажется, полет длится бесконечно долго.
— Скоро аэродром?
— Осталось минут пять-шесть, — отвечает штурман.
— Связь с землей есть?
— Нет, командир. Наверное, оборвалась антенна.
После паузы снова голос штурмана:
— Впереди два желтых пятна. Это свет посадочных прожекторов.
До земли пятьдесят метров. Плавно сбавляя обороты мотора, снижаюсь чуть ли не ощупью. Всматриваюсь в приближающуюся расплывчатую полосу света. Легкими движениями штурвала поддерживаю машину и едва ощущаю, как она сначала чиркает колесами по снегу, а затем бежит уже по земле, покачиваясь на снежных переметах.
Промелькнул как призрак и остался где-то позади свет прожектора. Самолет устойчиво катится, постепенно замедляя бег.
Пусть теперь за окнами кабин злится и воет ветер. Боевой полет закончен. Задание выполнено. Я с облегчением выключаю мотор, который все же дотянул нас до аэродрома, и мысленно говорю сам себе: «Вот мы и дома...»
* * *
Многие наши летчики, начиная с младших и кончая старшими по положению и званию, старались обычно так подобрать экипаж, чтобы заполучить и штурмана, и стрелка-радиста, которые непременно были бы на высоте по всем статьям. Я не делал этого. Я летал с молодыми и немолодыми, с опытными и необстрелянными помощниками. Правда, иногда попадал впросак, но ни разу не пожалел об этом, считая, что ошибаться свойственно каждому, тем более тем, кто хочет совершенствовать свое боевое мастерство.
...Это случилось в конце ноября сорок первого, когда наши войска освободили Ростов и с боями продвигались вперед там, на юге. В то время летчики полка работали с аэродрома подскока в районе станции Раздольная, поддерживая свои наступающие войска. Особенно удачно действовали на запорожском направлении, громя колонны врага и парализуя движение немецких составов по железным дорогам. Мы были довольны своими успехами.
Стремясь сдержать натиск советских войск, гитлеровское командование подтягивало к Таганрогу резервы из [48] Донбасса через станцию Волноваха, а из Запорожья — через станцию Пологи. Мы получили задание в течение ночи бомбить станцию Пологи и приостановить движение эшелонов врага.
Экипажи, занимавшие один из классов местной школы, старательно готовились к вылету, прокладывая маршруты, уточняя время, сигналы, средства привода. Мой штурман Зимогляд заболел, и я помогал другим экипажам готовиться к полету. Из соседней комнаты появляется заместитель командира полка майор Хардин и, сочувственно оглядев меня, сообщает, что полетит на моем самолете, только немного позже, когда выпустит в воздух все экипажи.
Я козырнул и вышел на крыльцо школы. Осмотревшись, увидел молодого штурмана лейтенанта Николаева, которого в отличие от Михаила Яковлевича Николаева мы называли Николаев-второй. Он сидел на скамеечке и безучастно смотрел на заснеженные поля.
— Что загрустил?
— А что прикажете делать, когда не берут на боевое задание? За два месяца сделал всего шесть вылетов.
— Эту несправедливость мы сейчас исправим. К полету готов? — спросил я.
— Готов! — встал тот.
— Отлично! Я пойду к майору Хардину.
Вылетели мы часов в десять вечера. Все экипажи в ту ночь бомбили эшелоны на станции Пологи и по всему участку этой железной дороги до Запорожья. Работала и авиация дальнего действия. Станция Запорожье горела. В воздухе висели светящие авиабомбы, била зенитка, на земле взрывались фугаски.
Возбужденный близкими разрывами снарядов, Николаев пытался поделиться со мной своими впечатлениями.
— А бомбы-то не забыл сбросить? — спросил я в шутку.
— Ой, не знаю, — вскрикнул он и замолчал, очевидно, проверяя, не висят ли бомбы.
Я рассмеялся про себя, так как видел разрывы наших бомб, они легли хорошо.
Мы возвращались домой. Уже увидели прожектор, крутивший лучом воронку.
— До аэродрома еще десять минут, — уверенно произнес штурман.
— Тогда давай, веди. Следи за ориентировкой, — сказал я, краем глаза наблюдая, как исчезает где-то сзади приветливый луч прожектора.
Прошло десять минут — аэродрома нет. [49]
— Товарищ командир, мы пролетели наш аэродром десять минут назад, — робко сознался Николаев.
— Главное — вовремя признать свою ошибку и немедленно исправить ее. Давай обратный курс.
Пролетели обратным курсом десять минут — аэродрома нет и в помине. Немного покружив в поисках прожектора, я указал Николаеву на костры, горевшие в ноле, и предупредил, что сяду возле них, а он сбегает и узнает, где мы находимся.
Включаю фары и спокойно, как днем, сажусь на заснеженную площадку. Там пылали костры. Множество людей расчищали снег, готовя новый аэродром для фронтовой авиации. Я видел, как Николаев подбежал к ближайшей группе и, размахивая руками, стал что-то объяснять. А еще через пару минут рабочие подняли его на руки и подсадили в кабину.
— Наш аэродром совсем рядом. Семь минут полета, — радостно сообщил Николаев.
Самолет, взметая снег, оторвался от земли и исчез в небе. Но посвящение Николаева в настоящие штурманы на этом не закончились. Промелькнуло расчетное время, а аэродром как заколдованный так и не появился.
— Что теперь будем делать, товарищ штурман? — спросил я.
— Не знаю, товарищ командир, — откровенно признался он.
Я и сам начал уже беспокоиться. Внимательно присматриваясь, не покажется ли где луч приводного прожектора, я поколесил немного по небольшому пространству и наконец нашел его. Чтобы не потерять прожектор из виду, круто развернулся в его сторону. Однако при моем приближении прожектор погас.
— Они не хотят нас принимать. Это аэродром У-2, — пояснил штурман.
Я вышел на посадочный курс, включил фары и без помех сел на притаившийся аэродром. Там в полной темноте заправлялись горючим пять-шесть «кукурузников». К своему удивлению и радости, я узнал среди подбежавших летчиков и техников своего товарища по Сталинградской школе военных летчиков Петра Серова. Теперь это был не просто Петька Серов, а комиссар полка прославленных ночных бомбардировщиков У-2. Он пригласил нас поужинать.
За ужином вспомнили курсантскую жизнь, Сталинград. Вспомнили первые полеты на У-2, удача, друзей курсантов. [50]
— Послушай, — тронул меня за плечо Серов. — У нас к вам просьба. Понимаешь, на нашем участке наземные войска готовят рубежи для наступления. Кое-где они уже потеснили немцев и заняли хорошие исходные позиции. А вот на одном направлении не могут овладеть высоткой, которая является ключом обороны гитлеровцев, — мешает дот. Немцы строчат из пулеметов на триста шестьдесят градусов. Приблизиться к доту и подавить его невозможно.
— Дот — это трудное дело. А что у тебя за просьба?
— Взорвать бы эту проклятую штуку? — вопросительно произнес Серов.
— Штурман у меня молодой, — ответил я.
— А все же попробуйте, ребята. Сколько ваш самолет поднимает бомб?
— Десять стокилограммовых можно подвесить.
— Вот и отлично! — улыбнулся Серов. — Наш У-2 выбросит над целью несколько светящих бомб, а снаряды артиллерии точно укажут, где находится цель.
— Ну как, штурман, поможем пехоте?
— Я готов, товарищ командир! — смутившись своего порыва, ответил Николаев.
Пока подвешивали бомбы, заливали в баки бензин, договаривались с КП командира пехотного полка, время вплотную приблизилось к рассвету.
Подлетая к линии фронта, я понял по вспышкам рвавшихся на земле снарядов и пулеметным трассам, что наши войска ведут интенсивный огонь, а противник отвечает редкими залпами артиллерии.
— Видишь линию фронта? — спросил у штурмана.
— Вижу. До цели три-четыре минуты полета. Расчет на бомбометание готов, нужно набрать высоту.
— Будем бомбить с высоты триста метров, — твердо сказал я. — Бомбы сбросишь все сразу — залпом. Цель где-то впереди, по нашему курсу.
— Бело кругом, и везде стреляют, — со вздохом произнес штурман.
Внизу под самолетом вспыхнули светящие бомбы. Земля стала просматриваться яснее, стали видны развалины домов, кусты, извилистые линии траншей и окопов. Николаев, посмотрев в прицел, рванул рукоятку сбрасывания.
Почувствовав, как самолет ринулся вперед, освободившись от бомб, я сразу ввел его в крутой левый вираж, пытаясь рассмотреть, что делается на земле. Там рванули вверх яркие огненные столбы. Взрывная волна тряхнула самолет с такой силой, что я навалился на штурвал. [51]
Сели мы на свой аэродром уже после рассвета, когда нас перестали ждать. Майор Хардин стал ругать нас на чем свет стоит.
— Анархию разводите!.. Отстраню от полетов! — кричал он.
— Товарищ майор, вас вызывают к телефону, — доложил дежурный по штабу лейтенант Лебедев.
— Иду. А вы, голубчики, подождите, разговор еще не окончен.
Хардин возвратился быстро.
— Задал бы я вам перцу, если бы не пехота, — уже миролюбиво сказал он. — Вам передали благодарность. Они какую-то важную высоту взяли... А вот на благодарность командира нашего полка не рассчитывайте. Скажите спасибо, что не получили взыскания...
* * *
На столе, за которым сидел Константин Иванович Рассказов, была развернута карта обширного района. Летчики, штурманы и стрелки-радисты приготовились записывать данные радиостанций, позывные, сигналы.
— Час назад, — обратился к нам командир полка, — на разведку вылетел экипаж майора Хардина. Он летит по маршруту Щигры, Курск, Белополье, Конотоп, Брянск, Орел, Ливны. Это почти весь район, где нам придется действовать сегодня. Разведчик передает: высота облачности 250–300 метров, кое-где идет снег, видимость хорошая. С рассветом полк будет действовать одиночными экипажами. Всем вести разведку в интересах наземных войск. Наносить бомбовые удары по железнодорожным эшелонам, находящимся в пути и на станциях. При возможности атаковать самолеты противника на аэродромах огнем пулеметов и бомбами. Воздействовать на его автоколонны и группы пехоты. Вылет — по готовности экипажей. С первым эшелоном пойду я. На аэродроме остается комиссар.
Пока эскадрильи готовились к вылету, майор Хардин попал на маршруте в сильную пургу. Незаметно проскочив Конотоп и Бахмач, он оказался над Нежином, который принял за Конотоп, и развернулся на Брянск, что сразу спутало все штурманские расчеты. Когда вышло время, а Брянск так и не показался, штурман старший лейтенант Ильяшенко предложил пойти еще дальше тем же курсом. Погода снова ухудшилась, и штурман уже не смог восстановить детальную ориентировку. Бомбы пришлось сбросить по автоколонне, двигавшейся, как подумал штурман, в районе Брянска. [52]
Проплутав еще некоторое время, экипаж решил во избежание неприятностей идти курсом 90 градусов — прямо на восток. Было уже восемь утра, и на земле просматривались деревни, леса, реки, дороги.
— Смотри, впереди большой город, — обратил внимание штурмана Хардин.
— Воронеж. Вижу аэродром, — отозвался Ильяшенко.
— Захожу на посадку, — послышалось в ответ.
Выпустив шасси и закрылки, Хардин стал спокойно планировать. А штурман, всматриваясь в площадку аэродрома, заметил десятка два самолетов. Ему показалось странным, что они стояли открыто, не в капонирах и без маскировки. Смутная догадка подтвердилась, когда они пролетели над самолетом, на крыльях которого распластались широкие черные кресты.
— Немцы! — крикнул штурман Хардину, когда СБ уже скользил на лыжах по земле.
— Спокойно! — отозвался летчик. — На аэродроме никого. Я развернусь и порулю вдоль стоянки, а вы бейте по самолетам.
Пробег еще не закончился, а Хардин уже энергично развернулся на 180 градусов и быстро порулил, направляя нос бомбардировщика так, чтобы штурману было удобно стрелять.
Штурман и радист одновременно открыли огонь, поражая ближайшие самолеты. Трассы пуль рассыпались веером.
По летному полю быстро катил белый советский бомбардировщик, из кабины которого били пулеметы. На стоянке вспыхнули две машины, взорвалась цистерна с бензином, загорелся еще один самолет. Потом раздался могучий рев моторов, и СБ оторвался от земли.
— Куда это нас занесло, штурман? — спросил Хардин, когда вражеский аэродром остался позади.
— Это был Орел, товарищ командир. С воздуха он очень похож на Воронеж. Будь это днем, они бы сожгли нас.
На свой аэродром дотянуть не удалось. Моторы стали давать перебои, и Хардин едва успел посадить СБ в десяти километрах за линией фронта...
В этот день все экипажи полка действовали умело, инициативно и причинили немецко-фашистским войскам большой урон. Лебедев с Заварихиным и стрелком-радистом Федосеевым сожгли два самолета на полевой площадке в районе Харькова и привезли важные разведывательные данные. Экипаж Панченко огнем пулеметов и бомбами разогнал батальон вражеской пехоты западнее города Ливны и [53] причинял ему большие потери. Экипаж Бочина добрался до Брянска и, маскируясь облачностью, внезапно сбросил бомбы на скопление эшелонов. Иван Скляров со штурманом Кравчуком и стрелком-радистом Смирновым бомбил эшелоны на станции Орел. Зенитная артиллерия немцев открыла сильный огонь. Чтобы выскочить из-под обстрела, Скляров вынужден был несколько раз бросать свою машину чуть ли не до земли. Когда он добрался до аэродрома, в самолете насчитали около семидесяти пробоин. Экипаж Сидоркина, действуя южнее Курска, напал на колонну автомашин, двигавшуюся из Белгорода на Курск. Четыре его захода остановили колонну, пехота разбежалась по полю, бросая оружие. Старший лейтенант Барышников со штурманом старшим лейтенантом Зимоглядом и стрелком-радистом Егоровым обнаружили большую колонну фашистов, двигавшуюся из района Мценска на запад, и удачно пробомбил ее. Другие экипажи наносили удары по противнику, отходившему в полосе наступления Юго-Западного фронта.
Настроение царило приподнятое, боевое. Да и было чему радоваться. Задачу дня удалось выполнить на «отлично». Врагу причинен большой урон, наземные войска получили обширную информацию от воздушной разведки, и, что весьма важно, полк не понес никаких потерь...
* * *
Мой самолет стоял без правого мотора, на раме болтались трубки, шланги, прокладки. Около него сновали техники во главе с инженером полка Поповиченко.
— Я думал, все готово, а вы даже мотор сняли, — удивился я.
— Сняли, — значит, нужно, — огрызнулся Поповиченко. Видно, у него что-то не ладилось. — На тебя, Ефремов, не напасешься техники. То тебя сбивают истребители, то падаешь, подбитый зениткой, и хоть разорвись, а подавай ему исправный самолет. Вечно тебя несет под самый огонь, — ворчал «старшой».
— Война... Немец всегда лупит, как очумелый. Ты по-хорошему хочешь влепить ему бомбы, а он не понимает и старается шарахнуть тебя снарядом, — отшучивался я. — Ну да не в этом дело. Мотор зачем сняли?
— С мотором все кончено, отвоевался. Пойдет на запчасти...
— А как же мы? — удрученно спросил Немцов, воззрившись на инженера. — Все будут работать, а мы баклуши бить? Этак фашисты вообще забудут про наш экипаж. [54]
— Делать вам пока ничего не надо. Отдыхайте. Когда ты, Ефремов, на земле, я спокойно чувствую себя, и все идет как положено, — признался Поповиченко. — Ребята летают, воюют, возвращаются на исправных самолетах...
Это добродушное ворчание, напоминавшее отцовскую нотацию, я воспринимал как должное. Приятно было сознавать, что кто-то думает о тебе и тревожится, когда ты в воздухе бьешься с врагом.
Мы отправились в землянку. Здесь было тепло и тихо. За столом начальника штаба, положив на руки кудлатую огненную голову, сладко похрапывал Шестаков. На его топчане сидел Панченко и внимательно читал при свете фонаря какую-то книжицу.
Эта ночь, как и другие, сначала разбросала экипажи во все концы фронта, потом собрала в тесной землянке. Ребята приходили на командный пункт разгоряченные боем, приносили с собой радостное возбуждение и тонкий аромат морозного воздуха. Вытащив полетные карты, они подходили к столу помощника начальника штаба майора Абрамкина, докладывали данные разведки и результаты своей работы. Экипажи уничтожали окруженные немецко-фашистские войска западнее Ельца в районах Россошное, Волчановка, Успенское, Ливны и действовали по дорогам, ведущим на Орел и Брянск. На узловых железнодорожных станциях враг яростно огрызался зенитным огнем. К утру выяснилось, что два самолета получили серьезные повреждения, а летчик лейтенант Лебедев и штурман старший лейтенант Зимогляд были ранены.
Рано утром с задания возвратился комиссар Козявин. Он тоже, как и молодые летчики, был возбужден проведенным боем. Экипаж комиссара обстреляли немецкие зенитки, но бомбы точно накрыли эшелоны на перегонах западнее Курска.
— В темноте мне показалось, что к Курску с юга подходит большая колонна, — докладывал Козявин командиру полка. — У нас уже не было боеприпасов. Надо бы проверить, что это за колонна, и, если это противник, хорошенько ударить по нему.
— Сейчас это не получится, — сказал Рассказов. — Самолеты не осмотрены и не готовы к вылету. А с рассветом пошлем на разведку в тот район Ефремова. Я его придержал с вылетом на всякий случай.
Через несколько минут я, старший лейтенант Немцов и сержант Федосеев торопливо шагали к самолету. Под ногами [55] поскрипывал снег. Холод был такой, что руки буквально прилипали к металлу.
Через несколько минут наш одинокий СБ исчез за горизонтом, взяв курс на запад. Проверив приборы и освоившись в воздушной обстановке, я почувствовал обычную уверенность, передал штурману, что высоту набирать пока не будем и линию фронта пересечем на бреющем. В дымке нас трудно будет обнаружить, а там, над целью, подскочим.
— Только доверни немного вправо, чтобы выйти на южную окраину Курска, — посоветовал Немцов.
Пролетев линию фронта, я набрал высоту и вскоре увидел впереди очертания большого города.
— На город выходить не нужно, — заметил штурман.
Слушая его, я внимательно разглядывал землю. По узкой серой ленте дороги двигались едва заметные точки. Подлетев ближе, я довольно ясно различил множество машин, двигавшихся большими группами с юга на Курск. По обочинам с обеих сторон плелись конные обозы. На некоторых санях виднелись ящики, видимо с боеприпасами. Автомашины были прикрыты брезентами.
— Атакуем с головы! — предложил штурман. — Будем бомбить под небольшим углом к дороге, с нескольких заходов.
Ревя моторами, наш СБ проносится над самой колонной. Гитлеровцы захвачены врасплох. Они мечутся между машинами, падают, скошенные пулеметным огнем. Я даже вижу их искаженные ужасом лица, вижу автоматные очереди, пущенные в нас.
На плоскостях самолета появляются пробоины. Несколько пуль, сухо щелкнув, прошивают борта кабины и уносятся дальше, а одна разрывается, ударившись о колонку штурвала. Я чувствую жгучую боль в правой руке, сжимающей штурвал.
«Пустяки», — успокаиваю себя. В ту же минуту меня отвлекает внезапно возникший впереди столб огня и дыма. В воздух взлетают обломки досок и какие-то тряпки.
— Ага! — торжествующе кричит штурман. — Они везут боеприпасы и пехоту.
Чем ближе подлетали мы к Обояни, тем злее и гуще становился зенитный огонь. Вместе с пулеметами заговорила артиллерия. Рядом с самолетом, противно крякая, стали рваться снаряды.
— Перебиты стволы обоих пулеметов, — доложил штурман.
— Выходим из боя! [56]
Резким разворотом беру направление на восток.
В этот миг под моей кабиной разорвался снаряд крупного калибра. Машину тряхнуло с такой силой, что слетел колпак с кабины. Обжигая лицо, с шумом ворвался холодный воздух. Чувствую, что СБ опускает нос, пытаюсь вывести его в горизонтальный полет. Но с ужасом замечаю, что штурвал свободно ходит взад и вперед, не испытывая нагрузки. Самолет падает. «Перебита тяга руля высоты», — мелькает в мозгу.
До земли оставалось не больше тридцати метров. Она неотвратимо надвигалась на нас. Я видел улицу села, на которую мы падали, соломенные крыши домов с закопченными трубами, женщину, достававшую воду из колодца, деревья, следы на свежем снегу. Ни выпрыгнуть, ни посадить самолет не было никакой возможности. Через несколько секунд — удар, и конец всему. Пока эти мысли проносились в голове, рука легла на рукоятку триммера руля высоты и повернула его один раз на себя. И самолет среагировал на это движение. Словно очнувшись от кошмарного сна, я еще немного повернул рукоятку триммера, и машина стала медленно набирать высоту. Я облегченно вздохнул.
Ни штурман, ни радист не знали, что мы находились на волосок от гибели, потому что связь у нас была повреждена. В кабине откуда-то из-под ног брызгал бензин и, подхватываемый потоками ветра, мелкими каплями оседал на моем комбинезоне. От удушливых испарений резало глаза. Стоит только пробиться где-нибудь маленькой искорке, и самолет взорвется, как бомба. Оглядывая машину, замечаю, что шасси вывалилось из обтекателей и свободно болтается в воздухе.
А между тем впереди показался аэродром. Все машины стояли на своих стоянках. В воздухе никого не было, значит, никто не помешает маневрировать при заходе на посадку. Хорошо, хоть моторы работают нормально.
Посадка самолета с перебитой тягой — последнее испытание. Плавно действуя рулем поворота, элеронами и триммером руля высоты, я вышел на посадочный курс заведомо намного дальше от аэродрома. Самолет реагирует на отклонения триммера, но вяло. Я смотрю вперед и немного в сторону, определяя высоту выравнивания. Когда до земли осталось пять-шесть метров, выключаю моторы. Машина касается колесами земли.
— Полный порядок! — кричу громко и весело, вылезая из кабины.
— Черт возьми! Это опять Ефремов! — инженер полка [57] хватается за голову. С группой техников он был на стоянке и видел, как СБ, коснувшись колесами земли, устало лег на брюхо и, поднимая вихри снега, пополз, словно раненое животное.
— Эй! Полуторку! — крикнул Поповиченко. — Да поскорей! Может, там раненые.
Когда полуторка с техническим составом подкатила к лежащему в поле самолету, я и штурман Немцов осторожно вытаскивали из кабины стрелка-радиста Федосеева. У него были пробиты осколками снаряда обе ноги. Сержант был очень бледен. Стиснув зубы от боли, он молча, действуя сильными руками, старался помочь нам.
— Что случилось? — спросил, ни к кому не обращаясь, Поповиченко, бегло осматривая изрешеченный самолет.
— Побили нас немножко, товарищ инженер, — ответил я.
— А что с радистом? — покачал головой инженер. — Давайте его на полуторку. Там сено, потихоньку довезем.
Удобно устроив на сене раненого радиста, мы пожелали ему скорее выздоравливать и возвратиться непременно в свою часть.
Инженер с техниками принялись осматривать повреждения. Ощупывали рваные края пробоин, просовывали в них руки, постукивали по стрингерам, шпангоутам, лонжеронам, проверяли прочность узлов, крепления деталей. Побывали в кабинах радиста, летчика, штурмана.
Отправив с докладом на КП Немцова, я присоединился к группе инженера.
— Через неделю машина будет как новая. Сделаем на совесть, — заверил меня Поповиченко. А я крепко пожал его мозолистую руку и с благодарностью подумал: «Что бы делали мы без замечательных техников, мотористов, оружейников, чей самоотверженный и напряженный труд, чьи золотые руки ремонтируют и возвращают в строй наши разбитые машины?».
Летим на юг
В течение трех месяцев наши летчики изо дня в день планомерно вели боевую работу и почти, не имели потерь. Однако в марте, в самом начале весны, нас настигло большое несчастье. Неожиданно налетевший снежный буран, длившийся несколько часов, явился причиной гибели отличных летчиков — майора Хардина, лейтенанта Зюзи, старшины Кизилова и штурмана М. Я. Николаева. Гибель боевых [58] друзей тяжело переживал каждый из нас. И когда в начале мая 1942 года полку было приказано перелететь из-под Воронежа на юг — в район Старобельска, где, по всей видимости, должны были развернуться серьезные события, — настроение у всех поднялось.
Наш 33-й бомбардировочный авиаполк занимался в то время разведкой и бомбежкой различных вражеских объектов. К весне в нем насчитывалось двадцать боевых экипажей, включая экипажи Рассказова и Козявина. А самолетов было и того меньше, все они основательно поизносились и требовали ремонта. К счастью, на фронте было пока тихо.
В начале мая на юге стояла отличная, теплая погода. Вовсю светило солнце, над зелеными просторами струилось легкое марево, в небе клубились небольшие белые облака.
В один из таких дней мы с Кравчуком сидели на берегу небольшой речушки. Высоко над нами надоедливо гудели моторы немецкого воздушного разведчика. В небе, там, где он пролетал, оставались на голубом фоне белые шапки разрывов зенитных снарядов. Разведчик, круто развернувшись, со снижением уходил из-под обстрела.
— Послушай, — обратился ко мне Кравчук. — Куда делся наш комэск-три? Что-то я его давно не вижу.
— И не скоро увидишь. Уехал наш комэск в какой-то запасной полк инспектором.
— Комэска можно понять. Майор, сорок лет, двадцать из них — в авиации. А перспективы не видно... Тебе, Василий, нужно командовать эскадрильей, а меня бери штурманом, — предложил Кравчук.
— Ты недалек от истины, — заметил я. — Временно эскадрилью передали мне. Поговорю с командиром полка, и тебя непременно назначат к нам штурманом.
— Только с одним условием, — подмигнул Кравчук, — если командовать третьей эскадрильей и дальше будешь ты.
— Надеюсь... А боевым комиссаром к нам уже назначен старший политрук Александр Иванович Сухов...
С наступлением темноты наш полк вылетел бомбить аэродромы в Полтаве и Харькове.
Набрав высоту восемьсот метров, я уточнил у штурмана Усачева курс следования на Полтаву и стал осматриваться. За линией фронта что-то горело, на переднем крае и в тактической глубине обороны противника рвались фугасные бомбы. Там и тут висели в воздухе светящие авиабомбы, в ночное небо тянулись трассы зенитных пулеметов и скорострельных пушек. Метались лучи зенитных прожекторов. [59]
По всему было ясно, что советская авиация вела наступление на широком фронте и на большую глубину.
— Что делается вокруг! — возбужденно заговорил Усачев. — Взяли мы фашиста в оборот! И крепко взяли!
— Это только прелюдия, — заметил я. — Сегодня в небе вся ночная авиация фронта и авиация дальнего действия.
Обменявшись еще несколькими общими фразами, мы занялись каждый своим делом. Контролируя полет по приборам, я время от времени с любопытством оглядывал горизонт и близлежащую местность.
Далеко впереди вспыхнули прожекторы.
— Полтава! — передал штурман.
Я видел, как сначала один, а потом еще четыре прожектора зацепили какой-то самолет. Он блестел в их ярком перекрестии. Вокруг рвались снаряды, но машина не маневрировала, а шла прямо на цель, не меняя направления, — очевидно, была на боевом курсе.
— Молодец! Смело идет!
— Через две-три минуты и мы пойдем по этой тропе, — произнес штурман с некоторым смущением.
— Нас не так просто поймать. Будем бомбить с высоты четыреста метров.
Мы находились еще километрах в десяти от цели, а четыре прожектора уже начали шарить по небосклону, пытаясь схватить нас в свои щупальца. Зенитка молчала. Над Полтавским аэродромом висели светящие авиабомбы.
Прожекторы несколько раз скользнули по плоскости, по фюзеляжу нашей машины. Лучи скрещивались примерно на высоте тысяча метров. Мы шли гораздо ниже. Я хорошо видел взлетно-посадочную полосу и немецкие самолеты над ней.
— Командир, доверни чуть влево. Будем идти точно вдоль стоянки, — сказал штурман.
Через несколько секунд на стоянках вспыхнуло несколько самолетов.
Зенитчики открыли огонь, на разных высотах стали рваться снаряды. В ночное небо потянулись трассы. Забегали, заскользили лучи прожекторов, но наш СБ уже уходил от цели.
В ту ночь экипажи полка уничтожили на аэродромах Полтавы и Харькова двенадцать самолетов и взорвали несколько складов с горючим и боеприпасами...
Не успели мы прикорнуть тут же, под плоскостями своей машины, как раздалась команда: «По самолетам!» Едва рассвело наш полк вместе с частями авиации фронта наносил [60] бомбовые удары по участкам прорыва немецкой обороны южнее Харькова.
В течение трех дней советские войска, ведя напряженные бои, продвинулись вперед на 25–30 километров. Но враг, перегруппировавшись и подтянув резервы, 17 мая перешел в наступление крупными силами с решительной целью — срезать барвенковский выступ ударами с юга и с севера.
С этого момента и до победного завершения Сталинградской битвы на южном крыле советско-германского фронта ни днем, ни ночью не утихали жестокие бои, не угасали полыхавшие пожары на земле, не умолкал гул артиллерийской канонады и моторов самолетов в небе.
Имея большое численное преимущество, войска армейской группы «Клейст» и 6-й армии, двигаясь навстречу друг другу, соединились 23 мая в 10 километрах южнее Балаклеи, отрезав основную часть советских частей и соединений, действовавших на барвенковском выступе. На Юго-Западном и Южном фронтах оперативная обстановка для советских войск резко ухудшилась, немцы надолго перехватили инициативу. Чтобы сдержать натиск наступающего врага, наше командование вынуждено было вести сложную, маневренную оборону.
Резкую перемену боевой обстановки сразу ощутили на себе и летчики. Над важными объектами гитлеровцы основательно усилили средства противовоздушной обороны. Появились ночные истребители. Наземные войска организовывали мощные огневые заслоны. Наши аэродромы стали часто подвергаться налетам немецкой авиации.
17 мая, возвращаясь утром с задания, я попал над станцией Мерефа под плотный зенитный огонь. Вчера здесь были наши, а сегодня била вражеская артиллерия.
— Как ты узнал, что это немцы? — спросил штурман.
— У их снарядов шапки разрывов черные, а наши взрываются белым облачком.
Когда я доложил свои соображения заместителю командира полка майору Головину, тот не поверил:
— Ты что-то напутал. Наши наступают, они уже под Харьковом. Готовься к перебазированию на запад.
Вскоре мы действительно перебазировались, но только не на запад, а на восток. Давление противника так резко усилилось, что ни у кого уже не осталось сомнений в его намерениях... [61]
В ночь на 18 мая фашистская авиация дважды подвергла бомбардировке аэродром, с которого вел работу наш полк. В середине ночи, направляясь к своему самолету, я увидел в лучах посадочных прожекторов самолет Сидоркина, совершивший посадку. Здесь его сверху обстреляли крупнокалиберные пулеметы. Трасса пуль достигла прожекторов и заправочной линии. Прямая, как кинжал, она неудержимо быстро двигалась и ко мне, вспарывая землю. Я упал, но струя стремительно приближалась, как будто стрелок немецкого истребителя Ме-110 хотел убить именно меня. Податься было некуда, я неподвижно лежал, следя за этой горячей, смертельной струей, пока она не остановилась, вырыв глубокую яму возле меня.
«Бьет как ненормальный. Ведь так и убить можно», — подбодрил я себя и направился к самолету Сидоркина, который остановился посреди аэродрома. Не найдя никого в кабинах, я забрался на сиденье летчика, запустил моторы и зарулил на стоянку.
— Был посыльный и передал, что летный состав немедленно созывают на КП, — сообщил техник Шаповалов.
На командном пункте я застал всех работников штаба и несколько экипажей, в том числе и экипаж Сидоркина.
— Садись, пока отдыхай, Ефремов, — кивнул начальник штаба Терлецкий. — Есть важные сообщения.
— Что же вы, братцы, самолет-то бросили? — тихо спросил я Сидоркина.
— А ты видел, как он по нас бил? Вот послушаем, что скажут, пойду и зарулю, — недовольно буркнул тот.
За освещенным столом перед развернутой картой сидели Рассказов, Мауричев, Козявин, Головин и начальник штаба. Лица их выражали тревогу и озабоченность. Рассказов, подняв глаза от карты, подозвал к столу меня.
— Вот смотри, Ефремов, немцы прорвали нашу оборону на барвенковском направлении, со стороны Краматорска, Славянска, и движутся в сторону Балаклеи. Здесь их танки, — командир полка крестиком отметил точку на карте. — Сюда брошена вся наша авиация. С рассветом мы тоже нанесем удар по танкам двумя девятками. Сбор и взлет будут проводиться в темноте, в довольно сложных условиях. Группу поведешь ты. Подробнее поговорим, когда соберется весь летный состав.
Я вышел на улицу. Над аэродромом стоял гул наших самолетов. Вдруг в СБ, который делал четвертый разворот, с близкого расстояния ударила струя пушечного огня. Машина сразу загорелась и стала падать. «Мессершмитт» атаковал [62] еще одного бомбардировщика. Но там стрелок-радист был начеку, длинной ответной очередью он поджег истребитель врага.
Через полчаса на КП пришли штурман Ильяшенко и стрелок-радист Соколов. Они рассказали, что подверглись совершенно внезапному нападению вражеского истребителя. Самолет сразу вспыхнул. Барышников, очевидно, был убит и упал вместе с горящей машиной. Они же выпрыгнули с парашютами буквально у земли. Второй раз за короткое время Ильяшенко чудом избежал гибели. Первый раз, когда погиб Хардин, штурман с трудом выбрался из перевернутой машины, и вот теперь он выпрыгнул с парашютом у земли. Не успели присутствующие обсудить происшествие, как на КП пришли члены экипажа Бочина, сбившие фашистского пирата. Поздравлять товарищей было некогда — началась постановка задачи на боевой вылет.
В пять утра наши эскадрильи атаковали севернее Лозовой моторизованную колонну немецких войск. Сбросив бомбы по колонне с высоты шестьсот метров, мы обстреляли разбегавшуюся пехоту. Вражеские пули густо прошили небо. Со снижением в крутым разворотом я увел группу на восток. Два экипажа на подбитых СБ были вынуждены сесть в поле недалеко от аэродрома.
Выслушав доклад о выполнении задания, Рассказов спросил:
— Ну как там дела?
— Картина, которую мы увидели, напоминает обстановку первых дней войны в приграничных районах, — ответил я.
Вечером полк получил задачу: в течение ночи разрушить железнодорожный мост через реку Ворскла, южнее Новых Санжар.
В полночь, вылетев пятым, я был на подходе к цели. Над Ворсклой, в районе моста, в темном небе вспыхивали разрывы снарядов, сверкали зенитные прожекторы, на земле рвались бомбы, а в воздухе висело с десяток светящих авиабомб, которые в какой-то мере мешали прожекторам ловить наши самолеты.
На мост падали фугаски, ампулы с горючей жидкостью, мешки с горючей смесью. Но он пока был невредим.
— Кто-то накрыл цель! Есть прямое попадание в мост! — послышался в наушниках ликующий голос штурмана.
Это удачно сбросил бомбы самолет, шедший впереди нас. [63]
За несколько секунд до бомбометания три луча прожекторов захватили наш самолет, и зенитная артиллерия сразу сосредоточила на нем весь свой огонь. Щурясь от яркого света, я впиваюсь взглядом в приборы, пытаюсь точно выдержать боевой курс. Краем глаза замечаю небольшое пространство, озаряемое ослепительным светом, и сразу за ним — бездонную черную пропасть, наполненную багровыми взрывами зенитных снарядов. Разрывы все ближе и ближе. Уже слышно, как осколки градом бьют по СБ, и он слегка вздрагивает, покачиваясь от упругих ударов взрывных волн.
— Бомбы сброшены, — доложил штурман. — Пройдем еще немного боевым курсом, я посмотрю на результаты... Держи пока так... Командир! Есть и наше прямое попадание!..
Круто развернувшись налево, мы со снижением стали уходить от цели. Вокруг густо рвались снаряды. Один крупнокалиберный разорвался между кабиной штурмана и левым мотором.
— Вот черт! — выругался Усачев и скрежетнул зубами.
— Что случилось? — ослепленный и слегка контуженный, спросил я.
— Задело плечо, кровь бежит по руке, — глухо ответил штурман.
— Сними комбинезон, рубашку и займись перевязкой... Эй, Трифонов, а что у тебя? Жив?
— Царапнуло по голове, командир. Сочится кровь.
— Держитесь, друзья! Вывезу вас куда следует, — подбодрил я товарищей.
Выведя самолет на курс следования к своему аэродрому, я стал оглядывать приборы. Бросилось в глаза резкое повышение температуры воды и масла в левом моторе. Через минуту температура в неисправном моторе поднялась до критической. Под капотом левого мотора появилось небольшое пламя. Мороз пробежал между лопаток: в довершение бед перегрелся и слабо тянул правый мотор. Самолет стал быстро терять высоту. «Только бы перетянуть линию фронта», — мелькало в мозгу. Удержать машину в горизонтальном полете не было никакой возможности. Фактически мы уже падали на полыхавшие внизу пожары.
— Командир, пролетели линию фронта. Под нами Северский Донец, — тихо сообщил Усачев.
Я включил фары. Земля, освещенная двумя узкими полосами света, быстро приближалась к нам. Плавным, продолжительным движением подобрал штурвал на себя, и [64] самолет, послушно пролетев над самой землей, опустился на фюзеляж. Полет был окончен, но огонь к этому времени уже охватил весь левый мотор. Отбросив колпак, я выскочил из кабины и стал забрасывать пламя землей. Через минуту штурман и радист тоже подключились к тушению пожара.
Недалеко, на правом берегу Северского Донца, шел бой. Временами оттуда долетали снаряды и мины, которые разрывались вблизи самолета на дороге.
Утром мы обнаружили, что самолет наш лежит, как огромная уставшая птица, на самой макушке большого скифского кургана с пологими скатами. Впереди внизу — большая деревня, с левой стороны — дорога, по которой двигались наши отходящие войска.
— Куда же нас занесло! — засмеялся Трифонов. — Отсюда на десятки километров видно во все стороны.
К нам на курган поднялся капитан инженерных войск с солдатом. Познакомились. Он с любопытством обошел ма» шину, рассматривая дыры на фюзеляже и крыльях.
— Как же с ней быть? — спросил у меня инженер. — Уничтожать жалко. Если покажете, где узлы разъема отдельных частей, мы разберем ваш СБ и увезем в тыл. Это входит в наши обязанности.
К середине дня части разобранного самолета были отправлены в тыл. На одном из грузовиков разместились крылья и хвостовое оперение. Фюзеляж с моторами катил на собственном шасси, закрепленный хвостовой частью на другом грузовике. На этих же машинах ехали и мы.
Из разговоров с командирами и бойцами узнали о положении на фронте. Известия были невеселые, и мы мечтали побыстрее добраться в свою часть. Наконец — аэродром, откуда мы вылетели бомбить железнодорожный мост. Но нашего полка здесь не оказалось.
Пока кружили по фронтовым дорогам, нас перестали ждать в полку. Экипаж, который бомбил мост вслед за нами, уверенно заявил, что наш самолет взорвался в воздухе. Это означало, что летчик, штурман и стрелок-радист погибли, и товарищи очень переживали за нас.
Наше прибытие вызвало радостное оживление в полку. Майор Головин, руководивший полетами, долго обнимал меня. А уже на другой день я снова сел за штурвал, И опять потянулись похожие друг на друга боевые будни: зарева пожаров, разрывы зенитных снарядов, перестрелки с ночными истребителями, посадки в степи на подбитых машинах... [65]
Враг продолжал оказывать сильное давление на советские войска. Авиация делала все возможное, чтобы ослабить натиск гитлеровцев и дать возможность нашим частям и соединениям совершить маневр, осуществить перегруппировку сил или отойти на следующий рубеж обороны. Летать приходилось почти без передышки, днем и ночью, порой не доедая и не досыпая.
Я как-то спросил адъютанта эскадрильи Ковалева, сколько у нашего экипажа вылетов за последнее время.
— Сейчас посмотрим, — охотно откликнулся он и стал листать летную книжку. — С 12 мая и по сегодняшний день, 27 июня... 66 боевых вылетов... Экипаж был трижды подбит зенитной артиллерией. Один раз совершил посадку на горящем самолете в поле.
— По-моему, достаточно, — усмехнулся я.
— Вполне достаточно, — согласно закивал адъютант. — Иному человеку на всю жизнь хватило бы этого...
Нагрузка оказалась такой громадной, что даже я, несмотря на спартанскую закалку, начал сдавать: осунулся, постарел, стал ниже ростом. «Подтоптался немножко», — вяло отшучивался я от подтрунивавших по этому поводу товарищей... Вот и сегодня, собираясь на очередные полеты, я чувствовал неприятную нервную усталость. Болела и слегка кружилась голова. Через силу встряхнувшись, я нарочито бодрым голосом предложил Ковалеву:
— А что, адъютант, слетаем вместе на задание?
— Я готов, товарищ командир, и полечу с удовольствием, — охотно отозвался Ковалев.
— Ну тогда пусть Усачев и Трифонов отдохнут, а ты подбери хорошего стрелка-радиста — да в путь.
К вечеру небо закрыли тучи, пошел моросящий дождь. Лететь пришлось, несмотря на низкую облачность и дождь...
К концу июня немецко-фашистское командование, перегруппировав войска и подтянув резервы, бросило свои полчища в новое наступление на широком фронте — от Курска до Ростова. Советская авиация вынуждена была перебазироваться восточнее реки Дон.
* * *
Перелетев через Дон, наш полк разместился на полевой площадке в районе Верхний Мамон. Здесь мы получили недолгую передышку.
Утром, после завтрака, ко мне подошли лейтенанты Бочин и Панченко. [66]
— Комэск, погодка-то какая чудесная! Солнышко, тихо, облачка плавают...
— И так далее, — засмеялся Бочин.
— Ты, Петро, меня не перебивай, — отмахнулся Панченко. — Имею я право за два месяца непрерывных боев один раз помечтать, пофилософствовать, забыть про войну...
— И так далее и так да... — снова подхватил было Бочин, но получил от Панченко по шее.
Собравшиеся вокруг нас Кравчук, Сидоркин, Усачев, Трифонов, Лебедев, Заварихин, Чудненко громко рассмеялись, глядя на обескураженного Бочина. А Панченко как ни в чем не бывало развел руки в стороны и продолжал:
— Посмотрите вокруг! Красота-то какая!
Да, в то утро было тихо, спокойно, солнце ласково смотрело на домики поселка, на зелень садов и огородов.
Все присутствующие, как бы принимая приглашение Панченко, с удовольствием огляделись по сторонам.
— Так что же вы предлагаете? — спросил я.
— Раз нам дали передышку, нужно действовать, а ее заниматься разговорами, как вот этот философ, — указал Бочин на своего друга. — Я, то есть мы, предлагаем съездить на Дон искупаться, позагорать, ну и постирать кое-что...
Когда подошла грузовая машина, у столовой уже собралось человек сорок с полотенцами, узелками, с брезентовыми сумками из-под противогазов, набитыми всякой всячиной.
Найдя удобный спуск к Дону и небольшую песчаную отмель с желтоватым песком, мы остановили машину, быстро попрыгали через борта и мгновенно бросились в воду.
Вокруг пахло мятой, чаканом, луговой травой.
— Смотрите! — тревожно крикнул кто-то из ребят, указывая рукой на юг. Там, километрах в пяти, к Дону приближалась с северо-запада группа тяжелых немецких бомбардировщиков.
Летчики, стоя в воде, молча проводили их глазами, а через две-три минуты до нас долетел грохот рвавшихся бомб.
Мы с удовольствием продолжали барахтаться в реке, а Бочин и Панченко выбрались из воды и зашагали по берегу Дона.
— Эй, орлы! Куда? Скоро поедем домой! — крикнул я.
— Да посмотрим, что там, — отозвался Панченко.
Вдоволь насладившись купанием в прохладной воде, я оделся и решил немного прогуляться. Шагать по тропинке было удивительно легко.
Подойдя к пологому склону, я увидел внизу просторную [67] долину, заросшую невысокими деревьями и кустарником. На полянках росла густая трава, розовели лепестки цветов шиповника, густо белели соцветия дикого терна и боярышника. В кустах разноголосо щебетали птицы. «Ну точно как у нас под Сталинградом», — подумал я и тут же вспомнил свой родной город, Волхову балку, куда любил ходить в детстве и где так же прекрасно пахло травами...
Сталинград
Весь август советские войска вели упорные оборонительные бои против 4-й немецкой танковой армии, которая рвалась к Сталинграду с юга, вдоль железной дороги Котельниково — Сталинград, и против 6-й полевой армии врага, наступавшей с северо-запада. К середине августа войска нашей 62-й армии после ожесточенных боев отошли на левый берег Дона и закрепились на нем. Над Сталинградом нависла опасность. Бои носили исключительно ожесточенный, кровопролитный характер. Советские войска неоднократно наносили контрудары по врагу, опрокидывали его, гнали назад, сами получали ответные удары, откатывались в глубь своей обороны, но не теряли присутствия духа и были готовы драться до последнего вздоха.
Борьбу наземных войск поддерживала авиация 8-й воздушной армии, в состав которой входил и наш бомбардировочный полк.
Мы уже перелетели на полевой аэродром вблизи станицы Сергиевской Сталинградской области. С этого аэродрома я с экипажем совершил 15 боевых вылетов. Три раза бомбил переправы в районе Цимлянское, где переправлялись войска 4-й танковой армии врага. В одном из ночных вылетов мы разрушили переправу. И, если бы не ночь, не сошла бы нам с рук такая дерзость.
9–10 августа вместе со всей авиацией 8-й воздушной армии полк Рассказова поддерживал войска 64-й армии, нанесшей сильный контрудар по противнику. В результате 4-я танковая армия немцев откатилась, а советские войска снова заняли оборону на внешнем обводе, южнее города. На этом направлении наступило временное равновесие сил...
Как-то утром, не дожидаясь машины, которая подвозила летный состав на аэродром, я пошел пешком, чтобы немного поразмыслить, поразмять мышцы. У штаба майор Рассказов разговаривал с загорелым незнакомым мне полковником. Козырнув, я хотел следовать дальше, но Рассказов подозвал меня. [68]
Я представился полковнику.
— Это ваш инструктор, товарищ полковник, — указал на меня Рассказов. — Можете сейчас же ехать на аэродром, там для вас готовят СБ.
По пути на аэродром командир нашей дивизии полковник Борисенко объяснил, что его вызывают в Сталинград на совещание и он намерен лететь на боевом самолете. Но так как давно не летал на СБ, хочет совершить на учебной машине два-три полета по кругу. А я должен провезти его и где нужно подправить.
— Не возражаешь? — добродушно спросил полковник.
Поднявшись в воздух, я понял, что командир дивизии опытный летчик и пилотирует отлично.
Когда мы вышли из самолета, он неожиданно спросил, снимая парашют:
— Послушай, Ефремов, ты какую школу кончал?
— Сталинградскую, товарищ полковник.
— Значит, сталинградец?
— Да. Это моя родина. Там и сейчас живут отец, мать, жена и дочка.
— Что же ты молчал? Полетишь со мной за штурмана. Согласен? Не заблудишься? — засмеялся Борисенко.
— Что вы, товарищ полковник. Под Сталинградом я знаю каждую балку. Ну а уж Волгу-то мы с вами как-нибудь найдем...
После посадки на учебном аэродроме Сталинградской школы военных летчиков командир дивизии разрешил мне немного побыть дома. А технику-лейтенанту Заболотневу приказал готовить самолет.
Мы с полковником Борисенко доехали на трамвае до центральной площади города.
Родной с детства Сталинград стал неузнаваем, это был уже прифронтовой город.
— Ну что ж, Ефремов, топай домой, — пожал мне руку полковник. — Да, кстати. Передай дочке гостинец. — И смущенно протянул мне помятую плитку шоколада.
Через полчаса я был уже в своем Ворошиловском поселке. Глухо шумел большой лесопильный завод, пахло древесным спиртом и лебедой, которая буйно росла по немощеным улицам.
Передо мной открылась знакомая, неописуемой красоты картина. Плавно и могуче катила свои воды Волга. С крутого правого берега были видны пойма и зеленый лесок на левом берегу. По реке сновали лодки, шел большой пароход. Буксиры подталкивали к лесопильному заводу плот. [69]
Дом наш с пристройками стоял на площадке, отвоеванной у крутого откоса, спускавшегося к Волге. Книзу двор был огорожен забором, за ним лепились дома соседей.
Я увидел свой дом, сарай, небольшой дворик, где стояли козлы, на которых пожилой, седоватый человек пилил деревянный брус.
— Отец! — громко крикнул я и помахал фуражкой. Как в детстве, подпрыгивая, пустился под гору.
— А! Это ты, сынок, — оживился отец. — А мне показалось, что кто-то из соседей.
Услышав громкий разговор, вышла Надя. Одним прыжком я махнул на крыльцо. Она некоторое время молча смотрела на меня, словно не узнавая. Потом, всплеснув руками, расплакалась, уткнулась в мою потную гимнастерку.
В горнице на кровати сидела мать, бледная, худая. Она встала и пошла мне навстречу, протянув руки. Обняв маму, я посадил ее на постель.
— Воин ты мой дорогой, — улыбаясь и плача, приговаривала она.
— Успокойся, — сам чуть не плача от волнения, отвечал я. И вдруг увидел девочку.
— А это кто же? Неужели моя дочь, Лиля Васильевна!
Большелобая, белоголовая девчушка, засунув палец в рот, серьезно смотрела голубыми глазенками на незнакомого человека.
Расцеловав ее, я дал девочке мой фронтовой гостинец — шоколадку.
За разговорами не заметили, как прошло часа два.
— На Волгу бы, искупаться. А? Давай, Надя! И Лилю возьмем с собой.
Спустившись к Волге, мы прошли по камням до берега, а потом вплавь добрались с женой до середины плота и расположились на толстых теплых бревнах.
Все вокруг казалось мирным, спокойным, как было давно. Вспомнилось, как в детстве на этом самом месте, еще не умея плавать, я чуть было не утонул...
Однажды я пришел с ведрами за водой. На краю плота стоял соседский мальчишка Колька Дуга и ловил рыбу «пауком». Рыба шла хорошо: на кукане плавало несколько вязей, стерлядь, судачок. Вот Колька снова потянул сеть наверх, перехватывая руками длинный шест. И не успели еще прутья показаться из воды, как оттуда стремительно выскочил большой язь и с размаху, как клин, врезался между бревен. Колька поспешно опустил сеть и хищно, как кот, упал животом на рыбину. Пока он возился с язем, [70] плот двинулся по течению, и Колькина сеть вместе с шестом осталась под ним. Увидев это, «рыбак» в отчаянии заорал благим матом, причитая, что отец спустит с него шкуру.
Плот остановился, я взял у Кольки веревку, наказав, чтобы он крепко держал ее конец, а сам с другим концом прыгнул в воду. Поднырнув под плот, нащупал прутья «паука», привязал веревку и двинулся обратно. Но в это время рабочие потравили канат. Колька упустил веревку, и я остался под плотом. Стукаясь в мутной темноте головой о бревна, начал уже задыхаться. В отчаянии я открыл глаза, перевернулся на спину, пытаясь найти проблески света. И увидел чуть в стороне широкое тусклое пятно. Два взмаха рук — и я очутился под этим пятном и поднял голову. В глаза ударили лучи солнечного света. Отдышавшись, понял, что через эту дыру выбраться на плот невозможно. Нырнул еще раз и через несколько секунд выскочил на свободное место между берегом и плотом. Несмотря на отчаянное положение, я не выпустил веревку из рук и вытянул из-под плота злополучную сеть. Так мой сосед Колька Дуга избежал «суровой кары».
Отдохнувшие, мы вернулись домой. Там уже был накрыт стол.
Меня расспрашивали о боях, о том, какие получил награды.
Старики с тревогой задали вопрос, остановим ли мы немца на Дону. Я посоветовал родителям и жене уехать из города хотя бы за Волгу. Они приумолкли задумавшись.
Утром, наскоро позавтракав, попив чаю, распрощавшись со всеми, собрался уходить. Жена проводила меня до трамвая.
В городе зашел в горком партии, поговорил об эвакуации семья. Получив заверение, что все будет сделано, уехал на аэродром. Здесь стояла тишина. Полетов не было, да и самолетов я не увидел. От нечего делать прошелся по военному городку, по его аллеям, вспоминая счастливые годы, проведенные в стенах авиационной школы.
А после полудня, когда особенно стало припекать солнце, я укрылся в тени учебного корпуса. Вдруг сверху до меня донеслись голоса.
— Говорю тебе, это он, — очень ясно услышал я, и вслед за тем кто-то громко окликнул меня:
— Товарищ командир!
Не прошло и минуты, как меня уже обнимали Стрельцов и Плотников.
— Летаете? — спросил я ребят. [71]
— Летаем, да не очень. То матчасти нет, то горючего не подвозят, — пожаловался Стрельцов.
— Уезжать вам нужно отсюда, вот что.
— А мы действительно эвакуируемся на Урал, — заметил Стрельцов. — Большая часть людей и техники уже отправлена на новое место.
— То-то я жду с самого утра какой-нибудь самолет, чтобы добраться до полка.
Не успел закончить фразу, послышался рокот моторов.
— Летит сюда, — подняв голову, определил Плотников. Оказалось, что в штаб армии прибыли товарищи из нашей дивизии.
Мои однополчане угостили меня курсантским обедом, и я улетел на свой аэродром. Явился вовремя и очень кстати: нашему полку вручали гвардейское Знамя.
Командир дивизии Борисенко прочитал перед строем теперь уже 10-го гвардейского полка Указ Президиума Верховного Совета СССР, в котором говорилось, что за отважные и умелые действия в боях против фашистских захватчиков полку присвоено звание «гвардейский». Командир полка майор Рассказов и комиссар Козявин подошли к Знамени и, преклонив колено, поцеловали край бархатного полотнища. Все мы тоже встали на правое колено и обнажили головы. Потом Знамя пронесли перед строем и поставили на правом фланге. Командир полка в своем выступлении заверил партию и правительство, что личный состав части будет громить и уничтожать фашистских захватчиков до тех пор, пока ни одного из них не останется на нашей священной земле.
Вечером стало известно, что все эскадрильи будут бомбить переправу на Дону в районе Вертячего, где немцы захватили плацдарм и куда усиленно перебрасывали войска.
— Вы, капитан Ефремов, со своим экипажем пойдете на задание первым, — сказал командир полка. — Осветите цель. Это позволит следующим за вами экипажам смелей и уверенней ударить по противнику. Вашему СБ подвесят две РАБы{1} по пятьсот килограммов каждая.
Взлетали в сумерках. Самолет долго разбегался, прежде чем оторвался от земли. Под крыльями с правой и левой стороны висели пузатые РАБы. В районе Вертячего, кружа над своей территорией, я вдруг увидел почти под собой клубы [72] бушующего багрового огня. Не успел сообразить, что произошло там, внизу, как пламя разрывов рвануло в районе переправы.
Била «катюша». Первый раз видел я такой страшный огонь. Но пошел прямо на разрывы.
Над целью Усачев сбросил две светящие авиабомбы. Включив бортовые огни, я помигал артиллеристам. Те поняли, что над ними свои, и, ориентируясь на светящие авиабомбы, опять ударили по плацдарму врага и по переправе.
Цель просматривалась хорошо. Усачев сбросил РАБы. Горючая смесь расплескалась, воспламенив все вокруг. «Катюша» снова произвела залп, и переправа запылала по всей длине...
* * *
Прошло несколько дней. 23 августа немецко-фашистские войска прорвали нашу оборону. Одновременно сотни самолетов 4-го воздушного флота гитлеровцев обрушили на Сталинград свой смертоносный груз.
Наш полк перелетел за Волгу и приземлялся на обширной равнине у степного поселка. Летчики знали, что танки врага прорвались к Волге севернее Сталинграда, в районе Рынок, и готовились нанести бомбовый удар по ним в месте прорыва, на подступах к городу.
Взлетев в полной темноте, я набрал заданную высоту и развернулся в сторону Сталинграда. Внизу проплыло мутное пятно озера Эльтон, а на западе появилась длинная багровая полоса мерцающего зарева. Чем ближе подлетали мы к цели, тем грандиознее становилось зарево, освещавшее высокие облака.
— Сталинград горит! — закричал Усачев. — Все в огне! Что сделали, гады...
Я смотрел на город, охваченный пламенем, и сердце разрывалось от горя. Там, в этом адском огне, десятки тысяч людей, и мои родные тоже... Проглотив подступающий к горлу ком, сказал:
— Снизимся до двухсот метров и врубим этой нечисти как следует.
— Нельзя бомбить с такой высоты, сами подорвемся на своих же бомбах, — резонно заметил штурман.
— Тогда давай с трехсот метров. Это пробовали не раз.
Сбросив бомбы, опустились еще ниже, беспощадно уничтожая пулеметными очередями огневые точки врага.
Летчики нашего полка за ночь совершили не менее ста вылетов, обрушили на прорвавшихся к Волге гитлеровцев [73] около ста тонн бомб, израсходовали все боекомплекты патронов. Авиация причинила противнику большой урон. Во взаимодействии с наземными войсками она не позволила ему продвинуться на юг, к городу.
В период боев с немецким танковым корпусом ополченцы Сталинградского тракторного и соседних предприятий вступили в единоборство с бронированными фашистскими частями. Ополченцев поддержала авиация. Благодаря этому мужественные защитники города не только остановили немецкие танки и бронетранспортеры, но и отбросили гитлеровцев на три километра от тракторного завода.
Вскоре бои передвинулись к центру города, к металлургическим заводам, к набережной Волги. Они не прекращались ни днем, ни ночью. Сталинград горел, сотрясаемый разрывами бомб, снарядов и мин, раздираемый трассами пулеметных и автоматных очередей.
За месяц боев под Сталинградом я совершил 40 боевых вылетов. Но в полку все меньше оставалось опытных летчиков, которые могли бы летать в сложных метеорологических условиях или на одном работающем моторе: в воздухе все чаще отказывали двигатели. Не хватало и самих самолетов. Под боевые были переоборудованы все учебно-тренировочные машины.
Именно в это время произошли изменения в составе командования нашего 10-го гвардейского полка. Рассказов был назначен командиром дивизии ночных бомбардировщиков У-2, с ним ушли Шестаков, штурман полка Мауричев и еще кое-кто из работников штаба. Полк принял майор Головин — энергичный, умный человек и отличный летчик. Начальником штаба остался полковник Терлецкий, а комиссаром — Козявин. Штурманом полка назначили капитана Ильяшенко. Мне дали в заместители капитана Сидоркина, забрав старшего лейтенанта Склярова на должность заместителя командира 1-й эскадрильи, которой командовал капитан Иванов.
Сменился у меня и штурман. Вместо Усачева пришел капитан Кудрявцев.
Однажды, проверяя летные книжки, Анатолий Иванович Головин, ставший уже подполковником, спросил у меня:
— Сколько у вас вылетов за последний месяц?
— Да, наверное, тридцать наберется, — ответил я, не понимая, зачем потребовались эти данные командиру полка.
— У вас не тридцать, а сорок. А сколько налетали ваши подчиненные за это же время?
— Полетов семьдесят сделали. [74]
— Вот видите, капитан, вы один выполнили половину всех вылетов эскадрильи.
— Но ведь у меня в основном молодые ребята, товарищ подполковник. Одни вообще не летают ночью, другие — только в светлые ночи, — пытался я оправдать новичков.
— Я требую, чтобы все ходили на любые боевые задания. Не бойтесь, ничего не случится. Там, под Сталинградом, в любую темную ночь бывает светло и жарко. А сами выкраивайте время для отдыха... Погляди на себя: похудел так, что скоро превратишься в «шкелет», — дружески похлопал меня по плечу командир полка. — Один много не навоюешь. Помни об этом!
Две ночи подряд я проверял технику пилотирования и вывозил своих молодых летчиков на учебно-тренировочном самолете. На третью ночь полетел с ними в бой.
Огромное количество фашистских войск втянулось в город. Противник оказывал сильное давление на защитников Сталинграда, пытаясь сбросить их в Волгу. На севере и юге стояли мощные заслоны против советских войск, а в ближайшем тылу, в окрестностях города располагалось несколько корпусов резерва. Однако, несмотря на значительное превосходство в людях и технике, несмотря на неимоверные усилия и большие потери, вражеская армия не смогла сломить сопротивление наших войск. Их упорная оборона, решительные контрудары на важнейших направлениях, непрерывные контратаки истощали и подрывали силы врага, вынуждали его топтаться на месте. А его отчаянный напор на защитников Сталинграда на отдельных направлениях походил более не на успех, а на агонию...
* * *
Осень. Сидоркин, я и Кудрявцев сидим на бомбах под крылом самолета. Перед нами лежит широкая, ровная степь, покрытая полынью. Здесь, под Эльтоном, мы находимся с августа и привыкли к однообразию бескрайней степи, привыкли к тому, что все здесь пахнет полынью: и воздух, и пыль, и молоко, и даже сливочное масло. Растительность скудная, но почвы богаты питательными веществами, и там, где есть вода, пусть даже солоноватая, бурно растут по берегу осока и камыши.
Говорим о воде, об орошении, о садах и снова мысленно переносимся в Сталинград — на нем сейчас сосредоточено всеобщее внимание.
Город по-прежнему в огне. Враг не оставил своих намерений любой ценой овладеть Сталинградом. Он бросает в [75] бои все новые части и соединения пехоты, танки, артиллерию, широко использует авиацию.
По два-три раза за ночь мы летаем под губительный огонь зениток и «мессершмиттов», громим подходящие подкрепления гитлеровцев, железнодорожные станции, аэродромы, переправы и укрепленные пункты в самом городе.
Сумерки сгущаются, и мы расходимся по машинам. Первым вылетает Сидоркин.
— Ты готов? — спрашиваю Кудрявцева.
— Все в порядке.
— А у тебя как, Петр?
— Я готов! — отзывается Трифонов. — Куда летим?
— Как куда? На танцы, — смеется штурман. — С луны ты свалился, что ли?
— Ну поехали, — подвожу черту разговору.
Выруливаю на старт, мигаю навигационными огнями, прошу разрешения на взлет.
Оглядываю поле аэродрома и переднюю воздушную полусферу. Сразу замечаю машину с включенными бортовыми огнями, идущую на высоте шестисот метров курсом, противоположным взлетному. Немец! Вот дубина! Включил навигационные огни, дескать, я свой, осветите посадку. Нет, выключать моторы я не буду, фашист еще далеко. Иду на взлет. Оторвавшись от земли, вижу: вражеский самолет быстро приближается на встречных курсах. Немедленно начинаю разворот, полагая, что сейчас фашист сыпанет бомбы и ударит из пулеметов. Немец действительно тут же сбросил бомбы, видимо, хотел попасть в мой взлетающий СБ, но, как определил Кудрявцев, «дал маху». Все десять бомб упали за границей аэродрома, не причинив никакого вреда.
Мы пересекли Волгу, отражавшую тревожные блики пожаров, прошли через центр города и стали приближаться к Гумраку. Впереди, в черном небе, возникли прямые, четкие полосы вражеских прожекторов. Они рыскали по небу, скрещивались, расходились, снова скрещивались, и мы увидели в их ярком свете серебряную птицу. Вокруг нее рвались, вспыхивая, как маленькие молнии, зенитные снаряды, щупальцами спрута тянулись к ней багровые трассы «эрликонов».
— Это Сидоркин попал в переплет, — говорю штурману.
— Вижу, — отвечает Кудрявцев. — А нельзя ли как-нибудь обойти эти прожекторы?
— Нет, невозможно. Их очень много. Они перекрывают центр города, станцию Садовая, Воропоново и Гумрак. Нет [76] прожекторов только на северной окраине Сталинграда. Там лишь зенитные пулеметы.
— Так, значит, прямо?
— Да. Только вперед!
Тем временем экипаж Сидоркина сбросил фугасные бомбы, развесил в небе цепочку светящих авиабомб, а затем резким разворотом вырвался из лучей прожекторов и скрылся в темноте.
— Ловок, чертяка! — воскликнул Кудрявцев. — И бомбы положил точно. Видишь, там вспыхнул пожар?
Проходит минута-другая, и лучи прожекторов захватывают теперь уже наш самолет. Режущий свет слепит глаза. Машина вздрагивает и покачивается от близких разрывов. Закладывает уши. В кабину проникает противный запах взрывчатки. Напряженно держу боевой курс, ожидая, когда отбомбимся. И вдруг слышу хрипловатый басок штурмана:
— Бомбы не сбросил. Ослепили так, что и сейчас ничего не вижу.
Чертыхнувшись про себя, энергичным разворотом со снижением вывожу самолет из лучей прожекторов.
— Ну что ж, начнем сначала.
Строим точно такой же маршрут, с тем же боевым курсом — иначе нельзя, можно столкнуться со своими машинами. Через три минуты снова на боевом курсе, опять рядом рвутся снаряды. В наушниках шлемофона слышу четкий доклад штурмана: «Бомбы сбросил!» Ввожу самолет в крутой разворот и смотрю вниз. Бомбы рвутся на поле аэродрома и на стоянках самолетов. Порядок!
Сильный треск разорвавшегося снаряда оглушает нас. Яркая мгновенная вспышка слепит до боли глаза. Стараюсь держать рули управления в нейтральном положении. Неужели ослеп? Только бы успеть предупредить экипаж.
Эти невеселые мысли прерывает слабый голос штурмана Кудрявцева: «Полоснуло по голове осколком. Кровь заливает лицо». В этот момент я снова стал зрячим. Крикнул, чтобы Николай перевязал голову. Подбодрил его сообщением, что мы уже перелетаем Волгу.
Выше нашего СБ видны вспышки выстрелов и цепочки трассирующих пуль. Бледно-зеленая трасса, убегающая на запад, выпущена советским бомбардировщиком, а багровая — фашистским истребителем. Истребитель хитрит. Он маневрирует, заходя то с одной, то с другой стороны, внезапно открывает огонь. Но стрелок-радист на бомбардировщике, [77] видать, опытный боец. Он мгновенно бьет длинными очередями по врагу. Истребитель, вспыхнув, падает вниз.
Через пять минут, во время пробежки по полосе, я увидел в свете посадочных прожекторов стоящий в стороне самолет, изрешеченный вражеским огнем. Успел даже рассмотреть бортовой номер машины — 31. Это самолет Сидоркина! Выходит, именно его экипаж сбил вражеский истребитель. Молодцы ребята!
На стоянке, выключив моторы, мы с техником Заболотневым осторожно вынесли из кабины раненого штурмана и проводили его до санитарной машины...
Когда я и Трифонов пришли на командный пункт, там уже были многие летчики и штурманы, возвратившиеся с боевого задания. Они оживленно обсуждали только что пережитое.
В стороне, окруженный друзьями, стрелок-радист Иван Вишневский из экипажа Сидоркина рассказывал о воздушном бое, в котором ему удалось свалить фашистского аса. А Сидоркин докладывал начальнику штаба о выполнении задания.
Мы с Трифоновым присели на топчан.
— Командир, мы еще полетим? — спросил он.
— Вряд ли, — ответил я. — Нужно тщательно осмотреть машину, да и штурмана у нас пока нет.
В землянку вошли командир полка Головин, штурман Ильяшенко и начальник связи Лазуренко.
— Смирно! — добродушно произнес Головин.
Все присутствующие повеселели. Командира полка очень уважали у нас. Уважали за прекрасные человеческие качества, за смелость и выдержку. Вот и сейчас он пришел на КП как ни в чем не бывало, а ведь возвратился со смертельно опасного боевого задания.
— Дорогие товарищи, — обратился Головин к летному составу. — Работали все в первом вылете хорошо. Мы с Ильяшенко наблюдали за вашим бомбометанием. Так и продолжайте. Задание остается прежним... Мы бомбили последними. Я заметил, что огонь зенитной артиллерии ослабел, да и прожекторы как-то сникли. До утра мы их так измотаем, что они и маму родную не узнают!
Летчики засмеялись.
— А Сталинград для нас, товарищи, не просто город, который нужно удержать любой ценой! — взволнованно продолжал Головин. — Здесь решается судьба Родины. Всегда помните об этом, друзья мои! [78]
К утру, когда мы отдыхали в землянке, возвратились с разведки экипажи Бочина и Панченко. Склярова еще не было.
Панченко, его штурман Чудненко и стрелок-радист Егоров, пройдя по маршруту Сталинград, Морозовск, Тихорецк, возвращались домой с ценными сведениями о движении поездов на территории, занятой врагом.
Не долетая до моста через Аксай, они обнаружили эшелон, направлявшийся к Сталинграду. Действуя с небольшой высоты, экипаж с нескольких заходов разбил его бомбами. Вагоны загорелись, начали рваться боеприпасы. Самолет ушел, а среди заснеженного поля долго еще догорал немецкий военный эшелон...
Бочин со своими товарищами прошел по еще более длинному маршруту. Они побывали над Тацинской, Батайском и Ростовом. В Ростове, включив бортовые огни, Бочин встал в круг немецких самолетов, образовавшийся над аэродромом, и, понаблюдав, что делается на земле, определил место заправочной линии немецких машин, а затем его экипаж сбросил туда бомбы. На аэродроме вспыхнули пожары. Заметались лучи зенитных прожекторов, были выключены все сигнальные огни. Но зенитка не стреляла — по кругу ходили немецкие самолеты. Воспользовавшись суматохой, Бочин спокойно ушел на северо-восток...
Экипаж Склярова, пройдя по заданному маршруту, обнаружил в районе Акатово значительное движение транспорта. С нескольких заходов ребята сбросили бомбы по колоннам, а затем, снизившись, обстреляли грузовики из пулеметов. Зенитные средства врага, защищавшие переправу у Акатово, обрушили на советский самолет всю силу своего огня. Осколки снарядов пробили бензобаки, обшивку и кабину летчика. Перетянув линию фронта, Скляров пошел на вынужденную: из баков через пробоины вытекло горючее. Лишь спустя два дня члены его экипажа вернулись домой пешком...
Утром следующего дня летчики, штурманы и радисты уехали на аэродром проверять и приводить в порядок материальную часть стрелкового оружия, бомбовооружения, самолетных радиостанций и других вспомогательных приборов и агрегатов.
Я решил было просмотреть летные книжки своих подчиненных, но в это время сообщили, что из штаба армии приехали вручать награды личному составу полка, и пригласили меня тоже.
Погода была чудесная. Вовсю светило осеннее солнце. [79]
Шагая по улице поселка, я услышал гул авиационных моторов. Взглянул на небо и оторопел от неожиданности: с запада к аэродрому приближалась девятка «юнкерсов» в сопровождении шести истребителей. «Идут на аэродром!..» — пронеслась мысль. Группа разделилась: шесть «юнкерсов» с истребителями повернули на аэродром, тройка «юнкерсов» приближалась сюда, к поселку.
Поселок вмиг опустел. Вскоре я увидел столбы дыма и пыли, поднявшиеся над аэродромом. Послышалась пулеметная и пушечная стрельба, загрохотали тяжелые разрывы авиационных бомб. Фашистские истребители пикировали на аэродром и обстреливали самолеты из пушек. Им дружно отвечали с земли пулеметы. «Здорово обороняются наши!» — подумал я и припал к земле, оглушенный разрывом упавшей недалеко бомбы.
Пока тройка «юнкерсов» делала новый заход на поселок, я быстро перебежал небольшую площадь и заскочил в глиняный домик. Первое, что увидел, был большой стол, накрытый красной скатертью, на которой лежали коробочки с орденами и медалями. Комната была пуста.
Домик вздрагивал от близких разрывов. Я не обращал на это внимания и с интересом оглядывал стол. Вот два ордена Ленина, один, как указано в удостоверении, предназначен мне, другой — Головину. Моих подчиненных Бочина, Панченко и Сидоркина тоже ожидали награды — орден Красного Знамени, а Кудрявцева, Захарова и Заболотнева — орден Красной Звезды. Очень хорошо! Кудрявцеву надо отвезти орден в госпиталь...
Тихо приоткрылась дверь, и в щель просунулась голова Кравчука.
— Можно войти, товарищ командир?
— Входи, входи. Как на аэродроме?
— Мы показали им кузькину мать! Ушли не солоно хлебавши. Фашистские самолеты появились тогда, когда почти все стрелки-радисты сидели по кабинам — тренировались в настройке раций. Штурманы тоже находились на местах. Мы открыли огонь из тридцати пулеметов! А ваш брат, летчики, сидели в это время по щелям и стреляли из пистолетов, — пошутил Кравчук.
— Так уж и по щелям!
— А что им оставалось делать? — уже серьезно сказал штурман. — «Юнкерсы» бросают бомбы, стреляют, истребители тоже сбросили по нескольку бомб, а потом начали пикировать и палить из пушек. Там такой тарарам поднялся, только держись. Хорошо еще, что наши самолеты были укрыты [80] высокими капонирами и опущены в траншеи, а то бы нам не избежать потерь...
— Ну а теперь, — прервал я Кравчука, — поздравляю тебя с орденом Красного Знамени.
— Меня тоже наградили? — обрадованно блеснул он глазами.
— Сам видел твою фамилию...
В комнату вошли представители штаба армии и группа летчиков, штурманов, техников, радистов. Все были немного сконфужены тем, что пришлось посидеть в щелях, прячась от бомб. Но радостное возбуждение в ожидании торжественной минуты награждения быстро овладело собравшимися...
В общежитие мы возвращались с Кравчуком, обсуждая перипетии этого необычного утра. Только что мы могли погибнуть или стать калеками. Этого, к счастью, не случилось. Мы возвращались к себе домой веселые и бодрые, с новенькими орденами на груди.
— Слушай, командир. Ну возьми ты меня штурманом эскадрильи. Замучился я летать с кем попало. Я же здоров, понимаешь, здоров. А мне твердят: отдыхай, поправляйся.
— Можешь считать себя штурманом 3-й эскадрильи, — хлопнул я по плечу своего друга. — А коли так, то пойдем в эскадрилью, поговорим о делах.
К концу дня Кравчук был утвержден штурманом 3-й эскадрильи. Был принят и наш проект сооружения землянок для летчиков. Весь личный состав дружно взялся за его осуществление...
Вечером мы получили задачу бомбить резервы врага в районе станции Садовая, в пределах города.
В сумерках мы мчались по пыльной дороге на аэродром. Машина остановилась у командного пункта, и все разошлись по самолетам.
Сверху хорошо просматривались сталинградские улицы, освещенные пожарами, заваленные кирпичом и обрушившимися стенами. Из развалин вылетали во всех направлениях пулеметные трассы, стайками проносились винтовочные и автоматные пули. Там и тут рвались мины и снаряды, а кое-где тяжелые бомбы, вздымавшие султаны огня и дыма.
Каждый раз, пролетая над городом, полыхавшим в огне неистового сражения, я испытывал лютую злобу к фашистским оккупантам. Было так и в тот раз, когда летел к станции Садовая. [81]
Еще километров за пять до цели мой самолет схватили прожекторы и вели его, цепко держа в своих лучах. Маневрировать было не к чему: вокруг густо ложились разрывы зенитных снарядов. Хотя я и привык к этому, но с каждым разрывом нервы напрягались до предела, и с этим ничего нельзя было сделать. Точно держа самолет на боевом курсе, я почувствовал, как открылись створки бомболюков. После сбрасывания бомб я, не теряя времени, выскользнул из лучей прожекторов, отскочил в темноту ночи и осмотрелся. На станции что-то горело, а прожекторы по-прежнему рыскали по небу. Вдруг мы увидели, как сначала один, затем другой выхватили из темноты самолет. И скоро весь пучок лучей скрестился на нем. Ударила зенитка. Но летчик упрямо шел к цели.
— Это кто-то из наших, из молодых, — услышал в наушниках голос Кравчука. — Думаю, Бовтручук или Хомченко.
— Вот что, ребята, буду снижаться, — крикнул я, — бейте из пулеметов по прожекторам!
Немного довернув машину, стал почти пикировать на один из них. Штурман открыл огонь из спаренных пулеметов длинными очередями. Прожектор погас. Но другой луч ударил прямо по кабинам. Опять точными очередями ответили пулеметы Кравчука, и этот прожектор тоже сник. Трифонов вел борьбу с третьим и, очевидно, разбил его. Но зато остальные схватили наш СБ, и артиллерия обрушила на него шквальный огонь.
Я бросил машину вниз и понесся на пылающий город.
Несколько минут стремительного полета, и мы над Волгой. «Выскочили», — с облегчением вздохнул я, но тут же почувствовал, как самолет резко потянуло вправо и вниз. Кажется, правый мотор заглох... А посмотрев на приборы левого мотора, не на шутку испугался: температура воды и масла высокая, давление масла упало до нуля. Левый мотор внезапно захлебнулся и умолк. Приземлились с ходу, не разбирая, что там внизу...
* * *
Вот уже несколько дней стоит нелетная погода. Летчики вынуждены отдыхать. Вечером в большом сарае, приведенном в порядок, выступают артисты. Многие ребята с удовольствием посещают концерты. А я, как правило, после ужина отправляюсь в землянку, ложусь на нары и читаю случайно попавший мне в руки «Порт-Артур»... [82]
Вынужденная передышка, к счастью, была недолгой. Военные действия под Сталинградом, несмотря на дожди, туманы, снегопады, метели, продолжались с прежним накалом и напряжением. Воины Красной Армии стояли здесь насмерть.
На торжественном собрании полка, посвященном 25-й годовщине Великого Октября, заместитель командира по политчасти майор Козявин прочитал письмо защитников Сталинграда, с которым они обратились по случаю праздника к Председателю Государственного Комитета Обороны товарищу Сталину.
Короткое, выразительное и решительное, как клятва, письмо было горячо одобрено летчиками и техниками. Особенно сильное впечатление произвели на нас строки, в которых говорилось: «Сражаясь сегодня под Сталинградом, мы понимаем, что деремся не только за город Сталинград. Под Сталинградом мы защищаем нашу Родину, защищаем все, что нам дорого, без чего мы не можем жить...»
В те дни я подал заявление с просьбой принять меня в ряды Коммунистической партии.
Дня через три, сразу после полетов, меня вызвал Козявин и поинтересовался, готовлюсь ли я провести беседу или лекцию, о которой мы договаривались раньше. Услышав, что я уже написал будущее выступление, замполит предложил:
— Выступишь перед всем составом полка. Идет?
Я охотно согласился.
В просторном сарае, который служил нам клубом, собрались летчики, техники, механики, радисты, работники штаба, мотористы.
Оглядев с трибуны собравшихся, я оробел не на шутку. На меня выжидательно смотрели сотни сосредоточенных глаз, и от этого сердце застучало сильнее и чаще.
— Дорогие товарищи! Боевые друзья! — начал я, чувствуя, как запылало лицо. — Нет в мире слов милее человеческому сердцу, чем мать-Родина. Но еще во сто крат милее нашим сердцам Родина социалистическая, по-настоящему родная, любимая.
Козявин стоял у дверей и, как мне показалось, собирался уходить. Но, услышав первые фразы, присел на свободное место. Я говорил о героической борьбе Красной Армии с немецко-фашистскими оккупантами, о самоотверженном труде нашего народа в тылу, обращался к славной истории страны, к эпизодам из гражданской войны, подчеркивал прочное единство партии и народа. В конце от имени боевых [83] товарищей заверил Родину, что мы, летчики, будем громить врага без устали, не жалея ни сил, ни крови, ни самой жизни для полной нашей победы!
Раздались горячие аплодисменты. На душе было тепло и радостно, как в праздничный день.
Вечером, как всегда, экипажи собрались в комнате штаба, где обычно получали задание. На дворе моросил дождь, а температура держалась на нуле. Это очень настораживало, так как создавало условия для обледенения самолета в полете.
Летный состав, одетый уже по-зимнему, разместился в небольшой комнате на лавках и полатях. Все выжидательно поглядывали на дверь, которая вела в комнату командира полка. Вскоре оттуда вышли подполковник Головин и начальник штаба Терлецкий.
Головин против обыкновения был хмур и чем-то обеспокоен. Терлецкий, подойдя к столику, сосредоточенно рассматривал карту района боевых действий.
— Товарищи, — заговорил Головин, — при такой погоде вести нормальную боевую работу почти невозможно. — Летчики задвигались и невольно расслабились. — Я попрошу остаться экипажам Ефремова, Волика, Склярова, Иванова, Сидоркина. Остальные свободны.
Головин как-то особенно внимательно оглядел оставшихся.
— Друзья, хотя вышестоящее командование наши полеты на сегодняшнюю ночь отменило, задание для нас с вами есть. И задание очень серьезное. Оно должно быть выполнено в интересах фронта... Получен приказ провести разведку юго-западнее Сталинграда, в районе Плодовитое, Аксай, Котельниково, Абганерово, Громославка, Бузиновка. Командование поставлено нами в известность о чрезвычайно сложной метеорологической обстановке в нашем районе.
— В чем заключается суть задания? — спросил кто-то из летчиков.
— Надо пролететь по заданному району, осмотреть по возможности все дороги и выяснить интенсивность движения железнодорожного и автомобильного транспорта. Это значит, — уточнил Головин, — что полет над территорией указанного района необходимо производить на малой высоте, чтобы иметь возможность просмотреть все тщательнейшим образом. Чтобы выполнить задание, требуются два экипажа.
Я поднялся первым. [84]
— Кто еще?
— И я готов, — встал рядом со мной Скляров.
Лицо командира полка прояснилось.
Выйдя из помещения, мы остановились в смущении: видимость была не более двухсот метров.
Я вспомнил случай под Ливнами, на аэродроме ночных У-2. Оттуда нужно было вылететь глубокой темной ночью. И я попросил поставить впереди хотя бы один огонь для ориентировки при взлете. Неопытный или нерадивый стартер выставил фонарь не далее как на 250 метров от линии старта. Не успел я начать разбег, как фонарь уже остался позади. Впереди была непроглядная тьма. И все же, собрав в кулак всю силу воли, я преодолел эту пугающую безориентирную пустоту и взлетел, как говорится, на ощупь...
В ту ночь, о которой идет речь, я взлетел тоже нормально, хотя обледеневший еще на земле самолет долго набирал высоту.
У Ивана Склярова тоже все оказалось в порядке. На высоте мы разошлись с ним по своим маршрутам.
Над территорией, занятой противником, было ясно. С высоты трехсот метров хорошо проглядывались дороги, деревни, речушки, даже небольшие группы деревьев. Облетев заданный район, мы ничего особенного не обнаружили. Только кое-где по дорогам пробегали одиночные машины, да мерцали редкие огоньки в населенных пунктах.
Просматривая местность, Кравчук цокал языком:
— Послушай, командир, что тут разведывать? Здесь даже бомбы некуда сбросить.
— Ничего, — успокоил я штурмана, — отбомбимся над Садовой. Там всегда найдутся припрятанные гитлеровцами резервы.
На подходе к Садовой наш самолет был схвачен прожектором. Зенитная артиллерия немедленно открыла сильный заградительный огонь, пытаясь отогнать СБ в сторону. Но мы удачно прошли сквозь шквал огня и сбросили бомбы на станцию, затем, не меняя курса, со снижением пошли к Волге, вдоль долины речки Царица.
Возвратившись домой уже под утро, я обнаружил, что аэродром и весь близлежащий район закрыт сплошной пеленой тумана. Мы вынуждены были сесть на полевом аэродроме в Житкуре, где уже приземлился Иван Скляров.
Командование фронта объявило нам благодарность за этот вылет. Как выяснилось позже, цель разведки заключалась в том, чтобы еще раз убедиться, догадываются ли немцы о нашем предстоящем наступлении под Сталинградом? [85] Оказалось, что нет. Тишина на дорогах и отсутствие каких-либо маневров войск противника, о чем мы донесли штабам, как раз и подтверждали, что немцы ни о чем не подозревают...
Почти всю вторую половину ноября погода была неустойчивой, сложной для авиации. Редкие прояснения внезапно сменялись густой, сплошной облачностью. Моросили дожди, падали крупа и снег, наползали туманы. При полетах ночью это грозило самыми неприятными последствиями.
Учитывая сложность обстановки, в воздух теперь выпускали самые опытные и сильные экипажи. В основном это были авиаторы, летавшие еще в полку первого формирования: Иванов, Волик, Скляров, Сидоркин, Бочин, Панченко, Козявин, Головин. Они могли надежно, в любую погоду выполнить самые сложные задачи.
Экипаж Склярова и мой систематически вели разведку в ближайшем тылу врага и на дальних подступах к Сталинграду, включая Громославку, Тормосин, Суровикино, Калач-на-Дону. Там было по-прежнему спокойно. Больших передвижений войск не наблюдалось. Это еще и еще раз подтверждало, что гитлеровское командование придает первостепенное значение боям в самом Сталинграде.
В ночь на 19 ноября погода так испортилась, что в воздух не смогли подняться даже самые опытные летчики. А утром землю окутал плотный туман. Видимость была такая, что, отправляясь в столовую на завтрак, люди плутали по ровному месту.
Туман висел над аэродромом весь день. Не рассеялся он и к вечеру. Боевые полеты были отменены. Летный состав после ужина собрался в самом большом общежитии, чтобы побыть вместе, поиграть в домино, в шахматы, послушать бывалых летчиков, поговорить, попеть, вспомнить друзей.
Мы с начальником связи эскадрильи играли в шахматы. Молча, сосредоточенно думали, внимательно оглядывая «поле боя», прежде чем передвинуть фигуру. Многоголосый гул не только не беспокоил нас, наоборот, он действовал на обоих как-то успокаивающе, ибо создавал теплую, домашнюю атмосферу.
— Командир, тебе письмо, — услышал я голос Бочина.
— Раньше-то не мог отдать? — спросил я, думая об очередном ходе, и сунул письмо в нагрудный карман. Я знал, что почта была получена еще утром. Но сам не ждал писем, а потому не ходил в канцелярию.
Вдруг все встали. На пороге появился подполковник Головин. Он обвел присутствующих веселым взглядом. [86]
— Дорогие товарищи! Воздушные бойцы! Победа! — Он сотряс в воздухе сжатыми кулаками. Слезы радости блестели на глазах нашего командира полка. — Сегодня, 19 ноября, началось контрнаступление советских войск под Сталинградом!..
Мы восторженно смотрели на Головина. Необычайно радостной была эта весть. Всего несколько дней назад немцы яростно обстреливали наши самолеты над городом, засыпали снарядами наши войска в Сталинграде. И вот — началось!..
* * *
Только утром вспомнил я о полученном письме. Прислал его техник Анатолий Стрельцов. Оказалось, что он уже самостоятельно летает на истребителе и надеется в скором времени прикрывать нас, бомбардировщиков. Недаром Толя рвался в авиационную школу!
— Везет же людям, — вздохнул Бочин. — Стрельцов поднялся два раза в воздух — и уже истребитель, а я, как ни прошусь, как ни бьюсь, — все бомбардировщик.
— Не каждый умеет летать на бомбардировщике, как ты, — успокоил я друга...
Летчики рвались в бой, но в течение трех-четырех ближайших дней фактически не летали: то не было подходящей погоды, то выходила из строя материальная часть, то не хватало горючего (оно шло в механизированные войска).
Но к концу ноября все нормализовалось. Мы снова включились в активные полеты. На этот раз объектом нашего пристального внимания стали вражеские аэродромы в окрестностях Сталинграда.
Подполковник Головин, слетав несколько раз на боевое задание, приказал всем экипажам производить бомбометание с минимальных высот. И летчики вскоре убедились, что враг теперь не располагал таким, как раньше, количеством зениток, что слабее стали работать зенитные прожекторы и не появлялись уже ночные охотники-истребители Ме-110. Огонь наземных войск по всей линии обороны тоже стал не таким интенсивным. Окруженные части закопались в землю и, как мы поняли, экономили на всем: на снарядах, патронах, минах, ракетах, бензине. Воздушные перевозки грузов, предназначенных окруженным, не оправдали себя: войска Паулюса получали грузов в пять раз меньше, чем требовалось. Мало того: транспортная авиация теряла столько самолетов в воздухе и на сталинградских аэродромах, что в конце кондов истощила свои возможности. [87]
Воздушная армада врага растаяла под ударами советской авиации и зенитной артиллерии...
Полк Головина днем и ночью громил аэродромы окруженной вражеской группировки, дезорганизуя их деятельность, препятствуя посадке и взлету фашистских самолетов.
Наша эскадрилья произвела десятки удачных боевых вылетов. Молодые летчики старались не отставать от ветеранов. Все шло хорошо, на высоком подъеме. И вдруг перед самым Новым годом меня свалила болезнь.
Возвратившись как-то после третьего боевого вылета, я почувствовал легкое недомогание. Утром поднялась температура, и я не смог встать с постели. В полдень к землянке подъехала легковая машина командира полка.
— Есть тут кто живой? — крикнул шутливо подполковник, войдя в землянку.
— Есть. Есть живые.
— Ты, комэск? Один? Что же все тебя бросили? — заботливо спросил Головин. — Ну как самочувствие?
— Ничего... Вот только голова кружится.
Анатолий Иванович пощупал мой лоб:
— Э, да ты, брат, серьезно болен. Температура, наверное, под сорок. Здесь оставаться нельзя. В госпиталь не отправим, — заметив мое нетерпеливое движение, поспешно успокоил Головин. — Мы устроим тебе тихий уголок в большом общежитии. Там тепло и на глазах у друзей. Врач уже был?
— Да, оставил порошки. Мне стало вроде легче...
Два дня пролежал я в постели под наблюдением своих товарищей и полкового врача, капитана медицинской службы абхазца Аркадия Джанбы. На третий день почувствовал себя лучше и после обеда стал собираться на полеты.
— Ну как дела? — неожиданно заглянул ко мне за занавеску Головин.
Стараясь придать себе молодцеватый вид, я ответил, что здоров.
— Я слышал, что собираешься летать? — серьезно посмотрел на меня командир полка.
— Да, с удовольствием слетаю на задание... Хоть посмотрю, как летают мои ребята.
— Они и без тебя хорошо летают. Сиди — и ни шагу из дома! — сердито сказал подполковник. — И хватит об этом...
Облака закрыли район аэродрома. Не переставало моросить. На улице стало быстро темнеть, а с севера все надвигалась низкая облачность, окутывая степь темнотой. [88]
«Наверное, полетов сегодня не будет», — подумал я, ложась в кровать.
Очнувшись, услышал неясные голоса, осторожные шаги, увидел движущиеся тени. «Летный состав возвратился с аэродрома. Полеты не состоялись», — с облегчением подумал я.
— Спишь? — узнал я голос Сидоркина. — Я к тебе на минутку.
— Входи.
Сидоркин вошел ко мне в комбинезоне, с планшетом через плечо и меховым шлемом в руках. Подвинув к кровати стул, он устало опустился на него, положил руки на колени. Чиркнув спичкой, я зажег огарок свечи на столике и только тут увидел, как мрачно лицо друга.
— У нас что-то произошло?
— Да, — хрипло выдавил Сидоркин. — Произошло... Погиб командир полка Головин.
Меня будто ударило. Вскочил с кровати, опять закружилась голова. В комнату вошли Панченко, Бочин, Усачев, Кравчук, Скляров, Трифонов, Вишневский, Зимогляд, Чудненко.
— Расскажите толком, как это случилось?
— Да что рассказывать, — пожал плечами Скляров. — Погода такая, что сам бог свалился бы в штопор.
Произошло это несколько часов назад... Аэродром затянуло сплошной низкой облачностью. Летать было опасно. Головина часто вызывали к телефону... Он выходил из КП, поднимал ракетницу и стрелял вверх. Белая ракета, достигнув облаков, освещала туманную дымку и падала на землю: облачность не выше семидесяти метров...
И снова позвонили из дивизии: «Почему не начинаете полеты?»
«Сейчас выпускаю в воздух самолет-разведчик», — сказал командир полка. Взял планшет, надел шлемофон, перчатки и вышел... В землянке услышали гул моторов — Головин выруливал на старт. Поднявшись, он передал: «Облачность сплошная, высота нижней кромки 50 метров, видимость 500. В облаках сильное обледенение. Полеты запрещаю!»
Прошло часа полтора. С борта самолета радист Егоров передал: «Задание выполнил, возвращаюсь. Включите прожекторы, «Гренада-112» — это был позывной командира полка. Сообщение радиста не принесло успокоения, ведь предстояло еще посадить самолет в труднейших условиях... [89]
На аэродроме бросали ракеты, поднимали вверх луч зенитного прожектора, подсказывали курс посадки, снос...
Прошло еще полчаса... Раздался телефонный звонок. Козявин взял трубку и страшно побледнел... Головин разбился. В живых остался только стрелок-радист сержант Егоров.
Мы похоронили нашего замечательного командира и учителя Анатолия Ивановича Головина на краю колхозного сада...
Дней через пять в часть на должность командира полка прибыл подполковник Зиновий Павлович Горшунов. Это был худощавый человек, выше среднего роста. Выражение лица и настороженный взгляд серых глаз говорили окружающим о том, что подполковник готов действовать в любую минуту.
Горшунов летал хорошо, а главное — с большой охотой. На задание ходил и в одиночку, и водил группы самолетов. В общем, летчик он был отличный. Но авторитет, каким пользовались у личного состава его предшественники Пушкарев, Рассказов и Головин, Горшунову предстояло еще заслужить...
* * *
После разгрома танковой группы Манштейна, пытавшейся пробиться к окруженной армии Паулюса, доблестные советские войска, громя гитлеровцев, двинулись дальше на запад. Тронулся в путь и 10-й гвардейский бомбардировочный полк.
Через маленькую станцию, куда мы перебазировались, только что прокатилось ожесточенное сражение. Разбитые войска Манштейна бежали отсюда в панике, побросав оружие, автомашины, танки, снаряжение, знамена, сабли, шпаги, кортики и даже ордена...
Летный состав разместился в школе. Пока я шел в общежитие, встретил несколько пленных солдат. В ближайших населенных пунктах их было очень много. В нашем поселке пленных разместили в большом здании. Им разрешалось самим ходить за водой и за дровами.
Однажды после возвращения из очередного полета меня поздно вечером вызвал командир полка. Я нашел подполковника Горшунова на старте.
— Давай-ка слетаем раза три-четыре по кругу, — по-дружески предложил он. — Давно не был в ночном небе. Вон там впереди уже выставили два фонаря «летучая мышь» для взлета. А для посадки зажгут линию масляных факелов.
Погода была ясная, видимость хорошая, и мы без труда выполнили несколько полетов. [90]
Когда я вернулся, в общежитии все уже спали. Только у печурки сидел начальник связи 3-й эскадрильи Петр Иванович Трифонов.
— Дежурю. Чтобы пленные не стянули чего-нибудь, — засмеялся он, помешивая угли трофейной шпагой. — А для тебя, командир, есть новость... Сегодня был в штабе полка. Там услышал, что тебя представляют к званию Героя Советского Союза. Рад всей душой. Начальство очень хвалило тебя...
На следующий день, ожидая улучшения погоды, мы сидели на КП и курили. Вдруг меня вызвали к командиру полка.
— Есть очень важное задание, — официально произнес подполковник. — Нужно доставить срочное донесение в штаб Южного фронта. В такую пургу я могу поручить это только вам.
— А где находится штаб фронта?
— С вами полетит подполковник, представитель штаба 5-й армии, — сказал Горшунов. — Посадку произведете на учебном аэродроме Сталинградской школы военных летчиков. Представителя штаба будет ждать машина. Как только он уедет — считайте, что ваше задание выполнено. Можете сразу лететь обратно.
— Товарищ командир, в Сталинграде жила моя семья. Давно от них ничего нет. Разрешите...
— Конечно! Навестите родных, узнайте об их судьбе. Обязательно узнайте!..
Через час, взметая бураны снега, от аэродрома оторвался бомбардировщик и исчез в белой мгле. На борту его находились кроме меня штурман лейтенант Цегельный, стрелок-радист Семиякин, техник самолета Заболотнев и представитель штаба армии. В районе Сталинграда видимость улучшилась, мы легко нашли аэродром. Покружив над полем, устланным снегом, решил садиться.
У развалин увидели эмку и человека, направлявшегося к нам. Наш пассажир попрощался и заспешил к машине, придерживая объемистый черный портфель.
— Пошли, ребята, посмотрим город, — предложил я Цегельному и Семиякину. Заболотнев остался у самолета, чтобы время от времени прогревать моторы. В кабине радиста лежали наши харчи, которыми он мог распоряжаться по своему усмотрению.
Долго шагали по разрушенным улицам, обходя окопы и глыбы обрушившихся стен. Кое-где дымились пожарища. Чуть присыпанные снегом, виднелись еще не убранные трупы. [91] А вокруг высились иссеченные пулями и осколками кирпичные остовы зданий. На окраине жителей не было совсем. В центре работали команды саперов, а небольшие группы сталинградцев расчищали улицы.
Родной город! Он стал неузнаваемым. В поселке, где жила моя семья, тоже все было разрушено и сожжено дотла. У откоса, круто спускавшегося к Волге, я сказал товарищам:
— Вот здесь был наш дом!
Постояв на вершине откоса, мы пошли на дымок землянки. Ступени вели вниз, к деревянной двери, по сторонам которой были два окна, заделанные осколками стекла. На стук открыла изможденная женщина. Некоторое время она выжидательно смотрела на нас, а потом удивленно спросила:
— Василий, это ты?
Я с трудом узнал постаревшую соседку.
— Тетя Вера! Вы не знаете, где мои? — спросил ее, чувствуя, как сильно колотится сердце.
В землянке Грачевых было тепло от самодельной печки. Муж тети Веры рассказал, что наша семья не успела вовремя уйти из города.
— Мать твоя, Анастасия Матвеевна, умерла от всех переживаний и лишений. А отец и жена с дочкой исчезли, их куда-то погнали немцы, — угрюмо закончил сосед.
В землянке наступило тягостное молчание.
Много вынесла моя мама за свою нелегкую жизнь. Я, как мог, с любовью заботился о ней, делал все, чтобы она чувствовала мое внимание. И в те дни я тоже спешил к ней. Но опоздал. Уж больно трудным был путь...
Усталые и подавленные, мы вернулись на аэродром, когда землю окутала кромешная тьма. Заболотнева нашли в подвале. Он сидел на деревянном топчане, освещенном костром, над которым висел котелок.
— Садитесь, грейтесь. Сейчас будем ужинать.
Закрыв глаза, я снова увидел перед собой мать с моей дочуркой на руках, рядом жену, отца... Так ясно ожило в памяти мое последнее свидание с ними. Неужели никого из них не увижу больше? Неужели остался один, совсем один?
Будни войны
В середине февраля 1943 года командир дивизии полковник Чучев отобрал 12 экипажей. Им первым предстояло освоить новые самолеты. Летим в Кировабад за бомбардировщиками «Бостон». Там, в аэропорту, и будем осваивать их. [92]
Настроение приподнятое. На переучивание отобраны самые сильные экипажи: капитана Склярова, старших лейтенантов Бочина, Панченко, Горелова, мой экипаж, экипаж командира полка Горшунова и другие. Все мы свободно разместились в Ли-2.
Черные пятна оттаявшей земли увеличивались, меняли окраску, пока не слились в сплошное зеленое море молодых трав.
Слева проплыла Астрахань. Миновали прикаспийскую низменность, покрытую высоким сухим камышом и зелеными травами. Далеко впереди, упираясь в небо, высились громады Кавказских гор, покрытые снегом.
Дальше на юг мы летели вдоль прибрежных песков Каспийского моря. С особым интересом глядел я на серые воды моря, на песчаные отмели, где иногда проплывали башни маяков, — в этих местах я уже был лет пятнадцать назад. Окончив семилетку, группа школьников под руководством преподавателя физкультуры Александра Константиновича Капралова отправилась тогда в путешествие на четырех лодках от Сталинграда к берегам Каспийского моря. Широкая дельта Волги, высокие, как лес, камыши, изобилие рыбы, необыкновенные птицы, цветущий лотос — все это потрясло наши юные сердца. А потом мы увидели бескрайнюю синеву моря. На берегу Каспия, на башне маяка, овеваемого со всех сторон морскими ветрами, мы услышали от смотрителя маяка о Цусимском сражении. Отставной матрос царского флота, потерявший ногу в том бою, рассказывал, как гремели залпы корабельной артиллерии, как отважно дрались русские матросы...
Началось обстоятельное изучение «Бостона». Каждому сразу стало понятно, что самолет отвечает требованиям современной войны. Но кое-что нас и не удовлетворяло. Например, максимальная бомбовая нагрузка. У «Бостона» она составляла всего 760 килограммов, тогда как наш ветеран СБ поднимал 1200 килограммов.
— Ничего, ребята, не журитесь, — улыбался Скляров. — Мы заставим и американскую технику подымать русские тяжести.
В конце марта приступили к полетам. Машина оказалась простой в управлении, маневренной, обладала скоростью до пятисот километров в час, свободно шла на одном моторе. Все наши экипажи летали самостоятельно, без происшествий, стреляли по наземным целям из пулеметов «Кольт-Браунинг» калибра 12,7 миллиметра, огнем которых [93] управлял летчик. Наконец-то мы, летчики, получили возможность стрелять самостоятельно.
Ночью приборы освещались мягким синим светом лампочек «руфо». Эти лампочки не давали ни отблесков, ни зайчиков, ни бликов, которые раздражали летчика в ночных полетах. Кабина отличалась простором, в ней было размещено множество приборов. Все здесь позволяло свободно управлять машиной. Над спинкой сиденья возвышался стальной наголовник, защищавший летчика от пуль и осколков. За спинкой и наголовником находилось длинное, метра в два, пространство с полом, закрытое сверху застекленным плафоном. В случае нужды там мог лежать пассажир или инструктор и наблюдать за действиями летчика, за землей и воздухом. Когда начались ночные полеты, мы не упускали случая забраться под плафон и полетать в качестве пассажира, любуясь красотой ночного простора.
К середине апреля программа боевой подготовки на новом самолете была завершена.
В назначенный день ранним утром мы начали готовиться к перелету на фронт. Загружали самолеты имуществом: чехлами, инструментом, стремянками, запасными частями, различной аппаратурой и подарками для фронтовиков — лимонами, апельсинами, каштанами, орехами, айвой и всякой всячиной. Все это добро нужно было разместить так, чтобы не нарушалась центровка самолета, чтобы груз не помешал управлять машиной. К полудню дела были закончены, и мы, находясь в самолетах, ожидали сигнала на запуск моторов.
А сигнала не было — час, полтора, два. Мы догадывались, что дело в погоде: с Главного Кавказского хребта в долину Куры сползали тяжелые дождевые облака. Вылететь удалось лишь на другой день.
* * *
На полевом аэродроме возле Целины, где базировался 10-й гвардейский полк, нас ждали с нетерпением.
Сдав старые, изношенные СБ, гвардейцы сразу приступили к тренировочным полетам на «Бостоне», и к середине мая почти все овладели техникой пилотирования новой машины. К этому времени в эскадрильи влились молодые экипажи. Среди них оказались и уже подготовленные летчики: старший лейтенант Валентин Китаев, лейтенанты Борис Сиволдаев, Алексей Бовтручук, Дмитрий Козляев, Алексей Гребенщиков, штурман Василий Андреев и другие.
Прибыло и пополнение оружейников — пять девушек-красноармейцев, специально подготовленных для обслуживания [94] авиационного вооружения. Девушки были симпатичные и скромные, к работе относились исключительно добросовестно.
Китаев, Сиволдаев, Козляев и Калашников вошли в мою 3-ю эскадрилью. Забегая вперед, скажу, что все они вместе с экипажами отлично сражались до конца войны и встретили День Победы. Валентин Китаев с самого начала войны летал на СБ. Много раз его подбивали истребители и зенитки, но он возвращался на свой аэродром. Лейтенант Сиволдаев, несмотря на молодость, уже воевал на Карельском фронте, а в последнее время летал на «Бостоне».
* * *
4 мая 1943 года нашему 10-му гвардейскому авиаполку было присвоено почетное наименование «Киевский» за активное участие в обороне Киева летом и осенью 1941 года. Ветераны полка, сражавшиеся у Киева с превосходящими силами врага и отмеченные за те бои правительственными наградами, особенно радовались этому событию.
Запомнился этот день еще и тем, что от нас убыл в школу военных летчиков техник-лейтенант Заболотнев. Очень радовался я за товарища, который добился исполнения своей мечты, и от души пожелал ему успехов. Забегая вперед, скажу, что через некоторое время встретил Николая Мефодиевича Заболотнева в должности командира эскадрильи. И это было неудивительно: большая дорога в жизнь начиналась для многих авиаторов с фронтовых аэродромов...
Красная Армия не испытывала больше недостатка в боевой технике, вооружении, боеприпасах. Это радовало и воодушевляло на новые подвиги в борьбе с врагом.
Хорошо подготовленные экипажи перелетали ближе к линии фронта для ведения разведки и ознакомления с воз-душной и наземной обстановкой на территории, занятой противником. Большая часть этой группы состояла из экипажей 3-й эскадрильи. Мы спокойно приземлились тогда у города Шахты, и уже в первую ночь пять экипажей получили задание определить интенсивность железнодорожного движения вблизи крупных узлов Сталине, Горловка, Макеевка, Краматорск, Чистяково, Волноваха, иными словами — на всем протяжении от Таганрога до Запорожья.
Так во второй половине июня 1943 года началась наша активная боевая работа.
Экипажи Панченко, Бочина, Китаева разошлись по своим маршрутам, а мы со штурманом Кравчуком и начальником связи эскадрильи Петром Трифоновым взяли курс [95] аа Макеевку и Сталино. Ночь была ясная, объекты и дороги просматривались хорошо. На переднем крае в расположении вражеских войск временами взрывались авиационные бомбы, сброшенные неутомимыми У-2.
Вскоре нам стало ясно, что движение на железных дорогах, прилегавших к Сталино, не отличается напряженностью, и мы решили заняться вражескими аэродромами.
Кравчук сбросил три светящие авиабомбы. Аэродром был точно под нами: взлетная полоса, дремлющие самолеты на стоянках.
— Можно стрелять по аэродрому? — спросил Трифонов.
— Для твоего пулемета слишком велико расстояние, — ответил я.
У стрелков-радистов пока еще были слабенькие пулеметы той же фирмы «Кольт-Браунинг», но калибра 7,62 миллиметра.
Тем временем вражеские прожекторы начали рыскать по небу.
Пройдя некоторое время курсом на запад, мы развернулись и направились на аэродром. Теперь я тоже увидел рабочее поле, стоянки, постройки. Немецкие зенитчики пока пытались только погасить пулеметным огнем наши светящие авиабомбы. Одну из них зенитчикам удалось разбить.
Мы отбомбились. Одна за другой взметнулось шесть ярких вспышек, начался пожар. Враг открыл яростную артиллерийскую стрельбу. Три его прожектора цепко схватили наш самолет в перекрестие. Но у меня теперь было два крупнокалиберных пулемета. Отбрасываю предохранительную скобу, опускаю нос «Бостона» прямо на прожектор. Две мощные огненные струи заставили яркий глаз сразу погаснуть.
Когда возвратились домой, другие экипажи были уже на земле. Летчики и штурманы делились впечатлениями о проведенных боях. Они были довольны, опробовав пулеметы в борьбе с зенитной артиллерией и прожекторами. Стрелки-радисты хорошо держали связь, но свои пулеметы презрительно называли «спринцовками». Правда, успокаивало недавнее сообщение о том, что новую партию машин переоборудуют на одном из заводов и в кабине стрелка-радиста вместо «Кольт-Браунинга» будет стоять мощный советский пулемет «Березина». Переделывались и бомбодержатели, они станут прочнее, а самолет поднимет не 760, как сейчас, а до 1200 килограммов авиабомб.
С этих пор мы ежедневно вели разведку в интересах воздушной армии и фронта, бомбили аэродромы и железнодорожные [96] узлы. Нам стали поручать и ночную охрану объектов путем периодического патрулирования в воздухе.
* * *
Теплой июньской ночью я дежурил на старте, ожидая возвращения экипажей Панченко и Китаева из районов Центрального Донбасса. Прошло около часа, а известий от них не было. Это начало всерьез беспокоить, так как было получено с базового аэродрома предупреждение об ухудшении погоды.
Поглядывая на небо, я заметил, что звезды сначала потускнели, а затем совсем исчезли то ли за плотной пеленой облаков, то ли в надвигающемся тумане.
Переговорив с Трифоновым, который дежурил на радиостанции, я встревожился не на шутку. Связи с нашими экипажами по-прежнему не было, а из случайно перехваченных разговоров в воздухе становилось ясно, что погода основательно портится. Но вот я услышал далекий гул моторов. «Наконец-то возвращаются», — мелькнула мысль.
Подал сигнал «Включить все огни».
Вскоре аэродром сиял, точно небольшой городок в праздничный вечер.
Над нами пронесся самолет с бортовыми огнями. Вот он сделал четвертый разворот и через минуту уже катил по освещенной полосе. Я увидел номер на фюзеляже и удивился: это была моя машина, оставленная на базовом аэродроме. Самолет между тем зарулил на стоянку, двигатели остановились, и из кабины вышли мой заместитель капитан Сидоркин, штурман старший лейтенант Ермолаев и стрелок-радист Иван Вишневский.
— Каким ветерком занесло вас к нам? — поинтересовался я, протягивая руку Сидоркину.
— Погода загнала. Наш аэродром закрыт туманом. А ваш отыскали только тогда, когда вы зажгли огни. Следом за мной вылетел Лебедев. Вот-вот он должен быть здесь.
Я выстрелил из ракетницы вверх и передал ее Сидоркину.
— Стреляй через каждые две-три минуты.
Сам стал звонить по телефону на радиостанцию, метеорологу, на базу, выясняя обстановку. А туман между тем уже закрывал стартовые огни.
Послышался гул моторов, но самолетов не было видно. Сидоркин периодически выпускал ракеты.
Вместе с клочьями тумана, прямо из облаков, один за другим вывалились два самолета и, приземлившись, покатили [97] по полю. «Не летчики, а волшебники», — с восхищением подумал я про Панченко и Китаева. Однако в тот же миг заметил, что на самолете Китаева не вращается винт левого мотора, а капот залит маслом.
Окончив пробежку, одна машина развернулась и стала рулить к нам, а вторая, развернувшись влево, покатила дальше. Было ясно: с ней что-то случилось.
Панченко рассказал, что за линией фронта погода держится отличная, что разведка проведена нормально и попутно бомбили аэродром Кутейниково. Там возникли два очага больших пожаров. Аэродром сильно защищен зенитной артиллерией. В самолете несколько пробоин.
Подъехала машина с экипажем Китаева. Все были целы. Старший лейтенант Китаев доложил, что во время атаки аэродрома зенитным огнем разбит левый мотор, а экипаж невредим.
Итак, все вернулись домой, кроме Лебедева. Экипажи уезжают в поселок отдыхать, я остаюсь на старте. Туман наглухо затянул аэродром. В воздухе не слышно ни звука. Посмотрев на часы, понял, что Лебедев или сбит, или сел на вынужденную где-нибудь в степи.
Скомандовав, чтобы выключили сигнальные огни, разрешил всем отдыхать. А сам пристроился в санитарной машине и почти мгновенно уснул.
Утром на аэродром позвонил начальник штаба полка подполковник Федор Игнатьевич Бурбелло.
— Лебедев в эту ночь сел вынужденно в поле, — услышал я. — Экипаж попал под шквальный огонь зенитной артиллерии. Штурман старший лейтенант Заварихин убит, Лебедев и стрелки-радисты Коков и Гончаров серьезно ранены. Лебедев, теряя силы, привел машину на свой аэродром. Все было бы в порядке, если бы туман полностью не закрыл его. Тогда летчик нашел подходящую площадку и сел в Сальской степи... Недалеко от станции Двойная. Там и похоронили Заварихина...
Из нашей дружной боевой семьи ушел еще один ветеран полка. А сколько раз мы вместе с ним бомбили фашистов! В каких только переделках не побывали!..
* * *
С наступлением сумерек над прифронтовыми дорогами появлялись немецкие бомбардировщики, атакуя колонны наших войск, технику и все, что двигалось к переднему краю, пользуясь темнотой. На нашем участке фронта тоже кружили эти хищники, пытавшиеся бомбами и пулеметным [98] огнем дезорганизовать движение. Дежуря на аэродроме почти каждую ночь, я видел, как северо-западнее Шахт тянулись с воздуха к земле струи пулеметного огня. Иногда доносились глухие взрывы бомб.
«Надо бы как следует проучить врага», — не раз говорили летчики. Я и сам думал об этом. Но как настигнуть фашистов на бомбардировщике в темноте, да еще на высоте сто — двести метров?
Однажды, еще засветло выпустив экипажи на разведку, мы послали лейтенанта Сиволдаева на свободную охоту. Борис Сиволдаев на «Бостоне» ходил чуть в стороне от главной дороги на высоте триста метров. Я не спускал глаз с северо-западного участка горизонта. Наступила ночь. Фашистский самолет, как обычно, появился над дорогой и начал обстрел. Сиволдаева пока не было видно. Но вот гитлеровский летчик снова открыл огонь. И тут ему в бок ударили тяжелые трассы двух пулеметов примерно с трехсот метров. Затем все стихло. Через двадцать минут возвратился Сиволдаев.
Выяснилось, что обнаружить врага в таких условиях чрезвычайно трудно, а сбить и тем более. Но попугать можно.
— Наши трассы прошли не дальше как в двадцати метрах от стервятника, — доложил летчик.
На следующую ночь повторилось то же. Сиволдаев вылетел, дождался момента, когда немец начал обстреливать дорогу, и длинной очередью ударил по пулеметным вспышкам бомбардировщика. С земли хорошо было видно, как трасса Сиволдаева слилась с огнем, который открыл фашистский стрелок. И если бомбардировщик не упал на нашей территории, то, несомненно, получил серьезное повреждение...
Над Шахтами, где располагались наши штабы, склады, базы, вот уже несколько дней подряд появлялись вражеские разведчики. Мы установили связь с местной противовоздушной обороной города и попросили информировать нас о появлении немецких самолетов.
Просмотрев информацию за несколько суток, мы убедились, что разведчик появляется над Шахтами почти в одно и то же время.
На нашей точке стоял на всякий случай «Бостон-А-2ж» или, как называли его наши летчики, «летающая батарея». Вся передняя часть самолета была занята шестью крупнокалиберными пулеметами и кассетами с патронами. Если бы все стволы объединить в один, то получилась бы пушка калибром [99] около 50 миллиметров. Вот на этом самолете я и решил поохотиться за гитлеровскими воздушными разведчиками.
Вылетев в сумерках, стал барражировать над городом на высоте восьмисот метров. Минут через двадцать стрелок-радист доложил:
— Над западной окраиной разведчик.
Это было для нас удобно. На высоте самолет еще освещали лучи солнца, мы держались ниже и восточнее, в тени. Быстро довернув свою машину, я сразу увидел врага. Он был метров на двести над нами, к тому же далеко впереди, и уходил на запад. Не теряя ни секунды, я прицелился и нажал на спусковой крючок.
Перед носом моей «летающей батареи» забушевало пламя. Машина задрожала и, как мне показалось, на мгновение остановилась — так сильна была отдача пулеметов. А трасса пошла вперед и догнала разведчика. Сообразив, в чем дело, фашистский летчик резко бросил машину вниз и исчез в темноте. А на второй день мы подбили его.
С тех пор в нашем районе стало спокойнее. Немецкие самолеты обходили нас стороной и над дорогами действовали редко.
* * *
Вечер был душный, тихий и хмурый. На небосклоне громоздились мощные кучевые облака причудливых очертаний. Почти вся наша группа собралась во дворике перед общежитием. Одни затеяли волейбол, другие играли в домино. Я, Бочин, Панченко, Кравчук, Чудненко и Сиволдаев знакомились по карте, только что полученной из штаба полка, с обстановкой на фронте.
— Все остается по-старому, — заметил Кравчук. — Сколько еще продлится затишье?
В дверях общежития появился дневальный. Меня звали в штаб, к телефону.
Получил задачу определить интенсивность движения по железной дороге Волноваха — Херсон — Николаев и попутно — разведать действующие аэродромы противника.
Учитывая сложную метеорологическую обстановку, я передал в полк, что лечу со своим экипажем — Кравчуком и Трифоновым.
Вылетели незадолго до полуночи. К этому времени небо обложили тяжелые, грозовые облака, сверкали молнии. На земле не было заметно ни стрельбы, ни зенитных трасс, ни прожекторов. Только кое-где тлели небольшие пожары. [100]
Остальное поглощали темнота и ливни. Мы уже несколько раз врезались в плотную массу водяных потоков. Самолет с дьявольской силой бросало вверх и вниз. Но мы благополучно прошли по всему маршруту и через два часа сели на своем аэродроме. Полет был успешным, и те, кто оставался на земле, радовались нашему возвращению.
Между тем в воздухе находился еще один экипаж. Как рассказали нам потом, одновременно с нами к полету с базового аэродрома на разведку побережья Азовского моря готовился и Иван Скляров. Штурман капитан Усачев, Скляров, стрелок-радист сержант Семиякин изучали карту. Чуть в стороне, внимательно прислушиваясь к разговору, держался штурман лейтенант Быстрицкий, который должен был лететь в кабине стрелка-радиста для знакомства с районом боевых действий. Майор Абрамкин, «незаменимый разведчик», как его прозвали летчики, водя карандашом по карте, давал указания. «Важно проверить, есть ли самолеты вот на этих трех аэродромах, — говорил Абрамкин. — Противник чувствует, что мы готовимся к наступлению и, возможно, принимает контрмеры. Надо выяснить, что они там у себя делают».
Члены экипажа уже взялись за парашюты, когда подошел подполковник Горшунов.
— Будьте внимательны. Кругом гроза. В облака не лезьте. Вверх тоже не пробивайтесь. Эти шапки, — кивнул он на небо, — не ниже десяти-одиннадцати тысяч метров. Если будет трудно, возвращайтесь домой.
Черная точка самолета исчезла, смешавшись с темной грядой туч. А еще через час на аэродром обрушилась буря с дождем. Молнии сверкали беспрестанно, гром сотрясал дощатые аэродромные сооружения.
Майор Абрамкин задумчиво смотрел в черную ночь и пытался представить, что творилось сейчас там, в просторах воздушного океана.
А самолет Склярова, дрожа и покачиваясь, летел в это время далеко за линией фронта. Летчик часто менял высоту, пытаясь найти более спокойную зону. Опытный экипаж боролся со стихией, вел, насколько позволяла видимость, разведку.
Некоторое время Скляров, занятый пилотированием, ничего не видел и представлял ориентировку только по докладам штурмана. Но вот в стороне неярко блеснула молния, осветив водную поверхность и темные, контуры берега — Азовское море, скоро разворот. [101]
Разворачиваясь, Скляров предупредил стрелка-радиста, чтобы следил за воздухом. Через две-три минуты ослепительно яркие вспышки осветили фашистский аэродром и околицу деревни. Семиякин вел дуэль с зенитными пулеметами врага. Два других аэродрома были сфотографированы так же удачно, хотя немцы встречали советский бомбардировщик заградительным огнем. Но вот погасли зенитные прожекторы, скрылись в облаках пущенные вдогонку трассы. Семиякин передал на землю: «Задание выполнили. Возвращаемся».
Скляров боролся с болтанкой, которая корежила самолет, бросала из стороны в сторону, вверх и вниз на сотни метров. И все же летчику удалось вывести машину под облака, на малой высоте. Только тогда он стал вызывать радиста. Ответа не было. Оказалось, его радист покинул самолет...
А Семиякин в это время при последних вспышках молний выбирался из волн Таганрогского залива на берег. Он был босой, без головного убора, в изорванной одежде и судорожно сжимал рукоятку пистолета.
Вывалившись из кабины от сильного грозового толчка, Семиякин дернул вытяжное кольцо парашюта. Новые кирзовые сапоги соскользнули с ног и понеслись к земле. Где и как растерял перчатки, шлем и планшет, он не знал. Запомнилась только страшная минута, когда, выскочив из-за облаков, увидел бушующее море — плавать он не умел.
К огромному удивлению и радости, Семиякин сразу почувствовал под ногами дно. Более получаса барахтался в воде, пока, совершенно обессиленный, не выбрался на берег...
Двинулся на огонек. Набрел на землянку. Услышал родную русскую речь. Однако встретили его настороженно. Солдаты удивленно и сурово смотрели на пришельца. Старшина решительно отобрал у Семиякина пистолет.
Спустя два дня в штабе полка появился Семиякин в сопровождении конвоира. Получив расписку, что задержанный сдан по назначению, конвоир убыл. А товарищеский суд младших командиров приговорил сержанта Семиякина к отбытию службы в штрафном батальоне.
В заключительном слове на суде командир полка Горшунов сказал:
— Сержант Семиякин нарушил одну из священных заповедей летчиков — покинул самолет без разрешения командира экипажа, пусть даже в сложнейших обстоятельствах. Я согласен с мнением большинства командиров: Семиякин заслуживает наказания, но такого, благодаря которому сумеет [102] не только искупить свою вину, но и снова вернуться к нам честным бойцом.
В сопровождении своего товарища бывший радист отправился на сухопутный фронт, в штрафной батальон, предварительно заверив командование, что долго там не задержится...
Стрелок-радист Семиякин был из моей эскадрильи, я чувствовал себя неловко и за то, что произошло, и в связи с тем, что товарищеский суд младших командиров без меня распорядился его судьбой. Однако забот было полно, приходилось много летать, и повседневные дела стали постепенно вытеснять из памяти то, что случилось с радистом.
Наш 10-й гвардейский Киевский авиаполк вскоре снова перелетел дальше на запад. Как только самолеты были расставлены и замаскированы, а летчики и техники размещены в удобных помещениях, командир полка Горшунов собрал командный состав. Он посвятил нас в планы ближайших дел, а закончив информацию, сказал мне:
— Собирайся, Ефремов, в Москву. Там, на заводе, находятся семь «Бостонов» с переоборудованным стрелковым и бомбовым вооружением. Машины передают нам. Экипажи для перегонки самолетов отберешь из своей эскадрильи.
* * *
Москва!.. Как давно я там не был... Какая она теперь, в грозное суровое время?..
Месяц назад для офицеров были заказаны новые кители и брюки, но получить их так и не удалось. Я намекнул командиру полка, что, пока есть время, можно слетать за костюмами.
— Возьми У-2 — и в путь. С утра — туда, к вечеру — обратно.
Рано утром я вылетел на У-2 на старую точку.
День был теплый, ясный, видимость превосходная, до пятидесяти километров. Справа хорошо просматривался Новочеркасск, а впереди, ниже места слияния Дона и Сала, открывались обширные плавни. Я давно не летал на У-2 и с удовольствием осматривал из открытой кабины медленно плывущую навстречу местность.
От приятного созерцания меня отвлекали только резкие хлопки мотора. На капоте появились подтеки масла. Давление упало, а температура скакнула вверх. «Как бы не плюхнуться со своим агрегатом в воду», — мелькнула мысль. Мотор работал с перебоями и, пролетев еще километров двадцать, я решил сесть на околице ближайшей деревни, благо [103] попалась ровная площадка. Подрулив к небольшому закопченному строению, выключил мотор, открыл створки капота и сразу обнаружил неисправность, которая могла привести к большим неприятностям: лопнул хомутик на шланге масляной системы. Что делать? Я вертел в руках разорванную металлическую пластинку, прикидывая, что можно предпринять в сложившейся ситуации. Задержка не входила в мои планы. Времени я не имел.
— Что случилось, товарищ летчик? — раздался вдруг густой бас. У самолета стоял широкоплечий, высокий человек в покрытом копотью фартуке и с любопытством разглядывал машину.
— Нужно бы сделать такой хомутик, — показал я ему пластинку.
Минут через двадцать я закрепил шланг и пожал мозолистую руку кузнеца. А к вечеру, как и было условлено, привез костюмы для летчиков. Это оказалось очень кстати: командир полка сообщил, что завтра я должен явиться к командующему воздушной армией...
В штаб армии мы с Петром Трифоновым и штурманом Усачевым отправились на грузовой машине.
В строевом отделе я доложил о прибытии и вышел прогуляться. Здесь обратил внимание на двух военных, оживленно разговаривавших у широкого окна. Один из них, майор, явно был работником штаба, так как держался спокойно и говорил уверенно. Чувствовалось, он дома. Другой — капитан в форме летчика, курчавый блондин — говорил громко, резко жестикулировал, часто раскатисто смеялся. Этого человека я где-то уже встречал.
...Перед мысленным взором проплыл уютный, окруженный лесом военный городок. Выходной. Тихий солнечный день. Пожилые летчики и штурманы, кто в военной форме, кто в гражданском костюме, направляются с женами в парк, на стадион, к клубу, где играет духовой оркестр. Летчики помоложе, холостяки, собираются группами, щеголяя отутюженными бриджами и гимнастерками, блестящими хромовыми сапогами, набором сверкающих колечек и фистонов на ремнях и портупеях. Они ожидают автобуса в город.
«Так и есть, это он, — подумал я, снова поглядев на разговаривавших командиров. — Это Василий Степанович Веревкин!»
Прохожу мимо. Капитан, на груди которого мягко поблескивают два ордена Красного Знамени, тоже узнает меня:
— Василий Сергеевич! Вася! [104]
Мы крепко обнялись. Не успели сказать друг другу и двух слов, как меня вызвали к командующему.
С волнением переступил порог кабинета. Передо мной стоял выше среднего роста красивый молодой генерал, Герой Советского Союза, герой гражданской войны в Испании. Внимательные серые глаза, глубокие и умные, доброжелательно и изучающе смотрели на меня.
— Товарищ генерал, капитан Ефремов по вашему приказанию прибыл!
— Вот ты, оказывается, каков, — с улыбкой произнес Хрюкин. — Ну что ж, будем знакомы... Я вызвал вас, товарищ Ефремов, чтобы выполнить приятное поручение — вручить орден Ленина и Золотую Звезду Героя Советского Союза, — торжественно сказал генерал, передавая мне коробочки с наградами. — Обычно такая награда вручается в Москве, в Кремле. Но время очень напряженное, дел много, нельзя сейчас отлучаться из полка... А вторую столь же высокую награду, если конечно она будет, вам непременно вручит сам Михаил Иванович Калинин, — просто и как-то очень по-дружески сказал генерал.
Хрюкин с интересом расспрашивал о наших боевых делах, о нуждах. Присутствовавшие в его кабинете командиры и политработники тоже тепло поздравили меня. А первыми из однополчан горячо пожали мне руку мои добрые друзья и надежные воздушные бойцы Петр Трифонов и Николай Усачев.
У выхода из здания меня поджидал Василий Веревкин. Присев на скамеечке в тени деревьев, мы проговорили больше часа. Точнее, говорил главным образом он, а я старался запомнить каждое слово.
В начале войны мы стояли на аэродромах рядом, летали тоже и виделись много раз. Он уже имел 35 боевых вылетов. А машин становилось все меньше. Попыхивая папиросой, Веревкин вспоминал давний тяжелый случай. В первых числах июля он летел штурманом с командиром звена Литвиновым на станцию Красна. Сбросили бомбы, станция и эшелоны горели. И все было бы хорошо, не нарвись они под Шепетовкой на четырех фашистских истребителей. Один удалось сбить, но и СБ получил повреждение. Над самой землей Литвинову удалось выровнять машину и посадить на фюзеляж. Рядом упали обломки фашистского истребителя. А СБ горел. Литвинов выбрался из машины сам, хотя и получил ожог. Веревкина извлекли бездыханным через верхний люк кабины. Подбежавшие танкисты помогли [105] командиру звена отнести его в сторону. Убитого радиста Логинова вытащить не успели, самолет взорвался и сгорел.
Василий долго лечился в госпиталях Кременчуга, Харькова, Москвы. С огромным трудом медики все же вернули его в строй. Но связь с полком давно оборвалась. Летчик совершенно не знал, куда писать, где и кого искать...
После выздоровления был откомандирован в полк особого назначения. В сорок втором году случайно встретился с командиром эскадрильи нашего полка Лазаревым, который сообщил, что Василия наградили за тот бой орденом Красного Знамени. По моей просьбе комэск позднее написал Веревкину, что орден и удостоверение к нему находятся в штабе 8-й воздушной армии. И вот спустя столько времени орден был вручен его владельцу генералом Хрюкиным.
— Теперь собираюсь к себе домой, в часть, — закончил свой рассказ Василий Степанович Веревкин...
Все дела в штабе были завершены, а в запасе оставалось еще несколько часов. Трифонов предложил съездить на шахту, где работал до службы в армии. Я согласился.
На шахтном дворе Трифонов чувствовал себя, как дома. Со знанием дела разговаривал с рабочими, интересовался их жизнью, делами, вспоминал общих знакомых.
Шахтеры были рады фронтовику и считали его полноправным членом коллектива. Шахту уже приводили в порядок, и уголек мало-помалу пошел на-гора.
Мы пожелали шахтерам трудовых успехов, а они заверили, что шахта в скором времени заработает во всю мощь. «Поскорее кончайте с фашистами! — говорили они, прощаясь. — Это сейчас главное!»
К вечеру мы вернулись к себе домой. Товарищи горячо поздравили меня с высокой наградой Родины.
* * *
...В Москву за новыми самолетами вылетели на Ли-2 шесть экипажей и группа техников, которую возглавил заместитель инженера полка И. М. Орлов. Из «стариков» командир полка никого со мной не отпустил: наступал момент начала решительных сражений за Донбасс.
Самолеты мы приняли за два дня — новенькие «Бостоны» с моторами «Райт-Циклон», запломбированными на пятьсот часов работы. Это означало, что фирма гарантирует безотказную работу материальной части в течение указанного срока, а пломбы были поставлены для того, чтобы никто не копался в агрегатах и механизмах раньше времени.
Такая предусмотрительность нам понравилась. Но к [106] большому огорчению, мы в скором времени убедились, что в процессе эксплуатации и боевой работы моторы быстро поднашивались и техникам часто приходилось менять кольца, цилиндры и другие агрегаты.
Вооружение, переделанное на заводе нашими мастерами, очень порадовало нас. Теперь в кабине стрелка-радиста стоял мощный крупнокалиберный пулемет «Березина», бомбодержатели тоже были переделаны для 1200 килограммов бомб самого различного калибра.
— Машины приняты. Можно лететь, — доложил инженер. — Материальная часть в полном порядке, но нет горючего, и его не так просто достать здесь.
Да, достать горючее оказалось непросто, но мы ненадолго задержались в Москве.
Когда приземлились на своем аэродроме, к самолетам сбежались почти все летчики и техники: семь новеньких бомбардировщиков для полка — это не шутка. Мы тут же узнали, что начавшееся было наступление наземных войск Южного фронта приостановилось, зато действия нашей авиации приняли широкий размах.
После возвращения из Москвы мы с Кравчуком и Трифоновым сделали несколько полетов ночью, ведя разведку и бомбардируя самые различные объекты. Гитлеровцы оказывали бешеное сопротивление, но в их действиях чувствовались нервозность, неуверенность, обреченность. На всей территории Донбасса господствовала советская авиация. Повсюду на вражеских объектах военного значения рвались бомбы, полыхали пожары. Наша авиация вела широкое наступление.
* * *
Выдалась особенно темная ночь. Небо обложено тяжелыми дождевыми облаками, воздух насыщен влагой. Мы с Кравчуком и Трифоновым готовимся к вылету в район Сталино, чтобы разведать погоду и нанести удар по фашистскому аэродрому.
В большой землянке собрался весь летный состав. Ребята курят, неспешно переговариваются. Некоторые уже получили задание и только ждут наших сообщений о метеорологической обстановке. Это торопит нас.
Выходим из землянки — сыро, холодно, мрачно.
Взлетев, набираем высоту под облака. Их нижняя кромка — восемьсот метров. Пересекли линию фронта, дождь усилился, земля почти не проглядывается.
Трифонов передает на аэродром погоду. [107]
Я стараюсь вести машину как можно точнее, по приборам. В кабине тепло и уютно.
Вдруг над нами раздаются резкие хлопки, облака вокруг озаряет багровый свет. Зенитка! С небольшим отворотом выхожу из зоны огня, а там, где мы только что находились, продолжают рваться снаряды.
— Куда мы попали? — спрашиваю штурмана.
— Кажется, это Чистяково, — отвечает Кравчук, — ведь земли совершенно не видно.
На подходе к Сталино нас попытались захватить прожекторы. Несколько раз лучи скользили по крылу самолета, но, не останавливаясь, проносились дальше. Очевидно, окраска «Бостона», дождь и тучи не давали врагу возможности обнаружить нас.
Аэродрома не вижу, но по расположению прожекторов догадываюсь, что он здесь. Три прожектора устремились в небо, освещая бахрому крутых седоватых туч.
— Держи прямо, — командует штурман.
Я слышу, как открылись бомболюки и сорвались с держателей две бомбы по двести пятьдесят килограммов.
— Пошли домой, — слышу Кравчука. — Нужно передать на аэродром, что летать нельзя. Совершенно не видно целей.
Позже, когда наши войска освободили Донбасс, мы узнали, что одна из тяжелых бомб, сброшенных нами в ту ночь, разнесла землянку, где прятался от дождя летный состав немецко-фашистской авиационной части...
Ранним утром я руководил полетами, а Иван Скляров провозил летчиков на учебном самолете. Ярко светило солнце, но жары не было. С Дона по широкой степи до нас долетал влажный мягкий ветерок. А там, над Доном, курилось дрожащее марево, вереницей проплывали легкие облака, бросавшие на землю причудливые тени.
Наблюдав за посадкой очередной машины, я увидел у ближнего горизонта У-2. Он прямо с ходу произвел посадку в, покачиваясь, как утенок на тонких ножках, зарулил на заправочную линию.
Передав флажки дежурному по полетам, я направился к У-2 узнать, кто прибыл. Если начальство — нужно отрапортовать по всей форме.
Прибыл командир нашей дивизии полковник Григорий Алексеевич Чучев.
Я доложил, чем занимаемся в данный момент.
— Хорошо. Командир полка Горшунов здесь? — спросил полковник. [108]
— Да. На КП.
— Пусть кто-нибудь останется вместо тебя, а мы пойдем на командный пункт.
По дороге командир дивизии расспрашивал о боевой работе, о качествах нового самолета, о точности и эффективности ночного бомбометания.
— Мы довели точность бомбометания по видимой цели с пикирования до пятидесяти метров, — сказал Чучев.
Два полка нашей дивизии действовали на самолетах Пе-2. Они летали только днем, бомбили с пикирования в одиночку и группами. При этом точность бомбометания была исключительно высокой. Большая заслуга в этом деле принадлежала командиру дивизии. Он серьезно занимался вопросами бомбометания с пикирования, уделял внимание практическому обучению штурманов и пилотов, довел действия полков при бомбометании, можно сказать, до совершенства и заслуженно гордился этим.
— Жалко, что нельзя переучить на Пе-2 ваш полк, — задумчиво сказал Чучев. — Тремя полками мы бы еще более успешно разрушали не только мосты, переправы, корабли, но и точечные цели. Например, доты, бронированные артиллерийские точки и многое другое.
— А почему мы не можем переучиться на Пе-2? — спросил я.
— Вы-то можете, — усмехнулся комдив. — Да только никто не разрешит этого сделать. Ваш полк многоцелевой, летный состав высококвалифицированный. Попробуй заново создать такую часть. Это, пожалуй, посложнее, чем научиться бомбить с пикирования...
Выслушав доклад командира полка, Чучев предложил зайти в помещение. Подойдя к столу, он раскрыл маленькую планшетку, вытащил листок бумаги и молча протянул мне. Это была немецкая листовка на русском языке. Внизу, по сторонам текста, были отпечатаны две фотографии. Слева стояла женщина с грудным ребенком на руках, справа был портрет штурмана нашего полка.
Я внимательно прочитал текст листовки. Штурман якобы обращался к своим однополчанам с призывом сдаваться в плен в случае вынужденной посадки на территории врага.
— Фальшивка, товарищ полковник, — с возмущением сказал я. — У нас уже есть подобного рода «произведения». Экипаж, видимо, погиб, а фашисты нашли планшеты. Кое-кто носит в них фотографии родных. Наш полк немцы давно знают. Мы им здорово насолили, вот и подбрасывают время [109] от времени свои «приглашения». Нет среди нас человека, который пошел бы на поводу у врага. Каждый предпочтет смерть такому позору...
У входа в общежитие меня встретил незнакомый офицер.
— Разрешите представиться, товарищ командир?
Передо мной стоял пожилой лейтенант-пехотинец в отлично подогнанном, аккуратном обмундировании.
— Гвардии лейтенант Амосков прибыл в ваше распоряжение для прохождения дальнейшей службы.
— Как вас зовут? — спросил я, прикидывая, на какую должность назначен новичок.
— Амосков Федор Александрович! — рука под козырек, сам — весь внимание.
Мне стало как-то не по себе от того, как тянулся этот пожилой пехотинец.
— Здравствуйте, товарищ Амосков. На какую должность вас назначили?
— Адъютантом вверенной вам эскадрильи, товарищ командир, — опять взял под козырек лейтенант.
Спустя два дня, осматривая общежития младших специалистов и командиров, я обратил внимание на идеальную чистоту. Полы были вымыты, на окнах висели занавески, столы накрыты красной материей, койки выровнены, постели аккуратно заправлены. А через неделю стал замечать, что офицеры и младшие специалисты и сами стали выглядеть куда лучше, чем прежде. Все одеты в чистое обмундирование, сапоги блестят, подворотнички ослепительные.
Раньше во время перерыва в полетах многие болтались без дела. В комнатах, где проводились занятия, было накурено. Теперь во всех помещениях было чисто и свежо. Догадываясь, что это дело рук нового адъютанта, я и сам подтянулся, чтобы поддержать его престиж и как бы утвердить этот образцовый порядок еще и собственным примером. Амосков весь отдавался службе, старался для общего дела. Он без колебаний проводил в жизнь все, что согласовывалось с необходимостью...
В конце июля мы почувствовали, что на фронте скоро разразится буря. Авиация все чаще наносила удары по местам скопления и путям переброски вражеских сил. Техники и оружейники тщательно готовили машины к предстоящим большим боям.
Наладив работы с инженером эскадрильи Михаилом Петренко, я пригласил командиров экипажей к карте, на которой четко была обозначена линия фронта. Подошли Бочин [110] и Китаев со своими штурманами (Панченко к этому времени перевели во 2-ю эскадрилью).
— Товарищ командир, можно закурить? — спросил Бочин.
— Можно. Присаживайтесь, — указал я на покрытую травой землю. — И откуда вдруг у вас появились столь утонченные манеры? Всегда курили без разрешения.
— Теперь покуришь, — загадочно протянул Китаев.
— Житья не стало, — подхватил Бочин.
— Просто сил нет, — поддержали Зимогляд и Каратеев.
— Да что случилось, товарищи? — удивленно спросил я. И тут заговорили все разом:
— Когда были свои, авиационные адъютанты, жилось легко. А теперь власть взяла в Свои руки пехота...
— Ей давай строевую, стрижку, «брижку», физзарядку, разные дежурства, умопомрачительную чистоту...
— Мы же не солдаты!..
— Сами с усами!..
Хор негодующих голосов показался мне смешным.
— Ну и чего вы хотите от меня? — прямо спросил я.
— Дать ему укорот, чтобы не превышал над нами своей власти, — высказал общее мнение старший лейтенант Зимогляд.
Любопытно было смотреть в тот момент на моих товарищей, солидных людей, опаленных войной и не, раз смотревших в глаза самой смерти. Они всерьез высказывали свои претензии к требовательному адъютанту и очень смахивали на школьников младших классов, предварительно обсудивших в узком кругу свои обиды.
— Хорошо. Если потребуется, скажите ему, чтобы не подрывал вашего авторитета, — подсказал я.
— Да, ему скажи! — усмехнулся Китаев. — А он сразу: «Прошу выполнять приказание. Отдаю его от имени командира эскадрильи». И все. Будьте здоровы.
— Но ведь адъютант все делает правильно. У нас стало больше порядка. А какая чистота! Разве это плохо?
— Это, конечно, неплохо, но все равно замашки у него аракчеевские, — изрек Бочин. Мы рассмеялись. — Где это видано, чтобы командира звена назначали дежурным по общежитию? Чтобы подметал пол, достаточно и сержанта.
— И все-таки порядка стало больше! — настаивал я.
— Безусловно, — согласился Китаев.
— Потому что вы, командиры, наводите его сами. Понятно? [111]
— Прискорбно благодарим за комплимент, — пробурчал Бочин.
И опять все рассмеялись. Спорить было не о чем: порядок, дисциплина, организованность — повседневные спутники нормальной человеческой деятельности, а новый адъютант Амосков настойчиво напоминал нам лишь давно известные истины.
Когда ребята ушли, я подумал, что неплохо бы ближе познакомиться с Амосковым.
Помня о своем намерении, вошел однажды вечером в маленькую комнатушку, где работал, жил и отдыхал Федор Александрович Амосков. Здесь было тоже чисто и уютно. Лейтенант сидел за столиком и при свете свечи заполнял летные книжки. Он вытянулся во фронт, хотел что-то сказать, но я протянул ему руку.
Мы разговорились о самых обычных жизненных делах: о семьях, о службе в армии, ну и, конечно, о войне...
Наш адъютант оказался бывалым воякой. В армии служит с тридцатого года. С первых дней войны находится на фронте. Есть у него жена и сын.
Я видел, как потеплели его глаза, накой наполнились добротой и одновременно тревогой, когда Амосков заговорил о семье, которая все время оставалась в Ленинграде.
— Вы никуда не спешите, товарищ командир? У меня есть давнишняя бутылочка хорошего вина.
Федор Александрович оживился и поведал о себе удивительную историю, которая могла произойти только на войне.
...Было это в начале декабря сорок первого года. Шли тяжелые бои под Ельцом. В первых числах декабря наши оставили город. Но отошли недалеко, сдерживая сильный натиск фашистских соединений. А уже 6 декабря началась Елецкая наступательная операция войск Юго-Западного фронта.
Амосков командовал стрелковой ротой. Готовясь к атаке, накапливал солдат и огневые средства в неглубокой балочке, чтобы одним броском оказаться на окраине города. И вот, когда казалось, что наши уже были у цели, враг внезапно обрушил на лощину яростный минометный огонь.
— Ложись! — крикнул Амосков и увидел перед собой столб желтого пламени. Что-то с силой бросило его на землю, и он потерял сознание...
Через некоторое время очнулся. Было тихо. Его покачивало, как на волнах. Не поднимая головы, открыл глаза. Перед ним маячила широкая спина в серой шинели. Спина тоже ритмично покачивалась из стороны в сторону. «Это меня [112] несут на носилках», — промелькнуло в голове, и тут же острая боль в животе повергла его снова в беспамятство.
Сколько был в забытьи, Федор Александрович так и не узнал. Помнит только, что, открыв глаза, не мог ни произнести слова, ни пошевелить пальцем. Понял, что лежит в сарае, а вокруг мертвые солдаты. «Значит, я тоже убит и завтра меня похоронят со всеми в братской могиле». Ни страха, ни ужаса при этой мысли он не испытал.
Несколько раз погружался в беспамятство, снова приходил в сознание, но не мог даже пошевелиться. В один из таких моментов, открыв глаза, увидел в темноте белую, бесшумно двигавшуюся тень. «Привидение!» Тень приблизилась, и он понял, что женщина в белом халате вот-вот уйдет. Собрал все силы и закричал: «Помогите!»
...Очнулся через две недели в Московском военном госпитале. В палате было светло. Туда приходили врачи, медицинские сестры, рассматривали его, как некое чудо. Врач-хирург, сделавший операцию, посмеиваясь, рассказывал:
— Восемь часов мы собирали вашу машину. Пришлось кое-что, ставшее негодным, удалить. Но жить будете.
Потом его долго лечили, хотели списать под чистую, но он, немного отдохнув, попросился снова на фронт. И вот попал к нам.
Рассказ Амоскова произвел на меня сильное впечатление.
— А ребята вас не обижают? — вспомнил я разговор на аэродроме.
— Нисколько. Народ у вас сильный, образованный, инициативный. Конечно, подсказывать нужно даже им... А что касается меня, то я надеюсь до конца войны находиться на фронте и буду стараться делать все, чтобы приносить пользу...
Новый адъютант эскадрильи мне очень понравился своей энергией, работоспособностью, взглядами на жизнь. Поэтому я всегда поддерживал и его авторитет, и все его начинания.
Забегая вперед, скажу, что наш боевой друг Федор Александрович Амосков, требовательный и честный боец, остался таким до последних дней жизни. За год до тридцатилетия Победы мы встретились с ним в его родном Ленинграде. Он был уже очень болен, но в нашей памяти остался таким, каким все мы запомнили его по фронту: добрым, душевным человеком и верным сыном Отчизны... [113]
Наша эскадрилья стала в полку образцом порядка, культуры, дисциплины.
Однажды командующий воздушной армией генерал-лейтенант Хрюкин побывал у нас на аэродроме, посмотрел на полеты, поговорил с летчиками о фронтовых делах. После обеда генерал сказал командиру полка Горшунову:
— Теперь покажите, как живут ваши подчиненные.
— Предлагаю посмотреть помещение 3-й эскадрильи, — не задумываясь, сказал Горшунов.
Обходя общежитие сержантского состава, командующий не переставал удивляться чистоте и порядку, царившим вокруг. Потом зашел к нам. Я доложил, что летчики и штурманы 3-й эскадрильи для беседы собраны.
Прежде всего генерал Хрюкин похвалил нас за аккуратность и порядок и объявил мне благодарность за заботу о личном составе.
— Служу Советскому Союзу! — отчеканил я, а про себя подумал: «Эту благодарность в большей степени, чем кто-либо другой, заслужил наш Амосков».
Генерал сам был когда-то летчиком нашего полка. И когда беседа подходила к концу, он спросил у своего бывшего стрелка-радиста:
— Иван Вишневский, как жизнь, как летается?
— Летаю хорошо, товарищ генерал!
— А что же это ты так отстаешь? Когда с тобой летали в полку, я был старшим лейтенантом, а ты — старшим сержантом. Теперь я генерал-лейтенант, а ты все еще старшина. В чем дело? — полушутя-полусерьезно спросил командующий.
Иван не смутился и шутливо ответил:
— Зажимают, товарищ генерал.
Окружающие засмеялись.
— Гвардеец должен сам добиваться своего, — убежденно сказал генерал. — Но ничего, у нас еще все впереди.
* * *
5 июля 1943 года началась битва под Курском. Там развернулись события, которые заставили на время забыть обо всем другом. Немецко-фашистские войска перешли в наступление, чтобы срезать Курский выступ и открыть дорогу своим бронетанковым частям и соединениям к стратегически важным центрам Советского Союза.
Мы знали, что сил и средств у нашей армии было достаточно, чтобы отразить любой удар врага. Но на войне, как известно, возможны всякие неожиданности. А потому все мы [114] тревожились за судьбу своих войск, сражавшихся на Курской дуге...
Дивизия Чучева в соответствии с планами 8-й воздушной армии продолжала активно действовать в Донбассе, нанося бомбовые удары по железнодорожным узлам, двигавшимся эшелонам, по переправам и аэродромам противника.
Наш 10-й гвардейский авиаполк продолжал наносить групповые удары по заданным целям в районах Сталино, Харцызск, Иловайская, Кутейниково, Волноваха, Горловка, Запорожье, Пологи, Таганрог. При этом мы нередко действовали не только днем, но и ночью. Так, например, в течение двух ночей мы непрерывно бомбили железнодорожный узел Горловка, через который гитлеровцы в разных направлениях перебрасывали резервы.
В перерывах между вылетами экипажи спали вповалку на земле, сбившись в кружок. Мы так уставали, летая почти без передышки днем и ночью, что перестали реагировать даже на взрывы бомб. Но стоило только технику подойти к своему летчику и сказать: «Самолет готов к вылету!» — как командир тут же вскакивал, расталкивал штурмана и радиста, и через пять-шесть минут все находились уже в воздухе.
Так было и в ту ночь, о которой хочу рассказать. Находясь в полусне, я интуитивно чувствовал, что самолет еще не подготовлен к вылету, что вставать пока рано, но кто-то упорно тормошил меня.
— Вас вызывает командир дивизии, — доложил дежурный по полетам.
На КП я увидел полковника Чучева, Горшунова, Козявина, штурмана полка Ильяшенко и начальника связи лейтенанта Лазуренко. Доложил комдиву о своем прибытии.
— Слетаем с тобой на станцию Горловка. Хочу посмотреть, как вы ее обработали.
— В паре? — спросил я, еще как следует не проснувшись.
Кто-то засмеялся.
— Нет, я полечу в кабине стрелка-радиста, — ответил Чучев.
— Аэродром готов выпустить вас, — заверил Горшунов. — Экипаж Бочина пойдет первым и осветит цель, а вы, Ефремов, просмотрите с командиром дивизии, что делается на узле Горловка, и потом отбомбитесь.
Взлетели, когда только начало светать. Западная сторона небосклона тонула в густой дымке. Не видно было ни [115] горизонта, ни земли. Самолет словно плыл в молоке. Штурман Ильяшенко несколько раз вносил поправки в курс.
— Парадокс какой-то, — ни к кому не обращаясь, произнес он. — Рассвет, а видимости никакой.
— Смотри влево! — передал я, заметив вдалеке цепочку светящих авиабомб.
Мы точно вышли на станцию. Цель была хорошо освещена. Внизу виднелись разрушенное здание вокзала, сожженные перевернутые вагоны, покореженные пути. Кое-где еще горели привокзальные склады. Я сделал пологий вираж над станцией, чтобы дать возможность командиру дивизии осмотреть объект.
На востоке было светло как днем. Уже показался багровый край солнечного диска.
— Василий, нужно торопиться, могут напасть истребители, — сказал Ильяшенко.
Не мешкая, мы сбросили бомбы, и я опустился ниже, чтобы прикрыться утренней дымкой.
На аэродроме Чучев сказал командиру полка, что доволен работой наших летчиков и это будет отмечено в приказе по дивизии.
— Когда все увидишь собственными глазами, — признался комдив, — уверенней будешь докладывать командующему армией. Продолжайте бомбить с таким же успехом. Пока идет Курская битва, мы должны сковать действия противника здесь, на юге. Если не дадим ему перебрасывать резервы, это будет крепкая поддержка для соседей... Кстати, каждую ли ночь вам приходится летать при такой плохой видимости? — спросил после паузы Чучев.
— Да, товарищ полковник. Видимость нередко такая, если еще не хуже, — ответил я.
— Сложная у вас работа, товарищи, — оглядел Чучев окружающих. — Но очень нужная. Задача у нас одна: ни минуты передышки врагу. На курском направлении идут ожесточенные бои. Противник остановлен. И если в ближайшее время он не получит достаточных подкреплений, будет разгромлен наголову...
12 июля началось контрнаступление советских войск под Курском.
Противник, израсходовав резервы и потеряв в боях огромное количество танков, самолетов, солдат и офицеров, 16 июля под ударами войск Воронежского фронта начал отводить свои главные силы. А в конце июля — начале августа войска Западного, Брянского, Центрального, Стенного и Воронежского фронтов, развивая наступление, освободили [116] большое количество населенных пунктов. 5 августа были освобождены Белгород и Орел.
С волнением следили мы за сводками Советского информбюро, радовались известиям о победах наших войск на орловском, курском и белгородском направлениях, а сами продолжали громить врага в Донбассе. Действуя по аэродромам и железным дорогам, мы в тот период только за две ночи уничтожили несколько эшелонов с войсками и грузами, а также 12 самолетов. Один лишь Бочин за короткое время сбил в воздушных боях три вражеских бомбардировщика! Чтобы сделать это, он выходил в район действующего ночного аэродрома и, не приближаясь, наблюдал за тем, что происходило. Когда немецкие бомбардировщики, возвращаясь с задания, включали бортовые огни, Бочин сближался с ними и с короткой дистанции наверняка бил из пулеметов.
Утром, когда его спрашивали, удалось ли свалить фашиста, Бочин или отмалчивался, или незлобиво ворчал: «Не такой он дурак, как представляют некоторые».
А мне однажды откровенно признался:
— Сложное это дело, товарищ командир. После того как я срубил несколько «юнкерсов», гитлеровцы стали очень осторожны. Бортовых огней, как прежде, не включают, обмениваются с аэродромом условными сигналами, а посадочные прожекторы загораются только тогда, когда самолет уже приземляется. Хотя и в этот момент можно еще сразить его огнем пулеметов или бомбами...
* * *
Вернувшись однажды из ночного полета, мы с Петром Бочиным сидели в курилке, которую соорудил Амосков, чтобы отучить ребят курить в помещении. Товарищи спали после ночной работы, а мы с удовольствием затягивались дымком, поеживаясь от утренней свежести. Обоих клонило ко сну, и я направился было к общежитию.
— Постойте, — вскочил с места Бочин. — Никак, Семиякин топает!
Действительно, к дому подходил широкоплечий, приземистый крепыш в ладно подогнанной, аккуратной форме. Из-под пилотки выглядывала белая полоска бинта.
Семиякин приложил руку к пилотке:
— Товарищ командир, сержант Семиякин прибыл в ваше распоряжение из штрафного батальона раньше установленного срока по причине поощрения за образцовую службу.
На груди у него рядом с орденом Красной Звезды, полученным год назад, блестела новенькая медаль «За отвагу». [117]
Мы поздравили товарища с возвращением в полк. Нам первым и поведал он о пережитом. Рассказ сержанта был скупым и довольно коротким. О себе самом он из скромности почти не говорил. Упомянул только, что вдвоем с товарищем вызвался выполнить смертельно опасное задание, и слово свое сдержал. А ранен был в тот момент, когда пытался захватить живым гитлеровского офицера.
— Тогда меня и наградили медалью, — закончил свой рассказ сержант. — А по случаю ранения отпустили в свою часть.
* * *
На огромном фронте, где кипели кровопролитные бои, Красная Армия, решительно ломая сопротивление вражеских войск, гнала на запад остатки разбитых фашистских частей и соединений.
Перед началом боевой работы замполит подполковник Козявин, ознакомив нас с последними сводками Совинформбюро, в заключение сказал:
— Наш сосед, Юго-Западный фронт, вышел на подступы к Харькову. Скоро и мы двинемся вперед, а пока будем и дальше готовить почву для наступления, дезорганизуя работу вражеского тыла, уничтожая немецкую технику...
Настроение у ребят было хорошее, и все экипажи старательно выполняли задания.
Сегодня нам предстояло действовать по железнодорожным узлам. В сумерках я со своим экипажем вырулил на старт. Перед нами только что взлетел Сидоркин. Провожая взглядом уходящий в темноту неба самолет, я увидел пламя на левом моторе и услышал взволнованный голос Кравчука:
— Командир, Сидоркин горит!
Машина Сидоркина, круто разворачиваясь, шла к земле. А когда мы набрали высоту сто метров, то впереди слева увидели большое пламя.
— Неужели погибли ребята? — мрачно произнес Кравчук...
За линией фронта усиленно вела работу наша ночная авиация. Над Волновахой, к которой мы вскоре приблизились, висели светящие авиабомбы, метались лучи зенитных прожекторов, взрывались снаряды. Внизу огненным морем бушевали пожары. Оглядывая воздушное пространство в пределах цели, я вроде бы увидел струю огня крупнокалиберного пулемета. На всякий случай предупредил Трифонова, что над целью могут оказаться фашистские истребители. [118]
На боевом курсе луч прожектора несколько раз скользнул по плоскости нашего самолета, но не остановился, И все же нас нащупали. Однако зенитка молчала, это свидетельствовало о том, что в воздухе находятся немецкие истребители.
Открылись бомболюки, закружил по кабине ветер. Бомбы обрушились на станцию.
— Пройди немного вперед, — попросил Кравчук. — Хочу посмотреть, куда упали бомбы.
Я не успел выполнить просьбу Кравчука: самолет цепко схватили прожекторы. Хочу еще раз предупредить радиста об опасности, но в это время тяжелая трасса прошла по передней части нашего «Бостона». В тот же миг заговорил пулемет моего стрелка-радиста. Резко бросаю самолет влево и со снижением ухожу из лучей прожекторов.
Убедившись, что штурман жив и невредим, справляюсь, как идут дела у Трифонова, а сам смотрю на приборы правого мотора. Он работает грубо, с тряской. Давление масла падает. Значит, мотор все же задет.
— Командир, больше фашист не даст по нас ни одной очереди, — доложил Трифонов. — Ему крепко досталось от нас.
А тряска становится угрожающей. Выключаю поврежденный мотор и регулирую «Бостон» на нормальный полет с одним мотором.
Едва успели приземлиться, как мотор тут же заглох. Техники быстро прицепили к самолету машину, и черев несколько минут тягач притащил его на стоянку.
На командном пункте уже знали о проведенном нами воздушном бое: телеграмма Трифонова была принята на земле и в воздухе.
Доложив командованию о выполнении задания, я присоединился к стоявшим невдалеке летчикам, которые с тревогой обсуждали судьбу экипажа Сидоркина. К счастью, гадать нам долго не пришлось: из темноты, как в сказке, появились Гарик Сидоркин, Ермолаев, Вишневский. У Сидоркина и Ермолаева на плечах висели парашюты, а Вишневский придерживал стоявший рядом с ним набитый чем-то мешок.
Радости нашей не было конца. Мы ведь считали ребят погибшими. Ответив на вопросы товарищей, Сидоркин подхватил меня под руку и возбужденно сказал:
— Пойдем, Сергеевич, посидим, отдохнем немножко. Видишь мешок? Я угощу тебя арбузами... [119]
Ломая сопротивление врага, соседние фронты успешно продвигались к Днепру, а мы стояли на месте. Наша авиация буквально вытряхивала из гитлеровцев душу, но для наступления, очевидно, еще не хватало чего-то весьма существенного.
Сегодня ночью мы будем обрабатывать очередные фашистские аэродромы в нашем районе.
Когда наши летчики готовились к полету, посторонний наблюдатель не смог бы заметить в их поведении ни волнения, ни тревоги, ни боязни, ни суетливости, ни напряженности. Они собирались в бой, как собираются в обычный мирный полет. А потому здесь можно было услышать самый беспечный разговор и даже шутки. Это на время отвлекало людей от мыслей о грозной минуте сражения, хотя каждый летчик был готов к бою сразу после получения приказа.
Те же чувства, что испытывали товарищи, испытывал и я. Так же, как они, продумывал маневры над целью, приемы борьбы с вражескими истребителями и зенитной артиллерией, так же, как они, отрешался в такие минуты от всего, что не было связано с выполнением предстоящего задания, и собирал в кулак свою волю.
Вот и теперь, собираясь на задание, я оглянулся и увидел Кравчука в окружении Бочина, Сидоркина, Ермолаева. Павел был чисто выбрит, аккуратно подстрижен «под ежика», летняя гимнастерка и брюки были выстираны и выглажены, на загорелой шее резко белела полоска свежего подворотничка. На подвижном симпатичном лице штурмана играла улыбка. Кравчик, как с любовью называли его в эскадрилье, молодцевато расправил складки под поясом, подбоченился, шутливо поворачиваясь перед товарищами и выпячивая грудь, где на выцветшей гимнастерке выделялись более темные пятна от орденов. «Ордена, видимо, снял перед стиркой», — подумал я, с удовольствием оглядывая друга.
На задание мы вылетели звеном в вечерних сумерках. Слева от меня шел лейтенант Сиволдаев, справа — Фефелов. Поднявшись на высоту тысяча метров, я осмотрелся. Ведомые держались в строю ровно, устойчиво. «Попасть одному в лапы прожекторов еще куда ни шло, а вот звеном — будет хуже», — подумал я. Именно поэтому я прошел стороной мимо Сталино, а потом, развернувшись, вывел звено к вражескому аэродрому с запада.
На боевом курсе нам все же не удалось избежать вражеских прожекторов. Они сразу схватили машины, а зенитки [120] бешено осыпáли их огнем. Наши стрелки-радисты открыли интенсивную стрельбу, что внесло дезорганизацию в противовоздушную оборону противника.
— Держи так. Идем хорошо. Вижу самолеты, — скороговоркой отчеканил Кравчук.
Мои ведомые подошли поближе, чтобы не пропустить момент сбрасывания бомб.
— Хорошо попали! По стоянке, — оживленно доложил штурман. — Тридцать шесть бомб — не шутка.
Я смотрел вперед, понемногу теряя высоту. Местность еще проглядывалась довольно хорошо, и с высоты трехсот метров на земле можно было различить крупные ориентиры.
— Впереди колонна вражеских автомашин! Атакуем? — крикнул Кравчук.
Я тоже видел, как из населенного пункта справа вытягивалась колонна длинных машин, направлявшихся к фронту. «Наверное, везут бензин», — подумал я и решил атаковать. Качнув крыльями, довернул на колонну. Ведомые пошли за мной. Поточнее навожу нос «Бостона» на цель и открываю огонь. Шесть стремительных трасс, выпущенных с наших самолетов, настигают колонну. Одна за другой вспыхивают автомашины. «Да. Это бензин», — убеждаюсь я и продолжаю вести стрельбу. Враг начинает обстреливать нас сзади, справа и слева. Вокруг кромешный ад. Постепенно наши стрелки стали подавлять огневые точки. Но в борьбу с нами втянулись, очевидно, все средства противовоздушной немецкой обороны. Огонь по нас велся со всех сторон. Многочисленные разноцветные трассы тянулись к самолетам, образуя светящийся купол.
Справа и слева лопались снаряды крупного калибра. За время войны я бывал во многих переделках, но такой массы огня не видел. Пули прошивали борта кабин и плоскости самолетов. Услышал глухой удар в наголовник. И тут же мне показалось, что в затылок вонзилось множество иголок. Впереди с близкого расстояния ударил пулемет. Я бью длинной очередью. А мой экипаж в течение двух-трех минут отстреливается во все стороны. Наконец мы словно проваливаемся в черную ночь. Фейерверк кончился, мы — над своей территорией.
Ведомые держатся в строю, значит, все вышли из боя. Вызываю штурмана. Молчит. Радист отвечает, что у него все нормально.
— На дороге видел семь горящих цистерн, бил по огневым точкам без промаха. [121]
— Вызови штурмана, он молчит, — чувствуя смутную тревогу, прошу Трифонова.
Через некоторое время слышу взволнованный голос радиста:
— Телефоны работают исправно. Кравчук не отвечает.
Сам веду ориентировку: скорее, как можно скорее домой! Далеко впереди — свет посадочных прожекторов. Все самолеты благополучно произвели посадку. Зарулив на стоянку и не дожидаясь стремянки, прыгаю с крыла на землю, бегу под кабину штурмана.
На лицо упали теплые капли...
— Кровь, — посветил фонариком техник.
Я закричал, чтобы немедленно открыли кабину, а Трифонов бросился за санитарной машиной.
Когда открыли кабину, окровавленное тело Кравчука безжизненно опустилось к нам на руки. Павел был еще теплый, и я так надеялся, что он только тяжело ранен! Подбежавший полковой врач Джанба послушал пульс.
— Все... Скончался... — сказал он.
На выгоревшей гимнастерке, там, где должны были находиться ордена, виднелись два округлых зеленоватых пятна. Одно из них было пробито пулей. Если бы ордена были на месте, на гимнастерке! Пуля, ударившись в один из них, разорвалась бы, не причинив большого вреда. Эх, Павлик, Павлик! Награды Родины за твой ратный труд стали бы твоим щитом, если б не горькая случайность...
В тот раз мы причинили врагу немалый урон, его противовоздушная оборона была вскрыта на большом участке. Об этом и многом другом я буду докладывать командиру. А как вымолвить имя погибшего друга Павла Кравчука, коммуниста, человека большой силы воли, бесстрашного бойца, сердечного товарища, которого все любили в полку!
Впереди еще много боев и сражений. В каждом полете мы будем мстить за поруганную землю, за сожженные города и села, за матерей наших и за боевых друзей, с которыми породнились в суровые военные дни и которых так много потеряли.
На стоянке специалисты осматривали самолет. Техник Лысов доложил, что осколки пули, убившей Кравчука, повредили несколько приборов, а в кабину летчика попал большой осколок снаряда, который помял наголовник и вылетел наружу, разворотив борт...
Сегодня мой повторный вылет не состоится. С разрешения командира полка я вместе с Трифоновым еду проститься [122] с погибшим другом и похоронить его в тихом хуторе недалеко от Дона.
На следующий день, когда приехали на КП, меня окликнул подполковник Козявин. Он сообщил, что в полдень я должен быть готов к отъезду в политотдел дивизии, где состоится вручение партийных билетов.
Я ждал этого вызова и, волнуясь, приводил себя в порядок самым тщательным образом. Притихшие и торжественные, ехали мы, двенадцать человек, как на большой праздник.
Вручив партийные билеты, начальник политотдела дивизии поздравил нас и пожелал успехов в боях.
— Мы находимся накануне больших событий на нашем фронте, — говорил он. — Вы всегда дрались с врагом как настоящие коммунисты. Теперь должны вести за собой всех, подавая пример мужества и героизма.
Ответные слова прозвучали как клятва верности своему Отечеству и партии.
День приема в партию, 17 августа 1943 года, запомнился на всю жизнь...
В наступлении
17 августа началось наступление нашего Южного фронта на Миусе.
Накануне вечером, перед ночными боевыми полетами, состоялось партийное собрание. Заместитель командира полка по политчасти подполковник Козявин не скрывал радости, обращаясь к собравшимся. Его густой бас гремел сегодня особенно громко и торжественно:
— Дорогие друзья, товарищи, боевые соратники! В ближайшие дни будет полностью освобождена всесоюзная кочегарка Донбасс. Сейчас у нас гораздо больше техники, чем в первые дни войны, и она во многом превосходит фашистскую. Враг и на этом ответственном участке фронта будет разбит!
Выступившие в прениях коммунисты Скляров, Панченко, Китаев и другие заверили командование, что личный состав полка оправдает доверие партии и народа.
Первую половину ночи мы бомбили железнодорожные узлы в полосе своего фронта: авиация наносила с воздуха удары по обороне врага на всю оперативную глубину — от переднего края до Днепра.
Вторую половину ночи все эскадрильи полка спали под крыльями самолетов, у которых хлопотали техники, механики [123] и мотористы. С восходом солнца 18 августа полк получил задачу тремя эскадрильями в составе дивизионной колонны нанести бомбовый удар по артиллерийским позициям противника западнее Куйбышево. Колонну вел сам командир дивизии, полки возглавляли их командиры — Белый, Валентик и Горшунов.
Наш полк шел замыкающим, а я со своей эскадрильей замыкал полк, оказавшись самым последним в колонне, растянувшейся на два с половиной километра. Мне было отлично видно более ста бомбардировщиков, находившихся впереди. По сторонам, сзади и сверху, группами, в боевом порядке шли истребители. Их было не менее восьмидесяти. Впервые за годы войны я видел такую мощную армаду самолетов, действовавших на узком участке фронта.
На переднем крае обороны гитлеровцев до самого горизонта клубилась дымом и пылью земля: наша артиллерия беспрерывно вела разрушительный огонь. Мы подходили к цели. Истребители прикрытия засновали вокруг бомбардировщиков.
Первая группа Пе-2 одновременно перешла в крутое пикирование и стремительно понеслась к земле. В воздухе стали появляться разрывы зенитных снарядов, и тогда к земле ринулись истребители, обстреливая из пушек зенитные точки.
Когда очередь дошла до нас, штурман с трудом отыскал в дыму и огне цель. Мы отбомбились и стали разворачиваться на свою территорию. Группа фашистских истребителей держалась некоторое время в стороне и выше нас. Но когда колонна стала разворачиваться, бросилась на ее центр. Наши истребители немедленно кинулись навстречу. В считанные секунды два вражеских самолета, охваченных пламенем, стали падать на землю. Остальные, бросившись врассыпную, исчезли.
Этот вылет произвел на членов всех экипажей огромное впечатление не только силой удара и организацией, но и надежностью прикрытия.
— Вот так бы всегда, с самого начала войны! — говорили между собой летчики.
После артиллерийской и авиационной подготовки наземные войска сломили сопротивление противника и к исходу дня прорвали его оборону западнее Куйбышево, продвинувшись на 10 километров вперед. Гитлеровцы оказывали упорное сопротивление.
В полдень мы снова поднялись с аэродрома и пошли на запад. Летели всей эскадрильей, чтобы разбомбить укрепленный [124] пункт в районе Марьяновки. Истребителей прикрытия предстояло встретить над их аэродромом. Я вел первое звено, второе — Валентин Китаев и третье — Петр Бочин. Летчики держались в строю отлично.
Делая круг над аэродромом истребителей, я заметил, что самолеты еще на стоянках, а около них снуют заправочные машины и люди. Это означало, что истребители еще не готовы к вылету. И я решил идти без прикрытия, подумав: «Пускай отдохнут наши боевые друзья, они ведь только что приземлились».
Над полем боя по-прежнему держалась плотная дымка. Из-за нее не так-то просто найти цель. Но у меня в передней кабине сидели два снайпера бомбовых ударов — штурман Усачев и бывший однополчанин, а ныне представитель штаба воздушной армии, подполковник Мауричев. Не найдя цель, делаю второй заход. Вижу сигнал штурмана: довернуть влево. Доворачиваю. Бомбы сыплются на позиции противника. Внизу видны разрывы и трассы пулеметного огня. От наблюдений меня отвлекает резкая дробь пулемета нашего стрелка-радиста и его голос:
— Нас атакуют четыре истребителя.
— Не робеть! Патроны зря не расходовать, бить только наверняка! — передаю радисту и уже вижу над кабиной трассу, а затем и проскочивший вперед фашистский истребитель. Он некоторое время повисел слева, а потом с переворотом ушел вниз. Стрелки-радисты отбили атаки...
В течение двух последующих суток наш полк действовал небольшими группами. Днем они обеспечивали продвижение войск Южного фронта, которые еще 23 августа освободили Амвросиевку, а ночью бомбили подходившие резервы врага. И опять сильно досталось станции Волиоваха.
30 августа части и соединения фронта во взаимодействии с кораблями и десантом Азовской военной флотилии разгромили таганрогскую группировку противника. Наша авиационная дивизия и 10-й гвардейский авиаполк все время находились на острие атак 4-го кавалерийского и 4-го механизированного корпусов, обеспечивая их продвижение.
В тот же день был освобожден Таганрог. Войска Южного фронта перешли к преследованию отходившего из Донбасса врага... За активные боевые действия по обеспечению наземных войск и разгрому таганрогской группировки противника наша 270-я дивизия была преобразована в 6-ю гвардейскую и удостоена почетного наименования «Таганрогская». [125]
31 августа гитлеровцы попытались было эвакуировать из Таганрога морем тех, кто уцелел в боях, но подвергся массированному удару авиации, в том числе нашей дивизии. И эта затея врага провалилась.
В последний период напряженных боев наш полк потерял четыре экипажа. Несколько самолетов, получив повреждения, произвели посадку в поле. В их числе был и мой «Бостон».
Как-то жарким утром инженер эскадрильи старший техник-лейтенант М. С. Петренко предложил мне слетать на место вынужденной посадки и проверить, как движется работа по восстановлению машины. Инженер полка И. М. Орлов с разрешения командования выделил нам для этого По-2 — расстояние было немалое, около 100 километров. Орлов недавно вступил в должность и, увидев его, я снова вспомнил погибшего инженер-майора Николая Петровича Поповиченко, отличного специалиста и чудесного товарища, который прошел с полком по многим аэродромам и фронтовым дорогам в очень тяжелое время. Под его руководством технический состав умело и тщательно готовил самолеты к боевым вылетам в самых сложных условиях. За успешную, хорошо организованную работу технического состава Поповиченко был награжден несколькими орденами.
Вспомнилось и то, как незадолго до гибели Николай Петрович нагнал меня на мотоцикле, когда я шел на аэродром.
— Эй! Сидай, пидвезу! — крикнул он.
Я пристроился сзади, и мы помчались, поднимая на дороге вихри пыли.
— Поедем, хлопче, на Дон, — предложил инженер. — Нужно постирать чехлы, помыть машину да и самому искупаться.
Идея была заманчивой, но я отказался, много дел ждало меня на аэродроме.
А в полдень привезли мертвого Николая Петровича Поповиченко. Он подорвался на противотанковой мине на берегу Дона...
Мы с Петренко все же слетали на место, где я вынужден был посадить свой самолет. Вдвоем тщательно осмотрели мотор, шасси, фюзеляж, и я убедился, что машина будет готова к полетам в самое ближайшее время.
* * *
Личный состав полка занимался проверкой, ремонтом и подготовкой материальной части к предстоявшим боям. Американская [126] техника не выдерживала наших нагрузок. Приходилось менять поршни, цилиндры, кольца, подшипники моторов. Пломбы, гарантирующие их работу в течение пятисот часов, давно были сняты. Пятьдесят процентов самолетов требовали основательного ремонта. А наши наземные войска, продвигавшиеся вперед, ощущали отсутствие необходимой поддержки авиации. Надо было что-то предпринимать...
Штурман Усачев сообщил, что посыльный передал приказ о построении всего личного состава полка.
Я привел эскадрилью к командному пункту и пристроил к двум другим.
По лицам командира полка Горшунова, замполита Козявина и нашего начальника штаба подполковника Бурбелло трудно было понять, зачем нас построили. Вскоре над нашими головами затарахтел По-2. Прибыл командир 6-й гвардейской Таганрогской авиационной бомбардировочной дивизии полковник Григорий Алексеевич Чучев.
Горшунов подал команду:
— Смирно!
— Капитан Ефремов, выйти из строя! — скомандовал Чучев.
Стало как-то не по себе. Товарищи смотрели на меня с тревогой и недоумением. А Чучев извлек из планшетки телеграфную ленту и стал читать:
— «Командиру 10-го гвардейского Киевского авиационного бомбардировочного полка. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте в борьбе с немецкими захватчиками, дающее право на получение звания Героя Советского Союза, Президиум Верховною Совета СССР Указом от 24 августа 1943 года награждает командира эскадрильи капитана Ефремова Василия Сергеевича второй медалью «Золотая Звезда» и постановляет соорудить бронзовый бюст на родине награжденного». Указ подписали товарищи Калинин и Горкин.
А далее шел такой текст: «От имени Президиума Верховного Совета СССР и от себя лично горячо поздравляю вас с этой высокой правительственной наградой.
Командующий 8-й воздушной армией генерал-лейтенант Хрюкин».
Я был потрясен услышанным. Товарищи, строй, все вокруг виделось, как в тумане. Ко мне подошли улыбающиеся Чучев, Горшунов, Козявин. Стали поздравлять, пожимать руку, раздались громкие аплодисменты. Только тогда я опомнился, [127] почувствовал, что все происходящее вокруг касается не кого-либо другого, а меня...
* * *
6 сентября 1943 года советские войска освободили один из крупных городов Донбасса — Макеевку. Содействуя наземным войскам, мы в составе небольших групп бомбили опорные узлы врага на подступах к городу. А ночью действовали по колоннам отходящих войск и по укрепленным районам на подступах к Сталино.
Сделав за сутки по четыре боевых вылета, Усачев, я, Трифонов и другие летчики валились с ног от усталости. В голове шумело, и так хотелось спать, что глаза закрывались сами собой. Но не успел я прилечь, как вызвал подполковник Горшунов.
— Мы вот посоветовались с замполитом, — ответил на мой вопросительный взгляд командир полка, — и решили чествовать тебя утром после полетов. Как смотришь?
Мне хотелось сказать, что самое лучшее сейчас было бы поспать, но не решился: ведь такое бывает не часто. Только и сказал, что хочется, чтобы присутствовал и мой боевой товарищ с первых дней войны Иван Скляров, который тогда обучал молодых летчиков полетам ночью на соседнем аэродроме.
— Тогда садись в самолет и слетай за ним.
Скляров очень удивился моему появлению. Но, выслушав, в чем дело, приказал закончить полеты и вместе со мной сел в кабину По-2.
После бокала цимлянского я крепко заснул и с величайшим наслаждением наконец отоспался...
Сокрушив оборону гитлеровцев, части и соединения 5-й ударной армии освободили важный промышленный центр Донбасса — город Сталино. 6-я и 1-я немецкие танковые армии, от которых Манштейн требовал упорной обороны Донбасса, не выдержали сокрушительных ударов советских войск и, спасаясь от полного разгрома, беспорядочно отступали на запад, бросая технику, оружие, раненых солдат. Преследуя отступающих, советские войска 22 сентября вышли к реке Молочная, где находился еще один рубеж сопротивления врага. За активную поддержку наступавших войск с воздуха личный состав полков 6-й гвардейской Таганрогской авиадивизии четырежды получал благодарности Верховного Главнокомандующего — за освобождение Таганрога, Сталино, Мариуполя, станции Волноваха...
Мы уже сменили два аэродрома и обосновались на третьем, [128] совсем недалеко от Мелитополя. Десять экипажей во главе со старшим лейтенантом Бочиным должны были вылететь за новыми машинами на Кавказ. Пока товарищи собирались в дорогу, мы с Сидоркиным, Усачевым и Панченко наставляли Петра Бочина, какие брать самолеты, как лететь обратно, что предусмотреть в первую очередь.
Бочину в начале сентября было присвоено звание Героя Советского Союза. Он успешно провел 250 боевых вылетов, отлично действовал в период разгрома донецкой группировки противника, сбил в ночных атаках несколько немецких машин, проявил незаурядную смелость, отвагу и инициативу. Об указе нам уже сообщили, но награду Петр Бочин получить не успел. Я предложил другу для придания солидности и авторитета надеть пока мою Золотую Звезду. Он согласился.
На следующий день к нам заглянул командующий генерал-лейтенант авиации Хрюкин, проводивший инспекторский облет фронтовых аэродромов истребителей и штурмовиков.
Меня предупредили, что генерал зайдет к нам в общежитие. Собрались в небольшом помещении. Тимофей Тимофеевич Хрюкин пришел в сопровождении командования полка. Я доложил по всей форме.
— Что вас так мало? — удивился командующий.
Ему объяснили, что половина летного состава находится в командировке. Генерал внимательно оглядел все и остался доволен. Потом подозвал Ивана Вишневского, открыл планшет и достал плоский пакет.
— Присваиваю тебе за примерную службу звание «младший лейтенант». Вот погоны. Носи на здоровье и служи до генерала...
Изложив перед личным составом ближайшие задачи, командующий стал прощаться. А нам с командиром полка и замполитом сказал:
— Вам, товарищи, необходимо продумать вопрос о ночном патрулировании отдельных объектов. Летчики у вас опытные и с этой работой справятся.
Мы с пониманием восприняли необычное задание.
— А главное сейчас — подготовить материальную часть и людей к прорыву обороны на Молочной...
Перед войсками Южного фронта, в состав которого входила теперь наша дивизия, от Запорожья до Азовского моря оборонялись части 6-й немецкой армии. Враг придавал особое значение своему рубежу на реке Молочной, который прикрывая низовье Днепра и подступы к Крыму с севера. [129]
Наш полк, помогавший наземным войскам в полосе своего фронта, привлекался также для действий по запорожскому плацдарму врага, где вели наступление армии Юго-Западного фронта. В одну из ночей мы бомбили укрепления врага в районе Мелитополя и вели разведку на Крымском полуострове от Перекопа до Севастополя. Наши экипажи разрушали переправы возле Никополя и Запорожья. И здесь, как всюду, шарили в небе зенитные прожекторы, густо рвались снаряды, хищно тянулись ввысь тяжелые трассы «эрликонов».
Лучи прожекторов захватили наш самолет. Я не маневрировал, так как уже шел курсом на цель, а внизу рвались бомбы.
— Одна попала в переправу, — сообщил Усачев. — Это сработал экипаж Сиволдаева.
Метров на двести ниже висели светящие авиабомбы. Переправу было видно как днем, особенно место разлома ее настила.
— Клади наши бомбы рядом! — кричу Усачеву.
И он отлично выполнил команду...
Затем мы несколько ночей бомбили переправы, чтобы не дать противнику восстановить их и ускользнуть на правый берег Днепра.
14 октября войска Юго-Западного фронта (позднее 3-й Украинский) освободили Запорожье, а командование нашего Южного фронта (позднее 4-й Украинский) выдвинуло 8-ю воздушную армию к Днепру на участок от Горностаевки до побережья Черного моря. Только у Никополя, южнее Запорожья и севернее Горностаевки, оставался укрепленный район противника.
Мне не раз приходилось летать над этим районом днем и ночью, в одиночку и с группой. Противник хорошо подготовил свою оборону в инженерном отношении, прочно связал между собой все опорные пункты. Как только самолет пересекал линию фронта, его встречал плотный огонь зениток: гитлеровцы очень боялись, что воздушное фотографирование вскроет систему их обороны. Но мы все равно снимали этот район вдоль и поперек. А наши самолеты каким-то чудом вырывались из пекла, хотя на крыльях и фюзеляжах каждый раз зияли многочисленные пробоины. И не случайно летчики, встречаясь дома, удивленно спрашивали друг друга: «Как, ты еще жив?..»
Только в начале февраля 1944 года войскам 4-го Украинского фронта во взаимодействии с войсками 3-го Украинского фронта удалось разгромить никопольскую группировку [130] врага — его последний оплот на левом берегу Днепра. Но это было потом, а пока, в конце декабря 1943 года, мне передали из штаба полка: «Тебя вызывают на конференцию. Сбор в поселке Аскания-Нова!»
На юге стояла распутица, из-за которой все, что двигалось по земле, увязало и тонуло в грязи. Взлететь можно было лишь во время заморозков: тогда земля амортизировала на разбеге, похрустывая ледком под колесами.
Дождавшись подходящей погоды, мы с летчиком Ивакиным вылетели утром на По-2 к месту сбора мастеров воздушного боя, штурмовок и бомбовых ударов. Поселок находился всего в двадцати — тридцати километрах от никопольского плацдарма. Мы сели в поле. Ивакин отправился домой на По-2, я зашагал к сильно разрушенному поселку. Когда подошел вплотную, убедился, что умелые руки саперов и солдат уже подправили некоторые дома. В Аскании-Нова сновали грузовики, солдаты переносили штабные ящики, прокладывали телефонную линию, расчищали улицы. Пройдя длинный коридор уже приведенного в порядок кирпичного здания, я попал в небольшой круглый зал, в котором стояли цветы в кадках. Там за небольшим столом сидел молоденький лейтенант и перелистывал бумаги. Он строго спросил, что мне нужно. Я протянул телеграмму. Прочитав ее, лейтенант стал искать мою фамилию в списке приглашенных. Тут-то и выяснилось, что здесь, в Аскапии-Нова, собирались только истребители.
Поскольку мне никто не предложил остаться, я вышел из здания и решил добраться до ближайшего населенного пункта. В вечерних сумерках приблизился к разрушенному селу и сразу услышал окрик: «Стой! Кто идет?» Передо мной выросли три фигуры в маскхалатах. Старший, подсвечивая фонариком, просмотрел предъявленную мной телеграмму.
— Здесь поблизости никаких аэродромов нет, а метров за пятьсот отсюда проходит передний край. Сейчас наша машина пойдет в Асканию-Нова. Вас подвезут туда.
Войдя в знакомый дом, я почувствовал себя как в раю.
Там не было уже никого, кроме старшего лейтенанта, который оказался шеф-пилотом командующего нашей воздушной армией. Рассказал ему о своих мытарствах. Конференция, как выяснилось, проводилась действительно здесь и уже закончилась. Все летчики находились в столовой.
Я целый день ничего не ел, но в столовую не пошел, уж больно неказистым был мой вид. Мы еще сидели и разговаривали с шеф-пилотом, когда в помещение ввалились веселой шумной гурьбой истребители. На конференцию собрались [131] самые прославленные летчики. На новеньких, отутюженных гимнастерках блестели Звезды Героев, ордена и медали. Я узнал братьев Глинка, Покрышкина, Лавриненкова, Амет-Хан Султана, Алелюхина, Речкалова, Борисова. Многих видел впервые, но фамилии слышал не раз. Только решил лечь спать, как в комнату вошел встревоженный майор.
— Я комендант, — представился он. — Рад, что разыскал вас. Так и доложу командующему.
Утром меня вызвал генерал Хрюкин. Он с улыбкой выслушал мой рассказ о невольных скитаниях и объяснил, что конференция закончилась, но сегодня он будет вручать награды летчикам, в том числе и мне.
Счастливый, с двумя Золотыми Звездами на гимнастерке, возвращался я домой. Но, увидев своих ребят, сник: они сообщили о гибели командира 2-й эскадрильи капитана Л. И. Волика.
* * *
В преддверии весенних боевых операций войска 4-го Украинского фронта подошли к Крымскому полуострову.
Нашему полку выделили площадку в районе Гирсовки у озера Молочное. Отсюда до Геническа пятьдесят километров. Два других полка базировались недалеко от нас.
Для фотографирования оборонительных сооружений и визуальной разведки укреплений гитлеровцев на северной окраине Крымского полуострова, от Перекопа до Арабатской Стрелки, надо было пройти на бреющем не менее семидесяти километров.
Первым вылетел на такое задание летчик Сиволдаев со штурманом Волжиным и стрелком-радистом Вишневским.
Возвратившись с разведки, Сиволдаев доложил, что в прибрежных районах перешейка, в зарослях сухого камыша, скрываются хорошо замаскированные пулеметные точки, орудия, проволочные заграждения, спускающиеся к воде. На возвышенных местах — траншеи, отсечные позиции, ходы сообщения, проволока, рвы, надолбы. Истребителей на территории перешейка не видно.
Дня через два последовал приказ: снова произвести визуальную разведку с бреющего полета, обратив особое внимание на важные узлы в обороне врага. И этот полет Борис Сиволдаев провел отлично, за что получил благодарность командующего армией.
Аэродромы были все еще непригодны для интенсивной работы. Изредка вылетали на разведку отдельные экипажи. [132]
Я побывал над Керчью, Севастополем, Симферополем, Джанкоем. На всем Крымском полуострове царила тишина. Противовоздушная оборона немцев молчала, не желая себя выдавать. Только над Симферопольским аэродромом два прожектора пытались поймать наш самолет.
Готовя материальную часть к предстоящим боям, мы испытывали машины на различных режимах, вели бомбежку на полигоне по ограниченным целям боевыми бомбами. Облетывая самолет, командир полка Горшунов попробовал, как он пикирует. Мы наблюдали с земли. «Бостон» устойчиво шел к земле под углом шестьдесят — семьдесят градусов. Зрелище было очень впечатляющее. Если бы приспособить «Бостон» к таким действиям, из него получился бы неплохой пикировщик.
На следующий день, облетывая «пирата» — самолет с шестью огневыми точками в носовой части, — я выбрал у берега озера Молочное небольшое болотце, метров пять на пять, и начал пикировать. Когда до болотца оставалось двести метров, я нажал спуск. Все шесть крупнокалиберных пулеметов окутались пламенем — стремительные трассы пуль перекрыли цель. Там словно вскипела вода. Отдача была так сильна, что показалось, будто машина на мгновение остановилась в воздухе.
Сделав три захода, я произвел посадку, и мы пошли посмотреть результаты стрельбы. Берег был изрыт канавками, уже залитыми водой.
Через два дня, утром, четыре экипажа из моей эскадрильи перелетели к соседям. Каждую ночь мы патрулировали одиночными самолетами. Временами в воздух поступали донесения с земли о приближении к зоне противника. К нашему разочарованию, ни одной встречи с немецкими самолетами не произошло. Они обходили нас стороной.
Наземные войска готовились к наступлению. Бомбардировщики понесли свой груз к узлам сопротивления фашистов за Сивашем, к железнодорожным станциям в передовым аэродромам истребителей. Противовоздушная оборона врага обрушила на нас зенитный огонь и удары ночных истребителей.
Однажды нам приказали наносить удары по станции одиночными самолетами с интервалами в полминуты. При этом предусматривалось, что зенитные средства противника будет отвлекать на себя первый вылетевший экипаж, который сделает несколько заходов на цель на небольшой высоте, сбрасывая по одной-две бомбы и обстреливая вражеские зенитные точки из пулеметов. Летный состав принял [133] эту идею, но отвлекать на себя таким образом немецкие зенитки охотников сразу не нашлось.
Первым вызвался полететь на это задание ветеран полка Игорь Сидоркин...
Возвращаясь с разведки южных берегов Крыма, я проходил недалеко от станции Джанкой. Там вдруг началась такая иллюминация, какую редко можно было увидеть. Один за другим зажглись шесть прожекторов, нащупывая самолет. На всех высотах начали рваться зенитные снаряды. К небу потянулись трассы пулеметов и скорострельных пушек, гирляндами повисли светящие авиабомбы. На станции возникли огромные столбы пламени — там рвались наши бомбы. Земля и небо кипели в огне.
Посадив самолет, я зарулил на стоянку. Пока разговаривал с техником, рядом поставил свою машину Сидоркин, вернувшийся с задания. Он вылез из кабины мокрый от пота, бледный, но бодрый.
— Здорово получилось! — сказал он, закуривая. — Прожекторы бьют прямо в глаза, вокруг лопаются снаряды, самолет дрожит, по обшивке, как град, стучат осколки, мимо кабины проносятся трассы. Если говорить откровенно, живы мы остались по чистой случайности.
В машине Сидоркина насчитали около пятидесяти пробоин, и от такого метода полк впоследствии отказался.
В течение трех дней мы большими группами и эскадрильями бомбили узлы сопротивления врага на джанкойском направлении и под Перекопом. 11 апреля 1944 года войска 4-го Украинского фронта освободили город Джанкой, 13 апреля — Симферополь. А 20 апреля мы перелетели в Крым, и все наши маршруты отныне сходились на севастопольском направлении. Днем в воздух поднимались эскадрильи, ночью — одиночные самолеты.
Советские войска уже охватили Севастополь плотной полудугой. По всей линии фронта дымилась земля, а в небе то и дело возникали короткие воздушные бои. Вражеские истребители подстерегали отставших бомбардировщиков, но наши «яки» сразу навязывали им бой, и фашистским летчикам не оставалось ничего иного, как немедленно удаляться...
Противник встретил нашу группу плотным заградительным огнем зенитной артиллерии. Я увидел, как снаряды первого залпа легли перед самолетами ведущей эскадрильи. Их люки одновременно открылись, и вниз пошли тяжелые бомбы. В это время второй залп немецкой зенитной артиллерии точно пришелся по ведущей группе, один самолет взорвался и стал падать, превратившись в огненный клубок. [134]
«Следующий залп придется по моей эскадрилье, — пронеслось в мозгу. — Надо легким отворотом сместиться вправо». Мое движение повторяют все машины эскадрильи. Следующий шквал зенитного огня обрушивается на то место, где мы только что были. Разрывы нас не достают. Мысленно хвалю себя за своевременный маневр, а ведомых, которые соскользнули вместе со мной с дороги смерти, — за сообразительность.
На аэродроме мы все погоревали о гибели экипажа лейтенанта Гребенщикова. Кто-то из группы видел, как среди обломков падающего самолета далеко внизу раскрылся купол парашюта. Но больше мы ничего не знали.
Во время подготовки самолетов к повторному вылету прибыл командир дивизии Чучев. От имени командования он поблагодарил нас за успешные боевые действия и сообщил, что Сапун-гора очищена от гитлеровцев советскими войсками.
Летный состав, воодушевленный благодарностью комдива и известием об успешных боевых действиях наших войск, рвался в бой, полный решимости оказать самую действенную помощь сражающимся.
На фронте нас ждут, и мы, не медля, по готовности, ложимся курсом на Севастополь. На маршруте к нам пристраивается восьмерка истребителей сопровождения на «кобрах». Они занимают соответствующий боевой порядок. Один из летчиков-истребителей показывает мне рукой вправо, в сторону Качи. Там клубятся на большой площади стремительные смерчи огня, дыма и пыли. Это «катюши» обрабатывали северные подступы к Севастополю.
Чем ближе наша группа продвигается к югу, тем плотнее становится под нами облачность, закрывающая землю.
Вдруг я заметил, как ведущий Горшунов резко перевел свою девятку на снижение и ушел в открывшееся перед ним «окно». Естественно, я не мог с группой нырнуть за ведущим, и моя эскадрилья оказалась над сплошной облачностью. Решаю немедленно пробиться вниз. Покачав крыльями и подав знак «Разомкнись», увеличиваю скорость, начинаю снижаться. Самолет выскакивает из облаков над морем. Высота двести метров, море затянуто дымкой, видимость плохая. А из облаков одна за другой вываливаются машины и пристраиваются к нам. Девять бомбардировщиков и четыре «кобры» занимают места в строю.
Разворачиваю на Севастополь. Ведущей девятки нигде не видно. Мы, очевидно, опоздаем с бомбометанием. [135]
Над Севастополем ясно. Набираю высоту и, чтобы сократить время, иду прямо на цель. Уже две тысячи метров. Враг открывает сильный огонь. Но мы на это не обращаем внимания.
— Вижу линию фронта. Дым от бомб первой эскадрильи, — докладывает штурман.
Сбросив бомбы, выходим из-под огня зенитной артиллерии, ложимся на обратный курс. Под нами опять сплошная облачность.
Истребители крутятся возле нас, подлетают вплотную, пилоты показывают большой палец. Все, мол, отлично.
Мы тоже довольны и ударом, и близостью истребителей. Под нами их аэродром. Показываю ведущему группы сопровождения: «Пробивайтесь вниз! До свидания». Он, покачивая крыльями, выскакивает вперед, делает бочку и, пикируя, исчезает в облаках. За ним ныряют ведомые. Спасибо, друзья!..
5 мая 1944 года полк дважды летал на боевые задания. В первом полете участвовали 18 экипажей, летевших в колонне из двух девяток. Ведущим общей группы был экипаж командира полка З. П. Горшунова, вторую девятку вел автор этих строк. Мы нанесли общий бомбовый удар по плавсредствам противника в бухте южнее Севастополя и подожгли нефтеналивное судно с горючим. Пожар разгорелся такой, что был виден на десятки километров.
В тот же день, но уже после полудня, наш полк совершил еще один вылет опять в составе 18 экипажей, которые снова возглавлял экипаж подполковника З. П. Горшунова. На этот раз мою эскадрилью вел замполит полка А. А. Козявин. Предстояло нанести бомбовый удар по гитлеровцам юго-восточнее населенного пункта Мекензиевы Горы. Однако метеорологические условия сложились так неудачно, что группа была вынуждена возвратиться с маршрута на свой аэродром, не нанеся бомбового удара по заданной цели.
По приказу штаба дивизии все 18 самолетов произвели посадку с полной бомбовой нагрузкой. Посадка прошла спокойно, без каких-либо происшествий, что свидетельствовало о высокой боевой выучке экипажей...
* * *
В общежитии у нас приятно запахло одеколоном, душистым мылом, чистым бельем. Все курили теперь только папиросы, и душистый дымок тоже создавал домашний уют — это рабочие Симферопольской папиросной фабрики прислали [136] в подарок огромную, красиво оформленную коробку папирос с надписью: «Освободителям Крыма».
Гитлеровцы, прижатые к морю у Севастополя и на Херсонесском мысу, продолжали сопротивляться с отчаянием обреченных. Они бросали на Крым авиацию дальнего действия, подвергая бомбовым ударам Геническ, Джанкой, Симферополь. Но дни и часы блокированных под Севастополем немецко-фашистских войск были сочтены. Понимая это, их командование пыталось вывозить самолетами и кораблями высших военачальников, а также штабы. А наши истребители сбивали фашистские самолеты, бомбардировщики топили корабли и подводные лодки. Тяжелые транспортные машины Ю-52 и большинство вражеских кораблей бесславно заканчивали свое существование на дне Черного моря...
9 мая 1944 года Москва салютовала доблестным войскам 4-го Украинского фронта, а также кораблям Черноморского флота, освободившим Севастополь. С врагом на юге покончено, и нашей радости не было границ. Мы обнимались, пели, вспоминали тех, кому не суждено было увидеть весну 1944 года, ставшую предвестником нашей близкой победы.
В тот же день, после полудня, от нас вызвали два самолета для действий по немецким кораблям.
Вылетели Бочин и Китаев. Не найдя кораблей, они отбомбились по Херсонесскому аэродрому. Штурм последнего укрепления фашистов на Херсонесе затягивался. Бомбовый удар по обороне их войск было приказано нанести еще двумя девятками. Вести группу поручили мне. Задача была сложной: впервые за время войны ночной удар наносился в плотном строю.
Летчиков для этого полета отобрали с особой тщательностью. Это были экипажи Склярова, Панченко, Китаева, Сидоркина, Бочина, Хомченко... Вторую эскадрилью возглавил заместитель командира полка майор Иванов, с ним был штурман капитан Ильяшенко и начальник связи полка, уже лейтенант, Лазуренко. В моем экипаже кроме штурмана а радиста находился полковник — преподаватель тактики Военно-воздушной академии, стажировавшийся в нашей части. Стажеры из академии охотно летали на задания днем и ночью и проявляли себя храбрыми воинами.
Вылет и сбор группы в вечерних сумерках прошли хорошо. Машины быстро занимали свои места, ориентируясь по строевым огням, которые светились на каждом самолете сверху, образуя букву «Т». Через десять минут мы легли курсом на юг, к побережью Черного моря. Наступила полная [137] темнота. Впереди, далеко в просторах скрытого от глаз моря, вспыхивали молнии.
На приборной доске мигнул огонек — разворот вправо когда неожиданно послышался голос Трифонова.
— Командир, получил радиограмму: «Возвращайтесь. Боевые действия окончились».
— Запроси, кто передал, и потребуй пароль.
«Очевидно, наши прорвались к морю и разгромили фашистов и в Херсонесе», — подумал я.
И опять голос радиста:
— Непрерывно повторяют: «Возвращайтесь!» Ни пароля, ни места не дают.
Переговорив со штурманом Усачевым, решаем идти на цель. На подходе к Херсонесскому мысу мы увидели, что там идет бой. Трассы пулеметного огня метались, рассекая ночь, вспыхивали разрывы снарядов и мин. К небу взлетали разноцветные ракеты, дым застилал поле боя. Сбросили восемнадцать тонн бомб на позиции гитлеровцев и на аэродром. Там возникли огромные очаги пожаров.
Включаю бортовые огни и доворачиваю на Севастополь. Все 18 самолетов освещаются сигнальными огнями, и наша колонна проходит почти торжественным парадным строем над городом морской славы России.
На своем аэродроме узнаю: ни одна из наших радиостанций не передавала приказа о возвращении группы.
Наши войска разгромили херсонесскую группировку врага и вышли к побережью Черного моря по всей линии фронта. Во всех городах, поселках и селах Крыма состоялись митинги, торжественные собрания, встречи трудящихся с воинами Красной Армии. Рабочие и крестьяне заверяли нас, что без промедления приступят к восстановлению разрушенного хозяйства и в кратчайшие сроки добьются довоенного уровня производства, что всеми силами и средствами будут помогать фронту до полной победы над ненавистным врагом...
За время Крымской операции наш 10-й гвардейский Киевский бомбардировочный полк получил четыре благодарности Верховного Главнокомандующего, а за освобождение Севастополя был награжден орденом Красного Знамени. По этому случаю командование устроило полковой праздник, на который были приглашены местные партийные и советские руководители, рабочие, колхозники, учителя, пионеры. Прибыли и наши верные друзья — истребители.
Под открытым небом на просторной зеленой поляне собрались однополчане и гости. На высоких шестах трепетали [138] флаги родов войск. На большом столе, покрытом красной бархатной скатертью, сверкали в коробочках ордена и медали. Было солнечно, торжественно, радостно.
Вдруг со стороны Керчи появился странный самолет, похожий на стрекозу. Мы с любопытством глядели на этого нежданного гостя. А он, сделав небольшой круг, приземлился на нашей площадке. На самолете прибыли прославленные летчики-истребители — дважды Герой Советского Союза майор Алелюхин и Герой Советского Союза майор Лавриненков. Полк встретил их бурными аплодисментами.
Началось вручение наград. Ветераны полка Сидоркин, Скляров, Панченко, Чудненко, Бочин, Трифонов, Усачев, Ильяшенко, Лазуренко, Вишневский, а также многие молодые авиаторы, отличившиеся в боях, были награждены орденами и медалями...
После короткого отдыха наш полк занялся подготовкой к дальнему перелету.
Однажды, выбрав свободное время, мы небольшой группой поехали посмотреть легендарный Севастополь. Проезжая по улицам разрушенного города, увидели госпиталь и решили навестить раненых, хотя и незнакомых бойцов.
К нашей огромной радости, узнали, что летчик Алексей Алексеевич Гребенщиков, сбитый над Сапун-горой, находится здесь на излечении. Мы навестили Алексея Алексеевича. Сильно обгоревший, он почти не мог говорить, но врачи заверили нас, что дело пошло на поправку. Из скупых слов раненого мы поняли, что пережил наш товарищ. После падения с парашютом Гребенщикова в бессознательном состоянии подобрали немецкие солдаты и доставили в свой госпиталь. Раненым и обожженным летчиком заинтересовалась гитлеровская разведка. Однако через несколько дней он бесследно исчез из палаты: Гребенщикова, как и многих других, вызволили из беды мужественные партизаны и подпольщики.
Побывали мы и на Херсонесском мысу. Здесь было пустынно и тихо. Все изрыто воронками, траншеями, земляными укреплениями. Почти у самой оконечности мыса находилась площадка аэродрома, заваленная выведенными из строя самолетами. В бухте дымил разбитый пассажирский пароход, на котором пытались спастись бегством фашистские офицеры.
Впереди слева и справа открывались просторы Черного моря. Здесь шел смертный бой, и мы внесли в него свой вклад. На обратном пути, уже к вечеру, остановились на окраине Симферополя, чтобы подкрепиться. Невдалеке находился [139] лагерь немецких военнопленных. Их было много, и каждый занимался своим делом. Не требовалось никаких пояснений, чтобы понять — пленные довольны, что остались живы.
Мимо нас прошла цепочка человек в двадцать. Их сопровождали два советских солдата. В руках пленных были ведра, чайники, фляги. Наверное, шли к источнику за водой. Поравнявшись с нами, маленький немецкий солдат в очках, шедший последним, обратился к конвоиру. Тот махнул рукой. Солдат подбежал к нам и, показывая на небольшой блестящий чайник, сказал: «Клеб». У нас оставалось немного хлеба, и кто-то протянул его пленному. Он положил чайник около нас и бросился бежать, догоняя своих.
— Возьми чайник! — закричали ребята. Но немец не остановился.
Перебрасываясь репликами, мы стали рассматривать чайник.
— Василий Сергеевич, посмотри, что на внутренней стороне дужки написано!
— «Ефр. Серг. Иван.», — удивленно прочитал Бочин.
— Не может быть! — вырвалось у меня. — Это же мой отец.
Все обступили нас, разглядывая слова, нацарапанные острым предметом.
Я, конечно, не мог с достоверностью сказать, что надпись сделал отец, но совпадали точно фамилия, имя, отчество.
Историю с чайником мы рассказали коменданту, и немец в очках вскоре стоял передо мной и испуганно оглядывался по сторонам.
На ломаном русском языке он пояснил, что есть на Украине речка Рось, а возле нее село Володарка. Там, у дороги, и повстречал старичка с чайником. Немец дал ему хлеба и соли, а тот в благодарность протянул чайник.
Нам было интересно послушать пленного. Его часть, как сказалось, нередко располагалась в тех населенных пунктах, которые бомбили летчики нашего полка.
Крепко пострадала дивизия, в которой служил пленный, в результате бомбежек под Бродами, западнее Житомира и в районе Фастова. Несколько раз она пополнялась людьми и техникой. А из боев под Киевом вышла такой ослабленной, что ее отвели в тыл на переформирование. Воспользовавшись благоприятной ситуацией, наш случайный знакомый пристроился в комендатуре Володарки, где и пробыл до августа сорок третьего года. [140]
— А потом меня отправили в Крым, — грустно произнес он.
На Херсонесе в штаб, при котором служил пленный, попала авиационная бомба и разрушила его дотла. Уцелевшее начальство вывезли на самолете, а ему эвакуироваться не удалось. Пассажирское судно, стоявшее в бухте, сгорело в результате бомбежки. Спасаясь от бомб, солдат забился в какую-то щель на берегу, из которой его вытащили наши бойцы.
История пленного немца показалась мне довольно правдивой. Я раздобыл еще полбуханки хлеба и отдал ему. А чайник оставил себе и не расставался о ним до конца войны...
Покачиваясь в полудреме в кузове машины, я думал о невероятном стечении обстоятельств. И надо же быть такому! Вражеский пленный принес мне весть об отце. Он находится в районе Володарки. Там живут родители жены. Выходит, в Володарке живет и жена с дочерью.
На земле Белоруссии
Утром 27 мая наш 10-й гвардейский Киевский Краснознаменный полк прощался с полевым аэродромом «Молодая гвардия». В первой шеренге стояли летчики — ветераны полка Панченко, Бочин, Сидоркин, Китаев, Цегельный, Каратеев, Горелов, Сиволдаев, Лебедев, Калашников, Хомченко, Фефелов, Козляев, Бовтручук, Усачев, Немцов... За ними — штурманы, затем стрелки-радисты, техники самолетов, механики, мотористы и работники спецслужб, на правом фланге — группа управления. Подремонтированные, залатанные, подкрашенные машины, выстроенные в линейку, выглядели внушительно, по-боевому, под стать людям. Все были готовы снова идти в бой и нести свою трудную службу до полной победы.
Шла торжественная перекличка. Минутой молчания почтили память погибших товарищей, а затем разошлись по самолетам.
Во второй половине мая некоторые части из состава 8-й воздушной армии, в том числе и наш полк, передислоцировались на север. Красная Армия готовилась к решительным боям за полное изгнание с советской земли немецко-фашистских захватчиков.
На маршруте мы встретились с облачностью и весенним дождем, но, несмотря на это, местность легко просматривалась [141] с высоты, видимость была отличная. Широко расстилались зеленеющие посевы, проплывали городки, поселки, озера, во все стороны разбегались дороги, белели дымки паровозов. Вдалеке блеснули воды Сиваша. Под нами были окопы, траншеи, земля, изрытая бомбами и снарядами, перепоясанная колючей проволокой, изрезанная рвами и надолбами.
Промежуточную остановку сделали на окраине большого города. Здесь оказался просторный аэродром, уже приведенный в порядок. О войне напоминали только изредка раздававшиеся тяжелые взрывы. Это в глухих оврагах подрывали свезенные туда немецкие бомбы, снаряды и мины...
Первым нашим аэродромом в Белоруссии стало в начале июня поле близ Шаталово. За годы оккупации противник создал на территории Белоруссии мощную оборонительную систему, насыщенную огневыми средствами, приспособленными к местности. Здесь оборонялось около миллиона гитлеровцев, оснащенных самой различной боевой техникой огромной сложности. Святая задача освобождения Белоруссии требовала от советских воинов большого напряжения духовных и физических сил.
3-й Белорусский фронт, которым командовал генерал-полковник И. Д. Черняховский, поддерживала наша, теперь уже 1-я воздушная армия, возглавляемая генерал-лейтенантом авиации Т. Т. Хрюкиным.
В период подготовки к наступлению на совещании командиров корпусов, дивизий и начальников политотделов соединений 1-й воздушной армии выступил представитель Ставки — Маршал Советского Союза А. М. Василевский. «Задача авиации, — сказал он, — сделать все, чтобы успешно помочь нашей пехоте прорвать оборонительный рубеж противника, изолировать поле боя от вражеских истребителей и бомбардировщиков, надежно прикрыть наземные войска, особенно подвижные... Удары с воздуха должны быть эффективными, действия... — дерзкими, направленными на то, чтобы искать и уничтожать врага»{2}.
Еще до начала операций наземных войск мы действовали по железным дорогам, аэродромам, укрепленным узлам обороны и по артиллерии, а также вели разведку на большую глубину. Особенно сильному бомбовому удару подвергся 21 и 22 июня укрепленный район и железнодорожная станция Богушевск. Когда в ночь на 22-е я со своим экипажем подходил к Богушевску, окрестности его были охвачены огнем. [142] На железнодорожную станцию и укрепленный район сыпались бомбы, круша подвижные составы, склады, подъездные пути. В лучах прожекторов то и дело появлялись бомбардировщики, и вокруг них мгновенно возникали багровые вспышки разрывов.
Мы тоже прошли по этой огненной тропе, точно сбросив бомбы на важные объекты. Полк работал с полным напряжением. К утру противник был так основательно засыпан бомбами и исхлестан смертельным ливнем пулеметного огня, что при нашем появлении почти не стрелял. И все же за ночь боевых действий мы недосчитались двух экипажей. Об одном уже знали — он сел на вынужденную с подбитым мотором, о другом никаких сведений пока не имели. Многие самолеты в ту ночь получили значительные повреждения. Но летчики были настроены по-боевому, все буквально рвались в бой, зная, что час расплаты с врагом был близок.
В ночь на 23 июня, а также днем мы работали в интересах наземных войск, перешедших в наступление. Командование и представитель Ставки высоко оценивали действия авиации 1-й воздушной армии, которая участвовала в прорыве вражеской обороны.
26 июня Москва салютовала освободителям Витебска, а через три дня — Бобруйска. Настроение у летчиков было приподнятым, бодрым. В те дни я и написал письмо в райвоенкомат Володарского района Киевской области с просьбой сообщить, проживает ли в настоящее время там моя семья. Тревога за близких ни на минуту не покидала меня.
Советские наземные войска начали штурм укрепленных позиций противника на подступах к Орше. Авиация громила передний край обороны фашистов, подвергала бомбардировке аэродромы Минска, Болбасово, Борисова. В конце июня немецко-фашистские захватчики были выбиты из Орши, а мы вскоре перелетели на один из аэродромов, которые бомбили всего три дня назад. И наконец 3 июля алые стяги взвились над столицей Белоруссии — Минском. Нам же снова пришлось догонять ушедшие вперед советские части и соединения. На сей раз мы приземлились юго-восточнее Минска.
На всех аэродромах, которые мы осваивали вслед за наземными войсками, на стоянках и в поле осталось много обгоревших и исправных самолетов. Нужные нам площадки и взлетные полосы занимали тракторы, прицепы, цистерны, груды бомб, мин, снарядов и различные пиротехнические средства. В коридорах нижних этажей служебных и жилых [143] зданий тоже лежали бомбы, предназначавшиеся гитлеровцами для разрушения помещений.
А над Белоруссией плыли короткие летние ночи. В этот период суток ночные истребители обеих сторон проявляли особую активность. В районе Минска советские истребители сбили около 30 немецких самолетов. Но и наши ночные бомбардировщики подвергались нападению «мессершмиттов». Мы вели глубокую воздушную разведку вплоть до Кенигсберга. Однажды, когда мой экипаж под утро возвращался на аэродром, мы были атакованы в воздухе в районе Вильнюса. Петр Трифонов и стрелок люкового пулемета точными очередями отгоняли преследователя. Так продолжалось минут пять. Но вот вражеский истребитель пошел в решительную атаку. Его пули пронеслись над кабиной и моторами нашей машины. Трифонов воспользовался этим моментом и с короткой дистанции выпустил несколько очередей. Истребитель задымил и потянул со снижением на запад...
Спустя два дня из разведки не вернулся экипаж Бориса Сиволдаева. А над нашим аэродромом в воздушном бою был подожжен учебно-тренировочный самолет, пилотируемый Иваном Скляровым, который тренировал летчика-новичка. Несмотря на серьезное ранение, Скляров сумел посадить горящую машину.
Сиволдаев повстречался с фашистскими истребителями за Минском. Три-четыре минуты длился бой, но «Бостон» получил серьезные повреждения. Летчик вынужден был посадить его на неровной лесной поляне. Штурман Волжин и стрелок-радист были ранены. Не успел летчик оказать помощь товарищам, как их окружили вооруженные люди. Это были бесстрашные белорусские партизаны. Они сообщили, что невдалеке упал подбитый фашистский истребитель.
Через несколько дней Сиволдаев в сопровождении партизанских разведчиков перешел линию фронта. Ему даже выдали документы, подтверждавшие результаты воздушного боя. А раненые штурман и стрелок-радист остались на попечении партизан...
До 13 июля мы летали в составе дивизии, полком и поодиночке в район боев под Вильнюсом. В дальнейшем помогали наземным войскам, которые форсировали Неман. Помимо этого, наш полк не прекращал наносить ощутимые удары по крупным железнодорожным станциям и аэродромам в глубоком тылу противника. Теперь мы летали на территорию Восточной Пруссии. Работа была напряженная, трудная, люди уставали. Но мы держались бодро и за короткую ночь по три-четыре раза поднимались в воздух. [144]
К концу июля войска 3-го Белорусского фронта уже громили врага на подступах к Каунасу. Соседи слева и справа тоже стремительно продвигались вперед, освобождая Западную Украину, польские земли, Прибалтийские советские республики.
На фронте в две тысячи километров Красная Армия накатывалась на врага неотразимым валом, сметая его «долговременную, особо прочную, непреодолимую» оборону, окружая и захватывая в плен десятки и сотни тысяч немецких солдат и офицеров. Гитлеровская военная машина трещала по всем швам и превращалась в прах под ударами советских войск.
В ходе наступательной операции советская авиация совершила 153 тысячи самолето-вылетов. Только в боях с 1 июня по 31 августа 1944 года гитлеровская Германия потеряла на советско-германском фронте 11 074 самолета...
Советские войска вступили в Восточную Пруссию — логово германского милитаризма.
За доблесть, мужество и героизм, проявленные в боях в период освобождения Белоруссии, и за активное участие в освобождении города Лида наш полк был награжден орденом Суворова II степени.
В один из теплых июльских дней погода вдруг резко ухудшилась, заморосил дождь. Полеты были отменены, и мы в свободное время решили навести порядок в общежитии. Только принялись за дела, в комнату ввалился Трифонов с толстой пачкой писем, долго догонявших нас. Добрая половина из них была адресована мне. Такой почты я еще никогда не получал.
— Тридцать пять посланий, — воскликнул Петр. — Из Сталинграда, от твоих земляков.
Да, сталинградцы отвечали на мое письмо, в котором я сообщил, что мы дошли до логова фашистского зверя и что конец его близок. В своих ответах мои земляки благодарила воинов за ратные подвиги, желали нам боевых успехов и заверяли, что не пожалеют сил, чтобы обеспечить фронт всем необходимым.
Перебирая письма, я вдруг увидел знакомый почерк жены. Обратный адрес подтвердил мои предположения, что семья находится на Украине. Жена рассказывала, что она с дочкой и свекром живут в ее родном селе. Из письма я понял, что живется им трудно, хотя об этом не говорилось ни слова. На следующий день отправил семье деньги по аттестату. Жена и отец получили все то, что им причиталось. [145]
Упоминаю об этом для того, чтобы подчеркнуть четкость работы финансовой службы в то сложное, полное неожиданностей военное время...
* * *
В августе в этих краях уже напомнила о себе осень. Однажды в середине ночи мы с Усачевым и Трифоновым готовились ко второму вылету на Инстербург. Надевая парашют и поглядывая на горизонт, я обратил внимание, что луч приводного прожектора преломляется как-то странно, образуя над землей прямой угол.
— Это облачность, командир, — заметил Усачев.
— Это не облачность. Надвигается туман, — уточнил я и снял парашют. — Подождите, пойду доложу командиру полка.
Горшунов выслушал и сухо сказал:
— Вылетайте, капитан. Погода хорошая, мне об этом докладывают экипажи, возвращающиеся с задания.
— Задание я выполню. Но советую никого больше не выпускать в воздух. Через двадцать минут аэродром закроет туман...
По опыту я хорошо знал, сколь коварны ночные туманы, и не мог ошибиться. Но командир не изменил своего решения. Взлетая, я уже где-то в середине полосы потерял направляющие огни и горизонт. Туман густой волной захлестнул самолет. В который раз за войну приходилось на ощупь действовать рулями. Вот в последний раз чиркнули по земле колеса, и стрелка вариометра показала подъем. Все пилотажные приборы — авиагоризонт, высотомер, гирокомпас, указатель скорости «Пионер» работали отлично, и на высоте триста метров мы вышли из облачности.
— Подкузьмил нас туман, — констатировал Усачев. — Держи в сторону фронта. Сесть все равно не сядем, а к утру будет виднее.
За передовой стояла ясная погода. Мы удачно отбомбились по заданной цели. Переведя машину в пологое снижение, я ударил из пулеметов по яркому глазу немецкого прожектора. Мощные струи трассирующих пуль вонзились в блестящую, плотную массу света и мгновенно погасили его. Немного довернув машину, я заодно стал стрелять по автоматической пушке, которая вела по нас непрерывный огонь. Наступила тишина. Набираю высоту. Светает. Внизу под облачностью проглядывается земля.
Дома над аэродромом сплошная низкая облачность. Вижу, что на кругу собралось пять самолетов, а сесть нельзя. [146]
Луч зенитного прожектора подняли вверх. От него на верхней кромке облаков образовалось круглое светлое пятно. Одна из машин пошла вниз, планируя на посадку. Это был Скляров. Подумалось: «Опасно, лучше подождать».
Недалеко от аэродрома появились «окна». Я решил, что в крайнем случае можно сесть в поле на фюзеляж. Делая очередной круг, заметил край бетонной полосы, обратный посадочному курсу. Иду в это «окно». Снижаюсь по приборам. Самолет выходит из тумана на высоте двадцати метров. На земле еще темно. Подбираю штурвал, машина мягко катит по траве.
Через некоторое время, используя «окна» в облаках, сели и остальные экипажи...
* * *
Двое суток всем полком мы ищем моторизованную колонну врага, которая направляется к фронту, но по временам вдруг бесследно исчезает. Это беспокоит командование. Моторизованная дивизия не шутка, навалится всей силой, прорвется на слабом участке обороны и пошла гулять по тылам.
Вылетев в начале ночи, мы прошлись по заданному району, но ничего особенного не обнаружили. Возвратились и другие экипажи. Они тоже не нашли таинственной колонны. Командир полка снова поставил задачу всем экипажам продолжать поиск, а мне предложил пойти поспать часа три, с тем чтобы утром я мог заняться учебными полетами с молодыми летчиками.
С восходом солнца над аэродромом бодро зарокотали моторы учебных и боевых самолетов. Тренировались и готовились к предстоявшим боям молодые кадры. Я руководил полетами, следя за действиями летчиков на земле и в воздухе, но при этом из головы не выходил экипаж Фефелова, участвовавший в разведывательных полетах ночью и не вернувшийся с задания. Все летчики докладывали, что противник не оказывал серьезного сопротивления в полосе наших действий. Что же случилось с Фефеловым?
А время шло. В гул боевых самолетов вплелся внезапно стрекот По-2. Он приземлился рядом с «Т» и с выключенным мотором лихо подкатил ко мне. Из задней кабины вышел человек среднего роста в черном кожаном пальто. Сняв шлем, он вытер платком лицо и тряхнул кудрявой шевелюрой. В жестах и манере прибывшего было что-то знакомое. А когда он подошел ближе, я без труда узнал своего хорошего товарища, с которым когда-то жил в одной комнате в [147] гарнизоне. Это был Петр Вязовкин, штурман. Лет пять мы не виделись и теперь с любопытством разглядывали друг друга, как бы безмолвно спрашивая: «А ну-ка, что из тебя вышло путевого за это время?»
— Товарищ майор! — бойко начал Вязовкин. — Разрешите представиться? Заместитель командира полка по политчасти майор Вязовкин Петр Андреевич!
Мы обнялись.
— Я к вам по серьезному делу. У вас служит лейтенант Фефелов?
— Да. Он, очевидно, сел на вашем аэродроме? — обрадовался я.
— Сел, — нахмурился Вязовкин. — Но самолет разбит. Экипаж, если говорить честно, не сел, а упал. Летчик, штурман и радист серьезно ранены, их отправили в госпиталь. Но перед тем ребята рассказали прелюбопытную вещь. В одном из районов, в лесу, на территории, еще занятой гитлеровцами, экипаж Фефелова заметил огоньки. Снизились на высоту двести метров и начали кружить. Но враг притаился. Наши сбросили несколько бомб. Однако фашисты молчали. Чтобы как-то вызвать огонь на себя, Фефелов включил навигационные огни, повел машину к лесу и сбросил бомбы. Противник понял, что раскрыт. Он сделал все, чтобы уничтожить советский самолет, и обрушил на него мощный огонь. Вот как, оказывается, было дело... Мы уже доложили об этом случае по инстанции, а теперь пойду поставлю в известность ваше командование...
Вскоре выяснилось, что экипаж Фефелова обнаружил именно то соединение гитлеровцев, которое мы так долго искали.
* * *
Осенью 1944 года в результате ожесточенных сражений Красная Армия изгнала ненавистного врага с нашей земли и разгромила его основные силы. В это время из войны вышли Румыния, Финляндия, Болгария, ставшие затем нашими союзниками в борьбе с фашизмом.
Советские войска, проведя в короткий срок ряд блестящих наступательных операций, в том числе и Белорусскую{3}, стояли уже перед Восточной Пруссией, на Висле и в Карпатах. [148]
Летчики нашего 10-го гвардейского Киевского Краснознаменного, ордена Суворова II степени полка продолжали сражаться в небе храбро и умело. Успешное продвижение советских войск за пределами нашей Родины и близость окончания войны придавали нам новые силы и бодрость. Мысленно мы уже видели себя в поверженном Берлине. Но, как иногда бывает в жизни, не все сложилось так, как думалось. Меня вскоре откомандировали в Военно-воздушную академию, а полк в конце апреля, после завершения Восточно-Прусской операции{4}, был выведен в резерв и начал переучиваться на самолеты Ту-2.
Академия. Служба. Встречи с прошлым
Готовясь к отъезду в академию, я быстро собрал свои пожитки, для которых оказался достаточным совсем небольшой чемодан, распрощался с боевыми соратниками, с кем сроднился за эти годы, как с братьями, и которые стали для меня второй семьей, и, еще не веря в то, что расстаемся надолго, пошел к самолету Ли-2, на котором в тот день в сопровождении истребителей прилетели какие-то иностранцы.
По лесенке поднялся в самолет, теперь уже в качестве пассажира. Дверь захлопнули. Я услышал, как закрутились винты. Потом осмотрелся. Я был в салоне один. Истребители сопровождения тоже запустили моторы. Как только тронулся наш Ли-2 и, набирая скорость, пошел на взлет, вслед за ним в воздух взмыли быстрые «яки».
Прощайте, дорогие боевые друзья! Успехов вам на предстоящем пути!
Под крылом Ли-2 проплывали леса и реки освобожденной многострадальной, столь милой сердцу Белоруссии.
А сколько земли проплыло под крыльями моих боевых самолетов за годы войны! Голубые просторы, зеленые поля, синие горизонты Украины, заснеженные дали Подмосковья, горящая, обожженная земля Сталинграда, необозримые калмыцкие ковыльные степи, равнины Крыма и Таврии, Донбасс, Прибалтика и даже Пруссия.
Как ни грустно было прощаться с фронтовой семьей и привычным фронтовым бытом, я был рад предстоявшей учебе [149] в академии: война кончается, а для защиты Отечества в будущем потребуются образованные офицеры, способные освоить не только новейшую боевую технику; но и оперативное искусство. Об академии раньше я не мог и мечтать. Теперь, чем больше вдумывался в происшедшие в моей жизни перемены, тем ответственнее казалась предстоявшая мне учеба.
Сдали предварительные зачеты по русскому языку, географии, математике. И все, кто прибыл с фронта, были зачислены в Военно-воздушную академию. Здоровые, сильные ребята, каждому из которых не было тридцати, давно отвыкшие от парт и столов, в тесном помещении аудитория даже сами себе казались громоздкими и неповоротливыми: нам не хватало простора аэродромов.
Зима прошла в напряженной учебе. А на фронтах еще шли ожесточенные бои. День наш начинался с осмотра обзорной карты, утыканной красными флажками, которые все тесней окружали логово фашистского зверя.
* * *
После сдачи экзаменов по общеобразовательной подготовке нам предоставили короткие каникулы. Это совпало с великим событием: советские войска, овладев столицей фашистской Германии — Берлином, принудили врага к полной и безоговорочной капитуляции. Великий час настал! Война закончилась полной победой советского народа над фашизмом!
С этой радостной вестью мы и разъехались по домам. Я отправился к своей семье. Поездом добрался до Белой Церкви, а оттуда на попутной полуторке — в сторону Володарки. На околице села шофер остановил машину:
— Приехали, слезайте.
Спрыгнув на землю, осмотрелся. Сюда я попал впервые. Невдалеке на зеленой лужайке разговаривали две женщины. Рядом рвала цветы маленькая белоголовая девочка.
Ба! Да это же Надя и ее подруга Тоня. А девчушка — моя дочка Лиля.
Бегу к ним! Мы обнимаемся, что-то говорим друг другу, смеемся и плачем.
Вскоре увидел и отца. Он сильно постарел, но держался молодцом.
Места вокруг были красивы. Западную околицу села омывала тихая Рось, с севера подступал старый сосновый бор, тянувшийся вправо и влево по берегам реки. На востоке лежали обширные степи. [150]
Мы с Надей подолгу гуляли в лесу, собирали ранние грибы. Она показала развалившуюся хату пасечника, где ее ранили каратели во время облавы на партизан. По утрам все вместе ловили с лодки окуней. Отпуск пролетел быстро...
Вернувшись в академию, мы узнали, что в июне в Москве состоится Парад Победы.
Нашей академии, как и другим, предстояло принять участие в этом торжестве. Перед парадом мы много тренировались на аэродроме. А 24 июня отлично прошли по Красной площади торжественным маршем, запомнив этот день на всю жизнь...
* * *
Зимой сорок седьмого года, когда мы уже учились на основном курсе академии, меня однажды пригласили к скульптору. Отыскав студию, я представился скромно одетому человеку, невысокого роста, лет сорока пяти, с внимательным задумчивым взглядом.
— Томский, — протянул он небольшую сильную руку и, оглядев меня, добавил: — Николай Васильевич.
Рука у мастера была холодной, да и в самой студии было холодно, сыровато. Во время разговора изо рта шел пар.
— Как же вы работаете при такой температуре? — спросил я, оглядывая длинное помещение, заставленное глиняными фигурами и бюстами.
— Ничего не поделаешь, — мягко улыбнулся Томский. — Топят слабовато, пока еще не хватает топлива... Ну что ж, приступим. Снимите шинель, садитесь вот сюда.
Я сидел в кителе при всех орденах и знаках различия в позе, которую подсказал скульптор, а он потянулся к зеленоватой сырой глине, внимательно рассматривая меня. Работал Томский вдохновенно, глаза его светились страстью творчества.
Спустя два часа Николай Васильевич устало сказал:
— На сегодня хватит! Благодарю за долготерпение. Приходите снова по моему приглашению.
Дней через десять, явившись в студию, я застал скульптора за работой. Перед ним сидел широкоплечий, с энергичным, красивым лицом полковник, с двумя Звездами Героя и при орденах. По характерному прищуру карих глаз, по черным аккуратным усикам и волнистым густым волосам я сразу узнал прославленного истребителя Ленинградского фронта Петра Афанасьевича Покрышева, а он улыбнулся мне, как давнему знакомому. [151]
Через месяц Николай Васильевич сказал:
— Теперь вы свободны...
Той же зимой один из преподавателей уступил мне комнату в своей квартире. Приехала жена с дочерью, и мы зажили всей семьей. Под Новый, 1948 год, когда на улице мела метель и деревья потрескивали от мороза, к нам неожиданно ввалился засыпанный снегом старший лейтенант, командир звена из бывшего нашего полка Борис Сиволдаев.
— Откуда? — обнял я друга.
— Из самого Порт-Артура. Еду в отпуск. Ждите и других гостей. Переучились мы на Ту-2, — рассказывал за новогодним столом Сиволдаев, — и держали рубежи на дальневосточной границе против Квантунской армии японцев. Надо было покончить с милитаристами в Азии и с кровопролитной войной. В составе 12-й воздушной армии маршала авиации Худякова и войск Забайкальского фронта громили укрепленные районы японской обороны. Преодолели перевалы Большого Хингана и заняли долину Мукдена. Японцы капитулировали, но бои продолжали. Наши разведчики летали в глубокий тыл врага с посадкой на его аэродромах.
Так открылась передо мной еще одна славная страница истории нашего 10-го гвардейского Киевского Краснознаменного, ордена Суворова II степени авиационного полка.
* * *
Мне выпала честь вместе с другими товарищами получать в Кремле орден Красного Знамени, которым была награждена наша Военно-воздушная академия; Делегацию возглавил генерал А. С. Колесов. Иван Кожедуб и я были при нем ассистентами.
До этого я не бывал в Кремле. Не могу передать, какое радостное волнение испытал в тот день. Сколько приходило сюда прославленных сыновей и дочерей нашей Родины! Сколько имен тех, кто отличился в труде и в боях, прозвучало под сводами этих величественных древних залов! Скольким фронтовикам вручал здесь награды и в дни войны наш Всесоюзный староста М. И. Калинин. И не случайно, наверное, именно он, говоря о защите нашего государства в день празднования двадцатипятилетия ВЛКСМ, подчеркнул: «Военно-Воздушный Флот был создан нами буквально заново. И здесь комсомол сыграл не меньшую, а, пожалуй, еще большую роль, чем в Военно-Морском Флоте. Усилия народа и, в частности, комсомола дали богатые плоды в настоящей войне. Имена воспитанников комсомола — дважды Героев [152] Советского Союза Александра Молодчего, Бориса Сафонова, Дмитрия Глинки, Василия Зайцева, Михаила Бондаренко, Василия Ефремова; Героев Советского Союза Николая Гастелло, Виктора Талалихина, Петра Харитонова, Степана Здоровцева, Михаила Жукова и многих других послужат будущим поколениям летчиков образцом беззаветного служения Родине и высокого летного мастерства»{5}.
В Кремле все было красиво и значительно, все дышало историей и величием нашего времени, нашего народа.
У небольшой трибуны, освещаемой мягким светом, как-то незаметно появился улыбающийся Михаил Иванович Калинин со своими помощниками. Первым был зачитан Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Академии ВВС орденом Красного Знамени.
Вручив орден, Калинин пожал нам руки. Я глядел на Михаила Ивановича, и мне казалось, что знал его с самого детства. А он смотрел на каждого из нас так ласково, как смотрит отец на любимого сына. Таким и запомнился мне навсегда М. И. Калинин.
* * *
Зимой сорок восьмого года я получил официальное приглашение из Сталинграда приехать на торжественное собрание, посвященное пятилетию разгрома немецко-фашистских оккупантов в Сталинградской битве. При этом сообщалось, что на проспекте Ленина, в сквере рядом с площадью Павших борцов, установлен мой бронзовый бюст. Открытие его было приурочено к пятой годовщине нашей победы в великой битве на Волге.
Я не сомневался, что командование отпустит меня на праздник, хотя и шли экзамены.
31 января мы с женой приехали в Сталинград. Город в основном уже залечил страшные раны войны и продолжал строиться.
Мы постояли у памятника героям сталинградского пролетариата на площади Павших борцов, прошли по набережной, повернули к Ворошиловскому поселку.
Три дня в родном городе пролетели быстро — событий было много. Присутствовали на митинге по случаю открытия моего бронзового бюста, на торжественном собрании, где я впервые встретился с генералом Родимцевым, чья 13-я дивизия отличилась в дни Сталинградской битвы; побывали [153] на заводе имени Куйбышева, где в юные годы я работал электриком. На заводе встретился со своими друзьями-электромонтерами, со старыми рабочими, с руководителями предприятия и, к моей большой радости, с моей первой учительницей Таисией Петровной Чаловой.
После торжеств, церемоний, выступлений и встреч собрались у моего отца. В сорок седьмом он вернулся сюда с Украины и, как старый рабочий лесозавода, получил пенсию. Дали ему небольшую квартирку в домике-времянке. Там было тепло и приятно: пахло свежей стружкой, ели душистую картошку с дольками репчатого лука и квашеной капустой. Мне казалось, что снова вернулся в детство, только не хватало мамы...
Во время нашей скромной трапезы в комнату вошел человек в теплом полушубке и валенках.
— Я к вам, Василий Сергеевич.
— Раздевайтесь, прошу к столу.
— Нет-нет. Я от генерала Родимцева. — И протянул записку.
«Если согласны, полетим завтра в Москву. Родимцев», — прочитал я.
Предложение генерала принял с благодарностью, мне ведь тоже надо было торопиться в Москву.
* * *
Весной летчики-истребители нашего набора впервые летали, во время летней практики на реактивном самолете. Мой друг Григорий Родионович Павлов после полетов рассказывал:
— Самолет очень хороший, скорость за восемьсот километров, легкий, маневренный, простой на взлете и посадке. Но это переходной самолет. Есть уже серийные боевые машины, намного превосходящие его.
Вскоре все мы собрались на аэродроме посмотреть полеты боевого реактивного самолета. Машина была небольшой, белой, на трехколесном шасси, с короткими крыльями и круглым, как труба, фюзеляжем. Летчик-испытатель, с улыбкой посматривая на нас, обошел вокруг машины, похлопал ладонью по звенящему металлу и поднялся по стремянке в кабину. Раздалось гудение стартера. Когда он в достаточной степени раскрутил ротор турбины, был включен двигатель, и тот выбросил пламя. Постепенно увеличивая обороты, летчик довел их до максимальных. Двигатель взревел со страшной силой. Самолет вибрировал, готовый перепрыгнуть через тормозные колодки, у нас под ногами задрожала [154] земля. Машина одним броском достигла старта и пошла на взлет.
Все происходило быстро, точно и заметно отличалось от действия самолетов винтомоторной группы. Летчик показал самолет на бреющем полете, потом сделал восходящую бочку, переворот... Он носился над аэродромом, как стремительная торпеда, выполняя сложнейшие фигуры. Это производило огромное впечатление. Увидев такое зрелище, любой летчик загорался мечтой летать на реактивном самолете...
Четыре года учебы в академии прошли быстро и с большой пользой для нас. Государственные экзамены наш выпуск выдержал хорошо. Занятия закончились, и времени стало вдруг так много, что, казалось, его некуда девать. Жена с дочкой уехали на Украину, а я, как и другие товарищи, ждал назначения. Часто вспоминал последнее напутствие начальника академии маршала Федора Яковлевича Фалалеева.
— Здесь, в академии, — говорил он, — все вы были на равных правах: и капитаны, и майоры, и полковники. Одним словом — слушатели. Жили дружно, учились прилежно, помогали друг другу. Скоро разъедетесь по своим частям и гарнизонам. Одни будут старшими военачальниками, другие — младшими, иначе говоря, одни будут командовать, другие подчиняться и в то же время командовать нижестоящими офицерами. Но это не должно влиять на ваше товарищество и дружбу. Только в добросовестной работе, в общих наших усилиях, в доброй заботе о товарищах, невзирая на занимаемую должность, залог наших успехов, крепости нашей армии и дисциплины, залог силы и стойкости нашей. Дальнейшая ваша служба будет зависеть от вас самих, энергии, умения и желания преодолевать трудности, работать по-настоящему, как положено коммунистам. Никогда не унывайте, не пасуйте перед трудностями. Жизнь порой складывается по-разному, и сетовать на это не приходится. Главное в том, чтобы каждый из нас достойно трудился на своем месте во имя нашего общего дела...
Это были правильные и мудрые слова. Я и теперь не перестаю удивляться неограниченным возможностям советского человека в процессе его становления и развития. Ему предоставлено все: свобода выбора профессии, весь арсенал науки и техники, повседневная помощь специалистов и руководителей, все богатства страны. И если человек цельный, если он любит работать, отдает все силы и знания любимому делу, не мечется в поисках легкой жизни, не гонится за призраками несбыточной мечты, то такой человек приносит [155] большую пользу нашему обществу, а его заслуги получают признание.
* * *
Назначения пока нет, и я просто устал в ожидании. Иду к начальству, прошу временно откомандировать меня переучиваться на реактивные самолеты.
Являюсь по предписанию и встречаю своего старого товарища Виктора Константиновича Покровского. Он заместитель командира полка. Узнаю, что могу полетать на Ту-2. А реактивные бомбардировщики вот-вот должны поступить на вооружение.
Через двенадцать дней, налетав на Ту-2 десять часов, я вернулся в академию. Там меня уже ждало назначение в часть.
С большим удовольствием и с пользой для общего дела мне привелось полетать и на реактивных самолетах, о которых мы когда-то мечтали. Сразу полюбился мне первенец бомбардировочной реактивной авиации маневренный, послушный в опытных руках Ил-28. Оборудованный сложнейшей техникой, он мог действовать днем и ночью, в любых метеорологических условиях.
В просторных кабинах тепло, видимость за стеклами хорошая. Масса приборов — пилотажных, навигационных, контролирующих, вспомогательных заполняют панели, приятно подсвечивая в полумраке мягким фосфоресцирующим светом. В кабинах штурмана и радиста гудят генераторы — проверяют аппаратуру. Но вот двигатели запущены, кабины загерметизированы, все, что положено, сделано, и самолет, плавно покачиваясь, катит на взлет. Пусть за стеклами кабин шумит непогода, нам она не страшна. На старте нас не задерживают, сразу разрешают взлет, хотя идет дождь и слаба видимость. Самолет уверенно бежит по бетонной дорожке, набирая скорость. Вот в последний раз чиркнули о землю колеса, и он в воздухе. Убираются шасси, закрылки. Чувствуется, как круто поднимается нос. Я откидываюсь на спинку сиденья и так, полулежа, наблюдаю за приборами. Все тихо, спокойно, лишь где-то за кабиной ревут могучие двигатели, поднимающие нашу махину все выше и выше. Стрелки высотомера бегут по кругу, отсчитывая сотни и тысячи метров подъема. Вот они показали тысячу, две, три тысячи, и наш Ил-28, как снаряд, выскакивает из облаков вверх.
Вырвавшись из сырого непроглядного мрака, мы с удовольствием щуримся от яркого солнца, оглядывая белоснежные [156] облака, раскинувшиеся на сотни километров, и бесконечный купол голубого неба. Чуть в стороне по поверхности облаков за нами движется радужное кольцо, в центре которого четко вырисовывается черный силуэт самолета. Красочное, непередаваемо красивое зрелище вызвано дифракцией света на каплях воды. Называется такое явление «Глория». Оно часто сопровождает машины за облаками.
Мы идем уже около часа. Земли не видно, но штурман прощупывает землю локатором и по характерным всплескам на экране определяет место самолета.
— Скоро цель, — говорит он.
Я связываюсь с полигоном. «Бомбометание» разрешают. Под нами все те же сплошные облака обширного циклона. Мы сбрасываем «бомбы» с одного захода. С земли передают; цель поражена.
Через час наш Ил-28 уже катит по мокрой бетонке аэродрома. На земле идет дождь, окрестности покрыты мглой. Как будто и не было совсем недавно солнца, голубого небосвода и белых бескрайних полей... Задача выполнена. Ночью тоже наши экипажи в любых условиях погоды «бомбят» цели свободно и точно. Молодые летчики вводятся в строй и успешно летают по сложным программам...
Жаль, что дорога, которая ведет человека по жизни, совсем не похожа на гладкую взлетную полосу аэродрома. Наверное, потому эта дорога время от времени преподносит нам такие огорчения и сюрпризы, которые потрясают все существо человека и выбивают его из привычной колеи.
Я был на аэродроме, готовился к ночным полетам, когда вдруг мне сообщили, что умерла моя жена.
Неожиданная потеря друга жизни ошеломила своей внезапностью. Память невольно вернула меня к прошлому.
Надежда Ивановна родилась на Украине, училась, работала, боролась, как все мы в те годы, с трудностями и уверенно шла по тропе новой жизни. Потом, создав семью; мы зашагали рука об руку, и никакая сила не свернула бы нас со светлой дороги к социализму.
И мне и ей пришлось сражаться с врагом.
Уже после войны жена рассказывала, как, спасаясь от фашистов, бежала с годовалой дочкой из Сталинграда на Украину, как в своем родном краю помогала партизанам бороться с оккупантами.
Однажды она «согласилась навести» карателей на партизан, указав лесную избушку, в которой соберутся на совещание командиры партизанских отрядов, действовавших в округе. [157]
Народные мстители, предупрежденные Надей, встретили карателей и полицаев пулями и гранатами. Но кто-то из врагов, оставшийся в живых после первых залпов, тяжело ранил Надю. Это роковое ранение, наверное, и явилось причиной ее безвременной смерти. Она прожила всего 32 года...
Прошло много лет. Во время очередного ночного полета на учебное бомбометание я почувствовал вдруг резкую боль в глазах и перестал видеть приборы, как когда-то уже случилось со мной в бою под Сталинградом.
— Далеко до полигона? — спросил я штурмана майора Михаила Тырышкина.
— Двадцать минут полета, пожалуй, будет.
— Возьми управление на себя и пока исправляй небольшие отклонения от курса.
— Есть! — весело отозвался штурман.
Минут через пять я снова стал видеть. Зрение постепенно приходило в норму. Полет мы закончили нормально, но я уже больше не летал ночью.
Реактивная авиация с ее исключительно высокими скоростями, огромными перегрузками, высотами уже в тот период требовала от летчика незаурядных физических и духовных качеств. Пришла пора уступить место за штурвалом здоровым, молодым соколам.
* * *
В марте 1963 года я нежданно получил приглашение, удивившее и обрадовавшее меня.
«Ефремову Василию Сергеевичу, однополчанину, ветерану Великой Отечественной войны, — было написано в нем. — Искренне просим Вас принять участие во встрече ветеранов 10-го гвардейского Киевского Краснознаменного, ордена Суворова II степени авиационного полка, в боевые дела которого Вы внесли большой вклад».
С благодарностью принял приглашение. Встреча должна была состояться в одной из авиационных частей.
Наш Ил-18 приземлился на широком заснеженном поле.
У командного пункта аэропорта к нам подбежал широкоплечий среднего роста сержант. В его живых глазах светились искорки нескрываемого любопытства, а лицо расплывалось в улыбке. Когда садились в газик, к нам присоединился еще и майор.
Долго ехали по заснеженным полям. Тут-то я и услышал от майора, что в их части служит Иван Андреевич Скляров. [158]
В поселке нас встретил подполковник в унтах и теплом свитере.
— Командир полка Владимир Федорович Курпяков, — представился он. — Отдыхайте. Я провожу вас до гостиницы, и пока расстанемся. Сегодня у меня ночные полеты...
В дверь постучали. На пороге стоял Иван Андреевич Скляров. Мы крепко обнялись, растроганные и обрадованные встречей. Пошли торопливые расспросы о друзьях, о том, кто, где и кого видел, о том, где живут и чем занимаются теперь наши фронтовые товарищи.
— Бочин и Капитонов живут в Ленинграде, — сообщил Иван. — Панченко — в Феодосии, Немцов — в Ростове. В Киеве обосновался штурман Василий Кузьмич Андреев, тот, что получил тяжелое ранение во время вынужденной посадки в Белоруссии. Василий Кузьмич так и не выздоровел окончательно, передвигается в коляске.
Я сказал Склярову, что часто встречаюсь с Андреевым и бываю у него дома. После публикации в газете «Вечерний Киев» моего очерка «Гвардейский Киевский» Василий Кузьмич позвонил одним из первых...
В десять часов утра на следующий день полк, в который мы прибыли, был построен. Мы, ветераны, вместе с командованием части стоим перед строем. С удовольствием оглядываю ровные шеренги молодых ребят. Радостью наполняется сердце.
Перед строем проносят гвардейское Знамя, завоеванное в годы Великой Отечественной.
Чести выступить перед молодой сменой были удостоены и мы со Скляровым. Молодые летчики дали клятву быть верными своему гвардейскому Знамени, умножать замечательные традиции старшего поколения.
Праздник в полку вылился в яркую демонстрацию единства и преемственности поколений нашей славной, закаленной в боях Советской Армии.
После собрания специалисты познакомили меня с современной техникой, которая призвана обеспечивать четкую и безаварийную работу авиации.
На следующий день было решено побывать и в других гарнизонах и встретиться с личным составом. Для этой цели командующий авиацией округа выделил самолет Ил-12.
Я прошел в кабину летчиков. Командир корабля предложил мне попилотировать. Я сел на место правого летчика, надел наушники, взял штурвал, поставил ноги на педали, и самолет, как старый друг, охотно подчинился моей воле. Минут тридцать мы летели на запад на небольшой высоте. [159]
Порадовался тому, что плавно посадил машину, ведь три года руки не держали штурвала.
Выступив в нескольких гарнизонах, мы вернулись в полк...
Возвратившись на Украину, в Киев, я наладил связи со многими однополчанами. Более ста человек писали мне, а я, по возможности, писал им.
Надолго запомнилась встреча ветеранов нашей 6-й гвардейской Таганрогской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии, где довелось повидать бывшего ее командира генерал-полковника авиации Г. А. Чучева, а также штурмана полка Героя Советского Союза Митрофана Малущенко, Петра Моисеева, лишившегося обеих ног в бою, и многих других славных воздушных бойцов.
Потом был праздник в честь освобождения города-героя Севастополя. Там я снова встретился со своими друзьями по войне Панченко, Кытаевым, Чучевым, Покровским, Бобровым... Именно тогда бывший командир нашей дивизии сказал мне:
— Напишите о войне, Василий Сергеевич. Как много надо рассказать людям! Сам я уже не успею.
И действительно, вскоре его не стало...
Крепко запомнил я слова Григория Алексеевича Чучева. Да и однополчане просили о том же. Пришлось основательно засесть за рукопись, и дело потихоньку двинулось вперед.
Эта книга — моя скромная дань живым и погибшим боевым товарищам, чья верная дружба навсегда осталась для меня не только частицей жизни, но и примером всего лучшего, что есть в людях.
Примечания
{1} РАБы — рототивные авиационные бомбы, представляли собой металлические кожухи, в которые закладывались мелкие бомбы или кассеты с горючей смесью. — Прим. авт.
{2} Василевский А. М. Дело всей жизни. М., 1975, с. 452.
{3} Белорусская наступательная операция (кодовое название «Багратион») началась 23 июня 1944 года и успешно завершилась 29 августа. — Прим. ред.
{4} Восточно-Прусская наступательная операция началась 13 января 1945 года и завершилась 25 апреля блистательной победой советских войск. — Прим. ред.
{5} Калинин М. И. О коммунистическом воспитании и воинском долге. М., 1967, с. 591.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



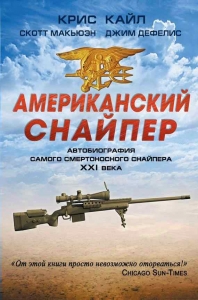

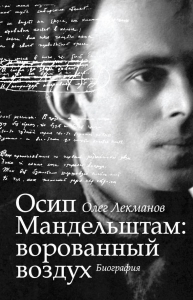
Комментарии к книге «Эскадрильи летят за горизонт», Василий Сергеевич Ефремов
Всего 0 комментариев