ГЛАВА ПЕРВАЯ
МОСКВА
1799-1811
Утро жизни
Края Москвы, края родные,
Где на заре цветущих лет
Часы беспечности я тратил золотые,
Не зная горести и бед...
А. С. Пушкин. «Воспоминания в Царском Селе»
А. С. Пушкин. Автопортрет.
Маленький Александр Пушкин гулял с нянею, Ульяною Яковлевой, по тенистым аллеям старинного московского парка. Неожиданно вышел и направился им навстречу небольшого роста офицер в мундире, ботфортах и треуголке. У него был странный вид: широкий вздернутый нос на невыразительном лице, строгий, ищущий взгляд, стремительные движения. Его небольшая фигура, казалось, тонула в огромных ботфортах с широкими отворотами, но повадка была повелительная.
Быстрым военным шагом он приблизился к годовалому Пушкину, строгим взглядом окинул няню и, тыча пальцем в голову ребенка, крикнул:
- Сними картуз!
Накрапывал дождик. Но няня, смутившись, не посмела перечить повелительному приказу и сняла с головы мальчика картуз.
Только что приехавшая из деревни и приставленная к ребенку нянькой, Ульяна не могла, конечно, знать, кто был повстречавшийся им офицер. Надежда Осиповна разъяснила ей дома, что это был сам царь, император Павел I, недовольный тем, что они не приветствовали его.
- Слава богу, что все обошлось благополучно!..
Через четыре месяца после этой встречи, в ночь с 11 на 12 марта 1801 года, император Павел I, самодержавный тиран и самодур, был задушен ночью во дворце заговорщиками.
Впоследствии Пушкин писал жене: «Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку...»
Занявшие после Павла I престол Александр I и Николай I никогда не переставали преследовать поэта и привели его к гибели...
* * *
Необычно началась и складывалась жизнь будущего поэта России. Необычна была и родословная Пушкина: в его жилах текла славянская и африканская кровь...
Отец Пушкина, Сергей Львович, принадлежал к древнему, постепенно обедневшему дворянскому роду служилых людей, воинов и государственных деятелей, сподвижников Александра Невского, Ивана Грозного, Бориса Годунова, Козьмы Минина.
В конце XVIII века, когда родился Александр Пушкин, отец его уже отошел от военной и государственной службы. Он жил светской жизнью, участвовал во всяких празднествах и собраниях. Был прекрасным актером в домашних спектаклях, очень любил и мастерски читал Мольера. Дружил с Карамзиным, поэтом Дмитриевым, а много позднее - с Батюшковым и Жуковским. Сам тоже писал стихи по-французски и по-русски.
Тяга к литературе и поэзии вообще отличала Пушкиных. «Три Пушкина в Москве, и все они поэты», - писал К. Н. Батюшков П. А. Вяземскому. Довольно известным поэтом своего времени был дядя Пушкина, Василий Львович. Писал стихи дальний их родственник Алексей Михайлович Пушкин, генерал и камергер - вольнодумец, «прямой сын Вольтера, энциклопедист с русскою закваскою», как определил его Вяземский.
Стихами «баловались» старшая сестра поэта, Ольга, и младший брат, Лев.
В доме Пушкиных французский язык был обиходным. Библиотека заполнена была произведениями французских классиков, трудами философов-просветителей и поэтическими сборниками XVII и XVIII веков.
Рядом с великолепной французской библиотекой, с французской речью в гостиной особый дух царил в детской комнате. Здесь пестовала внука бабушка Мария Алексеевна Ганнибал, владевшая сильной и образной русской речью. Она была первая наставница маленького Александра, она выучила его грамоте. Мальчик жадно впитывал в себя ее русские сказки, предания и рассказы о прадеде Абраме Петровиче Ганнибале и о его сыне, Осипе Абрамовиче, за которым была замужем.
Мария Алексеевна, выросшая на Тамбовщине, была дочерью дальнего родственника Пушкиных, героя русско-турецкой войны 1735-1739 годов А. Ф. Пушкина, участвовавшего во взятии Очакова «и во всех турецких кампаниях и акциях». Жизнь сложилась так, что муж скоро оставил ее с маленькой дочерью Надеждой, которая вышла впоследствии замуж за Сергея Львовича Пушкина и стала матерью великого русского поэта.
* * *
Москва. Красная площадь в XIX веке. С литографии.
«Края Москвы, края родные...» Строфа из «Воспоминаний в Царском Селе». («Навис покров угрюмой нощи...») Автограф А. С. Пушкина.
Пушкин гордился древним происхождением своего рода. Гордился и «черным прадедом», знаменитым «арапом Петра Великого», Ибрагимом, замеченным и великодушно пригретым великим преобразователем России.
Сын владетельного абиссинского князька, Ибрагим восьмилетним мальчиком был привезен вместе с другими двумя арапчатами в Россию, в подарок Петру I. В 1707 году, девятнадцатилетним юношей, он был крещен в сохранившейся до наших дней старинной церкви Вильнюса. Восприемниками Ибрагима были - супруга польского короля Августа и Петр I. Ему дали имя Абрама Петровича Ганнибала.
До 1716 года - Ибрагиму было уже двадцать восемь лет - он состоял личным камердинером Петра I. Но о родине никогда не забывал. За ним приезжал из Африки другой брат, хотел его выкупить, но Петр I привязался к своему питомцу, полюбил его и отказал в просьбе отпустить на родину. Заметив большие способности и даровитость Абрама Петровича, царь направил его во Францию получить образование.
В повести «Арап Петра Великого» и в воспоминаниях - «Начало автобиографии» - Пушкин рассказывает, что Ганнибал обучался в парижском военном училище, выпущен был капитаном артиллерии, отличился в испанской войне и, тяжело раненный, возвратился в Париж. Император часто справлялся о своем любимце, и тот, по зову Петра, вернулся в Петербург. Вернулся образованным инженером.
Описывая его возвращение, Пушкин рассказывает: «Оставалось 28 верст до Петербурга. Пока закладывали лошадей, Ибрагим вошел в ямскую избу. В углу человек высокого росту, в зеленом кафтане, с глиняною трубкою во рту, облокотясь на стол, читал гамбургские газеты. Услышав, что кто-то вошел, он поднял голову: «Ба! Ибрагим? - закричал он, вставая с лавки. - Здорово, крестник!» Ибрагим, узнав Петра, в радости к нему было бросился, но почтительно остановился. Государь приблизился, обнял его и поцеловал в голову. «Я был предуведомлен о твоем приезде, - сказал Петр, - и поехал тебе навстречу. Жду тебя здесь со вчерашнего дня». Ибрагим не находил слов для изъявления своей благодарности. «Вели же, - продолжал государь, - твою повозку везти за нами; а сам садись со мною, и поедем ко мне». Подали государеву коляску. Он сел с Ибрагимом, и они поскакали. Через полтора часа они приехали в Петербург».
Царь пригласил Ибрагима к столу, познакомил с императрицею и дочерьми.
Абрам Петрович дослужился до чина генерал-аншефа. В 1745 году ему пожаловано было за большие заслуги село Михайловское под Псковом. Впоследствии в Михайловском, ставшем имением Пушкиных, поэт вспоминал в одном из своих стихотворных посланий прадеда:
В деревне, где Петра питомец,
Царей, цариц любимый раб
И их забытый однодомец,
Скрывался прадед мой арап,
Где, позабыв Елисаветы
И двор, и пышные обеты,
Под сенью липовых аллей
Он думал в охлажденны леты
О дальней Африке своей...
Ганнибал скончался в 1781 году в глубокой старости. Деда своего, Осипа Абрамовича Ганнибала, Пушкин хорошо помнил, хотя ему было всего семь лет, когда тот скончался. Пушкин вспоминал и своего двоюродного деда, Ивана Абрамовича, «наваринского Ганнибала», победителя турок в 1770 году.
* * *
Надежда Осиповна Пушкина, мать поэта. С миниатюры Ксавье де Местра.
Пушкин ребенком. С портрета неизвестного художника.
Арина Родионовна, няня А. С. Пушкина.Барельеф работы Я. Серякова.
Абрам Петрович Ганнибал, прадед А. С. Пушкина. Портрет работы неизвестного художника.
Сергей Львович Пушкин, отец поэта. С рисунка К. Гампельна. 1824 г.
Дом, в котором родился А. С. Пушкин. Фотография.
Позже, в 1815 году, на лицейском экзамене Пушкин взволнованно вспоминал свое московское детство, «края Москвы, края родные».
Это были так называемая Немецкая слобода и Огородники, где прошли детские годы Пушкина.
Немецкая слобода, расположенная на берегу протекавшей вблизи речки Кукуй, считалась в те времена аристократической частью Москвы. Здесь в петровское время селились иноземцы. Их всех называли «немцами», отсюда и пошло название - Немецкая слобода. Сюда, приезжая в Москву, направлялся и здесь любил веселиться Петр Первый.
До наших дней сохранились в бывшей Немецкой слободе Лефортовский дворец и Слободской, в котором помещается теперь Высшее техническое училище имени Баумана.
В этой Немецкой слободе, на Немецкой, ныне имени Баумана, улице, 40, в небольшом деревянном домике и родился Пушкин. На месте этого домика сегодня высится многоэтажное здание 353-й школы имени поэта. На нем мемориальная доска с надписью: «Здесь был дом, где 26 мая (6 июня) 1799 г. родился А. С. ПУШКИН». Перед фасадом - скульптурный бюст юного поэта.
Неподалеку от школы, в «церкви Богоявленья, что в Елохове», сохранилась старинная церковная книга с записью «Мая 27. Во дворе Коллежского регистратора Ивана Васильева Скварцова у жильца его моэора Сергия Львовича Пушкина родился сын Александр. Крещен июня 8 дня. Восприемник граф Артемий Иванович Воронцов, кума мать означенного Сергия Пушкина вдова Ольга Васильевна Пушкина».
Каждый год, в день рождения Пушкина, в этой школе собираются многочисленные почитатели поэта, а вечером - в библиотеке имени А. С. Пушкина, на Бауманской, бывшей Елоховской, площади, 9. Почетным попечителем этой библиотеки до конца своих дней была старшая дочь Пушкина, Мария Александровна Гартунг, скончавшаяся уже в советское время, в 1919 году.
* * *
Совсем иной характер, чем Немецкая слобода, носили Огородники, куда вскоре переселились Пушкины. Детские впечатления тех лет поэт воспроизвел в сочинении «Путешествие из Москвы в Петербург». Он дал в нем яркую картину былой Москвы и Москвы начала XIX века.
В ноябре 1804 года Пушкины переехали в небольшой флигель при дворце князя Н. Б. Юсупова по Большому Харитоньевскому переулку, 17. Этот великолепный памятник архитектуры XVII века прекрасно сохранился до наших дней и украшает Москву.
Таинственный, погибший в 1812 году тенистый сад против дворца - «Юсупов сад», - явился, видимо, первым сильным впечатлением маленького Пушкина. Ему было тогда всего шесть-семь лет. Задумав впоследствии писать записки, Пушкин запечатлел в стихотворении «В начале жизни школу помню я» свои ранние, детские впечатления:
И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого сада,
Под свод искусственный порфирных скал.
Там нежила меня теней прохлада;
Я предавал мечтам свой юный ум,
И праздно мыслить было мне отрада.
Любил я светлых вод и листьев шум,
И белые в тени дерев кумиры,
И в ликах их печать недвижных дум.
Всё - мраморные циркули и лиры,
Мечи и свитки в мраморных руках,
На главах лавры, на плечах порфиры -
Всё наводило сладкий некий страх
Мне на сердце; и слезы вдохновенья,
При виде их, рождались на глазах...
* * *
Кто же лелеял детские годы Александра? Кто научил его «предавать мечтам свой юный ум»? Кто была та «наперсница волшебной старины», которую Пушкин с любовью вспоминал уже в южной ссылке, в 1822 году:
Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила
И меж пелен оставила свирель,
Которую сама заворожила.
Через всю свою жизнь пронес Пушкин нежную, трогательную любовь к бабушке, Марии Алексеевне Ганнибал, и к няне Арине Родионовне. Обе они лелеяли его, склонялись над его колыбелью, и в сердце поэта слились в единый трогательный образ «веселой старушки... в больших очках и с резвою гремушкой».
Наблюдая шалости Александра, Мария Алексеевна недоумевала.
- Не знаю, - говорила она, - что выйдет из моего старшего внука: мальчик умен, охотник до книжек, а учится плохо, редко когда урок свой сдаст порядком; то его не расшевелишь, не прогонишь играть с детьми, то вдруг так развернется и расходится, что его ничем не уймешь; из одной крайности в другую бросается. Бог знает, чем все это кончится, если он не переменится.
И часто журила за проделки:
- Помяни ты мое слово, не сносить тебе своей головы...
В 1806 году Мария Алексеевна приобрела небольшое сельцо Захарово, под Москвою, близ Звенигорода. Там она проводила с внуком летние месяцы.
Создавая через два десятилетия, в михайловской ссылке, «Бориса Годунова», Пушкин вспоминал Захарово и лежащие рядом Большие Вязёмы - туда бабушка возила его в церковь к обедне. Здесь же, в ограде, был похоронен в 1807 году маленький брат Александра, Николай.
Большие Вязёмы принадлежали когда-то Борису Годунову. Здесь встречали в Смутное время кортеж с Мариной Мнишек, и Пушкин мог прочесть начертанные в начале XVII века на фресках церкви надписи на польском и латинском языках. Здесь находился загородный дворец Дмитрия Самозванца. Позднее это была дворцовая вотчина первых царей Романовых. В 1812 году в Больших Вязёмах остановился Наполеон, стоял корпус Евгения Богарне, отступавшего от Москвы после бегства императора.
Так уже в детские годы накапливались в душе поэта картины его будущих творений...
* * *
Деревня Захарово под Москвой. Фотография.
Рядом с бабушкой Марией Алексеевной, лелеявшей детство Пушкина, и перед нами оживает образ его чудесной няни, Арины Родионовны. Нет в мировой литературе другой няни, чье имя так тесно сплелось бы с именем ее питомца. Простая, неграмотная русская женщина, крепостная крестьянка стала спутницей великого русского поэта.
И нет в нашей стране школьника, которому не было бы знакомо имя Арины Родионовны.
У няни была своя молодость. Двадцатитрехлетней девушкой она вышла замуж за крепостного крестьянина Федора Матвеева.
У нее было уже четверо детей, когда у Пушкиных родилась в 1797 году дочь Ольга, а через полтора года - сын Александр, будущий поэт. Ее взяли к ним няней, она вырастила их, как и младшего брата, Льва. Были у Пушкиных еще четыре мальчика - Павел, Михаил, Платон, Николай - и дочь Софья, но все они умерли в младенчестве. Остались жить два брата и сестра Ольга.
Когда Александра Пушкина отправили в 1811 году учиться в Царскосельский лицей, Мария Алексеевна предложила Арине Родионовне «вольную» - решила освободить ее со всей семьей от крепостной зависимости. Но та отказалась.
«На что мне, матушка, вольная!» - ответила няня.
Так она и осталась до конца дней своих в семье Пушкиных.
Больше всех воспитателей и воспитательниц на детскую душу будущего поэта воздействовала Арина Родионовна. Она, по словам сестры Ольги, была «настоящею представительницею русских нянь, мастерски говорила сказки, знала народные поверья и сыпала пословицами, поговорками».
Бабушка Мария Алексеевна и няня Арина Родионовна слились в воображений Пушкина в единый нежно любимый образ. И он тепло вспоминал их в стихотворении «Сон» накануне выхода из Лицея:
Ах! умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеянье,
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня
И шепотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы...
От ужаса не шелохнусь, бывало,
Едва дыша, прижмусь под одеяло,
Не чувствуя ни ног, ни головы.
Под образом простой ночник из глины
Чуть освещал глубокие морщины,
Драгой антик, прабабушкин чепец
И длинный рот, где зуба два стучало, -
Всё в душу страх невольный поселяло.
Я трепетал - и тихо наконец
Томленье сна на очи упадало.
Тогда толпой с лазурной высоты
На ложе роз крылатые мечты,
Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сон обворожали.
Терялся я в порыве сладких дум;
В глуши лесной, средь муромских пустыней
Встречал лихих Полканов и Добрыней,
И в вымыслах носился юный ум.
* * *
Рассказывая о няне Пушкина, нельзя не помянуть добрым словом и дядьку Пушкина, Никиту Тимофеевича Козлова.
Никита Козлов, создавший по мотивам народных былин и сказок своего рода поэму о Соловье-разбойнике, богатыре Еруслане Лазаревиче и царевне Милитрисе Кирибитьевне, также влиял на приобщение маленького Пушкина к миру подлинного русского фольклора. Он оставался верным и преданным слугою и другом Пушкина от колыбели поэта до последнего дня.
В ранние годы Александра дядька был свидетелем и участником его детских игр и шалостей, сопровождал во время прогулок по Москве, взбирался с ним на колокольню Ивана Великого в Кремле.
Он разделил с юным поэтом южную ссылку, перевозил его книги. Был очевидцем выступления декабристов на Сенатской площади. Ездил с Пушкиным в Болдино, жил у него в Москве перед его женитьбою.
* * *
Каким был Александр в ранние свои детские годы, о которых он потом тепло вспоминает в стихотворениях, обращенных к бабушке Марии Алексеевне и няне Арине Родионовне? Как выглядел маленький Пушкин?
Недавно отыскался живописный портрет трехлетнего Пушкина - миниатюра размером 10 на 7,8 сантиметра, выполненная неизвестным, видимо крепостным, художником.
Интересно происхождение портрета. В начале прошлого столетия в Москве проживал профессор М. Я. Мудров, первый русский врач, посланный для обучения за границу. Вернувшись в Москву, он приобрел большую популярность, был домашним врачом в семье Пушкиных и его друзей.
В 1831 году разразилась холера. Мудров погиб, спасая больных. Смерть его опечалила всех, и Надежда Осиповна, мать Пушкина, подарила эту миниатюру на память дочери Мудрова, выходившей замуж за И. Е. Великопольского, с которым у Пушкина установились позже приятельские отношения.
Портрет бережно хранился потомками Мудрова и перешел наконец к его праправнучке - Е. А. Чижовой. Та преподнесла его артисту В. С. Якуту, исполнявшему во время гастролей в Ленинграде роль Пушкина в пьесе А. Глобы. Якут подарил эту миниатюру Музею А. С. Пушкина в Москве.
* * *
Дом князя Н. Б. Юсупова в Большом Харитоньевском, 17. С рисунка С. Кулагина.
Александр вышел из детского возраста, и в доме Пушкиных появились, рядом с бабушкой и няней, гувернеры. Это были иностранцы, хлынувшие после французской революции в Россию в поисках счастья.
Встречались среди них люди достойные и образованные, но, как вспоминала позже сестра Пушкина Ольга, большею частью и по образованию и по уму французские эмигранты поражали своей некультурностью и наивностью. Так, одна из гувернанток удивлялась, «каким образом волки не прогуливаются по улицам Москвы, как ей о том рассказывали на родине, в Швейцарии; а другая удивлялась тому, что в России десертом после обеда не служат сальные свечи».
Родители Александра мало интересовались воспитанием детей. Отец, Сергей Львович, передал все семейные заботы жене, Надежде Осиповне, а та не менее его обожала свет и веселое общество и «в управление домом внесла только свою вспыльчивость, да резкие, частые переходы от гнева и кропотливой взыскательности к полному равнодушию и апатии относительно всего, происходившего вокруг». Дети росли без сколько-нибудь заметного участия родителей в их воспитании.
В этом семействе перебывало множество иностранных гувернеров и гувернанток, писал со слов матери племянник Пушкина Л. Н. Павлищев. Он особо выделял среди них француза Русло, капризного и самоуверенного самодура. Желая писать стихи и ставя себя рядом с Корнелем и Расином, Русло жестоко издевался над Александром, над его склонностью к поэзии.
Не лучшим был и его преемник, Шедель, который все свои досуги проводил в передней, играя с дворней в дурачки, за что в конце концов получил отставку.
Единственно, кто выделялся из среды гувернеров, был француз-эмигрант граф Монфор, человек образованный и гуманный.
Настроения и впечатления своих детских лет Пушкин имел в виду отразить в намеченных им в тридцатых годах «Программах записок»:
«Первые впечатления. Юсупов сад. - Землетрясение. - Няня. Отъезд матери в деревню. - Первые неприятности. - Гувернантки. Ранняя любовь. - Рождение Льва. - Мои неприятные воспоминания. - Смерть Николая. - Монфор - Русло - Кат. П. и Ан. Ив. - Нестерпимое состояние. - Охота к чтению. Меня везут в П. Б. Езуиты. Тургенев. Лицей».
«Первые неприятности... Мои неприятные воспоминания... Нестерпимое состояние...», особо отмеченные Пушкиным в «Программах записок», были бесспорно связаны с гувернерами и гувернантками и несправедливым отношением матери Надежды Осиповны, которую постоянно раздражал настойчивый, самолюбивый, склонный к самостоятельности характер Александра. Он никогда не раскаивался в своих поступках, даже если чувствовал себя неправым, хмурился и, забившись в угол, угрюмо молчал.
Лишь нежная дружба с сестрой Ольгой смягчала его «нестерпимое состояние».
В детстве Александра интересовали встречи в доме отца с виднейшими поэтами и писателями и увлекали собственные ранние поэтические настроения.
Любимым делом мальчика было пробираться в кабинет отца, когда собирались гости, и прислушиваться к разговорам старших.
«В самом младенчестве своем, - вспоминал отец, Сергей Львович, - он показал большое уважение к писателям. Не имея шести лет, он уже понимал, что Николай Михайлович Карамзин - не то, что другие. Одним вечером Николай Михайлович был у меня, сидел долго, - во все время Александр, сидя против него, вслушивался в его разговоры и не спускал с него глаз. Ему шел шестой год».
И брат Пушкина, Лев Сергеевич, рассказывал, что «страсть к поэзии появилась в нем с первыми понятиями: на восьмом году возраста, умея читать и писать, он сочинял на французском языке маленькие комедии и эпиграммы на своих учителей... Ребенок проводил нередко бессонные ночи, пробирался тайком в кабинет отца и там пожирал книги одну за другой. Пушкин был одарен памятью неимоверною и на одиннадцатом году уже знал наизусть всю французскую литературу».
О годах своего младенчества, о первых своих трепетных поэтических волнениях, Пушкин писал впоследствии в стихотворении «Муза»:
В младенчестве моем она меня любила
И семиствольную цевницу мне вручила;
Она внимала мне с улыбкой, и слегка
По звонким скважинам пустого тростника
Уже наигрывал я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
И песни мирные фригийских пастухов.
С утра до вечера в немой тени дубов
Прилежно я внимал урокам девы тайной;
И, радуя меня наградою случайной,
Откинув локоны от милого чела,
Сама из рук моих свирель она брала;
Тростник был оживлен божественным дыханьем
И сердце наполнял святым очарованьем.
* * *
Сестра Ольга была верным другом детства Александра. Ей он поверял свои детские тайны, с нею делился первыми поэтическими мечтаниями.
Ночью мальчик долго не засыпал, и когда Ольга спрашивала брата, почему он не спит, тот отвечал вполне серьезно:
- Стихи сочиняю...
Познакомившись в ранние годы с французской литературой, прекрасно владея языком, маленький Пушкин и первые свои детские творения создавал на французском языке.
И вот, начитавшись в библиотеке отца французских книг, наслушавшись, как отец читает вслух Мольера, девятилетний Александр сам начинает сочинять небольшие комедии на французском языке. Одну из них, «L’Escamoteur» («Похититель»), маленький драматург решил поставить на домашней сцене.
Ольге, единственной зрительнице этого спектакля, пьеса не понравилась, и она освистала автора:
- Ты сам и есть похититель, ты похитил комедию у Мольера!.. - говорит одиннадцатилетняя Ольга.
Александр сам на себя написал после этого эпиграмму, по-французски:
За что, скажи мне, «Похититель»
Был встречен шиканьем партера?
Увы! За то, что сочинитель
Его похитил у Мольера!
Вскоре мальчик начал сочинять шуточную поэму в шести частях - «La Tolyade». Это было уже подражание «Генриаде» Вольтера - поэме, прославлявшей французского короля Генриха IV. Героем маленького Пушкина был Толи, карлик короля Дагобера. Поэма начиналась так:
Пою сей бой, в котором Толи одержал победу,
Где погиб не один воин, где Поль отличился,
Николая Матюрена и прекрасную Нитуш,
Рука которой была трофеем ужасной стычки.
Поэма попала к гувернеру Русло. И тот расхохотался, когда мальчик прочел по его приказанию сцену, изображавшую битву между карликами и карлицами. Осмеяв безжалостно каждое слово этого четверостишия, гувернер довел Александра до слез, да еще пожаловался на него Надежде Осиповне. Оскорбленный ребенок разорвал и бросил в печь свои стихи, а Русло возненавидел «со всем пылом африканской своей крови».
* * *
В развитии поэтического дара Пушкина немалую роль сыграл дядя Василий Львович. В стихотворном послании «К Дельвигу» Пушкин признавался, что именно дядя пробудил в нем поэта:
Мой дядюшка-поэт
На то мне дал совет
И с музами сосватал.
Василий Львович искренне любил племянника. Чувствуя в нем поэтического соперника, он переписывался с ним, творчески состязался и часто - ревновал. Пушкин тоже сердечно любил дядю. Но уже с ранних лет относился к нему, как поэту, снисходительно. И когда Василий Львович назвал однажды Александра «братом по Аполлону», юный лицеист ответил:
Я не совсем еще рассудок потерял
От рифм бахических, шатаясь на Пегасе,
Я не забыл себя, хоть рад, хотя не рад.
Нет, нет - вы мне совсем не брат:
Вы дядя мне и на Парнасе.
Уже в детские годы, тем более в отроческие Александр слыл в кругу взрослых поэтом. О нем спорили. Одни восхищались его ребяческим поэтическим даром, другие покачивали головами. Дядя, Василий Львович, соглашался, что племянник даровит, но решительно отрицал в нем способность превзойти его.
- Ты знаешь, - говорил он собеседнику, перемежая русские слова с французскими, - что я люблю Александра, он поэт, поэт в душе, но я знаю, что он еще слишком молод, слишком свободен, и, право, не знаю, установится ли он когда, говоря между нами, как мы остальные...
* * *
Вместе с родителями Александр часто бывал у живших по соседству друзей, таких же страстных книголюбов, какими были его отец и дядя. Один из них, Д. Н. Бутурлин, был просвещеннейший деятель своего времени, его библиотека состояла из двадцати пяти тысяч томов и вызывала восхищение даже иностранцев.
Очень известен был и другой просвещенный книголюб той поры, А. И. Мусин-Пушкин. В его библиотеке хранилась найденная в 1795 году в Спасо-Ярославском монастыре старинная рукопись «Слова о полку Игореве». Оба книголюба охотно разрешали желающим пользоваться их библиотеками.
Бывая с родителями у Бутурлиных, Пушкин забирался в их огромную библиотеку. Часто встречался там с дядей и поэтами - К. Н. Батюшковым, И. И. Дмитриевым, В. А. Жуковским, баснописцем И. А. Крыловым.
В его присутствии начался однажды спор о достоинствах басен двух известных баснописцев той поры - И. А. Крылова и И. И. Дмитриева. Василий Львович горячился и, отдавая предпочтение Дмитриеву, нападал на басни Крылова:
- В них нету изящества, вкуса. Площадный язык, площадные картины: «Свинья в навозе извалялась, в помоях выкупалась... пришла свинья свиньей...» - как вам это нравится!..
Горячность дяди забавляла Александра, но басни Крылова нравились ему куда больше...
В споры взрослых Александр никогда не вступал. Он сидел обычно в уголочке или примостившись к стулу какого-нибудь читавшего свои произведения литератора. Если же произведение казалось ему слишком забавным, он не стеснялся это выразить.
На Александра обратил внимание гувернер детей Бутурлина, доктор словесных наук, француз-эмигрант Жиле, и как-то предсказал:
- Чудное дитя! Как он рано все начал понимать! Дай бог, чтобы этот ребенок жил и жил; вы увидите, что из него будет...
* * *
Так проходили детские годы Пушкина. Мать любила больше младшего брата, Льва, и Александр чувствовал это.
Уезжая в 1811 году в Царскосельский лицей, двенадцатилетний мальчик без сожаления расставался с гувернантками и гувернерами. Но тепло и сердечно вспоминал потом сестру Ольгу, спутницу его детства, бабушку и няню.
ГЛАВА ВТОРАЯ
ЦАРСКОЕ СЕЛО
1811-1815
«Лицейская республика»
Здесь каждый шаг в душе рождает
Воспоминанья прежних лет...
А. С. Пушкин. «Воспоминания в Царском Селе»
На фасаде здания бывшего Царскосельского лицея висит мемориальная доска с надписью: «Здесь воспитывался Александр Сергеевич Пушкин с 1811 по 1817 год».
В 1949 году, когда отмечалось 150-летие со дня рождения поэта, в залах бывшего Лицея был открыт мемориальный музей.
Лицей восстановлен в том виде, какой он имел при Пушкине. Посетители с волнением поднимаются по лестнице. И когда входят в бывший актовый зал, им прежде всего бросается в глаза большое полотно Репина - «Пушкин на лицейском экзамене».
Мысленно переносимся в далекую «лицейскую республику» пушкинской поры. Все здесь напоминает былое. Экспонаты музея дают представление о лицейской жизни, об условиях, в которых рождалось «лицейское братство».
Мы знакомимся с аллегорически украшенным уставом Лицея, с свидетельством, выданным «недорослю» Пушкину при определении его в Лицей, и со всеми теми, кто оказал влияние на формирование мировоззрения лицеистов.
Все в Царском Селе, которое носит сейчас имя Пушкина, овеяно его гением. И сегодня, более чем через полтора столетия, здесь всюду слышен звон стихов поэта. В его неувядающей поэзии отражены и широкошумные дубравы царскосельских парков, и озерные берега с Чесменской колонной на водной глади, и Кагульский обелиск русской славы, и девушка с разбитым кувшином, и две большие скульптуры у Александровского дворца, и «огромные чертоги» Камероновой галереи.
И сам Пушкин, в бронзе изваянный скульптором Бахом, задумчиво сидит, в распахнутом лицейском мундире, на чугунной скамье в лицейском садике...
* * *
Царскосельский лицей. Рисунок А. С. Пушкина.
В те дни, когда Пушкины были озабочены устройством Александра, стало известно, что император Александр I учреждает особое учебное заведение - Лицей, и в нем могут получить образование два его брата, великие князья Николай и Михаил. Для Лицея отведено было четырехэтажное здание, непосредственно примыкавшее к царскосельскому Екатерининскому дворцу, соединенное с ним крытым переходом.
Учрежден был Лицей исключительно «для юношества благородного происхождения, предназначенного к важным частям службы государственной».
Но в Лицей попали отпрыски не слишком знатного происхождения, и императрица воспротивилась сближению с ними своих сыновей, особ царственных. Великие князья воспитывались не в Лицее.
Пушкины подали заявление о приеме их сына в Царскосельский лицей, и во второй половине июля 1811 года дядя Василий Львович увозил Александра в Петербург. При отъезде из Москвы мальчик получил от сестры Ольги подарок: два тома избранных басен Лафонтена. Книги были изданы в 1785 году в Париже, на французском языке, в кожаных переплетах.
Когда-то Сергей Львович подарил их дочери и написал на каждом из них по-французски: «Моей дорогой Оленьке». Кто-то добавил чернилами, тоже по-французски: «Лафонтена не нужно хвалить, его нужно читать, перечитывать и снова перечитывать», - это была цитата из энциклопедии Лагарпа.
Уезжая в Лицей, Александр забыл этот подарок на столе, и сестра сделала об этом надпись, карандашом, на обороте титула: «Книги эти принадлежали Ольге Пушкиной, сегодня они подарены ею Александру Пушкину, чтобы он мог наслаждаться ими в Лицее. К несчастью, он забыл их на столе».
Мать, Надежда Осиповна, часто приезжала с детьми в Царское Село навестить Александра, и в один из приездов Ольга привезла брату забытого им Лафонтена.
Дети любили эти басни, дорожили ими. Снова встретившись с сестрой после окончания Лицея в Михайловском, Пушкин отметил эту встречу датой на одном из томов: «13 июля 1817 года, в Михайловском».
Пушкин, конечно, еще в детстве читал в этом двухтомнике басню Лафонтена «Молочница» о девушке Пьеретте, которая, направляясь на рынок продавать молоко, размечталась, уронила кувшин и разбила его. Расстроенная случившимся, она грустно смотрела, как молоко струйкой течет из разбитого кувшина.
Через три года после окончания Пушкиным Лицея в Царскосельском парке была установлена на огромном камне изваянная скульптором Соколовым лафонтеновская Пьеретта. Пред девушкой - разбитый кувшин, и из него неиссякаемой струей течет ключевая вода.
Гуляя как-то в жаркий летний день по парку, Пушкин утолил жажду ключевой водою из этого источника, и тут зародилась мысль написать небольшое стихотворение «Царскосельская статуя»:
Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;
Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит.
Принадлежавшие Александру Пушкину и его сестре Ольге басни Лафонтена дожили до наших дней. Они сегодня хранятся среди книг личной библиотеки поэта в Пушкинском доме Академии наук СССР.
* * *
Около месяца прожил Александр с дядей в Петербурге, в гостинице Демута, посещая друзей, готовясь к испытаниям.
12 августа он держал приемные экзамены.
Судя по опенкам экзаменаторов, знания Пушкина были не очень высокие «В грамматическом познании языков: российского - очень хорошо, французского - хорошо, немецкого - не учился, в арифметике - знает до тройного правила, в познании общих свойств тел - хорошо, в начальных основаниях географии - имеет сведения, в начальных основаниях истории - имеет сведения».
В Лицей приняты были тридцать мальчиков. Среди них - и Александр Пушкин.
* * *
До открытия Лицея оставалось еще больше двух месяцев. Александр не раз наезжал в это время с дядей в Царское Село.
Наступило наконец 19 октября 1811 года - исторический день открытия Царскосельского лицея, многократно воспетый впоследствии Пушкиным.
...Большой, покрытый красным сукном с золотой бахромой стол стоял между колоннами актового зала. На нем лежала роскошно оформленная грамота об учреждении Лицея.
По одну сторону стали в три ряда лицеисты с директором Лицея Малиновским, инспектором и гувернерами, по другую - профессора. На креслах перед столом заняли места высшие сановники империи.
По приглашению директора в зал вошел Александр I с семьей. Директор департамента министерства народного просвещения И. И. Мартынов прочитал манифест об учреждении Лицея, и слово предоставлено было директору Лицея В. Ф. Малиновскому.
Это был человек образованный, передовых взглядов. В опубликованном им «Рассуждении о мире и о войне» он выступал с проповедью вечного мира. Им же был составлен и проект создания союза всех европейских держав. По мысли Малиновского, союз должен был быть постоянным органом, на котором лежала бы обязанность улаживать возможные международные осложнения.
Малиновский очень волновался, поднимаясь на кафедру. Тихим голосом он начал читать лежавшую перед ним рукопись речи. Волновался же он потому, что произносил не свою речь: заготовленное им выступление подверглось жесточайшей цензуре и в конце концов от него ничего не осталось. Малиновского сменил профессор Н. Ф. Кошанский. Ему поручено было представить царю юных лицеистов.
- Александр Пушкин! - гулко прозвучало в наступившей тишине, и на середину конференц-зала вышел живой, курчавый, быстроглазый мальчик.
Александр Пушкин!.. Мог ли его тезка, император Александр I, думать, что этот двенадцатилетний мальчик через несколько лет будет разить его своими эпиграммами и вольнолюбивыми стихами, призывать к свержению самодержавия!..
Выступивший вслед за этим профессор А. П. Куницын громко и смело заговорил в присутствии императора об обязанностях гражданина и воина, ни разу не упомянув при этом имени Александра I. В своем «Наставлении воспитанникам Царскосельского лицея» он призывал лицеистов не к проявлению раболепных, верноподданнических чувств, а к гражданскому служению родине. Приглашал их действовать так, как думали и действовали древние россы:
- Любовь к славе и отечеству должна быть вашим руководством... - наставлял профессор.
Эта смелая и необычная речь произвела впечатление не только на присутствующих, но и на самого императора: он был тогда еще либерально настроен и наградил Куницына Владимирским крестом - весьма лестной наградой для молодого, только что возвратившегося из-за границы ученого.
* * *
После открытия гостей пригласили осмотреть помещения Лицея.
В первом этаже здания размещены были квартиры инспектора и гувернеров; во втором - столовая, буфетная, больница, аптека, малый конференцзал и канцелярия Лицея; в третьем - актовый зал, классы, физический кабинет, библиотека, газетная комната; в четвертом - помещения для воспитанников.
Вдоль длинного коридора, от одного края здания до другого, шли небольшие комнатки, отделенные друг от друга не доходившими до потолка оштукатуренными, окрашенными зеленой краской перегородками. Каждому лицеисту полагалась отдельная комнатка.
Обставлены были комнаты скромно (Пушкин называл их кельями): стол-конторка для занятий, стул, комод, железная, с медными украшениями кровать с матрацем, бумазейным одеялом и полупуховой подушкой, зеркало, умывальник. На столе - чернильница, свеча и щипцы для снятия нагара.
Лицеистов повели после торжества в столовую обедать. За ними последовала императрица, и здесь произошел смешной эпизод.
Русские цари женились обычно на иностранных принцессах, и потому русские императрицы плохо говорили по-русски.
Когда лицеисты заняли столы, императрица подошла к лицеисту Александру Корнилову.
- Карош суп? - спросила она.
Корнилов смутился от неожиданного вопроса и ответил невпопад по-французски:
- Oui, monsieur! - (Да, господин!)
Императрица, видимо, тоже смутилась, не поняв, почему лицеист принял ее за мужчину, но, сохраняя свое царское достоинство, улыбнулась и никому уже больше не задавала любезных вопросов.
Корнилов и сам не мог объяснить, почему он так ответил. Но товарищам попал с тех пор на зубок, получив кличку «Oui, monsieur»...
Вечером лицеистов угощали сластями. Затем повели гулять.
В парке белел выпавший снег. Вокруг Лицея горели зажженные плошки. Лицеисты играли в снежки. На снежном фоне ярко выделялись красные воротники и обшлага темных мундиров и треугольные шляпы, в которых щеголяли лицеисты.
В конце вечера был зажжен яркий, многоцветный фейерверк.
* * *
Первые три дня лицеисты устраивались и знакомились друг с другом.
23 октября начались учебные занятия.
Вставали все по звонку в шесть утра. После молитвы, от 7 до 9 часов, - классы; в 9 - чай; до 10 - прогулка; от 10 до 12 - классы; от 12 до 1 часу - прогулка; в 1 час - обед; от 2 до 3 - чистописание или рисование; от 3 до 3 - классы; в 3 часов - чай; до 6 - прогулка. Потом повторение уроков или вспомогательный класс. В 9 часов - ужин по звонку. После ужина, до 10 часов, - встречи и отдых в рекреационном зале. В 10 часов - вечерняя молитва и чай. По средам и субботам - уроки танцев и фехтования. Каждую субботу - баня.
Программа Лицея включала многие предметы: российскую и латинскую словесность, языки французский и немецкий, нравственные, исторические и физико-математические науки, риторику (теорию красноречия), географию, статистику, изящные искусства, чистописание, рисование, пение и гимнастические упражнения - фехтование, верховая езда, плавание.
Вскоре после начала занятий лицеистам было объявлено по распоряжению министра, что до окончания шестилетнего курса никто не должен выезжать из Лицея. Родным разрешено было посещать лицеистов только по праздникам.
Общий лицейский курс делился на два: первый назывался младшим, второй - старшим. При переходе с одного курса на другой проводились публичные экзамены.
* * *
Царское Село. Вид на Большое озеро и Камероновую галерею.С литографии 1820-х годов.
Что представлял собою Царскосельский лицей? Какие принципы положены были в основу воспитания нового поколения русских государственных деятелей? Принципы, враждебные идеям французской революции. В борьбу с ними с первого же дня лицейской жизни вступили профессора и сами воспитанники.
Уже речь Куницына на торжественном открытии Лицея прозвучала взволнованно и призывно. Пушкин, поэтический летописец трудов и дней Лицея, через десятилетия вспоминал, как глубоко она запала в их юные сердца и какую большую роль сыграла в воспитании гражданского и политического миросознания лицеистов. Куницын и «на кафедре беспрестанно говорил против рабства и за свободу».
* * *
Дух благородной дружбы и верности, жажды знаний и вольности, творческого горения и соревнования царил в Царскосельском лицее.
«Мы скоро сжились, свыклись, - вспоминал Пущин. - Образовалась товарищеская семья, в этой семье - свои кружки; в этих кружках начали обозначаться, больше или меньше, личности каждого; близко узнали мы друг друга, никогда не разлучаясь; тут образовались связи на всю жизнь».
В Лицее была прекрасная библиотека и газетная комната. Лицеисты, совсем еще мальчики, знакомились здесь с литературой и новостями дня. Здесь можно было прочитать последние номера «Вестника Европы», основанного Н. М. Карамзиным и издававшегося в Москве с 1802 по 1830 год, и другие журналы.
«Мы также хотим наслаждаться светлым днем нашей литературы, - писал одному из своих друзей лицеист А. Д. Илличевский, - удивляться цветущим гениям Жуковского, Батюшкова, Крылова, Гнедича. Но не худо иногда подымать завесу протекших времен, заглядывать в книги отцов отечественной поэзии: Ломоносова, Хераскова, Державина, Дмитриева... Не худо иногда вопрошать певцов иноземных (у них учились предки наши), беседовать с умами Расина, Вольтера, Делиля...»
Чаще всех засиживались в библиотеке три друга - Пушкин, Дельвиг и Кюхельбекер. Пушкин впитывал в себя знания, на память цитировал многое из прочитанного, а Кюхельбекер вписывал в свой «Словарь» особо будоражившие его мысли и выдержки. Например: «Несчастный народ, находящийся под ярмом деспотизма, должен помнить, если хочет расторгнуть узы свои, что тирания похожа на ярмо, которое суживается сопротивлением. Нет середины: или терпи, как держат тебя на веревке, или борись, но с твердым намерением разорвать петлю или удавиться. Редко, чтобы умеренные усилия не были пагубны».
Здесь зарождались и зрели у юного Пушкина мысли о «Вольности», о «барстве диком, без чувства, без закона», о «насильственной лозе» и порабощенной русской «деревне»...
Товарищи по Лицею видели, что Пушкин во многом опередил их, прочитал многое, о чем они и не слыхали, и великолепно все помнил. И удивило их, что он совсем не важничал, как это часто бывает с детьми-скороспелками - всем им ведь было лет по двенадцати.
«При самом начале - он наш поэт... - вспоминает Пущин. - Пушкин потом постоянно и деятельно участвовал во всех лицейских журналах, импровизировал так называемые народные песни, точил на всех эпиграммы и проч. Естественно, он был во главе литературного движения, сначала в стенах Лицея, потом и вне его...»
* * *
Пробуждавшиеся творческие силы, поэтическое вдохновение требовали выхода, и уже через месяц после открытия Лицея в его стенах родилась рукописная «Сарскосельская лицейская газета», а еще через месяц - «Императорского Саркосельского лицея Вестник», издателем их был лицеист Н. А. Корсаков. (Раньше Царское Село называлось Сарской мызой, Сарским Селом, по его финскому названию.)
Тогда же в квартире гувернера С. Г. Чирикова открылись литературные собрания, на которых один кто-либо начинал рассказывать какуюнибудь повесть, другие ее подхватывали, продолжали.
Здесь обычно первенствовал Дельвиг. Пушкин, скрыв источник, рассказывал содержание написанных Жуковским баллад о двенадцати спящих девах, а позже - сюжет своей будущей повести «Метель».
Через некоторое время возник в Лицее новый журнал - «Неопытное перо». Издавали его: Пушкин, Дельвиг и Корсаков. В лицейском рукописном журнале «Собрание лицейских стихотворений» 1813 года мы читаем приписываемую Пушкину эпиграмму «Двум Александрам Павловичам». В ней поэт с поразительной смелостью сопоставляет помощника гувернера Лицея Александра Павловича Зернова с императором Александром Павловичем Романовым:
Романов и Зернов лихой,
Вы сходны меж собою:
Зернов! хромаешь ты ногой,
Романов головою.
Но что, найду ль довольно сил
Сравненье кончить шпицом?
Тот в кухне нос переломил,
А тот под Австерлицом.
Вскоре лицеистов увлекла игра в «парламент». Услышав от педагогов, что в Англии сам король подчиняется парламенту, они стали устраивать заседания, произносили речи, принимали резолюции. Затрагивались в них, конечно, и темы политические.
* * *
Кто же прививал юным лицеистам вольнолюбивые мотивы, настроения? К кому обращал Пушкин 19 октября 1825 года слова благодарности:
Наставникам, хранившим юность нашу,
Всем честию, и мертвым и живым,
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим.
Мы уже познакомились с профессором А. П. Куницыным, блестяще выступившим перед собравшимися на торжестве открытия Лицея. Теперь познакомимся и с другими лицейскими наставниками.
После первого директора Лицея, В. Ф. Малиновского, человека доброго и простодушного, но малообщительного и слабого, большой и глубокий след оставил в сердцах лицеистов Е. А. Энгельгардт, второй директор Лицея. Лицеисты всегда вспоминали его добрым словом.
Знакомя питомцев с правилами внутреннего лицейского распорядка, Энгельгардт говорил, что «все воспитанники равны, как дети одного отца и семейства», и потому никто не может презирать другого или гордиться чем-либо. Он запрещал лицеистам кричать на служителей и бранить их, даже если это были крепостные люди.
Простые человеческие отношения установились у директора с лицеистами. Он часто принимал их у себя дома, посещал воспитанников после вечернего чая в Лицее, устраивал совместные чтения, знакомил с правилами и обычаями светской и общественной жизни. Летом совершал вместе с ними дальние прогулки, зимой лицеисты ездили на тройках за город, катались с гор и на коньках. Во всех этих увеселениях принимала участие семья директора, и женское общество придавало всему особую прелесть и приучало лицеистов к приличному обращению. «Одним словом, - вспоминал Пущин, - директор наш понимал, что запрещенный плод - опасная приманка и что свобода, руководимая опытною дружбой, удерживает юношу от многих ошибок».
Когда Александр I надумал «познакомить лицеистов с фронтом», Энгельгардт решительно воспротивился этому. Он отразил и предложение царя посылать лицеистов дежурить камер-пажами при императрице во время летнего ее пребывания в Царском Селе. Многие лицеисты считали такого рода обязанности лакейскими...
До конца дней сохранились у Энгельгардта дружеские отношения с своими бывшими питомцами. Когда после 14 декабря 1825 года Пущин, Кюхельбекер и Вольховский оказались за участие в восстании декабристов на каторге и в ссылке, Энгельгардт не побоялся вести с ними переписку, всегда согретую сердечным теплом, любовью и большим уважением.
* * *
Общей любовью лицеистов пользовался в Лицее доктор философии и свободных искусств, один из лучших знатоков античной литературы, профессор российской и латинской словесности Н. Ф. Кошанский. Однажды после лекции, в послеобеденный час, он предложил:
- Теперь будем пробовать перья: опишите мне, пожалуйста, розу стихами...
Перед этим Кошанский познакомил лицеистов со стихотворением Державина:
Юная роза
Лишь развернула
Алый шипок;
Вдруг от мороза
В лоне уснула,
Свянул цветок.
Написанное тогда Александром Пушкиным стихотворение не дошло до нас. Но, обладая прекрасной памятью, быть может, его вспомнил он в 1815 году:
Где наша роза,
Друзья мои?
Увяла роза,
Дитя зари.
Не говори:
Так вянет младость!
Не говори:
Вот жизни радость!
Цветку скажи:
Прости, жалею!
И на лилею
Нам укажи.
Судя по ритму, оно навеяно державинской «Розой», но в нем уже чувствуется самостоятельные глубина и зрелость: «Так вянет младость!»
В этом первом открытом состязании юных лицейских поэтов проявили себя и Илличевский, и Кюхельбекер, и особенно Дельвиг. Принимали участие в таких состязаниях еще два поэта и талантливых музыканта - Корсаков и Яковлев...
Кошанский сыграл значительную роль в жизни лицейских поэтов.
- Дельвиг, где ты учился языку богов? - спросил его однажды П. А. Плетнев.
- У Кошанского! - ответил Дельвиг.
В успехах Александра Пушкина Кошанский отмечал «не столько твердость, сколько блистательность».
* * *
Вскоре профессор Кошанский заболел, и его сменил в Лицее талантливый А. И. Галич, только что вернувшийся из-за границы, где заканчивал образование и готовился к профессорскому званию.
Галич обращался с лицеистами дружески, как старший товарищ. На занятиях лицеисты часто, окружив его, задавали вопросы, спорили с ним, шалили. Когда шалость заходила слишком далеко, Галич брал в руки произведения римского историка и биографа Корнелия Непота и предлагал что-нибудь перевести из него:
- Ну, теперь потреплем старика!..
Корнелий Непот родился за сто лет до нашей эры. Произведения его считались образцами по ясности и простоте слога.
Лицеисты очень любили Галича, часто посещали его на дому. Это он предложил юному Пушкину написать для лицейского экзамена свои «Воспоминания в Царском Селе». Пушкин тепло и дружески упоминает Галича в «Пирующих студентах»:
Апостол неги и прохлад,
Мой добрый Галич, vale1!
Ты Эпикуров младший брат,
Душа твоя в бокале.
Главу венками убери,
Будь нашим президентом,
И станут самые цари
Завидовать студентам.
* * *
Отличался от всех лицейских профессоров историк И. К. Кайданов. К его лекциям лицеисты относились серьезно.
Профессор физико-математических наук Я. И. Карцов не сумел заставить лицеистов полюбить свой предмет. Человек острый и язвительный, он любил рассказывать на уроках разные истории и анекдоты, вызывавшие общий непрерывный хохот.
Если, стоя на уроке математики у доски, лицеист отвечал невпопад, он издевался над ним:
- А плюс Б равно красному барану.
Или:
- Тяп да ляп и состроим корабль.
Однажды он вызвал к доске Пушкина и задал ему алгебраическую задачу. Переминаясь с ноги на ногу, Пушкин молча писал на доске какие-то формулы - математика и алгебра ему явно не давались.
- Что же вышло? Чему равняется икс? - спросил Карцов.
- Нулю! - ответил, улыбаясь, Пушкин.
- Хорошо! У вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем. Садитесь на свое место и пишите стихи.
О Куницыне, Кошанском, Кайданове, Карцове первый биограф Пушкина П. В. Анненков писал: «Можно сказать без всякого преувеличения, что все эти лица должны были считаться передовыми людьми эпохи на учебном поприще. Ни за ними, ни около них мы не видим, в 1811 году, ни одного русского имени, которое бы имело более прав на звание образцового преподавателя, чем эти, тогда еще молодые имена».
* * *
Следует отметить и профессора французского языка Д. И. де Будри. Он потому интересовал всех, что был младшим братом Жана Поля Марата, знаменитого «друга народа» в эпоху Великой французской революции. Забавный, коротенький, довольно объемистый старичок в своем засаленном, слегка напудренном парике внешне не был привлекателен, однако преподаватель был строгий и дельный и гордился своим братом-революционером. Но, писал Пушкин, «Будри, несмотря на свое родство, демократические мысли, замасленный жилет и вообще наружность, напоминавшую якобинца, был на своих коротеньких ножках очень ловкий придворный».
Ему Пушкин обязан был блестящим знанием французского языка.
Добрые отношения сложились у лицеистов с С. Г. Чириковым, учителем рисования и гувернером. Это был человек тактичный и обходительный. Лицеисты не имели права пользоваться отпусками и свободное время нередко проводили у Чирикова, в его лицейской квартире.
* * *
Нельзя не остановиться особо на личности лицейского инспектора, надзирателя по учебной и нравственной части, М. С. Пилецкого-Урбановича. «Это был довольно образованный человек, но святоша и мистик, обращавший на себя внимание своим горящим всеми огнями фанатизма глазом, кошачьими приемами и походкою, - как характеризовал его лицеист М. А. Корф, - с жестоко хладнокровною и ироническою, прикрытою видом отцовской нежности строгостью. Он долго жил в нашей памяти, как бы какое-нибудь привидение из другого мира».
Пилецкий-Урбанович был в Лицее истовым проводником иезуитских правил - благочестия и сыска, подслушивания и взаимных доносов.
Пилецкому подчинены были все лицейские гувернеры, их помощники и надзиратели, в большинстве люди случайные - отставные военные, заезжие иностранцы, мелкие чиновники, не имевшие никакой педагогической подготовки. Им Пилецкий поручил «морально присутствовать» среди лицеистов, следить за ними, подслушивать, залезать в их души. Он был и тайным агентом полиции.
На Пушкина Пилецкий-Урбанович обратил особое внимание, следил за каждым его шагом и обо всем доносил по начальству.
Лицеисты ненавидели Пилецкого. Их возмущала его развязно-ласковая фамильярность в обращении с посещавшими их сестрами и кузинами, и в конце ноября разразился постепенно назревавший скандал.
Возглавил его Александр Пушкин.
Пилецкий стал отнимать у Дельвига какое-то его сочинение. Пушкин возмутился:
- Как вы смеете брать наши бумаги! Стало быть, и письма наши из ящика будете брать? - крикнул он.
Об этом сообщили директору. Дело кое-как замяли, но в марте 1813 года недовольство Пилецким вспыхнуло с новой силой.
Лицеисты вызвали Пилецкого в конференц-зал, открыто объяснились с ним и предложили оставить Лицей:
- Уходите, в противном случае мы все подадим заявления об оставлении Лицея.
Чувствуя, что противиться бесполезно, Пилецкий подчинился и покинул Лицей.
* * *
Познакомимся теперь с питомцами Лицея. Один из них вскоре выбыл. Осталось двадцать девять, и среди них - Пушкин.
Были между лицеистами первого выпуска люди разных характеров, взглядов, темпераментов. По-разному сложилась их жизнь и после Лицея.
Яркие и острые характеристики дал Пушкин своим ближайшим товарищам в стихотворениях: «Пирующие студенты», 1814 года, и «19 октября», 1825 года.
Но лишь двенадцать товарищей упоминает в них Пушкин, двенадцать более близких своих друзей. Из них особенно известны всем имена И. И. Пущина, А. А. Дельвига и В. К. Кюхельбекера.
* * *
С Пущиным Пушкин сблизился в первые же дни лицейской жизни. Их комнаты, под номерами 13 и 14, были рядом. Отделенные друг от друга тонкой перегородкой, они могли до глубокой ночи разговаривать по душам.
При первой же встрече Иван Пущин - Жано, по лицейскому прозвищу, - остановил свое пристальное внимание на Пушкине несознательно, быть может, по сходству фамилий: Пушкин и Пущин.
Жано нравился Александру простотой, твердостью убеждений, высокой моральной чистотой - всем рыцарским обликом своим. Пушкин, несмотря на неровность характера, поразил Пущина смелостью, необузданной фантазией и всем тем, что сразу же выдвинуло его на первое место среди товарищей.
Они подружились на всю жизнь. Пущин стал первым другом Пушкина, хотя и видел недостатки его характера. В натуре Пушкина уживались излишняя смелость с застенчивостью - то и другое часто проявлялось невпопад и тем самым вредило ему в товарищеских отношениях:
Порой ленив, порой упрям,
Порой лукав, порою прям,
Порой смирен, порой мятежен,
Порой печален, молчалив,
Порой сердечно говорлив...
Чтобы полюбить Пушкина, нужно было взглянуть на него с расположением, снисходительно отнестись к неровностям и недостаткам характера. Такими чертами обладал Пущин, и это сближало обоих товарищей, помогало укрепить дружбу.
Характер их дружбы Пушкин и отразил в посвященных Пущину стихах:
Товарищ милый, друг прямой,
Тряхнем рукою руку,
Оставим в чаше круговой
Педантам сродну скуку:
Не в первый раз мы вместе пьем,
Нередко и бранимся,
Но чашу дружества нальем -
И тотчас помиримся.
Покидая Лицей, Пушкин вписал Пущину «В альбом»:
Ты вспомни быстрые минуты первых дней,
Неволю мирную шесть лет соединенья,
Печали, радости, мечты души твоей,
Размолвки дружества и сладость примиренья...
* * *
Так выглядела комната воспитанника Лицея.Фотография.
С лицеистом А. А. Дельвигом Пушкина сблизила любовь к поэзии.
Характеристику Дельвига дали педагоги вскоре после его поступления в Лицей: «Способности его посредственные, как и прилежание, а успехи весьма медленны. Мешковатость вообще его свойство и весьма приметна во всем, только не тогда, когда он шалит или резвится: тут он насмешлив, балагур, иногда нескромен... приметное в нем добродушие, усердие его и внимание к увещаниям, при начинающемся соревновании в российской истории и словесности, облагородствуют его склонность и направят его к важнейшей и полезнейшей цели».
Лицеисты посмеивались над поэтическим творчеством своего мешковатого товарища:
Ха-ха-ха! хи-хи-хи!
Дельвиг пишет стихи!..
Но Пушкин сразу познал в нем своего «брата названого», с ним «под одинаковой звездой» рожденного. И уже в первые лицейские годы «шумный встретил их восторг»: в 1814 году в журналах начали одновременно печататься стихотворения Пушкина и Дельвига.
В «Российском Музеуме» появилось стихотворение Дельвига «К А. С. Пушкину», заканчивавшееся стихами:
Пушкин! Он и в лесах не укроется:
Лира выдаст его громким пением,
И от смертных восхитит бессмертного
Аполлон на Олимп торжествующий.
Позже, в лицейскую годовщину 1825 года, Пушкин вспоминал их первые поэтические восторги:
С младенчества дух песен в нас горел,
И дивное волненье мы познали;
С младенчества две музы к нам летали,
И сладок был их лаской наш удел:
Но я любил уже рукоплесканья,
Ты, гордый, пел для муз и для души;
Свой дар как жизнь я тратил без вниманья,
Ты гений свой воспитывал в тиши.
За посещение в михайловской ссылке опального Пушкина Дельвиг был уволен со службы в петербургской Публичной библиотеке...
Полтора столетия отделяют нас от тех лицейских лет, но имя Дельвига и сегодня стоит в русской поэзии рядом с именем Пушкина. И вряд ли многие сегодня знают, что романс «Соловей», положенный на музыку А. А. Алябьевым и М. И. Глинкою, написан Дельвигом, что его перу принадлежат также часто исполняемые артистами на концертах романсы и песни: «Мне минуло шестнадцать лет», «Протекших дней очарованья...», «Только узнал я тебя», «Одинок месяц плыл, зыбляся в тумане», «Когда, душа, просилась ты», «Не говори: любовь пройдет...» и другие.
Уже незадолго до смерти Дельвиг создал ставший очень популярным романс «Не осенний частый дождичек». Написанную на эти слова музыку Глинка ввел впоследствии в свою оперу «Иван Сусанин» для романса Антониды - «Не о том скорблю, подруженьки...».
Пушкин ценил «чувство гармонии», «классическую стройность», «слог могучий и крылатый» сонетов и идиллий Дельвига. Он любил Дельвига любовью нежной и трогательной, и Дельвиг отвечал ему тем же.
* * *
В садах Лицея. Рисунок Н. Кузьмина. 1935 г.
Дружеские отношения установились у Пушкина с Кюхельбекером.
Кюхля, милый Кюхля... Это была лицейская кличка Кюхельбекера, поэта и чудака, долговязого, несколько похожего по своему романтическому складу мышления на Дон-Кихота.
Директор Царскосельского лицея Е. А. Энгельгардт так характеризовал его:
«Читал все на свете книги обо всех на свете вещах, имеет много таланта, много прилежания, много доброй воли, много сердца и много чувства, но, к сожалению, во всем этом не хватает вкуса, такта, грации, меры и ясной цели. Он, однако, верная невинная душа, и упрямство, которое в нем иногда проявляется, есть только донкихотство чести и добродетели с значительной примесью тщеславия. При этом он, в большинстве случаев, видит все в черном свете, бесится на самого себя, совершенно погружается в меланхолию, угрызения совести и подозрения; и не находит тогда ни в чем утешения, разве только в каком-нибудь гигантском проекте».
Неудивительно, что эту «верную невинную душу» лицейские товарищи искренне любили, но иногда и ранили своими острыми, беспощадными, ребяческими шутками.
Кюхельбекер, например, очень обиделся на озорные пушкинские стихи:
За ужином объелся я,
А Яков запер дверь оплошно -
Так было мне, мои друзья,
И кюхельбекерно и тошно.
Но все это были лишь дружеские шутки и остроты товарищей. Все они никогда не переставали любить Кюхлю нежно и сердечно.
В лицейскую годовщину 1825 года, находясь в михайловской ссылке, Пушкин очень тепло вспоминал Кюхельбекера, и в стихотворении «19 октября» выразил душевную красоту, большое благородство и высокое поэтическое вдохновение своего лицейского товарища и друга:
Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво:
Но юность нам советует лукаво,
И шумные нас радуют мечты...
Опомнимся - но поздно! и уныло
Глядим назад, следов не видя там.
Скажи, Вильгельм, не то ль и с нами было,
Мой брат родной по музе, по судьбам?
Пора, пора! душевных наших мук
Не стоит мир; оставим заблужденья!
Сокроем жизнь под сень уединенья!
Я жду тебя, мой запоздалый друг -
Приди; огнем волшебного рассказа
Сердечные преданья оживи;
Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви.
Стихи были написаны Пушкиным за два месяца до восстания 14 декабря, которое закончилось для Кюхельбекера десятилетним заключением его в царских крепостях и тюрьмах. Пушкин никогда не забывал друга и пользовался всякой возможностью посылать ему на каторгу письма и получать ответы...
* * *
Со многими лицейскими товарищами Пушкина связывали добрые, дружеские, но не столь близкие отношения.
С И. В. Малиновским, сыном первого директора Лицея, Пушкина связывала любовь к проказам.
В «Пирующих студентах» Пушкин писал:
А ты, повеса из повес,
На шалости рожденный,
Удалый хват, головорез.
Приятель задушевный...
Вспоминая в стихотворении «19 октября» 1825 года о посещении его в михайловской ссылке Пущиным, Пушкин обращался к Малиновскому со стихами, впоследствии изъятыми поэтом из беловой рукописи:
Что ж я тебя не встретил тут же с ним,
Ты, наш казак и пылкий и незлобный,
Зачем и ты моей сени надгробной
Не озарил присутствием своим?
В Лицее Пушкин и Малиновский дружили. Впоследствии они не встречались, но Малиновский был одним из тех, кого Пушкин вспомнил на смертном одре...
М. Л. Яковлев был бессменным старостой лицейских собраний их выпуска, хранителем лицейских традиций и архива лицеистов.
Лицеист К. К. Данзас, по прозвищу «Медведь», учился плохо. Был выпущен офицером в инженерный корпус. Под его началом служил потом М. Ю. Лермонтов в Тенгинском полку. Пушкин встречался с ним в годы кишиневской ссылки. В январе 1837 года Данзас был его секундантом на дуэли с Дантесом...
С Ф. Ф. Матюшкиным, впоследствии контр-адмиралом, Пушкин в Лицее мало общался, но по окончании Лицея они относились друг к другу сердечно. Узнав о смерти Пушкина, Матюшкин писал Яковлеву из Севастополя: «Пушкин убит! Яковлев! Как ты это допустил? У какого подлеца поднялась на него рука? Яковлев, Яковлев! Как ты мог допустить это? Наш круг редеет, пора и нам убираться...»
Несколько обособленно держался лицеист А. М. Горчаков. Поступив после Лицея на службу, он стал к концу жизни своей весьма видным сановником - «светлейшим князем», канцлером. «Благородство с благовоспитанностью, ревность к пользе и чести своей, всегдашняя вежливость, усердие ко всякому, дружелюбие, чувствительность с великодушием. Опрятность и порядок царствуют во всех его вещах» - такова была данная ему воспитателями Лицея характеристика.
Товарищи не любили Горчакова. Пушкин посвятил ему несколько стихотворений.
Тебе рукой фортуны своенравной
Указан путь и счастливый и славный, -
Моя стезя печальна и темна, -
писал, как бы предугадывая будущее, Пушкин по выходе из Лицея.
Встретившись с Горчаковым в 1825 году, через восемь лет после окончания Лицея, Пушкин сообщил Вяземскому: «Мы встретились и расстались довольно холодно - по крайней мере, с моей стороны. Он ужасно высох - впрочем, так и должно; зрелости нет у нас на севере, мы или сохнем, или гнием; первое все-таки лучше».
Многие из лицеистов первого выпуска прошли свой жизненный путь, не оставив следа - их имена давно забыты, - но живут и всегда будут жить имена тех, кто во главе с Пушкиным образовал в Царском Селе, рядом с императорским дворцом, вольнолюбивую «лицейскую республику».
* * *
В начале XIX века в русской литературе происходило сильное брожение. На смену отживавшему классицизму пришел сентиментализм, ярким выразителем которого был в русской литературе Н. М. Карамзин, автор повести «Бедная Лиза». В ногу с ним шли в лирической поэзии И. И. Дмитриев, В. А. Жуковский и дядя Александра Пушкина, Василий Львович.
Карамзин освободил русский язык от обилия церковнославянизмов и до известной степени расчистил путь литературному языку Пушкина. Но, - писал Белинский, - он «не прислушивался к языку простолюдинов...»
Этот карамзинский период русской литературы явился переходным к романтизму, родоначальником которого в русской литературе был Жуковский.
Значительным явлением в первые лицейские годы Пушкина было крушение авторитета классицизма, стремление по-новому осмыслить художественное наследие античного мира. Течение это представлял в своей «легкой поэзии» К. Н. Батюшков, оказавший в те годы сильнейшее влияние на творчество юного Пушкина.
Первые три дошедшие до нас стихотворения написаны были четырнадцатилетним Александром в 1813 году.
Стихотворение, которым открываются обычно собрания сочинений Пушкина, - это шутливо-легкомысленное любовное послание «К Наталье», крепостной актрисе домашнего царскосельского театра В. В. Толстого. Спектакли этого театра лицеисты часто посещали.
«Монах» - заглавие второго произведения четырнадцатилетнего Пушкина, большой неоконченной эротической, сатирической и антирелигиозной поэмы в 411 стихов. В ней упоминается «Орлеанская дева» Вольтера как образец такого рода шутливых поэм.
Третье стихотворение Александра Пушкина, «Несчастие Клита», - эпиграмма в шесть строк на лицейского товарища Кюхельбекера.
Уже эти три первые, написанные разнообразными размерами произведения давали представление о том, как свободно владеет стихотворной формой юный поэт.
В следующем, 1814 году из-под пера пятнадцатилетнего Пушкина появляются не три, а двадцать четыре стихотворения!
Стихотворение «К другу стихотворцу», написанное в самом начале 1814 года, привлекло к себе широкое внимание литературных кругов и было напечатано в самом распространенном и авторитетном тогда журнале «Вестник Европы» за подписью «Н. к. ш. п.».
В шутливо-иронической форме юный Пушкин размышляет здесь о существе поэзии, о месте, значении и судьбе поэта. Поэт не тот, «кто рифмы плесть умеет», замечает автор стихотворения, а тот, чьи стихи «питают здравый ум и вместе учат нас...».
Видимо, Кюхельбекеру Пушкин дает в этом стихотворении совет «не спешить за лаврами опасною стезей» на Парнас:
Чтоб не слететь с горы, скорее вниз ступай!
Уподобляясь маститому служителю муз, лицеист Пушкин предупреждает начинающего поэта:
На Пинде лавры есть, но есть там и крапива.
Страшись бесславия! - Что, если Аполлон,
Услышав, что и ты полез на Геликон,
С презреньем покачав кудрявой головою,
Твой гений наградит - спасительной лозою?
Юный Пушкин советует другу стихотворцу не слишком обольщаться надеждами на житейские блага:
Не так, любезный друг, писатели богаты;
Судьбой им не даны ни мраморны палаты.
Ни чистым золотом набиты сундуки:
Лачужка под землей, высоки чердаки -
Вот пышны их дворцы, великолепны залы.
Путь поэта тернист, наставляет он:
Их жизнь - ряд горестей, гремяща слава - сон.
Вслед за этим в новом номере «Вестника Европы» было напечатано второе стихотворение Пушкина - «Кольна», за подписью «Александр Нкшп». Это было вольное переложение отрывка из поэмы Оссиана «Кольна-Дона». Всех поразили тема стихотворения, музыкальные стихи:
Близ пепелища все воссели;
Веселья барды песнь воспели;
И в пене кубок золотой
Кругом несется чередой.
Через год, в 1815 году, уже за полной подписью - Александр Пушкин - в «Российском Музеуме» появляются еще несколько новых стихотворений поэта. Они производят большое впечатление. Особенно поражают высоким патриотическим подъемом «Воспоминания в Царском Селе».
* * *
«Навис покров угрюмой нощи...»
Уже в первые дни Лицея до Царского Села докатилась весть о речи, произнесенной в августе 1811 года Наполеоном на торжественном приеме дипломатического корпуса в Тюильрийском дворце. В присутствии русского посла Куракина он обвинял Александра I в военных приготовлениях, угрожал. Это было неофициальное объявление войны. А в конце 1811 года уже заговорили о войне с Наполеоном. Юные лицеисты собирались в газетной комнате и жадно набрасывались на свежие газеты и журналы той поры: «Санкт-Петербургские ведомости», «Московские ведомости», «Вестник Европы», «Северная почта», «Друг юношества», иностранные журналы.
13 января 1812 года Наполеон заключил военные союзы с Австрией и Пруссией, в феврале французские войска перешли Эльбу и Одер, и вот в марте последовал царский манифест о рекрутском наборе.
Собрав огромную по тем временам разноплеменную армию в 580 000 человек, Наполеон 12 июня перешел Неман и 16 июня занял Вильно.
Началась война - «гроза 1812 года».
Из Петербурга, мимо Царского Села, русские войска проходили на запад для отпора врагу. Лицеисты, еще подростки, почувствовали себя гражданами великой России, патриотами родины. Мимо Лицея отправлялись на фронт и расквартированные в Царском Селе полки.
Спустя четверть века, в лицейскую годовщину 1836 года, Пушкин вспоминал те волнующие дни;
Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас... и племена сразились,
Русь обняла кичливого врага,
И заревом московским озарились
Его полкам готовые снега.
«Жизнь наших лицеистов, - вспоминал позже Пущин, - сливается с политическою эпохою народной жизни русской: приготовлялась гроза 1812 года. Эти события сильно отразились на нашем детстве».
31 августа лицеисты с волнением читали в «Северной почте» донесение фельдмаршала М. И. Кутузова о героическом Бородинском сражении, а еще через несколько дней новое его донесение: «Доколе будет существовать армия и находиться в состоянии противиться неприятелю, до тех пор сохраним надежду благополучно довершить войну, но когда уничтожится армия, погибнут Москва и Россия».
Лицеисты плакали, когда узнали об оставлении русскими войсками охваченной пожарами Москвы.
14 сентября 1812 года директор Лицея Малиновский получил секретное предписание министра народного просвещения Разумовского: «Как в настоящих обстоятельствах легко может случиться, что назначено будет отправить воспитанников Лицея в другую губернию, то необходимо принять заблаговременно нужные для сего меры».
Малиновский начал уже готовиться к эвакуации Лицея, но 15 октября лицеисты прочитали в газетах, что пушечный салют с Петропавловской крепости возвестил «совершенную победу, одержанную ген.-фельдмаршалом Голенищевым-Кутузовым над французскими войсками, под командою короля Иоахима (Мюрата) сражавшимися, и освобождение корпусом ген.адъютанта бар. Винценгероде первопрестольного града Москвы от врагов наших».
Лицеисты ликовали и через несколько дней праздновали первую годовщину основания своего Лицея.
В поход, гнать врага с русской земли, двинулись партизанские отряды Фигнера, Сеславина, певца-героя 1812 года Дениса Давыдова. С вилами и кольями вышли бить французов мужики и бабы...
«Клики, терроризирующие и победные, поразившие его (Пушкина) еще в детстве, в 1813-1814 году, отдавались в его душе», - писал Герцен, подчеркивая значение Отечественной войны для всего творчества поэта. И, гордый сознанием величия родины-победительницы, пятнадцатилетний Пушкин написал в октябре 1814 года свои «Воспоминания в Царском Селе»:
Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны;
Восстал и стар и млад; летят на дерзновенных.
Сердца их мщеньем зажжены.
Вострепещи, тиран! уж близок час паденья!
Ты в каждом ратнике узришь богатыря...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Утешься, мать градов России,
Воззри на гибель пришлеца.
Отяготела днесь на их надменны выи
Десница мстящая творца.
Взгляни: они бегут, озреться не дерзают,
Их кровь не престает в снегах реками течь;
Бегут - ив тьме ночной их глад и смерть сретают,
А с тыла гонит русский меч.
19 марта 1814 года русские войска вступили в Париж.
В Париже росс! - где факел мщенья?
Поникни, Галлия, главой...
И юный Пушкин восхищается великодушием русских:
Но что я вижу? Росс с улыбкой примиренья
Грядет с оливою златой.
* * *
В Лицей пришло известие, что 26 февраля 1815 года Наполеон оставил Эльбу и 1 марта высадился во Франции. 13 марта французские войска перешли на его сторону, а Людовик XVIII покинул Париж.
Пушкин отозвался на это событие стихотворением «Наполеон на Эльбе». В нем он отразил настроения и мысли поверженного императора, несущего народам не оливу златую, а кровь и страдания; дарящего людям не мир и покой, а новые беды:
Один во тьме ночной над дикою скалою
Сидел Наполеон.
В уме губителя теснились мрачны думы,
Он новую в мечтах Европе цепь ковал
И, к дальним берегам возведши взор угрюмый,
Свирепо прошептал:
«Вокруг меня всё мертвым сном почило,
Легла в туман пучина бурных волн,
Не выплывет ни утлый в море челн,
Ни гладный зверь не взвоет над могилой -
Я здесь один, мятежной думы полн...»
Падшему императору изменило долго служившее счастье, но «злобный обольститель» не сдается и «в безмолвии ночей» дерзновенно мечтает:
«...Страшись, о Галлия! Европа! мщенье, мщенье!
Рыдай - твой бич восстал - и все падет во прах,
Все сгибнет, и тогда, в всеобщем разрушенье,
Царем воссяду на гробах!»
Получив через шесть лет известие о смерти сосланного на остров Святой Елены Наполеона, Пушкин посвятил развенчанному императору новое стихотворение.
* * *
«Пирующие студенты» - стихотворение, в котором Пушкин давал лицейским товарищам острые и яркие характеристики, было написано им после сентябрьского события 1814 года, вошедшего в официальную историю Лицея под именем «Дела № 17» - «О проступке воспитанников Лицея Малиновского, Пушкина и Пущина, о заведении особой книги и внесении в оную имен помянутых воспитанников с означением их вины». В обиходе лицеистов дело это просто называлось историей с гогельмогелем...
Друзья задумали устроить пирушку. Пушкин достал бутылку рома, дядька Фома купил по просьбе трех друзей яиц и сахару, тайком принес в одну из своих комнат кипящий самовар, и лицеисты приготовили гогель-могель. Были и другие участники этой пирушки, но все они, как вспоминал Пущин, «остались за кулисами по делу». Все шло гладко. Было весело, но немного шумно, и надзиратель Фролов, заметив какое-то оживление и беготню, не замедлил донести об этом инспектору Пилецкому. Начались опросы и розыски. Все трое, зачинщики гогель-могеля, явились, объявили, что все это дело их выдумки и что виноваты во всем они одни.
Дело дошло до министра Разумовского, и вскоре конференция вынесла решение:
1. Всем троим стоять две недели на коленях во время утренней и вечерней молитвы.
2. Сместить всех на последние места за столом, где они сидели по поведению.
3. Занести фамилии всех троих, с прописанием виновности и приговора, в черную книгу, которая должна была иметь влияние при выпуске.
Первый пункт был выполнен буквально, и с 21 октября по 5 ноября 1814 года Малиновский, Пущин и Пушкин дважды в день стояли во время молитвы на коленях. Можно представить себе, сколько шуток со стороны лицеистов сыпалось в адрес провинившихся.
Второй пункт был тоже выполнен. Но Пушкин, и без того занимавший в классе предпоследнее, двадцать восьмое, место по поведению, был доволен, когда их начали постепенно передвигать вперед. На этом конце дежурный гувернер раздавал обычную пищу во время обеда и ужина, и Пушкин сразу же отразил свое полное удовлетворение этим в двустишии:
Блажен муж, иже
Сидит к каше ближе.
Третий пункт остался без последствий - дело сдано было в архив.
* * *
В те дни, когда история с гогель-могелем раскрылась, Александр заболел, попал в лазарет и в веселую минуту написал острое и шаловливое послание к товарищам - «Пирующие студенты», - в котором пародировал форму популярного «Певца во стане русских воинов» Жуковского.
Вечером он пригласил товарищей навестить его в лазарете и прослушать только что написанное стихотворение.
Оно было большое. Яркие пушкинские характеристики товарищей часто прерывались смехом и восклицаниями собравшихся. Заканчивалось стихотворение озорным обращением к Кюхельбекеру:
Писатель за свои грехи!
Ты с виду всех трезвее;
Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее.
При этом возгласе, вспоминал почти через полвека Пущин, Кюхельбекер, «растаявши под влиянием поэзии, приходит в совершенное одурение от неожиданной эпиграммы и нашего дикого натиска. Добрая душа был этот Кюхель! Опомнившись, просит он Пушкина еще раз прочесть».
Лирика первых лицейских лет Пушкина многообразна по своему содержанию и жанрам. Здесь и галантно-эротическое послание, и веселая сатирами эпиграммы. Но уже в ранних произведениях своих поэт проявляет большой интерес к русскому народному творчеству. И одновременно с горячим патриотизмом в них ощущается рост вольнолюбивых настроений будущего автора «Вольности» и «Деревни».
Смело и уверенно поднимался лицеист Александр Пушкин на лицейский Парнас.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ЦАРСКОЕ СЕЛО
1815-1817
Лицейский Парнас
В те дни в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне.
А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»
22 декабря 1814 года в приложении к «Санкт-Петербургским ведомостям» было помещено - и дважды повторено - объявление:
«Императорский Царскосельский лицей имеет честь уведомить, что 4 и 8 числа будущего января месяца, от 10 часов утра до 3 пополудни, имеет быть в оном публичное испытание воспитанников первого приема, по случаю перевода их из младшего в старший возраст».
Испытание происходило в актовом зале Лицея. За покрытым красным сукном большим столом сидел министр А. К. Разумовский с экзаменаторами. В креслах перед столом - приглашенные, именитые лица империи, родственники лицеистов, друзья и знакомые. За ними - двадцать девять лицеистов первого выпуска.
Публичный экзамен по русскому языку охватывал четыре раздела: разные роды слогов и упражнения речи, краткая литература красноречия в России, славянская грамматика, чтение собственных сочинений.
Экзамен этот предполагалось провести еще в октябре, и тогда «добрый Галич», любимый Пушкиным лицейский профессор словесности, долго убеждал своего юного друга написать и прочитать на экзамене стихи, которые тронули бы сердца всех гостей Лицея.
Пушкин не сразу дал согласие - о чем писать? - но прогулка по царскосельскому парку неожиданно подсказала тему.
На виду торжественной Камероновой галереи со скульптурами богов Олимпа, философов древней Эллады и бюстами поэтов и императоров Древнего Рима высилась посреди озера Чесменская колонна - памятник победам россов над Турцией. Дальше - Катульский обелиск с надписью о геройском подвиге в 1770 году двоюродного деда Пушкина, Ивана Абрамовича Ганнибала: «...крепость Наваринская сдалась Бригадиру Ганнибалу. Войск российских было шестьсот человек, кои не спрашивали, многочислен ли неприятель, но где он. В плен турок взято шесть тысяч». Адмиралтейство на берегу озера, Морейская колонна - все это были памятники славы и величия России. И только что отшумела гроза двенадцатого года...
Пушкин решился.
8 января 1815 года в актовом зале Лицея встретились два поэта. Один был очень стар, другой - очень юн. Один уже уходил из жизни, другой стоял на ее пороге.
Звезды, ордена и лента через плечо украшали парадный мундир Державина. На ногах были мягкие плисовые сапоги - у него болели ноги. Ему шел восьмой десяток. Сидя за столом, он не очень прислушивался к тому, что происходило в зале.
Временами Державин поднимал свой угасавший, мутный взор и рассматривал висевшие на стенах большие портреты в старинных резных золотых рамах. То были изображения самодержцев ушедшего века. Он долго смотрел на портрет Екатерины II.
Перед ним пронеслись видения минувшего века. «Бич вельмож и поборник права», Державин призывал окружавших Екатерину царедворцев
Змеей пред троном не сгибаться,
Стоять - и правду говорить...
На средину зала вышел пятнадцатилетний мальчик в лицейском сюртуке и начал читать свои «Воспоминания в Царском Селе». В наступившей глубокой тишине Державин вдруг услышал:
О вас, сподвижники, друзья Екатерины,
Пройдет молва из рода в род.
Он пробудился от своего полусна, невольно привстал, приложил ладонь к уху и вдруг услышал, как прозвучало его собственное имя:
О, громкий век военных споров,
Свидетель славы россиян!
Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,
Потомки грозные славян,
Перуном Зевсовым победу похищали;
Их смелым подвигам страшась дивился мир;
Державин и Петров героям песнь бряцали
Струнами громозвучных лир...
Пушкин закончил... Он читал с необыкновенным воодушевлением. «Мороз по коже пробегал у меня», - писал позже Пущин.
Вспоминая то утро, Пушкин писал: «Наконец вызвали меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояние души моей: когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом... Не помню, как я кончил свое чтение; не помню, куда убежал. Державин был в восхищении: он меня требовал, хотел меня обнять... Меня искали, но не нашли».
О своей встрече с Державиным на лицейском экзамене 1815 года Пушкин писал в заметке «Державин», в послании «К Жуковскому» и в восьмой главе «Евгения Онегина»:
Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил...
* * *
Державин был поражен: как мог пятнадцатилетний мальчик создать такое совершенное по форме и глубокое по содержанию стихотворение? Он выше всех ставил В. А. Жуковского и ему, тяжело заболев в 1808 году, хотел передать свою лиру:
Тебе в наследие, Жуковской,
Я ветху лиру отдаю;
А я над бездной гроба скользкой
Уж преклоня чело стою.
Но юный Пушкин заслонил собою Жуковского. Через несколько часов после лицейского акта, на парадном обеде в своем доме, министр Разумовский говорил отцу поэта Сергею Львовичу:
- Я бы желал, однако же, образовать сына вашего в прозе...
- Оставьте его поэтом! - с жаром сказал Державин.
Вскоре после того как юный Пушкин читал в его присутствии «Воспоминания в Царском Селе», «старик Державин» сказал приехавшему к нему в гости С. Т. Аксакову:
- Нового не пишу ничего. Мое время прошло... Скоро явится свету второй Державин: это Пушкин, который уже в Лицее перещеголял всех писателей.
Так юный Пушкин занял на Парнасе место «патриарха певцов» Гаврилы Романовича Державина...
П. А. Вяземский, ставший впоследствии одним из очень близких друзей Пушкина, писал К. Н. Батюшкову: «Что скажешь о сыне Сергея Львовича? Чудо, и все тут. Etfo Воспоминания вскружили нам голову с Жуковским. Какая сила, точность в выражениях, какая твердая и мастерская кисть в картинах. Дай бог ему здоровья и учения и в нем прок и горе нам. Задавит, каналья...»
* * *
Жуковский посещает Пушкина в Лицее. Прославленный поэт старшего поколения угадывает в юном лицеисте гения и охотно читает ему свои произведения. Если Пушкин, обладая изумительной памятью, не сразу запоминает их, значит, стихи неудачны, решает Жуковский и уничтожает их или переделывает. Между ними возникают и крепнут сердечные, дружеские отношения.
«Я сделал еще приятное знакомство, - писал Жуковский Вяземскому, - с нашим молодым чудотворцем Пушкиным. Я был у него на минуту в Царском Селе. Милое живое творение! Он мне обрадовался и крепко прижал мою руку к сердцу. Это надежда нашей словесности... Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет».
На эту взволновавшую лицеистов встречу Пушкин отозвался известным обращением «К Жуковскому». И в конце ноября 1815 года записал в своем лицейском дневнике: «Жуковский дарит мне свои стихотворения».
Находясь под большим влиянием романтического творчества Жуковского, Пушкин, покидая Лицей, обратился к нему с большим взволнованным стихотворением: «Благослови, поэт!..»
Не ты ль мне руку дал в завет любви священный?
Могу ль забыть я час, когда перед тобой
Безмолвный я стоял, и молнийной струей
Душа к возвышенной душе твоей летела
И, тайно съединясь, в восторгах пламенела, -
Нет, нет! решился я - без страха в трудный путь,
Отважной верою исполнилася грудь.
* * *
Царскосельское озеро, Чесменская колонна.
К. Н. Батюшков также считался поэтом старшего поколения, хотя был всего на двенадцать лет старше Пушкина.
Для Пушкина Батюшков был чудотворцем, который «русские звуки заставлял звучать по-итальянски», и в посвященном ему стихотворении юный поэт писал:
Но что!.. цевницею моею,
Безвестный в мире сем поэт,
Я песни продолжать не смею.
Сам Батюшков был взволнован вдохновением лицейского певца... Судорожно сжимая в руках листок с написанным Пушкиным стихотворением «Юрьеву» («Любимец ветреных лаис»), он воскликнул:
- О! Как стал писать этот злодей!..
Пушкин считал Батюшкова одним из наиболее значительных русских поэтов, но, отстаивая свою поэтическую самостоятельность, отказывался от совета Батюшкова петь «войны кровавый пир». В свои шестнадцать лет Пушкин отвечает старшему поэту:
Бреду своим путем:
Будь всякий при своем.
И последнюю строку подчеркивает...
- Пари, как орел, но не останавливайся в полете! - напутствовал юного поэта посетивший его Н. М. Карамзин.
* * *
У поэтов старшего поколения учились предшественники Пушкина, а у них - царскосельские лицеисты. Это дало В. Г. Белинскому основание писать, что «Муза Пушкина была вскормлена и воспитана творениями предшествовавших поэтов. Скажем более: она приняла их в себя, как свое законное достояние, и возвратила их миру в новом, преображенном виде. Можно сказать и доказать, что без Державина, Жуковского и Батюшкова не было бы и Пушкина, что он их ученик; но нельзя сказать и еще менее доказать, чтоб он что-нибудь заимствовал от своих учителей и образцов или чтоб где-нибудь и в чем-нибудь он не был неизмеримо выше их».
«Звон» поэтических творений писателей той поры образно, ярко охарактеризовал Гоголь: «У каждого свой стих и свой особенный звон. Этот металлический, бронзовый стих Державина, которого до сих пор не может еще позабыть наше ухо; этот густой, как смола или струя столетнего токая, стих Пушкина; этот сияющий, праздничный стих Языкова, влетающий, как луч, в душу, весь сотканный из света; этот облитый ароматами полудня стих Батюшкова, сладостный, как мед из горного ущелья; этот легкий, воздушный стих Жуковского, порхающий, как неясный звук золотой арфы; этот тяжелый, как бы влачащийся по земле стих Вяземского, проникнутый подчас едкой, щемящей русской грустью, - все они, точно разнозвонные колокола или бесчисленные клавиши одного великолепного органа, разнесли благозвучие по русской земле».
* * *
Пушкин высоко ценил поэтов старшего поколения, но, по выражению Батюшкова, ему «Аполлон дал чуткое ухо». Тонко разбираясь в тембрах и оттенках их поэтических звучаний, он не мог пройти мимо режущих слух звуков и нередко критиковал их.
Уже в раннем лицейском стихотворении «Тень Фонвизина» Пушкин резко критиковал своих поэтических современников. Высоко ценя лицейского профессора словесности Н. Ф. Кошанского, он спорил и с ним в стихотворении «Мой Аристарх» - «Не нужны мне твои уроки, я знаю сам свои пороки». Позже критиковал К. Н. Батюшкова и Г. Р. Державина.
Сохранился экземпляр вышедшего в 1817 году в Петербурге сборника К. Н. Батюшкова «Опыты в стихах и прозе». В нем 250 страниц, и многие из них испещрены на полях критическими замечаниями и пометками Пушкина. Рядом с такими отзывами, например, как «звуки итальянские», «Прелесть!», «Прекрасно», мы читаем: «Неудачный перенос», «чёрт знает что такое!», «Что за детские стихи!», «Дрянь», «Что за чудотворец этот Батюшков...» и вслед за этим: «Дурной вкус - это редкость у Батюшкова». Откровенно высказался Пушкин позже и о творчестве Г. Р. Державина. Он глубоко уважал «патриарха певцов», преклонялся перед ним, но в июне 1825 года писал Дельвигу из михайловской ссылки: «...перечел я Державина всего, и вот мое окончательное мнение. Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка (вот почему он и ниже Ломоносова). Он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии - ни даже о правилах стихосложения. Вот почему он и должен бесить всякое разборчивое ухо. Он не только не выдерживает оды, но не может выдержать и строфы... Что ж в нем: мысли, картины и движения истинно поэтические; читая его, кажется, читаешь дурной, вольный перевод с какого-то чудесного подлинника. Ей-богу, его гений думал по-татарски - а русской грамоты не знал за недосугом. Державин, со временем переведенный, изумит Европу, а мы из гордости народной не скажем всего, что мы знаем об нем... У Державина должно сохранить будет од восемь да несколько отрывков, а прочее сжечь. Гений его можно сравнить с гением Суворова - жаль, что наш поэт слишком часто кричал петухом...»
Пушкин и его поэтические учителя представляли разные эпохи. Пушкин призван был открыть новую блистательную страницу русской литературы. Вместе с ним в нее вошли его друзья - поэты, творчество которых пронизано было вольнолюбивыми идеями. Все они, по выражению Гоголя, «зажигали свои свечи от его творческого огня...»
* * *
П. Я. Чаадаев. С портрета неизвестного художника. 1840-е годы.
В ноябре 1815 года в Лицей пришло известие, что в противовес обществу литературных староверов - «Беседе любителей российской словесности» - и для борьбы с ним в Петербурге возникло «Арзамасское общество безвестных людей», попросту «Арзамас».
В него вошли: В. А. Жуковский, Денис Давыдов, братья Тургеневы, В. Л. Пушкин, Н. М. Карамзин, И. И. Дмитриев, П. А. Вяземский и другие.
Пушкин не мог, конечно, пройти мимо этого литературного кружка. Осведомившись еще в Лицее о первом организационном собрании «Арзамаса», Пушкин написал 10 декабря эпиграмму в адрес трех вдохновителей «Беседы» и деятелей Российской академии, отстаивавших архаические, церковнославянские формы русской литературы и прибегавших даже к политическому опорочиванию своих противников:
Угрюмых тройка есть певцов -
Шихматов, Шаховской, Шишков,
Уму есть тройка супостатов -
Шишков наш, Шаховской, Шихматов,
Но кто глупей из тройки злой?
Шишков, Шихматов, Шаховской!
Пушкин уже из Лицея начал подавать свой голос в «Арзамас» и получил за это прозвище «Сверчок», взятое из баллады Жуковского «Светлана».
Формально Пушкин вступил в «Арзамас» лишь по выходе из Лицея, но пять ранних своих стихотворений связал подписями с «Арзамасом», а большое, обращенное в 1816 году к В. А. Жуковскому - «Благослови, поэт!», - подписал: «Арзамасец».
Пушкин внимательно следит из Лицея за деятельностью «Арзамаса», чувствует себя его членом и за год до выпуска, 27 марта 1816 года, пишет другу П. А. Вяземскому: «...целый год еще плюсов, минусов, прав, налогов, высокого, прекрасного!., целый год еще дремать перед кафедрой... это ужасно... Безбожно молодого человека держать взаперти и не позволять ему участвовать даже и в невинном удовольствии погребать покойную Академию и Беседу губителей российского слова. Но делать нечего.
Не всем быть можно в ровной доле,
И жребий с жребием не схож!»
Поселившись после окончания Лицея в Петербурге, Пушкин стал членом «Арзамаса».
В царскосельском лейб-гусарском лагере Пушкин знакомится и сближается с Николаем Раевским, сыном знаменитого героя 1812 года Н. Н. Раевского, с поручиком П. П. Кавериным, воспитанником Московского и Геттингенского университетов, удальцом на войне, веселым шалуном в жизни, добрым товарищем с душою поэта.
Пушкин принят в доме Карамзиных и здесь впервые встречается с гусарским корнетом П. Я. Чаадаевым, двадцатидвухлетним героем Бородина, Лейпцига, Парижа. Чаадаев производит на него большое впечатление. Они становятся друзьями. Свою дружбу с Чаадаевым Пушкин высоко ценил.
Вольнолюбивыми настроениями охвачены вернувшиеся с фронта «дети 1812 года», царскосельские гусары. Они объединяются в «Священную артель», провозвестницу будущих тайных обществ.
Их частыми гостями становятся лицеисты - Пушкин, Пущин, Кюхельбекер, Вольховский, Дельвиг.
«Постоянные наши беседы о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка вещей и о возможности изменения, желаемого многими втайне, необыкновенно сблизили меня с этим мыслящим кружком», - вспоминал позже Пущин и добавлял, что его близкий друг Пушкин «всегда согласно со мною мыслил о деле общем (res publica), по-своему проповедовал в нашем смысле - и изустно и письменно, стихами и прозой».
В этом царскосельском веселом, но мыслящем кругу друзей, охваченных духом непримиримой вражды к рабству и деспотизму, лицеист Пушкин часто бывал. Здесь, в спорах и беседах, он заканчивал свое политическое образование.
И здесь родилось проникнутое свободолюбием стихотворение шестнадцатилетнего Пушкина «Лицинию». Написанное в античном духе, оно отображало Рим эпохи упадка, но основная мысль автора - народы благоденствуют там, где нет рабства, - обращена была к язвам императорской России:
О Рим, о гордый край разврата, злодеянья!
Придет ужасный день, день мщенья, наказанья.
Предвижу грозного величия конец:
Падет, падет во прах вселенныя венец.
Народы юные, сыны свирепой брани,
С мечами на тебя подымут мощны длани,
И горы и моря оставят за собой
И хлынут на тебя кипящею рекой.
Исчезнет Рим; его покроет мрак глубокий;
И путник, устремив на груды камней око,
Воскликнет, в мрачное раздумье углублен:
«Свободой Рим возрос, а; рабством погублен».
И свой собственный путь - путь поэта - Пушкин ясно определил в этом стихотворении:
Я сердцем римлянин; кипит в груди свобода;
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
В сатире праведной порок изображу
И нравы сих веков потомству обнажу.
И закончил:
Свободой Рим возрос, а рабством погублен.
* * *
Лицейское творчество Пушкина на старшем курсе отмечено блистательным ростом его мастерства, разнообразием тем и жанров и количеством созданных стихотворений: всего 136, из которых 4 на французском языке.
Он пишет оды, элегии, романсы, сатиры, любовные и дружеские послания, баллады, эпиграммы, лирику - анакреонтическую и эпикурейскую.
В самом начале 1813 года Пушкин создает стихотворение «Городок». Оно знакомит нас с писателями и поэтами, которые были ему особенно близки, произведения которых заняли и позже место на полках личной библиотеки поэта.
Это - городок книг, в котором лицеист Пушкин якобы поселился и живет не скучая, «часто целый свет с восторгом забывая». Это фантазией Пушкина поэтически преображенные торжественные залы библиотеки Царскосельского лицея, воспоминания об отцовской библиотеке в Харитоньевском переулке и о замечательной библиотеке Д. Н. Бутурлина в Немецкой слободе, частым гостем которой Пушкин бывал в свои детские годы:
Над полкою простою
Под тонкою тафтою
Со мной они живут.
. . . . . . . . . .
На полке за Вольтером
Виргилий, Тасс с Гомером
Все вместе предстоят.
В час утренний досуга
Я часто друг от друга
Люблю их отрывать.
Здесь и Державин, и «чувствительный Гораций», и Вольтер -
Фернейский злой крикун,
Поэт в поэтах первый...
Здесь и «Ванюша Лафонтен», «мудрец простосердечный», и «Дмитриев нежный» с Крыловым,
Здесь Озеров с Расином,
Руссо и Карамзин,
С Мольером-исполином
Фонвизин и Княжнин...
На самой нижней полке хозяин «Городка»
...спрятал потаенну
Сафьянную тетрадь -
«свиток драгоценный» своих озаренных поэзией лицейских дней...
Содержание «Городка» говорит о том, что в лицейские годы личные литературные симпатии Пушкина склонялись к поэзии «легкой и веселой». Эпикурейские настроения присущи стихотворениям: «Пирующие студенты», «К Пущину», «Мое завещание. Друзьям», «Гроб Анакреона». Наиболее частые мотивы лицейской лирики Пушкина - веселье, любовь, дружба. Привлекают внимание взволнованные обращения юного поэта к своим учителям - «Послание к Галичу», «К Батюшкову», «К Жуковскому».
Реалистическими зарисовками природы и быта отличаются стихотворения «Казак» и «Послание к Юдину».
Запись в лицейском «Дневнике» от 10 декабря 1815 года дает представление, как обильны и разнообразны были творческие замыслы Пушкина: «Вчера написал я третью главу «Фатама», или Разума человеческого: Право естественное... Поутру читал «Жизнь Вольтера»... Третьего дня хотел я начать ироническую поэму «Игорь и Ольга»... Летом напишу я «Картину Царского Села»...
Произведения эти не дошли до нас, они, вероятно, и не были написаны.
* * *
Как-то осенью с Пушкиным произошла удивительная история, о которой доложено было императору Александру I.
Перед вечерней зарей у дворцовой гауптвахты обыкновенно играла полковая музыка. Это привлекало много гуляющей публики, появлялись всегда и лицеисты.
Иногда они проходили к музыке дворцовым коридором, в который был выход из комнат, занимаемых фрейлинами императриц. У одной из них, княжны В. М. Волконской, вспоминает Пущин, была премиленькая горничная Наташа. Ее знали все лицеисты и, встречаясь в темных переходах коридоров, нередко с нею любезничали. В этот вечер Пушкин шел по коридору один. Услышав в темноте шорох платья, он вообразил, что это Наташа, бросился к ней и самым невинным образом поцеловал...
Неожиданно распахнулась дверь, и яркий свет осветил их. К своему ужасу, Пушкин увидел, что поцеловал не Наташу, а фрейлину княжну Волконскую, увядшую старую деву.
Он настолько опешил, что не нашелся сразу же извиниться и попросить прощения, а бросился бежать.
На другой день Александр I выговаривал Энгельгардту:
- Что же это будет? Твои воспитанники не только снимают через забор мои наливные яблоки, бьют сторожей садовника Лямина, но теперь уже не дают проходу фрейлинам жены моей.
Директор Лицея уже был осведомлен обо всем и всячески старался смягчить вину Пушкина, добавив, что объявил ему строгий выговор, и просил разрешения насчет извинительного письма.
Царь дал согласие:
- Пусть пишет, уж так и быть, я беру на себя адвокатство за Пушкина. Но скажи ему, чтоб это было в последний раз.
В это время он увидел из окна шедшую по саду императрицу, поспешил к ней и, прощаясь с Энгельгардтом, шепнул ему по-французски, улыбаясь:
- Старая, быть может, восхищена ошибкой молодого человека, между нами говоря.
Этим все и кончилось.
* * *
В конце 1815 года Пушкина настигла первая любовь, и в стихотворениях его зазвучали элегические ноты - муки неразделенной любви, сожаления об утекшей молодости, желание смерти:
Цвет жизни сохнет от мучений!
Печально младость улетит,
Услышу старости угрозы,
Но я, любовью позабыт,
Моей любви забуду ль слезы!
Все эти элегии обращены к Катеньке Бакуниной, сестре лицейского товарища. Пушкин увидел ее, и в лицейском дневнике его появилась взволнованная запись:
«Итак, я счастлив был, итак, я наслаждался,
Отрадой тихою, восторгом упивался...
И где веселья быстрый день?
Промчался лётом сновиденья,
Увяла прелесть наслажденья,
И снова вкруг меня угрюмой скуки тень!..
Я счастлив был!., нет, я вчера не был счастлив; поутру я мучился ожиданьем, с неописанным волнением стоя под окошком, смотрел на снежную дорогу - ее не видно было! Наконец я потерял надежду, вдруг нечаянно встречаюсь с нею на лестнице, - сладкая минута!..
Он пел любовь, но был печален глас,
Увы, он знал любви одну лишь муку!
Жуковский.
Как она мила была! как черное платье пристало к милой Бакуниной!
Но я не видел ее 18 часов - ах! какое положенье, какая мука!
Но я был счастлив 5 минут - ».
Эта юношеская чистая любовь явилась источником большого цикла - двадцати двух, посвященных Бакуниной, элегических стихотворений.
В первом из них - «Мое завещание. Друзьям» - Пушкин, прощаясь с ними, обращается к Пущину:
Ты не забудешь дружбы нашей,
О Пущин, ветреный мудрец!
Прими с моей глубокой чашей
Увядший миртовый венец!
Друзья! вам сердце оставляю
И память прошлых красных дней,
Окованных счастливой ленью
На ложе маков и лилей;
Мои стихи дарю забвенью,
Последний вздох, о други, ей!
Последняя строка здесь адресована Бакуниной.
Обаятельная двадцатилетняя Бакунина была уже фрейлиной императрицы. Эта первая любовь шестнадцатилетнего Александра Пушкина вызвала в его душе глубокие волнения.
Пушкин отдавал Бакуниной все свое поэтическое вдохновение, весь пыл своего сердца. Одно за другим послал он ей в 1816 году посвящения - элегии, стихотворения: «Слеза», «К живописцу», «Окно», «Наездники», «Элегия» («Счастлив, кто в страсти сам себе...»), «Месяц», «Слово милой», «Желание», «Певец», «Любовь одна - веселье жизни хладной», «Элегия» («Я видел смерть...»), «Осеннее утро», «Разлука», «Элегия» («Я думал, что любовь погасла навсегда...»), «Наслаждение», «Элегия» («Опять я ваш, о юные друзья...»), «К ней» и другие...
* * *
19 октября... В этот поздний осенний день, когда «роняет лес багряный свой убор», лицеисты всегда праздновали годовщину основания Лицея.
19 октября 1816 года состоялся торжественный спектакль, на котором разыграны были французская пьеса «Благодетельный судья» и немецкая - «Паж». Вечер закончился балом, среди гостей присутствовал С. Л. Пушкин, отец поэта.
Это была последняя перед выпуском годовщина.
В разные годы Пушкин посвятил этим встречам лицейских товарищей пять посланий.
24 декабря 1816 года лицеистам разрешили впервые за шесть лет провести зимние каникулы в кругу родных и друзей.
* * *
Страница из альбома П. А. Осиповой. Автограф А. С. Пушкина.
1817 год... Последний год пребывания в Лицее...
9 июня состоялся выпускной акт. В Лицее вторично появился Александр I, но не было уже того торжественного ликования, каким сопровождалось, шесть лет назад, открытие Лицея, когда, как вспоминал Пушкин,
...царь для нас открыл чертог царицын.
И мы пришли. И встретил нас Куницын
Приветствием меж царственных гостей.
Лицей не оправдал возложенных на него самодержцем надежд: вольнолюбивые настроения ширились. В опале оказался Куницын, кто «воспитал их пламень»: он был удален из Лицея за либерализм, его книгу «Право естественное» отбирали и сжигали; лишили службы и даже хотели судить... Предан был суду профессор Галич за свою признанную безбожной и якобинской книгу «История философских систем»...
Как в 1811 году при открытии Лицея, снова раздалось в актовом зале гулкое:
- Александр Пушкин!
На середину зала вышел курчавый, смуглый юноша, прочитал свое «Безверие», и Александр I вручил ему выпускной диплом и медаль, на лицевой стороне которой изображены были: сова - птица мудрости, лира, свиток, лавровый и дубовый венки и над ними надпись - «Для общей пользы».
Теперь это был не двенадцатилетний мальчик, Александр Пушкин. Теперь перед царем стоял поэт, признанный Державиным, Карамзиным, Жуковским. Поэт, которого уже коснулась своим крылом слава...
Лицеисты пропели «Прощальную» песнь Лицея. Вечер провели в доме директора Энгельгардта, приняли участие в поставленном на домашней сцене спектакле и на другой день начали собираться к отъезду.
Расставаясь, лицеисты вписывали в альбомы друг друга свои стихотворные посвящения.
Больше всего прощальных стихов подарил друзьям, покидая Лицей, Пушкин. Все они пронизаны были элегическими настроениями. Не представлял себе Пушкин будущую жизнь Кюхельбекера и товарищей безмятежной. Он как бы прозревал их тяжкое будущее и в альбом И. И. Пущина вписал:
...но с первыми друзьями
Не резвою мечтой союз твой заключен;
Пред грозным временем, пред грозными судьбами.
О милый, вечен он!
* * *
Пушкин на лицейском акте. С картины И. Репина.
А. С. Пушкин. Гравюра Е. Гейтмана. 1822 г.
Г. Р. Державин. Гравюра И. Пожалостина с портрета работы Васильевского.
Н. М. Карамзин. С гравюры Лоришона.
Василий Львович Пушкин, дядя поэта. С гравюры С. Галактионова.
К. Н. Батюшков. С рисунка О. Кипренского.
Портрет В. А. Жуковского, подаренный А. С. Пушкину в 1820 году. С рисунка Е. Эстеррейха.
И. А. Крылов. Гравюра. 1840-е годы.
«К другу стихотворцу». Первое появившееся в печати (в журнале «Вестник Европы», №13 за 1814 год) стихотворение А. С. Пушкина.
По окончании Лицея Пушкин и многие товарищи его направлены были в Коллегию иностранных дел. Но жизнь скоро разбросала лицеистов в разные стороны. Кое-кто из лицеистов первого выпуска вскоре потерял связь с товарищами, но Пушкин и его ближайшие лицейские друзья никогда не забывали друг друга.
Что ждало каждого из них в жизни?
В стихотворении «Товарищам» Пушкин обратился с таким прощальным приветом:
Промчались годы заточенья;
Недолго, мирные друзья,
Нам видеть кров уединенья
И царскосельские поля.
Разлука ждет нас у порогу,
Зовет нас дальний света шум,
И каждый смотрит на дорогу
С волненьем гордых, юных дум.
О себе Пушкин писал:
Лишь я, судьбе во всем послушный,
Счастливой лени верный сын,
Душой беспечный, равнодушный,
Я тихо задремал один...
Равны мне писари, уланы,
Равны законы, кивера,
Не рвусь я грудью в капитаны
И не ползу в асессора;
Друзья! немного снисхожденья -
Оставьте красный мне колпак,
Пока его за прегрешенья
Не променял я на шишак,
Пока ленивому возможно,
Не опасаясь грозных бед,
Еще рукой неосторожной
В июле распахнуть жилет.
«Красный колпак», этот символ свободы французских революционеров. Пушкину больше по душе. В красных фригийских колпаках, какие носили во Франции якобинцы, восседали на своих собраниях члены «Арзамаса».
* * *
В Царскосельский лицей приехал в 1811 году из Москвы, как значилось в официальном документе, «недоросль Александр Пушкин». Из Царского Села Пушкин увозил с собою начало первой своей поэмы «Руслан и Людмила» -
Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой...
Посаженный за что-то перед выходом из Лицея в карцер, Пушкин начал писать первые стихи этой поэмы на стене. И, конечно, не мог предположить, что поэт Жуковский вскоре подарит ему за нее свой портрет с лестной дружеской надписью.
Пушкин покинул Лицей 11 июня 1817 года. Его указательный палец украсило надетое директором Лицея Е. А. Энгельгардтом чугунное кольцо. Такие кольца директор надел на руки всех своих двадцати девяти окончивших Лицей питомцев в качестве символа вечной, крепкой и неразрывной связи их дружеского лицейского круга. «Чугунниками» ласково называл впоследствии выпускников Энгельгардт...
Как бы в ответ на этот символический подарок, лицеисты сделали в альбоме Энгельгардта записи о неразрывности всей их жизни с Лицеем.
Пушкин сделал трогательную надпись, выражавшую по существу единую мысль всех покидавших Лицей юношей: «Приятно мне думать, что, увидя в книге воспоминаний и мое имя между именами молодых людей, которые обязаны вам счастливейшим годом жизни их, вы скажете: в Лицее не было неблагодарных. Александр Пушкин».
Через восемь лет, много испытав и пережив, отбывая пятый год ссылки, Пушкин снова подчеркнул неразрывность их лицейского круга:
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен -
Неколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.
В своем царскосельском отечестве Пушкин, как и полтора столетия назад, царит сегодня безраздельно. Все здесь овеяно его именем. Но сегодня это уже не Царское Село. Город этот носит теперь близкое и дорогое всей России, всему миру имя - Пушкин.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
В ПЕТЕРБУРГЕ
1817-1820
«Хочу воспеть свободу миру...»
Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия...
А. С. Пушкин. «Медный всадник»
Этот чудесный город поэт воспел в своих творениях. Для него Петербург был символом славы и величия России.
Пушкин как будто сам присутствовал при закладке Петербурга, когда писал:
На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел.
. . . . . . . . . . . . . .
И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу.
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.
Пушкин воспел стремительный рост города:
Прошло сто лет, и юный град,
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво.
Тема Петербурга и его основателя, Петра I, не раз проходит в произведениях поэта...
Пушкин впервые встретился с Петербургом и Невою в середине мая 1811 года. Направляясь в Царскосельский лицей, двенадцатилетний Александр с дядей Василием Львовичем поселился тогда на Мойке, близ Невского.
Ранним утром, когда дядя еще не вставал, Александр побежал к Неве. Прислушиваясь к мощным ударам волн о береговой гранит, он стоял, опершись на парапет, в полном безмолвии. Потом спустился по каменной лесенке вниз. Озаренная ярким июльским солнцем,
Пред ним широко
Река неслася.
Только что рассеялся молочный туман белой ночи. Александр стоял зачарованный красотою и величием развернувшейся пред ним картины. Он много раз любовался потом чудесными белыми ночами Петербурга, и в 1833 году, в осеннем Болдине, настроения эти вылились в классически стройные формы - стихи, являвшие вершину пушкинской поэзии:
Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит...
Величественный город встревожил воображение двенадцатилетнего Пушкина. Он бродил по набережной Невы, по Летнему саду, заглядывался на летний дворец Петра I, где в гостях у царя не раз, конечно, бывал его прадед - Абрам Петрович Ганнибал...
Из патриархальной древней Москвы с ее стародавним укладом жизни и безыскусственной простотою нравов будущий поэт оказался неожиданно в самом центре строгой и горделивой северной столицы.
* * *
Набережная Невы у Летнего сада, вблизи дома Баташова.
Вырвавшись на волю из царскосельской лицейской «кельи», зачисленный в Коллегию иностранных дел, Пушкин преобразился.
Лицейский мундир с красными обшлагами и воротником и треуголку заменил черный фрак с нескошенными фалдами и модная шляпа a la Bolivar.
Больше того, вспоминает А. Я. Головачева-Панаева, в театре, в соседнюю с нею ложу, зашел как-то Пушкин, и на руке его она заметила нечто похожее на наперсток. Поэт, оказывается, отрастил себе на пальце правой руки большой ноготь и, чтобы тот не сломался, надевал на него золотой колпачок. Ходил он в испанском, модном тогда плаще, закинув одну полу на плечо...
Поселился Пушкин вместе с родителями в Коломне - захудалом, заброшенном районе «города пышного, города бедного» Петербурга - на Фонтанке, 185, у Калинкина моста, в доме вице-адмирала Клокачева. Этот трехэтажный в пушкинское время дом скоро вырос в пятиэтажный. В нем мало что осталось от пушкинского времени, но он замечателен тем, что здесь одновременно жили Пушкин и Росси.
Сын довольно известной балерины своего времени, Росси родился 18 декабря 1775 года в Неаполе, пятилетним ребенком приехал с матерью в Петербург и здесь обрел свою вторую родину.
Пушкин воспел Петербург в «Медном всаднике», «Пиковой даме», «Евгении Онегине», «Истории Петра». Росси украсил Петербург неповторимой аркой Главного штаба, стройным ансамблем площади Искусств перед Русским музеем и столь же величавым ансамблем площади Островского, окаймленной Аничковым дворцом, театром и Публичной библиотекой.
Пушкин и Росси... В советское время эти два гениальных певца Петербурга стали рядом. Великолепный театр, сооруженный зодчим Росси и обращенный в улицу его имени, носит сейчас имя Пушкина. И площадь Искусств, чудесное творение Росси, - на ней совсем недавно встал оживший в бронзе вдохновенный Пушкин.
* * *
О жизни Пушкина в клокачевском доме сохранилась короткая запись современника: «Мы взошли на лестницу; слуга отворил двери, и мы вступили в комнату Пушкина. У дверей стояла кровать, на которой лежал молодой человек в полосатом бухарском халате, с ермолкою на голове. Возле постели, на столе, лежали бумаги и книги. В комнате соединились признаки жилища молодого светского человека с поэтическим беспорядком ученого...»
Отец поэта с утра садился в измятую, полинявшую, запряженную двумя клячами карету и отправлялся с визитами. Мать, Надежда Осиповна, вела дом, но тоже предпочитала светскую жизнь.
Вместе с поэтом в клокачевском доме жили: сестра Ольга, брат Лев, няня Арина Родионовна и дядька Никита Тимофеевич Козлов.
Неподалеку от дома Клокачева, на Фонтанке, под номерами 97, 99 и 101, стоят сегодня рядом еще три старинных дома конца XVIII века, связанных с именем Пушкина.
Принадлежали они знаменитой, прославившейся своей жестокостью Агафоклее Полторацкой - «Полторачихе». Одна из трех ее дочерей была замужем за президентом Академии Художеств, директором Публичной библиотеки А. Н. Олениным.
Дом Олениных в начале прошлого века был центром культурной жизни Петербурга. Его посещали виднейшие писатели, поэты и художники той поры.
В один из ранних весенних дней 1819 года у Олениных собрались гости; среди них были Крылов, читавший свои басни. Пушкин слушал его. Но вдруг внимание поэта привлекла вошедшая в это время в гостиную красивая девятнадцатилетняя женщина. Ее сопровождал пятидесятидвухлетний генерал, за которого она только что вышла замуж...
Это была Анна Керн. Пушкин не отрывал от нее глаз и весь вечер находился под обаянием ее красоты. Остроумными замечаниями, дерзкими комплиментами Пушкин пытался привлечь к себе внимание молодой женщины, но она смущалась и избегала его.
Когда Анна Керн, покидая Олениных, садилась в экипаж, Пушкин, стоя на ступенях крыльца, провожал ее долгим взглядом.
«Мимолетным виденьем» пронеслась она перед поэтом, чтобы снова появиться перед ним спустя шесть лет - в михайловской ссылке.
* * *
«По выходе из Лицея Пушкин вполне воспользовался своей молодостью и независимостью, - вспоминал брат поэта Лев Сергеевич. - Его по очереди влекли к себе то большой свет, то шумные пиры, то закулисные тайны... Круг его знакомства и связей был чрезвычайно обширен... Поэзиею Пушкин занимался мимоходом, в минуты вдохновения».
И друг поэта П. А. Плетнев писал, что всюду, от великолепнейшего салона вельмож до самой нецеремонной пирушки офицеров, везде принимали Пушкина с восхищением, «питая и собственную, и его суетность этой славой, которая так неотступно следовала за каждым его шагом. Он сделался идолом преимущественно молодых людей, которые в столице претендовали на отличный ум и отличное воспитание. Такая жизнь заставила Пушкина много утратить времени в бездействии».
Жуковский писал в черновике своей арзамасской речи о Пушкине, что «Сверчок», закопавшись в щелку проказы, оттуда кричит, как в стихах: «Я ленюся!»
А К. Н. Батюшков спрашивал в письме к А. И. Тургеневу, кончил ли Пушкин начатую еще в Лицее поэму «Руслан и Людмила», и заметил: «Как ни велик талант «Сверчка», он его промотает, если... Но да спасут его музы и молитвы наши!..»
«В печальной праздности я лиру забывал», - писал тогда Пушкин и все же не переставал, создавая одну песнь за другой, трудиться над «Русланом и Людмилой». Отдельные песни поэмы он читал Жуковскому и близким друзьям; одновременно работал над «Лицейской тетрадью», готовил к печати сборник своих стихов, заменяя одни стихотворения другими, перерабатывая их, накладывая на рукописи, один на другой, «семь слоев» правок.
* * *
Список членов «Арзамаса». Автограф В. А. Жуковского.
Сразу по приезде в Петербург Пушкин вступил в литературный кружок «Арзамас».
Он объединил сторонников «карамзинского» направления в литературе в их борьбе с «шишковистами», объединенными в «Беседе любителей российской словесности» и Российской академии, президентом которой был А. А. Шишков. «Беседа», в отличие от «Арзамаса», защищала традиции классицизма и отстаивала архаический, церковнославянский строй русской речи. В пародиях, шутках арзамасцы высмеивали членов Российской академии и «Беседы». «Беседа», - говорили они, - сотворена на то, чтобы твердить и писать глупости, «Арзамас» - на то, чтобы над нею смеяться».
На заседаниях «Беседы» приглашенные являлись в шитых золотом мундирах, при орденах. Все тут было торжественно и скучно.
Совсем иной, задорный и веселый, дух царил в «Арзамасе». Здесь председатель всегда восседал в якобинском красном колпаке. Присутствующих он называл «согражданами». Вечер обычно заканчивался веселым ужином с традиционным «арзамасским гусем» на столе.
Вступая в кружок, каждый арзамасец должен был надеть красный колпак и произнести вступительную речь. И здесь же получал то или иное шутливое прозвище.
Бессменным старостой «Арзамаса» был дядя Пушкина Василий Львович, носивший прозвище «Вот я вас...», секретарем В. А. Жуковский - «Светлана», составлявший юмористические протоколы заседаний в прозе и стихах. Александр Тургенев носил прозвище «Эолова арфа», Вигель - «Ивиков журавль», Батюшков - «Ахилл», Блудов - «Кассандра»... Были еще прозвища: «Асмодей», «Варвик», «Громобой», «Лебедь», «Очарованный челн», «Пустынник», «Резвый кот», «Черный вран», «Старушка» и другие.
Пушкин, вступая в «Арзамас», обратился к присутствовавшим с стихотворной торжественной клятвой приобщиться к борьбе с «Беседой». Сохранились, к сожалению, лишь несколько разрозненных стихов его обращения:
Венец желаниям! Итак, я вижу вас,
О други смелых муз, о дивный Арзамас!
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . в беспечном колпаке,
С гремушкой, лаврами и с розгами в руке.
Арзамас» объединял, однако, не только друзей «смелых муз». В середине 1817 года в него вступили Николай Тургенев и Михаил Орлов - будущие декабристы. Они предложили арзамасцам направить деятельность кружка более в сторону политических настроений, идейной борьбы.
После одного из заседаний кружка, в сентябре 1817 года, Н. И. Тургенев записал в дневнике: «Третьего дня был у нас «Арзамас». Нечаянно мы отклонились от литературы и начали говорить о политике внутренней. Все согласны в необходимости уничтожения рабства». Однако не все члены «Арзамаса» интересовались политикой.
«Два века, - отразил создавшиеся в «Арзамасе» настроения Ф. Ф. Вигель, - один кончающийся, другой нарождающийся, встретились в «Арзамасе»; как при вавилонском столпотворении, люди перестали понимать друг друга и скоро рассеялись по лицу земли... с отлучкою многих членов, и самых деятельных, прекратились собрания, и «Арзамас» тихо, неприметно заснул вечным сном».
Три года просуществовал «Арзамас», в 1818 году он прекратил свою деятельность, распался.
* * *
Зимний дворец. С литографии С. Галактионова.
Фонтанка у Летнего сада. Гравюра по рисунку П. Свинъина.
Черновик оды «Вольность» с шаржем на императора Павла I.Автограф А. С. Пушкина.
Юный Пушкин был желанным гостем в доме братьев Тургеневых на Фонтанке, 20, против Летнего сада. Здесь не раз собирались арзамасцы, и поэта, естественно, влекло сюда неудержимо. Здесь он мог встретить своих друзей - Карамзина, Батюшкова, Жуковского, Вяземского, Михаила Орлова, дядю Василия Львовича.
Со старшим из трех братьев, Александром Тургеневым, у Пушкина сложились особенно дружеские отношения. Когда пришло время определять Пушкина учиться, Тургенев помог ему поступить в Лицей. Это был верный и до последнего дня преданный друг поэта. Второй брат, Николай Тургенев, принадлежал к числу виднейших идейных руководителей декабристов. Непримиримый враг крепостного права, один из самых передовых людей своей эпохи, Николай Тургенев бесспорно оказал большое влияние на формирование свободолюбивых настроений юного Пушкина. В дни восстания он оказался за границей и лишь потому избежал царской расправы.
Третий брат, Сергей Тургенев, наблюдая развертывавшийся талант Пушкина, записал в своем дневнике: «Ах, да поспешат ему вдохнуть либеральность, и, вместо оплакиваний самого себя, пусть первая песнь его будет: «Свободе».
Пушкин как будто подсмотрел эту запись и скоро создал первую свою песнь Свободе.
В ноябре 1817 года он как-то проезжал на извозчике с приятелем, царскосельским гусаром П. П. Кавериным, мимо Михайловского замка, в котором был убит своими приближенными император Павел I. Пушкин, быть может, вспомнил тогда рассказ няни, как этот сумасбродный царь велел снять с него, еще годовалого ребенка, картуз... Каверин предложил ему написать на этот замок стихи.
Через несколько дней Пушкин встретился у Тургеневых с несколькими молодыми вольнодумцами. Кто-то, глядя через окно на пустой, «забвенью брошенный дворец», тоже предложил Пушкину написать на него стихи.
- Пушкин, - рассказывает Ф. Ф. Вигель, - вскочил на большой длинный стол, стоявший перед окном, растянулся на нем, схватил перо и бумагу и со смехом писал строфу за строфой:
Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты богу на земле.
В комнате Тургенева Пушкин в один присест написал первую часть «Вольности», ночью, у себя дома, закончил и наутро прибежал на Фонтанку, чтобы прочитать друзьям оду целиком.
Здесь к месту вспомнить, что еще в Лицее Пушкин познакомился с стихотворением А. Н. Радищева под тем же названием - «Вольность». Это революционное стихотворение произвело на юного лицеиста сильное впечатление, запомнились ему завет и мечты Радищева:
Да, юноша, взалкавший славы,
Пришел на гроб мой обветшалый,
Дабы со чувствием вещал:
«Под игом власти, сей рожденный,
Нося оковы позлащенны,
Нам вольность первый прорицал».
И «Вслед Радищеву восславил я свободу», - скажет в 1836 году Пушкин в стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».
«Вольность» - произведение большой политической силы. К революции Пушкин в нем не призывал и казни Людовика XVI в дни французской революции не оправдывал, но решительно восстал против деспотизма и крепостного рабства.
«Вольность» - первая бунтарская декларация юного Пушкина. В годы александровской реакции он ясно и четко объявил:
Хочу воспеть свободу миру,
На тронах поразить порок.
Проведенные Пушкиным в Петербурге послелицейские годы ознаменовались подъемом противомонархических и противокрепостнических настроений в России.
Одна за другой начинали возникать после окончания войны 1812 года с Наполеоном ранние преддекабристские организации. В Петербурге родилось первое тайное общество «Союз спасения», учредителями которого были будущие декабристы.
Лицейский товарищ и близкий друг Пушкина И. И. Пущин вошел в «Союз спасения» еще в лицейские годы, а в 1818 году на месте «Союза спасения» возник «Союз благоденствия».
Волновалась и крестьянская Россия. В первую четверть XIX века вспыхнуло 280 восстаний. То тут, то там, с кольями и дубинами в руках, крестьяне восставали против своих угнетателей. На Дону в 1818-1820 годах развернулось широкое крестьянское движение. В 1819 году вспыхнуло чугуевское восстание аракчеевских военных поселений. В Петербурге В 1820 году разразилась так называемая «Семеновская история» - бунт солдат против бесчеловечного отношения к ним командира Семеновского гвардейского полка полковника Шварца.
Эти события не могли не волновать передовое русское общество, не могли не волновать и Пушкина и не найти в нем отклика. Однако, зная «подвижность пылкого нрава» поэта, друзья скрывали от него свою принадлежность к тайному обществу, не хотели подвергать его опасности, боялись, что каким-либо неосторожным словом он погубит все их дело.
Но Пушкин догадывался о его существовании. И, как поэт, стал выразителем вольнолюбивых настроений передовой дворянской молодежи той поры.
* * *
Против Тургеневых, на Фонтанке, в доме под номером 25, жили Муравьевы и многие друзья Пушкина: историограф Н. М. Карамзин, поэт К. Н. Батюшков и создавшие замечательные портреты поэта художник Кипренский и гравер Уткин.
Здесь находился штаб будущих декабристов. Пушкин часто бывал у Муравьевых и нередко, ничего не подозревая, оказывался в кругу членов тайного общества.
Позже Пушкин писал об этих юношеских встречах в сожженной им десятой главе «Евгения Онегина»:
Сначала эти заговоры
Между Лафитом и Клико
Лишь были дружеские споры,
И не входила глубоко
В сердца мятежная наука,
Всё это было только скука,
Безделье молодых умов,
Забавы взрослых шалунов,
Казалось . . . . . . . .
Узлы к узлам . . . . . .
И постепенно сетью тайной
Россия . . . . . . . . .
Наш царь дремал . . . . .
В той же незавершенной главе поэт писал и о себе в кругу декабристов:
Витийством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты,
У осторожного Ильи.
. . . . . . . . . . . . . .
Друг Марса, Вакха и Венеры,
Тут Лунин дерзко предлагал
Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал.
Читал свои Ноэли Пушкин,
Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал.
Одну Россию в мире видя,
Преследуя свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И, плети рабства ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.
* * *
Если поначалу встречи будущих декабристов в доме Муравьевых, на Фонтанке, были лишь дружескими спорами, то в сердце самого Пушкина, читавшего им свои ноэли, мятежная наука входила глубоко. Вслед за его «Вольностью», первой песнью Свободе, появляются новые волнующие революционные призывы Пушкина.
В Варшаве при открытии первого сейма Царства Польского, 15 марта 1818 года, Александр обещал «даровать» России конституцию.
Но обещание оказалось ложью, обманом - на созванном реакционным Священным союзом Аахенском конгрессе Александр I подписал вместе с австрийским императором-и прусским королем декларацию, по которой самодержцы трех государств обязались охранять народы от революционных «увлечений».
Девятнадцатилетний Пушкин откликнулся на эту ложь сатирической рождественской сказкой «Ыоё1», направленной в адрес Александра I:
Ура! в Россию скачет
Кочующий деспо́т.
Спаситель горько плачет,
А с ним и весь народ.
Мария в хлопотах Спасителя стращает:
«Не плачь, дитя, не плачь, сударь:
Вот бука, бука - русский царь!»
Царь входит и вещает:
«Узнай, народ российский,
Что знает целый мир:
И прусский и австрийский
Я сшил себе мундир.
О радуйся, народ: я сыт, здоров и тучен;
Меня газетчик прославлял;
Я ел, и пил, и обещал -
И делом не замучен».
Смелый ответ дал Пушкин и на просьбу императрицы Елизаветы Алексеевны написать что-нибудь для нее. Просьбу эту передала поэту через Жуковского фрейлина императрицы Н. Я. Плюскова.
Зная, что императрица не сочувствует реакционной политике своего мужа, Пушкин в «Ответе на вызов написать стихи в честь ее императорского величества государыни императрицы Елисаветы Алексеевны» смело выразил свою политическую оппозицию:
Свободу лишь умея славить,
Стихами жертвуя лишь ей,
Я не рожден царей забавить
Стыдливой музою моей.
. . . . . . . . . . . .
И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.
* * *
Революционное сознание Пушкина мужало... Широкое распространение получило стихотворение, обращенное им к своему старшему другу П. Я. Чаадаеву, который нравился ему своим светлым государственным умом, смелостью суждений, исключительными знаниями философии, истории, политики, экономики. Чаадаев оказал большое влияние на развитие вольнолюбивых настроений Пушкина, и юный поэт посвятил ему одно из самых замечательных своих стихотворений, продиктованное горячим патриотизмом, пророческим предвидением крушения самовластья:
Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
Пронизанное революционным пафосом, твердой верою в падение самодержавия, обращение Пушкина «К Чаадаеву» отвечало надеждам и чаяниям лучшей, передовой молодежи того времени. Оно быстро распространилось в многочисленных списках по России.
* * *
Летний дворец Петра I в Петербурге.
«Пушкин застал еще пышный закат классического величия русского театра в Петербурге», - писал В. Г. Белинский. Поэт страстно полюбил театр, этот волшебный мир классической оперы, трагедии и комедии, драмы и мелодрамы, мифологической пантомимы, балета-феерии с интермедией-дивертисментом. Волшебный мир сцены, в котором, рядом с гениальной Семеновой, пламенным Яковлевым, блистательным Сосницким царили комики-буфф, буфф-арлекины, танцорки, танцовщики-дансёры...
Зачарованный круг партера являл тогда собою любопытное зрелище. Впереди в креслах восседали великосветские львы, законодатели мод, важные сановники, скучающие посетители всех без исключения премьер, снобы, балетоманы. За креслами, стоя, сгрудившись в тесноте, взволнованно следила за ходом театрального действия тогдашняя интеллигенция: литераторы, критики, художники, педагоги, студенты, вообще любители театра.
А наверху шумел раёк, страстный и необузданный, аплодисментами или шиканьем выражавший свои восторги или порицания.
Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла, всё кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит.
В Петербурге давали в те годы представления: русская труппа в Большом театре; французская - в Малом, находившемся на Невском, на месте нынешнего театра имени А. С. Пушкина; немецкая - в Новом театре на Дворцовой площади, в доме, стоявшем на месте нынешнего здания архива Главного штаба.
В первой главе «Евгения Онегина» Пушкин так отразил свои впечатления от посещения театра:
Волшебный край! там в стары годы,
Сатиры смелый властелин,
Блистал Фонвизин, друг свободы,
И переимчивый Княжнин;
Там Озеров невольны дани
Народных слез, рукоплесканий
С младой Семеновой делил;
Там наш Катенин воскресил
Корнеля гений величавый;
Там вывел колкий Шаховской
Своих комедий шумный рой,
Там и Дидло венчался славой,
Там, там, под сению кулис
Младые дни мои неслись.
Театр был тогда «императорским». Это была своего рода царская вотчина. Закон 1815 года гласил: «Суждения об императорском театре и актерах, находящихся на службе его величества, почитаются неуместными во всяком журнале».
Пушкин, однако, выразил в статье «Мои замечания об русском театре» свое суждение об «актерах, находившихся на службе его величества».
Он начал свои замечания о трагедии гимном замечательной трагической актрисе той поры Екатерине Семеновой. «Говоря об русской трагедии, говоришь о Семеновой, и, может быть, только об ней», - писал поэт.
Дочь крепостной, Семенова подростком попала в театральное училище и уже семнадцати лет дебютировала с исключительным успехом. Величественная и строгая красота, пластичность поз, контральтовый гармоничный тембр ее голоса, великолепная дикция, а главное - глубокая человечность созданных ею образов производили огромное впечатление. Она была создана для трагедии. Пушкин называл ее «единодержавною царицею трагической сцены».
Учителями Семеновой были выдающиеся театральные деятели той поры: И. А. Дмитревский, А. А. Шаховской, Н И. Гнедич.
Через несколько лет после дебюта и шумных успехов Екатерине Семеновой пришлось выдержать перед изысканной и требовательной столичной публикой серьезнейшее состязание с приехавшей в Петербург артисткой Жорж - царившей на европейских сценах парижской знаменитостью.
Вскоре ей пришлось вступить в состязание и с новой восходившей звездой тех лет, А. М. Колосовой. В обоих состязаниях Семенова вышла победительницей. Но оскорбительные недоразумения с дирекцией императорских театров вынудили ее временно покинуть театр.
Узнав об этом уже в южной ссылке, Пушкин посвятил Семеновой стихи:
Ужель умолк волшебный глас
Семеновой, сей чудной музы,
Ужель навек, оставя нас,
Она расторгла с Фебом узы,
И славы русской луч угас!
Не верю, вновь она восстанет.
Ей вновь готова дань сердец,
Пред нами долго не увянет
Ее торжественный венец,
И для нее любовник славы,
Наперсник важных аонид,
Младой Катенин воскресит
Софокла гений величавый
И ей порфиру возвратит.
Пушкин шутливо пишет Гнедичу из Кишинева, что ему «брюхом хочется театра». В письме к брату Льву спрашивает: «Что сделает великолепная Семенова, окруженная так, как она окружена? Господь защити и помилуй - но боюсь. Не забудь уведомить меня об этом и возьми от Жуковского билет для 1-го представления на мое имя...» Позже осведомляется о всех артистах и заканчивает вопросом: «Что весь 1 еатр?»
* * *
Большой театр в Петербурге в начале XIX века.
В те годы, о которых идет речь, на петербургской сцене играли замечательные русские трагики: А. С. Яковлев, Я. Г. Брянский, И. И. Сосницкий, В. А. Каратыгин. Пушкин дал им оценку в незаконченной статье «Мои замечания об русском театре».
Но в первой же главе «Евгения Онегина» отдал дань «разбору талантов», блиставших в ту пору, балерины Истоминой и балетмейстера Дидло. «При Пушкине балет уже победил классическую трагедию и комедию», - писал В. Г. Белинский.
Вспоминая в ссылке петербургскую балетную труппу, Пушкин мечтал:
Услышу ль вновь я ваши хоры?
Узрю ли русской Терпсихоры
Душой исполненный полет?
Русской Терпсихорой назвал Пушкин Истомину. Вот как описано в романе ее выступление:
Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла, всё кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит.
Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совьет, то разовьет,
И быстрой ножкой ножку бьет.
О самом Дидло, которого называли «Байроном балета», сравнивали по гениальности с Рафаэлем, Шекспиром, Моцартом, Пушкин написал: «Балеты г. Дидло исполнены живости воображения и прелести необыкновенной. Один из наших романтических писателей находил в ней гораздо более поэзии, нежели во всей французской литературе».
Маг и чародей, одновременно драматург, композитор, режиссер и художник, обладавший неисчерпаемой фантазией, Дидло был и энциклопедически образованным человеком.
Он трудился страстно. На уроках был беспощаден. Каратыгин вспоминал в своих записках:
«В одиннадцать часов какой-то дребезжащий звук экипажа раздался под воротами. «М-r Дидло, m-r Дидло приехал!» - закричало народонаселение Театрального училища. Сам олимпийский громовержец со своей огненной колесницей не мог бы нагнать большего страха на слабых смертных. Дверь с шумом растворилась, и в шляпе на затылке, в шинели, спущенной с плеч, вошел грозный балетмейстер».
Дидло был фанатиком своего дела. Во время репетиции в Эрмитаже однажды недоставало какой-то лиры или вазы. «Дидло в бешенстве бросился бежать по Невскому, имея на одной ноге красный сапог, на другой черный, без шапки, обмотав голову каким-то газовым радужных цветов покрывалом. В этом виде он прибежал в Малый театр, взял что было нужно и тем же трактом отправился назад. Народ естественно счел его сумасшедшим и валил за ним толпою».
Таков был гениальный артист...
* * *
Петербург. Вид на Неву. С литографии 1820-х годов.
Театр был яркой и радостной страницей жизни Пушкина в те петербургские послелицейские годы.
Здесь он сблизился с Никитой Всеволожским - страстным театралом, переводчиком французских комедий и водевилей, любителем музыки и певцом, «амфитрионом любезным, счастливцем добрым, умным вралем».
В доме Всеволожского обосновалась «Зеленая лампа», одна из ячеек тайного «Союза благоденствия».
Здесь Пушкин сблизился и с Ф. Н. Глинкою, руководителем другого филиала «Союза благоденствия» - «Вольного общества любителей российской словесности».
Пушкин посещал уже собрания «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», когда П. А. Плетнев обратился к Ф. Н. Глинке с предложением:
- Следовало бы и нам избрать Пушкина...
- Овцы стадятся, а лев ходит один, - ответил Глинка.
В этих ячейках тайного общества зрели замыслы и планы будущих декабристов, и здесь зрел их певец - Пушкин.
«Лев ходит один»... - Оружие Пушкина - гусиное перо, острое, разящее гусиное перо.
Этим оружием он смело и решительно нападал на самодержавие и крепостничество.
Двери «Зеленой лампы», «приюта гостеприимного, приюта любви и муз», открылись 20 марта 1819 года. Гостей принимал хозяин, Никита Всеволожский.
В этот ранний весенний день состоялось первое заседание кружка. Помимо двух братьев Всеволожских, членами его были: поэты Пушкин, Дельвиг, Глинка, Гнедич, Барков. Вступили в кружок также будущий декабрист С. П. Трубецкой, Я. Н. Толстой, А. Д. Улыбышев, А. А. Токарев и другие.
Всеволожский жил на бывшем Екатерингофском, ныне проспекте имени Н. А. Римского-Корсакова.
Собирались в комнате, где над круглым столом висела зеленая лампа - символ света и надежды.
Вступая в кружок, члены его клялись свято хранить тайну о своих собраниях.
Они носили кольца с изображением лампы и за стол садились обычно в красных фригийских колпаках.
Своего рода русскими якобинцами были члены «Зеленой лампы». Их называли «лампистами».
Они не знали, что председательствовавший на собраниях «Зеленой лампы» Я. Н. Толстой объединил членов кружка по поручению «Союза благоденствия» в целях более широкого распространения идейного влияния тайного общества.
На собраниях кружка члены его читали свои произведения. Возможно, что и Пушкин читал там свои вольнолюбивые стихи. Читались и очерки политического характера, в которых пропагандировалась английская конституция. Заседания заканчивались всегда непринужденным дружеским ужином с вином.
Всеволожский был очень богат, и по субботам в его «приюте» обычно собиралась молодежь - поэты, писатели, актеры и художники.
С Всеволожским Пушкин вместе посещал театры и бывал у него не только на собраниях «Зеленой лампы», но и на всех традиционных субботних пирушках.
* * *
Летом 1819 года Пушкин заболел. Выздоровев, уехал в Михайловское отдохнуть от петербургской суеты. И пообещал своему приятелю, «ламписту» В. В. Энгельгардту:
Приеду я
В начале мрачном сентября:
С тобою пить мы будем снова,
Открытым сердцем говоря
Насчет глупца, вельможи злого,
Насчет холопа записного,
Насчет небесного царя,
А иногда насчет земного.
Здесь ироническое сопоставление царя небесного с земным, Александром I, и рядом выведен глупец, вельможа «злой» и холоп «записной». А в послании «Всеволожскому» пред нами презрительная оценка светского общества и помещичьего барства:
...важное безделье,
Жеманство в тонких кружевах
И глупость в золотых очках,
И тяжкой знатности веселье...
Этому пустому, ничтожному «свету» Пушкин противопоставляет другой мир:
И, признаюсь, мне во сто крат милее
Младых повес счастливая семья,
Где ум кипит, где в мыслях волен я,
Где спорю вслух, где чувствую живее,
И где мы все - прекрасного друзья,
Чем вялые, бездушные собранья,
Где ум хранит невольное молчанье,
Где холодом сердца поражены...
* * *
Пушкин работал над своей первой поэмой - «Руслан и Людмила». Но здесь, в деревне, он собственными глазами увидел то, о чем его друзья не переставали говорить и в «Зеленой лампе», и в доме Тургеневых, и у Муравьевых.
Ужасы крепостничества предстали пред Пушкиным воочию. Доходили до него слухи и о бесчеловечном отношении к крестьянам соседних помещиков, о беспощадном истязании крестьян кнутом и плетьми. Крепостных крестьян помещики продавали, как скот, разоряли, держали в нищете.
Свое возмущение увиденным Пушкин с потрясающей силой отобразил в стихотворении «Деревня». Оно построено на резких контрастах: сельская идиллия и на ее фоне «барство дикое».
Пушкин приветствует свой «пустынный уголок, приют спокойствия, трудов и вдохновенья»:
Везде передо мной подвижные картины:
Здесь вижу двух озер лазурные равнины,
Где парус рыбаря белеет иногда,
За ними ряд холмов и нивы полосаты,
Вдали рассыпанные хаты,
На влажных берегах бродящие стада,
Овины дымные и мельницы крылаты;
Везде следы довольства и труда.
«Но мысль ужасная здесь душу омрачает», - продолжает Пушкин:
Среди цветущих нив и гор
Друг человечества печально замечает
Везде невежества убийственный позор.
Не видя слез, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца.
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
Надежд и склонностей в душе питать не смея,
Здесь девы юные цветут
Для прихоти бесчувственной злодея.
Сопоставляя «Деревню» с «Вольностью», мы видим, что одно из этих произведений - гневный протест против крепостничества, рабства и бесправия, другое - против гнета самодержавия. И оба произведения отражали воззрения «Союза благоденствия».
* * *
В списках распространились тогда пушкинские эпиграммы, задевавшие самого Александра I и его временщика Аракчеева.
Одна из эпиграмм - «На Стурдзу», реакционного русского дипломата. Это он доказывал, что германские университеты - рассадники революционных идей и атеизма, это он ратовал за передачу университетов под надзор полиции. Вспоминая Герострата, стремившегося сохранить для потомства свое имя и потому сжегшего прекрасный храм Дианы в Эфесе, и Коцебу, немецкого драматурга и романиста, убитого 23 марта 1819 года немецким студентом Карлом Зандом за то, что тот стал агентом русского правительства и пропагандистом его реакционных идей, Пушкин писал:
Холоп венчанного солдата,
Благодари свою судьбу:
Ты стоишь лавров Герострата
И смерти немца Коцебу.
Венчанным солдатом назвал здесь Пушкин императора Александра I и его же помянул вслед за тем в другой эпиграмме - «На Аракчеева»:
Всей России притеснитель,
Губернаторов мучитель
И Совета он учитель,
А царю он - друг и брат.
Полон злобы, полон мести,
Без ума, без чувств, без чести,
Кто ж он? Преданный без лести
. . . . грошевой солдат.
«Без лести предан» - это был девиз на гербе Аракчеева...
У себя дома Пушкин устраивает «пир», на котором читает друзьям обе эпиграммы...
В аракчеевских военных поселениях, еще до того как Пушкин изобличил этого мстительного наперсника Александра I, взбунтовались солдаты. По приказу Аракчеева и в его присутствии сквозь строй прогнаны были пятьдесят два человека, из которых каждый получил от одной до двенадцати тысяч ударов шпицрутенами. В первые же дни после экзекуции двадцать пять человек умерли.
Возмущенный такой жестокой расправой, Пушкин заклеймил всесильного временщика новой эпиграммой:
В столице он - капрал, в Чугуеве - Нерон:
Кинжала Зандова везде достоин он.
И тогда же Пушкин просит своего приятеля по «Зеленой лампе» офицера П. Б. Мансурова, находившегося в Новгороде, сообщить ему, что делается в новгородских поселениях. И поясняет: «Это все мне нужно потому, что я люблю тебя - и ненавижу деспотизм»...
Пушкин поехал как-то в Царское Село посмотреть китайский балет, поставленный Дидло. Вернувшись в Петербург, он со смехом рассказывает друзьям о случае в Царском Селе: медвежонок сорвался с цепи и побежал по парку, «где мог встретиться глаз на глаз» с императором Александром I, и тут же добавляет: «Нашелся один добрый человек, да и тот медведь...»
Пушкин переписывает и широко распространяет оду «Вольность» и среди стиха «Погиб увенчанный злодей» рисует шаржированный профиль убитого Павла I, отца Александра I...
Во второй половине февраля 1820 года в Петербург приходит сообщение об убийстве в Париже ремесленником Пьером Лувелем герцога Беррийского. Официальный Петербург собирается на «торжественное поминовение» убитого, а Пушкин добывает полученный из Парижа литографированный портрет Лувеля, пишет на нем большими буквами - «Урок царям», направляется в театр и, расхаживая по рядам кресел, показывает этот портрет со своей надписью друзьям, знакомым и незнакомым, делясь при этом недвусмысленными репликами.
* * *
Фронтиспис к первому изданию поэмы «Руслан и Людмила». С рисунка М. Иванова. 1820 г.
Так протекала жизнь Пушкина перед его первой высылкой. Столица начинала утомлять его, и он мечтает вырваться из ненавистного петербургского круга. «Петербург душен для поэта. Я жажду краев чужих; авось полуденный воздух оживит мою душу», - пишет Пушкин во второй половине апреля 1820 года Вяземскому в Варшаву. И добавляет при этом: «Поэму свою я кончил. И только последний, т. е. окончательный, стих ее принес мне истинное удовольствие».
Пушкин имел в виду поэму «Руслан и Людмила» и два стиха из первой ее песни:
Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.
Пушкинский Руслан - олицетворение смелости, силы, патриотизма. Это былинный русский богатырь, изображенный на фоне русской сказки. Здесь и яркий исторический фон, навеянный «Историей государства Российского» Карамзина - страницами о борьбе Киева с осаждавшими его печенегами.
Но поэму свою Пушкин населил людьми живыми, близкими к реальной действительности. В написанном позднее вступлении к ней Пушкин подчеркнул:
Там русский дух... там Русью пахнет!
Это отметил и В. Г. Белинский, анализируя описание Пушкиным пира у князя Владимира.
Пушкин населил поэму и злыми и светлыми силами. В борьбе между ними темные силы, в лице Рогдая, Наины и Черномора, терпят поражение.
Первая поэма Пушкина вызвала страстные литературные споры. Некий критик - «Житель Бутырской стороны» - обвинял поэта в грубой простонародности и вульгарности стиля поэмы.
Но Белинский впоследствии высоко оценил ее. «В этой поэме все было ново: и стихи, и поэзия, и шутка, и сказочный характер вместе с серьезными картинами...» - писал знаменитый критик.
Поэму Пушкин создавал, соревнуясь с Жуковским, как автором «старинной повести» «Двенадцать спящих дев». Он выиграл поэтическое соревнование.
Жуковский подарил Пушкину свой портрет с волнующей надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму «Руслан и Людмила», 1820, марта 26, Великая пятница».
* * *
Ф. Н. Глинка. С гравюры К. Афанасьева. 1825 г.
Последовавшие вскоре события омрачили радость и триумф двадцатилетнего поэта. В марте 1820 года в Петербурге распространились слухи о предстоящей высылке Пушкина из столицы.
Он приобрел уже широкую известность вольнолюбивого поэта и автора злых эпиграмм. У него было много друзей, но появились и враги.
Одним из них был член «Вольного общества любителей российской словесности» В. Н. Каразин, человек монархически настроенный. Своими доносами директору особой канцелярии министерства внутренних дел графу В. П. Кочубею он способствовал высылке поэта.
19 апреля 1820 года Н. М. Карамзин писал своему другу, бывшему министру юстиции, поэту И. И. Дмитриеву, что нависла «над здешним поэтом Пушкиным если не туча, то по крайней мере облако, и громоносное. Служа под знаменем либералистов, он писал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей и проч., и проч. Это узнала полиция etc. Опасаются следствий. Хотя я уже давно, истощив все способы образумить эту беспутную голову, предал несчастного Року и Немезиде, однако ж, из жалости к таланту, замолвил слово, взяв с него обещание уняться. Не знаю, что будет».
Кочубей, получая доносы Каразина, потребовал от него их документального подтверждения.
Этого требовал и Александр I, которому Кочубей представлял сообщения Каразина. Больше того, царь предложил министру взять самого Каразина под особое наблюдение.
Петербургский генерал-губернатор М. А. Милорадович приказал Каразину достать копию оды «Вольность» и «нескольких политических эпиграмм и песен, ходивших под именем Пушкина в городе». И однажды на квартиру Пушкина явился политический сыщик Фогель, предложивший его дядьке, Никите Козлову, пятьдесят рублей,, если тот даст почитать стихи своего хозяина. Старик отказался и, когда Пушкин вернулся домой, сообщил ему о приходе сыщика. Это вынудило Пушкина, не ожидая нового визита, тогда же сжечь многие свои бумаги.
Вскоре Милорадович вызвал к себе Пушкина лично. Вот как рассказывал об этом в 1866 году в «Русском архиве» близкий декабристам Ф. Н. Глинка в очерке «Удаление А. С. Пушкина из С.-Петербурга в 1820 году».
Глинка был в дружеских отношениях с Пушкиным, волновался за его судьбу и по должности чиновника особых поручений при Милорадовиче мог знать, как никто другой, подробности свидания Милорадовича с Пушкиным. К тому же в день вызова поэта он неожиданно встретился с ним, выходя из своей квартиры на Театральной площади. Пушкин шел ему навстречу. Он был, как всегда, бодр и свеж, но обычной при встречах с Глинкою улыбки не было в то утро на его лице.
- Я к вам! - сказал ему Пушкин.
- А я от себя! - отозвался Глинка.
Они пошли вдоль площади, и Пушкин заговорил первый. Он рассказал ему о попытке сыщика подкупить его слугу и озабоченно продолжал:
- Теперь меня требуют к Милорадовичу! Я знаю его по публике, но не знаю, как и что будет и с чего нам взяться... Вот я и шел посоветоваться с вами...
Они остановились, обсудили со всех сторон дело, и Глинка дал совет:
- Идите прямо к Милорадоничу, не смущаясь и без всякого опасения. Он не поэт, но в душе и рыцарских его выходках у него много романтизма и поэзии; его не понимают. Идите и положитесь безусловно на благородство его души: он не употребит во зло вашей доверенности.
Друзья расстались. Пушкин, вняв совету Глинки, направился к Милорадовичу.
Часа через три и Глинка явился к Милорадовичу. Как только он вступил на порог кабинета, Милорадович, лежавший на своем зеленом диване, окутанный дорогими шалями, встретил Глинку словами:
- Знаешь, душа моя, у меня сейчас был Пушкин! Мне ведь велено взять его и забрать все его бумаги, но я счел более деликатным пригласить его к себе и уж от него самого вытребовать бумаги. Вот он и явился, очень спокоен, с светлым лицом. Я спросил его о бумагах. Пушкин ответил: «Граф! Все мои стихи сожжены! У меня ничего не найдется на квартире; но, если вам угодно, - сказал он, указывая пальцем на свой лоб, - все найдется здесь. Прикажите подать бумаги, я напишу все, что когда-либо написано мною - разумеется, кроме печатного, - с отметкою, что мое и что разошлось под моим именем». Подали бумаги, - продолжал Милорадович. - Пушкин сел и писал, писал... и написал целую тетрадь... Вот она, на столе у окна, полюбуйся!.. Завтра я увезу ее государю...
Закончив рассказ, Милорадович сказал:
- А знаешь ли? Пушкин пленил меня своим благородным тоном и манерою обхождения...
На другой день Глинка пришел к Милорадовичу раньше обычного и с нетерпением ожидал его возвращения от государя. Первым словом Милорадовича, когда он вернулся, было:
- Ну вот, дело Пушкина и решено!
Сняв мундир, разоблачившись, Милорадович продолжал:
- Я вошел к государю с своим сокровищем, подал ему тетрадь и сказал: «Здесь все, что разбрелось в публике, но вам, государь, лучше этого не читать!» Государь улыбнулся на мою заботливость. Потом я рассказал подробно, как у нас было дело.
Государь слушал внимательно и наконец спросил:
«А что же ты сделал с автором?»
«Я?.. я объявил ему от имени вашего величества прощение!..»
«Не рано ли?» - сказал государь, слегка нахмурившись и немного помолчав.
Потом, подумав, прибавил:
«Ну, коли уж так, то мы распорядимся иначе: снарядить Пушкина в дорогу, выдать ему прогоны и, с соответствующим чином и с соблюдением возможной благовидности, отправить его на службу на юг».
«Вот как было дело», - закончил Глинка свои интереснейшие воспоминания.
Встретившись после этого в Царском Селе с директором Лицея Е. А. Энгельгардтом, ходатайствовавшим за Пушкина, Александр I сказал:
- Пушкина надобно сослать в Сибирь: он наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодежь наизусть их читает. Мне нравится откровенный его поступок с Милорадовичем, но это не исправляет дело.
* * *
4 мая 1820 года министр иностранных дел К. В. Нессельроде представил Александру I на утверждение письмо генералу И. Н. Инзову в Кишинев об отправляемом к нему на службу Пушкине с характеристикой поэта и объяснением его вины.
Письмо это писал фактический глава Коллегии иностранных дел И. А. Каподистрия, благожелательно относившийся к Пушкину, инициатор отправки поэта к генералу И. Н. Инзову в Кишинев.
«Исполненный горестей в продолжении всего своего детства, молодой Пушкин оставил родительский дом, не испытывая сожаления. Лишенный сыновней привязанности, он мог иметь лишь одно чувство - страстное желание независимости. Этот ученик уже ранее проявил гениальность необыкновенную. Его ум вызывал удивление, но характер его, кажется, ускользнул от взора наставников. Он вступил в свет, сильный пламенным воображением, но слабый полным отсутствием тех внутренних чувств, которые служат заменою принципов, пока опыт не успеет дать нам истинного воспитания.
Нет той крайности, в которую бы не впадал этот несчастный молодой человек, - как нет и того совершенства, которого не мог бы он достигнуть высоким превосходством своих дарований...
Несколько поэтических пиес, в особенности же ода на вольность, обратили на Пушкина внимание правительства... Г. г. Карамзин и Жуковский, осведомившись об опасностях, которым подвергся молодой поэт, поспешили предложить ему свои советы, привели его к признанию своих заблуждений и к тому, что он дал торжественное обещание отречься от них навсегда. Г. Пушкин кажется исправившимся, если верить его слезам и обещаниям. Однако эти его покровители полагают, что раскаяние его искренне... Отвечая на их мольбы, император уполномочивает меня дать молодому человеку отпуск и рекомендовать его вам... Судьба его будет зависеть от успеха ваших, добрых советов».
Александр I одобрил текст письма, и Нессельроде лично вручил его Пушкину перед выездом, для передачи генералу Инзову.
* * *
Здесь уместно заметить, что Пушкин вовсе не давал, как писал об этом Нессельроде Инзову, торжественного обещания навсегда отречься от своих «заблуждений».
Историк П. И. Бартенев писал, что, узнав о грозящей ему опасности, Пушкин пришел к Карамзину с просьбой о помощи и со слезами на глазах выслушивал его дружеские упреки и наставления.
- Можете ли вы, - спросил его Карамзин, - по крайней мере обещать мне, что в продолжение года ничего не напишете противного правительству? Иначе я выйду лжецом, прося за вас и говоря о вашем раскаянии...
Пушкин дал слово и сдержал его: оказавшись в южной ссылке, он лишь в 1821 году послал в Петербург, без подписи, стихотворение «Кинжал».
* * *
6 мая 1820 года Пушкин выехал из Петербурга. На проезд ему выдали 1000 рублей ассигнациями. Его провожали до Царского Села А. А. Дельвиг и П. Л. Яковлев.
Никто из них, конечно, не предполагал, что изгнание будет длиться шесть с половиной лет. Но сам Пушкин, даже при этих трагических обстоятельствах, счастлив был вырваться из опостылевшего Петербурга - не в Сибирь, не в Соловки, а на благодатный юг.
Случайно оказавшись в середине мая на одной из станций между Черниговом и Могилевом , И. И. Пущин узнал от смотрителя, что накануне на этой станции был поэт Пушкин, проездом из Петербурга в Екатеринослав. Ехал он на перекладной, в красной русской рубашке, в опояске, в поярковой шляпе...
Уже после высылки Пушкина в сентябрьском номере журнала «Сын отечества» появился написанный им на юге эпилог «Руслана и Людмилы» и вслед за ним стихотворение Ф. Н. Гл инки «К Пушкину» - своего рода публичное выражение сочувствия ссыльному поэту и осуждение его гонителей:
О Пушкин, Пушкин! кто тебя
Учил пленять в стихах чудесных?
Какой из жителей небесных,
Тебя младенцем полюбя,
Лелея, баял в колыбели?
. . . . . . . . . . . . .
Судьбы и времени седого
Не бойся, молодой певец!
Следы исчезнут поколений,
Но жив талант, бессмертен гений!..
Пушкин, оказавшись на юге, имел все основания благодарить Глинку за ту большую роль, какую он сыграл в его судьбе: благодаря Глинке было прекращено Милорадовичем секретное дознание о Пушкине.
Он ответил ему стихотворением «Ф. Н. Глинке» и послал его брату Льву при письме: «Покажи их Глинке, обними его за меня и скажи ему, что он все-таки почтеннейший человек здешнего мира».
Пушкин писал своему другу:
Когда средь оргий жизни шумной
Меня постигнул остракизм,
Увидел я толпы безумной
Презренный, робкий эгоизм.
Без слез оставил я с досадой
Венки пиров и блеск Афин,
Но голос твой мне был отрадой,
Великодушный гражданин!
Пускай судьба определила
Гоненья грозные мне вновь,
Пускай мне дружба изменила,
Как изменяла мне любовь,
В моем изгнанье позабуду
Несправедливость их обид:
Они ничтожны - если буду
Тобой оправдан, Аристид.
ГЛАВА ПЯТАЯ
КАВКАЗ, КРЫМ, КИШИНЕВ, КАМЕНКА
1820-1821
Мимо полуденных берегов Тавриды
Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля
При свете утренней Киприды,
Как вас впервой увидел я...
А. С. Пушкин. «Отрывки из путешествия Онегина»
Пушкин направлялся в Екатеринослав, на службу к генералу И. Н. Инзову. По поручению начальства вез депешу о назначении его наместником Бессарабии. «Он приедет к вам курьером», - сообщали Инзову в препроводительном письме.
Несмотря на раннюю весну, было жарко, и «курьер» со столь важным документом ехал на перекладных в красной рубашке с опояском, в поярковой шляпе.
Высылка Пушкина была неожиданной для многих даже близких ему друзей. «Растолкуй мне историю Пушкина», - писал П. А. Вяземский из Варшавы А. И. Тургеневу. «Зачем и с кем поехал молодой Пушкин в Крым?» - запрашивал московский почт-директор А. Я. Булгаков своего, жившего в Петербурге, брата К. Я. Булгакова.
Н. М. Карамзин сообщал Вяземскому в Варшаву, что Пушкин «благополучно поехал в Крым месяцев на пять», и добавил: «Если Пушкин и теперь не исправится, то будет чертом еще до отбытия своего в ад. Увидим, какой эпилог напишет он к своей поэме».
Пушкин пробыл, однако, на юге России не пять месяцев, а почти пять лет. Служба явилась для него многолетним изгнанием...
* * *
В Екатеринославе Пушкин поселился на окраине, в живописной местности, в небольшой лачуге на берегу Днепра. Все было в цвету. Поэт бродил по лесу среди вековых деревьев, катался на лодке.
* * *
Однажды, после купанья, Пушкин заболел горячкою. В те дни, направляясь на кавказские минеральные воды, в Екатеринославе остановился генерал Н. Н. Раевский с двумя дочерьми-подростками, Марией и Софьей, и младшим сыном, царскосельским гусаром Николаем, с которым Пушкин дружил с лицейских лет.
Генерал Раевский навестил Пушкина в его хате. Небритый, бледный и худой, беспомощный, лежал он на дощатой скамейке. Визит дорогого гостя очень обрадовал Пушкина и был весьма кстати. Раевский тут же пригласил врача. Осмотрев Пушкина и увидев на столе листы бумаги, врач спросил:
- Чем вы тут занимаетесь?
- Пишу стихи, - ответил Пушкин.
- Нашли время и место... Напейтесь на ночь чего-нибудь теплого, укутайтесь потеплее - поправитесь...
Пушкин прислушался к совету врача и уже на другое утро появился у Раевских. За обедом был весел, без умолку говорил с сыном и дочерьми Раевского и через несколько дней, с разрешения Инзова, отправился с Раевскими на Кавказ и в Крым.
Выехали из Екатеринослава ранним утром 28 мая в трех каретах. Дочерей Раевского сопровождали: англичанка, няня и девушки-компаньонки. Через два дня приблизились к Азовскому морю. Все вышли из экипажей. Юная Мария начала шалить, бегать за волной, догонять ее, а догнав, убегала. как только волна настигала ее.
Пушкин шел следом, и вряд ли она могла себе представить, что скоро, в первой же главе «Евгения Онегина», появится строфа, увековечившая ее детскую шалость...
На другой день приехали в Таганрог.
Как сплетаются иногда человеческие судьбы! В Таганроге Пушкин поселился с Раевским у градоначальника П. А. Папкова, в том самом доме на бывшей Греческой (ныне улице III Интернационала), 40, где, пять лет спустя, остановился и навсегда ушел из жизни император Александр I.
* * *
Из Таганрога путь Раевских лежал на Ростов. Проехали Нахичевань, ночевали в станице Аксай и дальше отправились на шлюпке по Дону. В приазовских вольных степях, как известно, началось казацко-крестьянское восстание Степана Разина, и здесь Пушкин знакомился с жизнью донского казачества, с преданиями понизовской вольницы, слушал песни о Разине, которого считал «единственным поэтическим лицом русской истории». В галерее старинного Старочеркасского войскового собора увидел цепи, в которые, по преданию, Разин был закован.
Имя генерала Н. Н. Раевского, героя 1812 года, было широко известно.
Когда он проезжал из Екатеринослава на Кавказ, жители радушно приветствовали его, подносили, по старинному обычаю, хлеб-соль.
Склонный к шутке, генерал, подтолкнув Пушкина, сказал, смеясь:
- Прочти-ка им свою «Вольность»!..
В Железноводске поселились в калмыцких кибитках. Вместе с присоединившимся к ним в пути старшим сыном Раевского, Александром, Пушкин совершал далекие прогулки в горы, заходил в аулы, знакомился с нравами и бытом горцев. Однажды зашел после прогулки к духанщику и услышал от него рассказ старого инвалида, как тот жил в плену у черкесов. Рассказ этот послужил потом темой первой его южной поэмы «Кавказский пленник».
* * *
Кавказ поразил Пушкина. Он писал брату Льву: «Жалею, мой друг, что ты со мною вместе не видел великолепную цепь этих гор; ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками, разноцветными и недвижными; жалею, что не всходил со мною на острый верх пятихолмного Бешту, Машука, Железной горы, Каменной и Змеиной».
5 августа Пушкин начал с Раевскими путь с Кавказа в Крым. Кругом было неспокойно, переезд был опасен, и их сопровождала охрана из шестидесяти верховых казаков, за которыми тащилась заряженная пушка.
Отъезжая в Крым, Пушкин запечатлел кавказские виды в стихотворении:
Я видел Азии бесплодные пределы,
Кавказа дальный край, долины обгорелы,
Жилище дикое черкесских табунов,
Подкумка знойный брег, пустынные вершины,
Обвитые венцом летучим облаков,
И закубанские равнины!
Ужасный край чудес!.. там жаркие ручьи
Кипят в утесах раскаленных.
Благословенные струи!
Берега Крыма открылись взорам Пушкина с полуострова Тамань, древнего Тмутараканского княжества. Остановки в Керчи и Феодосии и первые крымские впечатления: посещение Пантикапея, древней столицы Босфорского царства, и гробницы босфорского царя Митридата VII, заколовшегося после понесенного в войне с римлянами поражения. О них он писал брату:
«...На ближней горе посереди кладбища увидел я груду камней, утесов, грубо высеченных - заметил несколько ступеней - дело рук человеческих. Г роб ли это, древнее ли основание башни - не знаю. За несколько верст остановились мы на Золотом холме. Ряды камней, ров, почти сравнившийся с землею - вот всё, что осталось от города Пантикапеи».
И дальше предсказал: «Нет сомнения, что много драгоценного скрывается под землею, насыпанной веками...»
Так оно и получилось: раскопки керченских развалин раскрыли перед археологами картины жизни, быта и нравов былой Пантикапеи...
* * *
Уже на Кавказе Пушкин написал эпилог к законченной в Петербурге поэме «Руслан и Людмила». И в нем передал свое, вызванное ссылкой, душевное состояние:
На крыльях вымысла носимый,
Ум улетал за край земной;
И между тем грозы незримой
Сбиралась туча надо мной!..
Я погибал...
За четыре месяца, предшествовавших высылке из Петербурга, Пушкин написал всего три стихотворения и в эпилоге скорбел о том, что «огонь поэзии погас» и скрылась от него навек «Богиня тихих песнопений».
Это душевное смятение длилось, однако, недолго. Перед лицом могучей кавказской природы началось душевное раскрепощение и творческое возрождение поэта. Нахлынувшие новые впечатления вдохновили на новые, далекие от прежних юношеских элегий, произведения.
В середине августа Пушкин совершил с Раевским на военном бриге «Мингрелия» трехдневную поездку из Феодосии в Гурзуф, где находилась жена генерала Раевского с дочерьми Екатериной и Еленой.
Ночью, на корабле, Пушкин написал первое свое крымское стихотворение - «Погасло дневное светило», открывшее новый, романтический период его творчества. Оно навеяно было Байроном, от которого Пушкин, по его собственному признанию, «с ума сходил». Он даже сопроводил первые публикации этой романтической элегии подзаголовком «Подражание Байрону».
Возникший в начале XIX века романтизм явился на смену классицизму. В противоположность ему новое литературное течение признавало индивидуальное понимание прекрасного, полную свободу творчества писателя. Романтизм был исполнен протеста против всяких форм рабства и гнета. Белинский видел в нем вечное стремление к возвышенным идеалам, к мечте, облагораживающей человеческую личность, зовущей ее вперед. Русский романтизм явился результатом общественного развития России и достиг своего расцвета в эпоху движения декабристов.
Оказавшись в изгнании, Пушкин со слезами в очах - «душа кипит и замирает» - жалуется в этой первой своей романтической элегии на утраченную молодость, он разочарован прожитой жизнью:
Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края;
С волненьем и тоской туда стремлюся я,
Воспоминаньем упоенный...
И обращается к несущему его мимо полуденных берегов кораблю:
Лети, корабль, неси меня к пределам дальным
По грозной прихоти обманчивых морей.
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей,
Страны, где пламенем страстей
Впервые чувства разгорались,
Где музы нежные мне тайно улыбались,
Где рано в бурях отцвела
Моя потерянная младость,
Где легкокрылая мне изменила радость
И сердце хладное страданью предала...
Без сожаления расстается Пушкин со всеми, недавно пережитыми, радостями и печалями:
Искатель новых впечатлений,
Я вас бежал, отечески края;
Я вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья...
* * *
Гурзуф. Литография Ф. Гросса. 1840 г.
Пушкин подъезжал к Гурзуфу 19 августа. Позже он писал: «Проснувшись, увидел я картину пленительную; разноцветные горы сияли; плоские кровли хижин татарских издали казались ульями, прилепленными к горам; тополи, как зеленые колонны, стройно возвышались меж ими; справа огромный Аю-Даг... и кругом это синее, чистое небо, и светлое море, и блеск и воздух полуденный...»
Эти же впечатления нашли отзвук в позднейших «Отрывках из путешествия Онегина»:
Вы мне предстали в блеске брачном:
На небе синем и прозрачном
Сияли груды ваших гор,
Долин, деревьев, сёл узор
Разостлан был передо мною.
А там, меж хижинок татар...
Какой во мне проснулся жар!
Какой волшебною тоскою
Стеснялась пламенная грудь!
«Какой во мне проснулся жар!..» Жажда вновь вернуться к невольно прерванному творчеству...
Пушкин уже в Гурзуфе начал работать над только что услышанным рассказом старого духанщика, претворяя его в романтическую поэму «Кавказский пленник». Но в начале сентября покинул Гурзуф, направляясь через Георгиевский монастырь и Бахчисарай в Симферополь и Кишинев, к месту своей службы.
О пребывании своем в Гурзуфе Пушкин писал брату из Кишинева: «Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я посереди семейства почтенного Раевского... Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался, - счастливое, полуденное небо; прелестный край; природа, удовлетворяющая воображение - горы, сады, море; друг мой, любимая моя надежда - увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского...»
И продолжал с грустью: «Будешь ли ты со мной? скоро ли соединимся? Теперь я один в пустынной для меня Молдавии...»
* * *
Генерал И. Н. Инзов. Литография Клюквина с оригинала Д. Дау.
Кишинев. Дом Инзова, в котором жил А. С. Пушкин. С рисунка М. Ростовского.
В Кишиневе Пушкин остановился в заезжем доме купца Наумова (в наши дни в нем помещается мемориальный музей поэта) и отправился к начальнику. Генерал Иван Никитич Инзов тепло и сердечно встретил своего нового подчиненного, коллежского секретаря Александра Сергеевича Пушкина.
Человек гуманный и образованный, он сразу же проникся настроениями ссыльного поэта, относился к нему по-отечески. Поняв страстный, несдержанный характер Пушкина, всячески оберегал его от столкновений с бессарабскими помещиками, боярами и чиновниками.
Занятиями Инзов не очень обременял Пушкина. Осведомившись, что в Коллегии иностранных дел поэт был переводчиком, Инзов и предоставил ему «литературную работу»: пером гения поэт переводил в канцелярии Инзова французские тексты молдавских законов на русский язык.
В Кишиневе Пушкин познакомился со старшим дивизионным адъютантом К. А. Охотниковым, бригадным генералом П. С. Пущиным, офицером съемочной комиссии, писателем А. Ф. Вельтманом. Встретился с петербургским знакомым - «арзамасцем» Ф. Ф. Вигелем, подружился с сослуживцем Н. С. Алексеевым.
Близким сердцу Пушкина миром оказался в Кишиневе дом его петербургского друга - «арзамасца» генерала М. Ф. Орлова. Это был культурный центр Кишинева, где собирались члены Южного тайного общества, велись шумные политические и литературные споры. Здесь Пушкин встретился с руководителем греческого восстания против турок «безруким князем» Ипсиланти, с «первым декабристом» В. Ф. Раевским и руководителем будущих южных декабристов П. И. Пестелем.
Рядом с этим миром был в Кишиневе другой мир, в котором Пушкин, любивший все яркое, живописное, вскоре оказался.
Кишинев в начале прошлого века был маленьким городком, где посреди сотен лачужек торчали каких-нибудь семь-восемь каменных домов. Население его было разноязычное - русские, украинцы, молдаване, цыгане, греки, евреи, болгары, армяне. После блистательного Петербурга странно было очутиться в этом многоязычном полуевропейском, полуазиатском, полувосточном городке Бессарабии с его пестрой смесью «одежд и лиц, племен, наречий, состояний».
Но Пушкин не замыкался в себе! Он охотно посещал аристократические круги молдавских помещиков и нередко презрительно отзывался о чванливой, высокомерной «бояр орде», едко высмеивал их «кукониц», как называли здесь местных аристократок, молдавских боярынь...
Ему хотелось проникнуть и в мир молдавской национальной культуры; он интересовался местными сказаниями, преданиями, песнями. Любил посещать народные праздники, гулянья. Важно покуривая трубку, он появлялся в самых разнообразных костюмах - иногда в обличии турка, в широчайших шароварах, с феской на голове. Водил вместе с молдаванами на площадях и базарах хороводы, а потом со смехом рассказывал, как весело было отплясывать в их бурных кругах «джок» под звуки кобзы.
Пушкин изучал молдавский язык и часто встречал гостей молдавским приветствием; некоторые наиболее употребительные молдавские фразы записывал на стенах своей комнаты. В кишиневском стихотворении «Чиновник и поэт» он писал, что любит «базарное волненье», проникновение в дух народный -
И спор, и крик, и торга жар,
Нарядов пестрое стесненье.
Люблю толпу, лохмотья, шум -
И жадной черни лай свободный.
С базара Пушкин отправился однажды к тюрьме, видел, как из нее выводили закованного в цепи известного в тех краях разбойника Георгия Кирджали, участника восстания гетеристов2 в 1821 году, арестованного в Кишиневе и выданного туркам. И на этом материале написал позднее повесть «Кирджали».
* * *
В Кишиневе Пушкин не сразу принялся за работу. «Я перевариваю воспоминания и надеюсь набрать вскоре новые...» - писал он Дельвигу. И шутя добавлял: - «...чем нам и жить, душа моя, под старость нашей молодости, как не воспоминаниями?»
Новые впечатления оттеснили старые. Вскоре после приезда в Кишинев неожиданно родилось стихотворение, на другой же день приобретшее широчайшую популярность.
Пушкин нередко заходил поужинать с друзьями в кишиневский «Зеленый трактир». Там всегда царило веселье, которое вносила своими звучными, яркими песнями юная молдаванка Мариула.
От нее Пушкин услышал однажды песню о драматической любви юноши к молодой гречанке.
Шум и смех стихали, когда Мариула снова и снова исполняла эту песню по просьбе гостей. С бокалом в руке, прервав дружескую беседу, Пушкин взволнованно слушал Мариулу. Не зная языка, но проникаясь выразительными музыкальными созвучиями, он чутьем улавливал содержание драмы, ее трагическую развязку и попросил перевести песню на русский язык:
Безмолвно гляжу я на черную шаль,
и душа моя холодна и неутешна.
Когда я был помоложе,
с наслаждением любил я молодую гречанку
с кудрявыми волосами,
с черными ресницами, румяным лицом и нежным обликом.
Я чувствовал себя счастливым
у своей красивой гречанки,
которую сильно любил.
Однажды я пригласил к столу
нескольких друзей, с которыми беседовал,
как вдруг входит ко мне один
из верных и шепчет мне: «Господин,
твоя гречанка, которую ты любишь,
изменяет тебе и коварно обманывает
тебя: иначе и не думай!»
Тогда я сейчас же позвал своего раба,
подарил ему золото и заклял его.
И тогда я вдруг ожесточился, быстро,
словно мысль, бросился на конюшню,
вскочил на своего коня Анжера и,
отпустив удила, полетел, словно ветер.
Не чувствовал я ни боли,
ни сострадания: был подобен камню.
Но едва издали завидел я порог
гречанки, как потерял мужество и силы.
Добравшись до ворот, я слез с коня,
а когда посмотрел в окно, то увидел -
позор! в объятиях армянина моя
изменница лобзается с ним уста в уста.
И тогда я сразу свирепо ожесточился,
вытащил палаш из ножен, жестоким ударом
повалил ее на землю и дико
топтал ее голову.
И помню теперь ее горячую мольбу.
Открытые губы просили поцелуя,
просили поцелуя в ту минуту...
Черной шалью вытер я палаш...
Их трупы я взял в охапку и бросил
их в дунайские волны. Вот как
окончилось с красивой гречанкой,
с красивой гречанкой с вьющимися волосами.
Песня поразила Пушкина своим мрачным колоритом, стремительным разворотом событий, страстностью исполнения.
Пушкин вернулся к себе. Была уже глубокая ночь. Он зажег свечу. Перед глазами маячила черная шаль с пятнами запекшейся крови.
Он явственно слышал еще голос Мариулы и, казалось, писал с ее слов:
Гляжу как безумный на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль.
Когда легковерен и молод я был,
Младую гречанку я страстно любил.
Прелестная дева ласкала меня;
Но скоро я дожил до черного дня...
Прошло всего несколько дней, и весь Кишинев пел пушкинскую «Черную шаль» на мотив молдавской песни Мариулы.
В один из вечеров вернулся из объезда дунайской пограничной оборонительной линии генерал Орлов. Он дружески обнял Пушкина и запел вполголоса;
Когда легковерен и молод я был...
- Как, вы уже знаете? - изумился поэт.
- Баллада твоя превосходна, в каждых двух стихах полнота неподражаемая, - ответил Орлов.
Собравшиеся офицеры окружили поэта и хором скандировали его стихи:
Едва я завидел гречанки порог,
Глаза потемнели, я весь изнемог...
В покой отдаленный вхожу я один...
Неверную деву лобзал армянин.
Не взвидел я света; булат загремел...
Прервать поцелуя злодей не успел.
Безглавое тело я долго топтал
И молча на деву, бледнея, взирал.
Я помню моленья... текущую кровь...
Погибла гречанка, погибла любовь!
С главы ее мертвой сняв черную шаль.
Отер я безмолвно кровавую сталь.
Мой раб, как настала вечерняя мгла,
В дунайские волны их бросил тела.
С тех пор не целую прелестных очей,
С тех пор я не знаю веселых ночей.
Гляжу как безумный на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль.
«Черная шаль» имела успех необычайный. В Петербурге композитор А. И. Верстовский положил ее на музыку и, как вспоминала современница, «певал ее с особенным выражением своим небольшим баритоном...».
В Москве песню исполнял с большим успехом П. А. Булахов. Друзья поэта писали: «Маленький Пушкин не подозревает в Бессарабии, как его чествуют здесь, в Москве, и таким новым способом».
«Черная шаль» вышла сразу двумя изданиями и разошлась в несколько дней. Песня сделалась народной, ее пела вся Россия...
* * *
А. С. Пушкин в Каменке среди декабристов в 1820 году. С рисунка Д. Кардовского. 1934 г.
Грот в Каменке, где собирались декабристы.
В середине ноября 1820 года Пушкин познакомился в доме Орлова с будущим декабристом В. Л. Давыдовым и его братом и, с разрешения Инзова, принял приглашение поехать с ними в Каменку.
Перенесемся мысленно в далекие годы, предшествовавшие восстанию 14 декабря 1825 года.
Каменка - столица южных декабристов. Сюда часто наезжают известные всей России люди из славной когорты победителей Наполеона. Здесь зреет заговор, цель которого не дворцовый переворот, не замена одного тирана другим, а полное свержение самодержавия, уничтожение крепостничества.
В беседах и политических спорах члены тайного общества засиживались до рассвета. Здесь выковывалось мировоззрение будущих декабристов, крепла их идейная связь.
В Каменке среди этих замечательных людей эпохи Пушкин прожил с ноября 1820 года по февраль 1821 года.
Однажды он оказался в кругу съехавшихся в Каменке членов тайного общества. Генерал Н. Н. Раевский не был его членом, но вышло так, что и он присутствовал на собрании будущих декабристов, а старший сын его, Александр, председательствовал.
Речь зашла о том, что для России полезно было бы существование тайного общества. Пушкин принял участие в беседе и «уверился, что тайное общество или существует, или тут же получит свое начало, и он будет его членом».
Пушкин очень огорчился, когда после оживленной беседы будущий декабрист И. Д. Якушкин расхохотался и сказал, что все это была только шутка. Раскрасневшись, Пушкин ответил со слезами на глазах: «Я никогда не был так несчастлив, как теперь: я уже видел жизнь мою облагороженною и высокую цель перед собой, и все это была только злая шутка...»
«В эту минуту он был точно прекрасен», - вспоминал Якушкин.
Пушкину нравилось в Каменке... И друзья не хотели отпускать его. Они писали в Кишинев генералу Инзову, что поэт болен и не может выехать. Добрый Инзов - «Инзушка», как ласково называл его Пушкин, - просил «не позволить ему предпринять путь, доколе не получит укрепления в силах».
В течение трех месяцев поэт «укреплялся в силах», а В. Л. Давыдов, хозяин Каменки, по его уходе запирал дверь его домика, чтобы никто не тронул небрежно разбросанных повсюду, исписанных рукою Пушкина листков.
Помимо серенького домика, с именем Пушкина связан и сохранившийся в Каменке искусственный грот. На фронтоне его высится надпись из Рылеева: «Нет примиренья между тираном и рабом».
Пушкин любил здесь отдыхать, он любовался открывавшейся перед ним панорамой окрестностей. В гроте часто собирались для бесед и члены тайного общества. Все стены его испещрены были надписями и стихотворениями Пушкина и декабристов. Грот позже оштукатурили, и навсегда скрылись от нас эти одухотворенные отзвуки былой Каменки.
* * *
«Кавказский пленник», начало первой песни.Автограф с рисунком А. С. Пушкина.
Живя в Каменке, Пушкин закончил начатую еще год назад, в Гурзуфе, романтическую поэму «Кавказский пленник».
Герой поэмы - уставший от жизни, разочарованный молодой человек.
«Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи 19-го века», - писал Пушкин, характеризуя своего Пленника. Чтобы показать крайнюю разочарованность своего героя жизнью, он первоначально хотел даже включить в поэму элегические стихи:
Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свои мечты;
Остались мне одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.
Под бурями судьбы жестокой
Увял цветущий мой венец;
Живу печальный, одинокий,
И жду: придет ли мой конец?
Так, поздним хладом пораженный,
Как бури слышен зимний свист,
Один на ветке обнаженной
Трепещет запоздалый лист.
Белинский и считал Пленника героем того времени, считал пушкинскую поэму произведением историческим, поскольку она поднимала в преддекабристскую эпоху вопрос об отношениях между личностью и обществом.
Глубоко личными переживаниями поэта проникнуты настроения Пленника:
Людей и свет изведал он
И знал неверной жизни цену.
В сердцах друзей нашел измену,
В мечтах любви безумный сон,
Наскуча жертвой быть привычной
Давно презренной суеты,
И неприязни двуязычной,
И простодушной клеветы,
Отступник света, друг природы,
Покинул он родной предел
И в край далекий полетел
С веселым призраком свободы.
Это он, поэт, о себе самом писал:
Свобода! он одной тебя
Еще искал в пустынном мире.
Страстями чувства истребя,
Охолодев к мечтам и к лире,
С волненьем песни он внимал,
Одушевленные тобою,
И с верой, пламенной мольбою
Твой гордый идол обнимал.
Противопоставление свободы и независимости порочным нравам светского общества, вольнолюбивая романтика «Кавказского пленника» отвечали настроениям молодежи пушкинской поры, и Белинский отмечал, что «молодые люди были особенно восхищены им, потому что каждый видел в нем, более или менее, свое собственное отражение».
Своей первой вольнолюбивой романтической поэмой Пушкин открыл новый период в духовной жизни русского общества и современной ему литературы.
«...Пушкин явился в своей поэме в полном и прямом смысле этого слова поэтом кавказской реально-романтической действительности. В то же время певец кавказской природы и черкесского быта во многих чертах образа своего Пленника, как он показан, в особенности в первой части поэмы (его неудовлетворенность жизнью, светом, его страстные искания свободы), дал первое высоко поэтическое выражение вольнолюбивым настроениям и порывам передовых кругов современного ему общества»3
Любопытно, что Александр I, замечает в своем дневнике М. П. Погодин, «прочтя Кавк. Плен., сказал: надо помириться с ним...».
Поэма стала известна друзьям еще в рукописи, в начале сентября 1822 года вышла из печати и имела большой успех. «Жемчужиной русской словесности» называли ее. Она сразу же переведена была на французский, немецкий и польский языки. И уже в мае 1823 года Пушкин писал Н. И. Гнедичу о втором издании «Кавказского пленника».
13 января 1823 года в петербургском Большом театре состоялось первое представление балета Дидло на музыку Кавоса «Кавказский пленник, или Тень невесты», в четырех действиях. Роль черкешенки исполняла Истомина. Чего бы не дал тогда Пушкин, чтобы хоть на несколько часов перенестись из Кишинева в сияющий огнями петербургский Большой театр и снова увидеть Истомину, увидеть ее в роли созданной им черкешенки!
* * *
Киев в пушкинскую пору (1830 г.). С картины П. Свиньина.
Пушкин не спешил покидать Каменку и 4 декабря 1820 года писал своему другу Н. И. Гнедичу:
«Вот уже восемь месяцев, как я веду странническую жизнь... Был я на Кавказе, в Крыму, в Молдавии и теперь нахожусь в Киевской губернии, в деревне Давыдовых, милых и умных отшельников, братьев генерала Раевского. Время мое протекает между аристократическими обедами и демагогическими4спорами. Общество наше, теперь рассеянное, было недавно разнообразная и веселая смесь умов оригинальных, людей известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя. - Женщин мало, много шампанского, много острых слов, много книг, немного стихов. Вы поверите легко, что преданный мгновенью, мало заботился я о толках петербургских...»
В последние дни января 1821 года Пушкин выехал с Давыдовыми из Каменки в Киев, на «контракты» - так назывались ежегодные контрактовые киевские ярмарки. Он поселился вместе с Давыдовыми в хорошо сохранившемся до наших дней доме Н. Н. Раевского-старшего. Здесь же жил и М. Ф. Орлов, только что помолвленный тогда с Екатериной Раевской.
Бывший «арзамасец», по кличке «Рейн», Орлов дружески встретил Пушкина:
- Как ты тут?
- Язык до Киева доведет! - услышал он ответ.
- Берегись, Пушкин, чтоб не выслали тебя за Дунай...
- Может быть, и за-Прут! - ответил Пушкин двусмысленным каламбуром.
Киев влек к себе автора «Руслана и Людмилы», это был «стольный град», «мать городов русских». В Киево-Печерской лавре был, по преданию, захоронен летописец Нестор, автор «Повести временных лет», а на Щековицкой горе - князь Олег... Здесь зачата была «Песнь о вещем Олеге»...
Удивительно... Пушкин еще не видел Киева и южной полноводной рекикрасавицы Днепра, когда писал:
Днепра стал темен брег отлогий...
И в Киев перенес персонажей «Руслана и Людмилы»:
Мой богатырь, моя Людмила,
Владимир, ведьма, Черномор,
И финна верные печали
Твое мечтанье занимали...
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Владимир-солнышко в то время
В высоком тереме своем
Сидел, томясь привычной думой.
Бояре, витязи кругом
Сидели с важностью угрюмой.
Киев был застроен в ту пору деревянными домами, рядом с ними высились каменные монастырские и церковные громады. Вдоль улиц тянулись деревянные мостовые.
В городе открылся в начале века двухэтажный деревянный театр на 470 человек. И здесь Пушкин впервые встретился со знаменитым актером М. с. Щепкиным, который в ноябре того года был выкуплен друзьями из крепостной неволи.
Щепкин руководил гастролировавшей тогда в Киеве труппой, и Пушкин охотно посещал шедшие в театре пьесы - «Наталку-Полтавку», «Москаль-чаривнык».
Ссыльный поэт и крепостной актер душевно сблизились...
Имя Пушкина уже было широко известно, стихотворения его ходили в Киеве по рукам в многочисленных списках. И однажды, находясь в дружеском кругу, Пушкин услышал, как в соседней комнате его бессменный камердинер и друг Никита Козлов убеждал кого-то:
- От мой господин - наибогатейший из всех тузов. Его богатство ржа не берет, ни золото, ни чины не сравнятся с ним. Мы все умрем, кости наши сгниют, а его богатство будет жить, и благодарные потомки будут славить моего господина... Никита Козлов, с детства пестовавший Пушкина, сам заразившийся поэтическими настроениями своего господина, в заключение прочитал собравшимся какое-то выученное им наизусть стихотворение Пушкина.
А Пушкин, в окружении близких ему друзей, читал в это время, любуясь Екатериной Раевской, только что написанное стихотворение «Красавица перед зеркалом»:
Взгляни на милую, когда свое чело
Она пред зеркалом цветами окружает,
Играет локоном - и верное стекло
Улыбку, хитрый взор и гордость отражает.
И вслед за этим другое, тоже написанное в Киеве, стихотворение «Земля и море» - воспоминание о недавних ярких и радостных днях, проведенных с Раевским в Гурзуфе.
* * *
М. Ф. Орлов.
Древняя Киевская Русь, Владимиры и Изяславы совершенно завладели в Киеве воображением Пушкина. И в доме Раевских Пушкин встретился лицом к лицу с людьми, готовившимися сокрушить крепостничество и самодержавие.
13 января того же 1821 года формально перестал существовать «Союз благоденствия», и на смену ему образовались Северное и Южное тайные общества.
На балах в доме генерала Раевского среди гостей начали появляться, вместе с С. Г. Волконским и М. Ф. Орловым, члены Южного тайного общества. Многозначительно переглядываясь одним им понятными взорами, они спускались в полуподвал дома, и там проходили встречи и совещания будущих декабристов.
Прикрепленная к дому мемориальная доска сохранила для нас, потомков, память о том, что в этом доме жил в 1821 году великий российский поэт Александр Сергеевич Пушкин и что тут собирались в двадцатых годах XIX столетия члены тайного общества.
Такая же памятная доска - барельефные портреты пяти казненных декабристов - прикреплена и к ярмарочному контрактовому дому, где члены тайного общества собирались в конце 1822 года.
* * *
После десятидневного пребывания в Киеве Пушкин 10 февраля 1821 года возвращался с Давыдовым в Каменку. Накануне отъезда поэт посетил знаменитый Софийский собор. Расписанный известными художниками, собор поразил Пушкина своими удивительными фресками, живописными плафонами, полусветскими изображениями святых.
Здесь, на земле древней Киевской Руси, рождались темы будущих творений Пушкина. Он посетил гробницу посеченных и обезглавленных за Белою Церковью Кочубея и полковника Искры и глубоко ощутил неописуемую красоту южной украинской ночи:
Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Луна спокойно с высоты
Над Белой Церковью сияет
И пышных гетманов сады
И старый замок озаряет.
И в «Гусаре» мог позже шутливо вспоминать украинскую столицу:
То ль дело Киев! Что за край!
Валятся сами в рот галушки,
Вином хоть пару поддавай,
А молодицы-молодушки!
По пути с Давыдовым в Каменку Пушкин посетил Тульчин, где стоял штаб Южной армии. Здесь он познакомился с будущими декабристами И. В. Басаргиным и А. П. Юшневским и через день-другой вернулся в Каменку, откуда вскоре направился в Кишинев.
* * *
Старая Каменка умерла. Но память о былом живет здесь и сегодня. Наше поколение бережно хранит все, связанное с ее историческим прошлым. Сохранились «Пушкинский грот» и «Мельничка декабристов». Второй жизнью живет бывший «серенький», ныне «зеленый домик», окруженный большим парком, носящим имя декабристов.
Частым гостем в семидесятых и восьмидесятых годах прошлого столетия в Каменке бывал композитор П. И. Чайковский, сестра которого, Александра Ильинична, вышла замуж за сына декабриста В. Л. Давыдова, Льва Васильевича. Особенно подружился композитор с вернувшейся с каторги вдовою декабриста Александрой Ивановной.
Вслушиваясь в тихий рокот и всплески протекавшей вдоль усадьбы реки Тяснины и в доносившееся пение возвращавшихся с полевых работ крестьян, П. И. Чайковский написал в Каменке свою вторую симфонию и ряд других произведений.
Шумят вековые деревья, а в «зеленом домике» (теперь - Музей имени А. С. Пушкина и П. И. Чайковского) идет своя жизнь. Оба гения живут здесь рядом, как рядом живут их величайшие творения - произведения поэта и написанная к ним композитором музыка.
В 1937 году, в столетнюю годовщину со дня смерти Пушкина, здесь открыт был памятник с надписью: «В Каменке, находясь в ссылке, пребывал в 1820, 1821, 1822 гг. великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин».
В Каменке, ставшей городом Черкасской области, течет сегодня новая жизнь. Люди нашего поколения творят здесь новую историю эпохи.
И Пушкин продолжает жить среди них, будто их современник.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
КИШИНЕВ
1821-1823
«Я жертва клеветы и мстительных невежд»
Далече северной столицы
Забыл я вечный ваш туман,
И вольный глас моей цевницы
Тревожит сонных молдаван.
А. С. Пушкин. «Из письма к Гнедичу»
После почти четырехмесячного пребывания в Каменке Пушкин вернулся в марте 1821 года в Кишинев.
Он оказался здесь свидетелем происшествий, «которые, - считал он, - будут иметь следствия, важные не только для нашего края, но и для всей Европы».
В ту пору южную Европу потрясали революционные взрывы: движение карбонариев в Италии, неаполитанская революция во главе с генералом Пепе, казнь вождя испанских революционеров благородного Риэго. Байрон готовился стать в ряды греков, восставших против турецкого ига, и погиб в этой борьбе.
Гнет самодержавия и реакции и в России вызвал подъем освободительного движения, родились и набирали силу тайные общества.
Греция, под руководством Александра Ипсиланти, подняла тогда восстание против Турции и провозгласила свою свободу. События эти привлекли к себе серьезное внимание Пушкина, и он сразу же сообщил о них большим письмом В. Л. Давыдову в Каменку.
Одновременно направил ему стихотворное послание, в котором тепло вспоминал проведенные в Каменке дни:
Тебя, Раевских и Орлова,
И память Каменки любя,
Хочу сказать тебе два слова
Про Кишинев и про себя.
Эти «два слова» касались атеистических воззрений Пушкина, косвенно связанных им с неаполитанской революцией.
В те дни генерал Инзов говел, и Пушкин, в качестве его подчиненного, тоже обязан был раз в год говеть, исповедоваться, причащаться. Атеист в душе, Пушкин иронизировал по поводу навязанных ему начальником церковных обрядов:
Я стал умен, я лицемерю -
Пощусь, молюсь и твердо верю,
Что бог простит мои грехи,
Как государь мои стихи.
Говеет Инзов, и намедни
Я променял парнасски бредни
И лиру, грешный дар судьбы,
На часослов и на обедни,
Да на сушеные грибы.
Однако ж гордый мой рассудок
Мое раскаянье бранит...
Пушкин предпочел бы причащаться - вместо символической «крови Христовой» - не смешанным с водою молдавским вином, а лафитом или кло-де-вужо из Давыдовских погребов. А самое понятие эвхаристии - церковного обряда причащения - он переосмысливает и применяет к ожидаемой революции:
Вот эвхаристия другая,
Когда и ты, и милый брат,
Перед камином надевая
Демократический халат,
Спасенья чашу наполняли
Беспенной, мерзлою струей,
И на здоровье тех и той
До дна, до капли выпивали!..
Но те в Неаполе шалят,
А та едва ли там воскреснет...
Народы тишины хотят,
И долго их ярем не треснет.
Ужель надежды луч исчез?
Но нет, мы счастьем насладимся,
Кровавой чаши причастимся -
И я скажу: Христос воскрес.
О «кровавой чаше» революции мечтал Пушкин... Те, подчеркнутые им в стихотворении, - это итальянские карбонарии, та - политическая свобода.
* * *
Обстановка, в которой оказался в Кишиневе автор «Вольности» и «Деревни», не привела его к изоляции и исправлению, на что рассчитывал Александр I. Наоборот, все здесь питало и укрепляло революционные настроения поэта.
Всюду - на улицах и площадях, при встречах с друзьями и за обеденным столом у наместника - Пушкин готов был доказывать, что «тот подлец, кто не желает перемены правительства в России».
На обеде у генерала Д. К. Бологовского, участника заговора против Павла I, Пушкин предложил тост за здоровье хозяина, потому что «сегодня 11 марта», - в этот день в 1801 году был убит император.
За столом у Инзова Пушкин так высказался по поводу революционных событий в Европе: «Прежде народы восставали один против другого, теперь король неаполитанский воюет с народом, прусский воюет с народом, испанский - тоже; нетрудно расчесть, чья сторона возьмет верх!..»
Глубокое молчание наступило после столь откровенно и смело высказанных Пушкиным мыслей. Оно продолжалось несколько минут - Инзов отвлек внимание гостей к другой теме.
Весной 1821 года в Греции вспыхнуло восстание против турецкого владычества за национальную свободу. Это событие глубоко взволновало Пушкина.
На вечере у одной гречанки зашел разговор о греческом восстании, и Пушкин записал в своем кишиневском дневнике: «...между пятью греками я один говорил как грек: все отчаивались в успехе предприятия этерии (греческой национально-революционной организации. - А. Г.). Я твердо уверен, что Греция восторжествует, а 25 000 000 турков оставят цветущую страну Эллады законным наследникам Гомера и Фемистокла...»
События греческого восстания воодушевляли поэта, он славит героизм восставших:
Гречанка верная! не плачь, - он пал героем!
Свинец врага в его вонзился грудь.
Не плачь - не ты ль ему сама пред первым боем
Назначила кровавой чести путь?
Тогда, тяжелую предчувствуя разлуку,
Супруг тебе простер торжественную руку,
Младенца своего в слезах благословил,
Но знамя черное свободой восшумело,
Как Аристогитон, он миртом меч обвил,
Он в сечу ринулся - и падши совершил
Великое, святое дело.
Вспоминая жившего в VI веке до нашей эры юношу Аристогитона, обвившего миртом скрытый кинжал и заколовшего им афинского тирана Гиппорха, Пушкин и сам стремился принять участие в греческом восстании против турок, когда писал:
Война! Подъяты наконец,
Шумят знамена бранной чести!
Увижу кровь, увижу праздник мести;
Засвищет вкруг меня губительный свинец.
И сколько сильных впечатлений
Для жаждущей души моей...
9 апреля 1821 года Пушкин встретился с главою Южного тайного общества и тогда же записал в дневнике: «Утро провел я с Пестелем; умный человек во всем смысле этого слова. «Сердцем я материалист, - говорит он, - но мой разум этому противится». Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю...»
Вскоре Пестель сам навестил Пушкина в день его рождения. Поэт жил тогда уже не в заезжем доме Наумова, а у Инзова, который предложил ему, после возвращения из Каменки, поселиться в нижнем этаже своего дома вместе с другими подчиненными ему.
В комнате поэта Пестель увидел большой стол у окна, на котором разбросаны были бумаги и книги, диван и несколько стульев у голубых стен. Окна выходили в сад, где среди клумб разгуливали пернатые разных пород, до которых Инзов был большой охотник: павлины, журавли/индейки, куры. По утрам наместник сам кормил их пшеничным зерном...
* * *
В марте 1821 года Пушкин написал одно из самых сильных своих революционных стихотворений - «Кинжал»:
Лемносский бог тебя сковал
Для рук бессмертной Немезиды,
Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды.
Где Зевса гром молчит, где дремлет меч закона,
Свершитель ты проклятий и надежд,
Ты кроешься под сенью трона,
Под блеском празничных одежд.
Как адский луч, как молния богов,
Немое лезвие злодею в очи блещет,
И, озираясь, он трепещет
Среди своих пиров.
Везде его найдет удар нежданный твой:
На суше, на морях, во храме, под шатрами,
За потаенными замками,
На ложе сна, в семье родной.
На создание стихотворения «Кинжал» Пушкина вдохновил греческий миф о Гефесе, сыне Юпитера и Юноны, сброшенном отцом с Олимпа на остров Лемнос в Эгейском море. При падении Гефес охромел, стал кузнецом. Пушкин назвал его в стихотворении «лемносским богом».
Тема революционного действия и возмездия тиранам, видимо, глубоко владела тогда Пушкиным.
Через много лет, описывая в десятой главе «Евгения Онегина» декабристские «сходки», Пушкин снова вспоминает кинжал, но уже с определенной «надписью», с определенным адресом:
Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал...
Стихотворение «Кинжал» широко распространилось по России в списках, ходивших наряду с «Вольностью», «Деревней»...
* * *
Вольные мысли Пушкина и несдержанные выражения смущали добрейшего Инзова. Он сердцем привязался к Пушкину, читал, надо полагать, и стихотворение «Кинжал» и делал все возможное, чтобы защитить поэта от неминуемых осложнений.
В апреле 1821 года Инзов получил неожиданный запрос из Коллегии иностранных дел от И. А. Каподистрия о поведении и службе «молодого Пушкина»: повинуется ли он теперь слушанию от природы доброго сердца или порывам необузданного и вредного воображения?
Инзов, защищая поэта, ответил в тон: «Пушкин, живя в одном со мной доме, ведет себя хорошо и при настоящих смутных обстоятельствах не оказывает никакого участия в сих делах. Я занял его переводом на российский язык составленных по-французски молдавских законов и тем, равно другими упражнениями по службе, отнимаю способы к праздности. Он, побуждаясь тем же духом, коим исполнены все парнасские жители к ревностному подражанию некоторым писателям, в разговоре со мною обнаруживает иногда пиитические мысли. Но я уверен, что лета и время образумят его в сем случае и опытом заставят признать неосновательность умозаключений, посеянных чтением вредных сочинений и принятыми правилами нынешнего столетия».
* * *
Годы ссылки были годами творческого роста Пушкина.
Реальная действительность ощутимо вторгалась тогда в общественную жизнь России. И в позднейшей заметке, «О причинах, замедливших ход нашей словесности», Пушкин четко указал, что «просвещение века требует важных предметов размышления для пищи умов, которые уже не могут довольствоваться блестящими играми воображения и гармонии...».
Обращаясь к П. Я. Чаадаеву, Пушкин радуется, что, «оставив шумный круг безумцев молодых», он в изгнании своем о них не жалеет:
В уединении мой своенравный гений
Познал и тихий труд, и жажду размышлений.
Владею днем моим; с порядком дружен ум;
Учусь удерживать вниманье долгих дум;
Ищу вознаградить в объятиях свободы
Мятежной младостью утраченные годы
И в просвещении стать с веком наравне.
Стремление «в просвещении стать с веком наравне» приводит поэта к возрождению:
Благодарю богов: прешел я мрачный путь;
Печали ранние мою теснили грудь;
К печалям я привык, расчелся я с судьбою
И жизнь перенесу стоической душою.
Пушкин мечтает снова встретиться с Чаадаевым, обнять его, вспомнить беседы прошлых лет и воодушевлен картиной этой встречи:
Поспорим, перечтем, посудим, побраним,
Вольнолюбивые надежды оживим...
* * *
На балу у армянского архиерея Пушкин узнал о смерти Наполеона, настигшей властителя полумира 5 мая 1821 года.
Образ поверженного французского императора не переставал занимать поэта с юных лет.
И вот, через шесть лет после лицейского стихотворения «Наполеон на Эльбе», -
Чудесный жребий совершился:
Угас великий человек...
Пушкин рисует яркую историческую картину крушения феодализма во Франции и стремления народов Европы к свободе, к избавлению от самовластья. Он называет Наполеона «могучим баловнем побед», над чьим прахом одновременно «народов ненависть почила и луч бессмертия горит».
Гордый величием своего народа Пушкин спрашивает:
Надменный! кто тебя подвигнул?
Кто обуял твой дивный ум?
Как сердца русских не постигнул
Ты с высоты отважных дум?
Великодушного пожара
Не предузнав, уж ты мечтал,
Что мира вновь мы ждем, как дара;
Но поздно русских разгадал...
Пушкин воздает, однако, должное почившему императору, предостерегает от укоров его «развенчанной тени» и благодарит:
Хвала!.. Он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.
Цензура разрешила стихотворение «Наполеон» к печати, но изъяла из него стихи, связанные с французской революцией:
Когда надеждой озаренный
От рабства пробудился мир,
И галл десницей разъяренной
Низвергнул ветхий свой кумир;
Когда на площади мятежной
Во прахе царский труп лежал,
И день великий, неизбежный -
Свободы яркий день вставал...
Не пропущены были и стихи о том, что свергнутый Наполеон «в волненье бурь народных... человечество презрел»...
Яркое и смелое стихотворение «Наполеон» привлекло к себе внимание широких кругов общества. Белинский писал: «Эти стихи и особенно этот взгляд на Наполеона, как освежительная гроза, раздались в 1821 году над полем русской литературы, заросшим сорными травами общих мест, и многие поэты, престарелые и возмужалые, прислушивались к нему с удивлением, подняв встревоженные головы вверх, словно гуси на гром...»
* * *
Мысли о мире, естественно, волновали в ту эпоху человеческие умы. Вышедшая замуж за генерала М. Ф. Орлова Екатерина Раевская писала в ноябре 1821 года брату Александру, что Пушкин часто приходит к ним, «рассуждает или болтает очень приятно», в частности о вечном мире, и читал им свою оду на Наполеона.
В доме Орловых обычно собирались члены Южного тайного общества и горячо обсуждали политические, литературные и философские темы дня. Когда не было гостей, Пушкин шумно спорил о всевозможных предметах с Орловым. «Его теперешний конек - вечный мир аббата Сен-Пъера, - писала жена Орлова брату. - Он убежден, что правительства, совершенствуясь, постепенно водворят вечный и всеобщий мир и что тогда не будет проливаться... крови...»
Среди набросков, записей, конспектов, планов действительно сохранилась запись рукой Пушкина, на французском языке, - «О вечном мире»: «Не может быть, чтобы людям со временем не стала ясна смешная жестокость войны, так же, как им стало ясно рабство, королевская власть и т. п.».
И дальше: «Так как конституции, которые являются крупным шагом вперед человеческой мысли, шагом, который не будет единственным, - необходимо стремиться к сокращению численности войск, ибо принцип вооруженной силы прямо противоположен всякой конституционной идее, то возможно, что менее чем через 100 лет не будет уже постоянной армии».
С тех пор как Пушкин высказал эти свои мысли, прошло уже не сто лет, а полтора столетия...
* * *
Прошел почти год ссылки, а конца ей не было видно. «Не скоро увижу я вас, - пишет Пушкин 24 марта 1821 года Гнедичу, - здешние обстоятельства пахнут долгой, долгою разлукой! молю Феба и казанскую богоматерь, чтоб возвратился я к вам с молодостью, воспоминаньями и еще новой поэмой...»
7 мая Пушкин просит А. Тургенева, не может ли он его «вытребовать на несколько дней (однако ж не более)» из ссылки: «Мочи нет, почтенный Александр Иванович, как мне хочется недели две побывать в этом пакостном Петербурге...» И обещает привезти за то «сочинение во вкусе Апокалипсиса» - «Г авриилиаду».
Поэма эта была написана Пушкиным в апреле 1821 года. Он направил ее Вяземскому с оговоркой: «Посылаю тебе поэму в мистическом роде - я стал придворным».
В ней Пушкин разоблачил евангельскую притчу о благовещении - о возвещении Марии устами архангела Гавриила, что, по воле божьей, она должна зачать и родить от духа святого Иисуса Христа.
Вместе с тем это была острая политическая сатира, направленная против Александра I и его придворного мистического окружения. В письме к А. Тургеневу Пушкин, между прочим, назвал Иисуса Христа «умеренным демократом».
Как родилась эта поэма?
В предпасхальные дни Инзов предложил Пушкину говеть вместе с ним, причащаться в кишиневской церкви Благовещения и вручил ему для чтения святое Евангелие.
В страстную пятницу Инзова навестил ректор семинарии архимандрит Ириней Нестерович и, видимо, по его просьбе зашел к Пушкину. Он застал поэта как раз за чтением Евангелия.
- Чем это вы занимаетесь? - спросил архимандрит.
- Да вот читаю историю одной особы... - услышал Ириней ответ Пушкина.
- Как вы смеете это говорить? Вы безбожник. Я на вас сейчас бумагу подам! - пригрозил архимандрит и гневно удалился.
«Бумагу» он почему-то не подал, хотя был пастырь строптивый, яростный и неуемный. Адъютанту Александра I он как-то сказал:
- Ты адъютант царя земли, а я адъютант царя небесного.
И любил повторять:
- Я - власть, я - наместник Христа, другой власти нет!
Пришлось идти в церковь. Пушкин попросил слугу:
Дай, Никита, мне одеться:
В митрополии звонят.
Он направился в церковь Благовещения и во время богослужения, как и в киевском Софийском соборе, с интересом рассматривал среди церковных фресок иллюстрацию к прочитанной перед приходом Иринея евангельской притче: архангел Гавриил слетел в белоснежных одеждах к коленопреклоненной Марии и сообщил ей божью волю.
Пока Инзов молился, в голове Пушкина рождался план будущей поэмы: «Святой дух, призвав Гавриила, описывает ему свою любовь и производит в сводники. Гавриил влюблен. Сатана и Мария».
6 апреля 1821 года Пушкин набросал этот план, а 12 апреля нарисовал на листе бумаги изображение этой сцены в фресках кишиневской церкви. К плану добавил пародию на библейский рассказ о грехопадении в раю Адама и Евы.
Необычайно дерзкое содержание «Гавриилиады», резкое осмеяние основного догмата христианской церкви вынуждали Пушкина скрывать свое авторство этой поэмы. Члены тайного общества вполне оценили революционно-политическое звучание ее, а полицейские агенты сразу распознали, что автор «Гавриилиады», «одной прекрасной шалости», как назвал ее Вяземский в письме к Тургеневу, - конечно, не кто иной, как Пушкин.
* * *
Закончив эту «кощунственную» поэму - за нее Пушкину пришлось держать впоследствии строгий ответ, - он начал работать над третьей своей южной поэмой - «Братья разбойники». О ней он писал позже Вяземскому: «Истинное происшествие подало мне повод написать этот отрывок. В 1820 году, в бытность мою в Екатеринославе, два разбойника, закованные вместе, переплывали через Днепр и спаслись. Их отдых на островке, потопление одного из стражей мною не выдуманы...»
Тема поэмы - стремление людей даже путем разбоя освободиться от крайней бедности и неволи, страстная жажда свободы. До нас дошли два ее плана:
«Они плывут и поют...» - читаем мы в первом плане. В черновых набросках к плану появляется и «Молдавская песня»:
Нас было два брата - мы вместе росли
И жалкую младость в нужде провели...
Но алчная страсть овладела душой,
И вместе мы вышли на первый разбой.
Курган серебрился при ясной луне,
Купец оробелый скакал на коне,
Его мы настигли
И первою кровью умыли кинжал.
Мы... к убийству привыкли потом
И стали селенья ужасны кругом...
Читатели встретили новую поэму Пушкина одобрительно, но отрицательно восприняли ее друзья. Батюшков особенно критиковал встречавшиеся в поэме резкие простонародные выражения.
Вяземский писал, что в поэме «чего-то недостает; кажется, что недостает обычной очаровательности стихов его». И одновременно восхищался стихами, в которых умиравший брат, в бреду, молил оставшегося брата о сострадании к старикам:
Больной, зажав глаза руками,
За старца так меня молил:
«Брат! сжалься над его слезами!
Не режь его на старость лет...
Мне дряхлый крик его ужасен...
Пусти его - он не опасен;
В нем крови капли теплой нет...
Не смейся, брат, над сединами,
Не мучь его... авось мольбами
Смягчит за нас он божий гнев!..»
Пушкин не закончил поэму. И сжег ее. Уцелел лишь небольшой ее отрывок в 330 строк, с которым успели познакомиться друзья поэта. Он отправил его 13 июня 1823 года А. А. Бестужеву при письме: «Разбойников» я сжег - и поделом. Один отрывок уцелел в руках Николая Раевского; если отечественные звуки: харчевня, кнут, острог - не испугают нежных ушей читательниц «Полярной звезды», то напечатай его».
Лишь в 1825 году уцелевший отрывок «Братьев разбойников» был напечатан в «Полярной звезде».
* * *
В начале 1822 года Пушкин направляет Н. И. Гнедичу в Петербург для издания поэму «Кавказский пленник». Мироощущение изгнанника не покидает его. Посвящая поэму своему другу Николаю Раевскому, он называет ее «изгнанной лиры пеньем» и сетует:
Я рано скорбь узнал, постигнут был гоненьем;
Я жертва клеветы и мстительных невежд...
И посылаемую Гнедичу рукопись Пушкин сопровождает дружеским напутствием на латинском языке из первой песни Овидиевых «Скорбей»:
«Малая книжка моя, без меня (и не завидую) ты отправишься в столицу, куда, - увы! - твоему господину закрыта дорога... Не из притворной скромности прибавлю: «Иди, хоть и неказистая с виду, как то подобает изгнанникам...»
* * *
Стихотворение «Узник».Автограф А. С. Пушкина.
Жизнь Пушкина в ссылке, однако, не располагала к радости. К окнам нижнего этажа дома бессарабского наместника прикреплены были чугунные решетки, и комната, в которой Пушкин расположился, казалась ему подлинной тюрьмой. Из окон видны были вольно разгуливавшие между клумбами инзовские птицы, а у входа в дом гневно метался привязанный цепью за лапу мощный орел.
Не только кишиневская комната, вся царская Россия казалась поэту тюрьмой. Он не раз посещал местный острог, беседовал с арестантами, расспрашивал об их «удальстве». Заключенные приветливо встречали его, доверяли ему и откровенно делились своими мыслями, невзгодами и намерениями.
Однажды «главный первостатейный каторжник» сказал Пушкину, что ночью он бежит: «Клетка надломлена, настанет ночь, а мы - ночные птицы вольные!» Арестант доверял Пушкину. И вот: «Ночью барабан бьет тревогу». Пушкин бежит к острогу...
«Многих переловили, а мой друг убежал», - вспоминал он потом.
В угнетенном состоянии собственного бытия Пушкин написал после этого стихотворение «Узник»:
Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном,
Клюет, и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно;
Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: «Давай улетим!
Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!..»
Стихотворение это вскоре проникло в казематы, стало тюремной песней заключенных.
Настроения, вылившиеся в этом стихотворении, не покидают Пушкина и позже. В мае 1823 года он пишет Гнедичу: «Знаете ли вы трогательный обычай русского мужика в светлое воскресенье выпускать на волю птичку? вот вам стихи на это» - и приводит первую строку стихотворения «Птичка»:
В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!
И это стихотворение тоже носило явно автобиографический и политический смысл.
Недаром цензура, разрешая его к печати, замаскировала подлинный смысл стихов малоубедительным примечанием: «Сие относится к тем благодетелям человечества, которые употребляют свои достатки на выкуп из тюрьмы невинных должников и проч.».
* * *
Сблизившись в Кишиневе с сослуживцем И. П. Липранди, Пушкин воспользовался возможностью сопровождать его в служебной поездке по краю, представилась возможность побывать и в Аккермане, считавшемся, по преданию, местом ссылки знаменитого римского поэта Овидия Назона.
Первая остановка была в Бендерах. Здесь Пушкина интересовали остатки шведского лагеря, в четырех километрах от города, где после Полтавской битвы остановился шведский король Карл XII и будто бы был погребен Мазепа.
Увиденные здесь следы былого Пушкин отразил потом в поэме «Полтава»:
Три углубленные в земле
И мхом поросшие ступени
Гласят о шведском короле.
С них отражал герой безумный,
Один в толпе домашних слуг,
Турецкой рати приступ шумный,
И бросил шпагу под бунчук...
В Измаиле Пушкин знакомился с местами, связанными с легендарным штурмом города Суворовым. И затем всю ночь, не раздеваясь, что-то писал, сидя на диване. Утром отправился в крепостную церковь, читал на ее стенах надписи с именами убитых при штурме крепости воинов.
Очень внимательно знакомился Пушкин с Кагульским полем, где в 1770 году разразилась кровавая битва с турками и русские войска под командой Румянцева одержали победу.
По словам Липранди, Пушкин, осматривая Кагульское поле, «проговорил какие-то стихи». Видимо, это был дошедший до нас незаконченный отрывок:
Чугун кагульский, ты священ
Для русского, для друга славы -
Ты средь торжественных знамен
Упал горящий и кровавый,
Героев севера губя...
* * *
К национально-историческому прошлому России Пушкин проявляет постоянный интерес.
После Отечественной войны 1812 года обозначился большой подъем национально-исторического самосознания русского народа и особенно прогрессивных его кругов.
Не случайно такой успех имели вышедшие первые восемь томов «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Все издание - три тысячи экземпляров - разошлось невиданно быстро: в течение трех недель.
Пушкин был тогда болен и прочел «Историю» в постели «с жадностью и со вниманием... Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка - Коломбом...» - замечает поэт. Политические тенденции этого исторического труда вызвали, однако, решительную критику в декабристских кругах.
«История народа принадлежит царю», - писал Карамзин.
«История принадлежит народам», - внес поправку будущий составитель конституции Северного тайного общества Никита Муравьев, противопоставивший общественное мнение преклонению историка пред самодержцем.
Пушкин, глубоко уважавший Карамзина, отозвался на его труд острой эпиграммой:
В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута.
Это не мешало Пушкину через три года писать И. И. Гнедичу из Кишинева в письме от 24 марта 1821 года: «С нетерпеньем ожидаю девятого тома «Русской истории».
Пушкин, видимо, готовился тогда писать свои замечательные «Заметки по русской истории XVIII века». В то время как Карамзин считал, что Россия «обязана величием своим счастливому введению монархической власти», дворянские революционеры - и Пушкин с ними - искали обоснования своей борьбы с самодержавием в героических страницах русского национального прошлого.
«Обращаясь к вопросам исторического прошлого России, Пушкин шел с веком наравне; ему, как и его друзьям декабристам, хотелось свои свободолюбивые стремления и надежды основать на самом развитии русской истории... Пушкин раньше многих почувствовал необходимость национально-исторического обоснования освободительного движения, что и отразилось в его замечательных исторических заметках, писанных в Кишиневе в августе 1822 года»5.
«Политическая наша свобода, - замечает Пушкин, - неразлучна с освобождением крестьян, желание лучшега соединяет все состояния противу общего зла...»
* * *
Из глубины веков встал перед Пушкиным в поездке по историческим южным местам образ римского поэта Овидия Назона. Как и Пушкин, сосланный Александром I на юг России, Овидий был отправлен в 9 году нашей эры императором Октавианом Августом в ссылку на берега Черного моря и Дуная.
Душевно близким был римский поэт русскому: схожи были судьбы, постигшие их, много общего таило в себе их творческое вдохновение. И уже в пути Пушкин записывает на лоскутках бумаги рождающиеся мысли, настроения, стихи. Вернувшись в Кишинев, приводит все эти черновые записи в порядок. Одни, запечатленные посещением мест Полтавской битвы, сохраняет для будущей поэмы «Полтава», другие, связанные с Овидием, переписывает набело и ставит над ними заголовок - «К Овидию».
Воскрешая тень Овидия, поэт обращается к нему, тронутый печальной судьбой изгнанника:
Овидий, я живу близ тихих берегов,
Которым изгнанных отеческих богов
Ты некогда принес и пепел свой оставил.
«Безотрадным плачем» называет Пушкин написанные Овидием в изгнании элегии «Tristia» - «Скорби» и посвящает римского поэта в свои собственные переживания:
Суровый славянин, я слез не проливал,
Но понимаю их. Изгнанник самовольный,
И светом, и собой, и жизнью недовольный,
С душой задумчивой, я ныне посетил
Страну, где грустный век ты некогда влачил.
Здесь, оживив тобой мечты воображенья,
Я повторил твои, Овидий, песнопенья
И их печальные картины поверял...
Пушкин убеждает римского поэта в том, что напрасны были его обращения к императору Октавиану Августу с жалобами на свое положение изгнанника:
Ни дочерь, ни жена, ни верный сонм друзей,
Ни музы, легкие подруги прежних дней,
Изгнанного певца не усладят печали.
Напрасно грации стихи твои венчали,
Напрасно юноши их помнят наизусть:
Ни слава, ни лета, ни жалобы, ни грусть,
Ни песни робкие Октавия не тронут;
Дни старости твоей в забвении потонут.
Златой Италии роскошный гражданин,
В отчизне варваров безвестен и один,
Ты звуков родины вокруг себя не слышишь...
Противопоставляя «Скорбям» Овидия собственные свои настроения, Пушкин в стихотворном письме к Гнедичу говорит о своей внутренней независимости, о чести, о недопустимости обращаться за милостью к императору Александру I. Октавием называет он сославшего его русского царя:
Все тот же я, как был и прежде,
С поклоном не хожу к невежде,
С Орловым спорю, мало пью,
Октавию - в слепой надежде -
Молебнов лести не пою.
Беловую рукопись стихотворения Пушкин закончил тремя стихами, утверждавшими высшее призвание и долг поэта:
Не славой, участью я равен был тебе.
Но не унизил ввек изменой беззаконной
Ни гордой совести, ни лиры непреклонной.
Опасаясь цензуры, Пушкин в окончательной, печатной, редакции изъял последние два стиха. И самое стихотворение появилось в печати с двумя звездочками вместо подписи.
Посылая А. А. Бестужеву в его «Полярную звезду» стихотворение, Пушкин писал: «Кланяйтесь от меня цензуре, старинной моей приятельнице; кажется, голубушка еще поумнела... Предвижу препятствия в напечатании стихов к Овидию, но старушку можно и должно обмануть, ибо она очень глупа - по-видимому, ее настращали моим именем; не называйте меня, а поднесите ей мои стихи под именем кого вам угодно... повторяю вам, она ужасно бестолкова, но, впрочем, довольно сговорчива. Главное дело в том, чтоб имя мое до нее не дошло, и все будет слажено».
Пушкин придавал большое значение этому стихотворению и, посылая его брату Льву, спрашивал: «Каковы стихи к Овидию? душа моя, и «Руслан», и «Пленник», и Ыоё1, и всё дрянь в сравнении с ними».
* * *
С цензурой у Пушкина были свои старые, не очень дружеские, счеты. Особенно досаждал ему цензор А. С. Бируков.
Давая отзыв о стихах «Кавказский пленник», Бируков находил, что «небесный пламень слишком обыкновенно; Долгий поцелуй поставлено слишком на выдержку... Его томительную негу вкусила тут она вполне - дурно, очень дурно...»
Пушкина такая нелепая критика раздражала, как и Вяземского, имевшего с цензурой столкновения. И он писал Вяземскому: «...стыдно, что благороднейший класс народа, класс мыслящий как бы то ни было, подвержен самовольной расправе трусливого дурака. Мы смеемся, а кажется лучше бы дельно приняться за Бируковых; пора дать вес своему мнению и заставить правительство уважать нашим голосам - презрение к русским писателям нестерпимо; подумай об этом на досуге, да соединимся - дайте нам цензуру строгую, согласен, но не бессмысленную...»
К письму Пушкин приложил незадолго перед тем написанное «Послание цензору», адресованное тому же Бирукову.
«Угрюмый сторож муз, гонитель давний мой» - так начинает Пушкин свое послание. Он соглашается - «Что нужно Лондону, то рано для Москвы». Признает, что «цензор гражданин, и сан его священный: он должен ум иметь прямой и просвещенный»; «он мнений не теснит», «не преступает сам начертанных уставов», «полезной истины пути не заграждает, живой поэзии резвиться не мешает», «благоразумен, тверд, свободен, справедлив...»
И спрашивает:
А ты, глупец и трус, что делаешь ты с нами?
Где должно б умствовать, ты хлопаешь глазами;
Не понимая нас, мараешь и дерешь;
Ты черным белое по прихоти зовешь:
Сатиру пасквилем, поэзию развратом,
Глас правды мятежом, Куницына Маратом.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
О варвар! кто из нас, владельцев русской лиры,
Не проклинал твоей губительной секиры?
Докучным евнухом ты бродишь между муз;
Ни чувства пылкие, ни блеск ума, ни вкус,
Ни слог певца Пиров, столь чистый, благородный -
Ничто не трогает души твоей холодной.
На все кидаешь ты косой, неверный взгляд.
Подозревая всё, во всем ты видишь яд.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Исправься ж: будь умней и примирися с нами.
Вяземский, познакомившись с этим посланием цензору, предложил собраться всем вместе и жаловаться на Бирукова, но Пушкин находил, что это может иметь дурные последствия... «Соединиться тайно - но явно действовать в одиночку, кажется, вернее», - решил Пушкин.
* * *
В кишиневский период жизни Пушкина полицейские власти заинтересовались деятельностью масонских лож, среди участников которых было много деятелей тайного общества. И первой жертвой стал майор Владимир Федосеевич Раевский, арестованный за пропаганду либеральных идей среди солдат и вошедший в историю под именем «первого декабриста».
Пушкин познакомился с Владимиром Раевским вскоре после приезда в Кишинев и сблизился с ним.
Случилось так, что 5 февраля 1822 года Пушкин неожиданно узнал о предстоящем аресте В. Ф. Раевского. Вечером он зашел предупредить об этом друга.
- Здравствуй, душа моя! - приветствовал его торопливо Пушкин.
- Здравствуй, что нового?
- Новости есть, но дурные; вот почему я прибежал к тебе.
- Доброго я ничего ожидать не могу... но что такое?
- Вот что, - продолжал Пушкин. - Сабанеев сейчас уехал от генерала Инзова. Я не охотник подслушивать, но, слыша твое имя, часто повторяемое, признаюсь, согрешил - приложил ухо. Сабанеев утверждал, что тебя надо непременно арестовать; наш Инзушко - ты знаешь, как он тебя любит, - отстаивал тебя горячо... Я многое не дослыхал; но из последних слов Сабанеева ясно уразумел, что ему приказано: ничего нельзя открыть, пока ты не арестован...
- Спасибо, - поблагодарил друга Раевский, - я этого почти ожидал.
На другой день В. Ф. Раевский был арестован и заключен в Тираспольскую крепость.
* * *
Из крепости В. Ф. Раевский направил оставшимся на воле друзьям послание «К друзьям». В нем были и обращенные к Пушкину стихи:
Оставь другим певцам любовь!
Любовь ли петь, где брызжет кровь...
Пушкин ответил:
Не тем горжусь я, мой певец,
Что привлекать умел стихами
Вниманье пламенных сердец,
Играя смехом и слезами...
Пушкин напомнил, что «у столба сатиры разврат и злобу он казнил», что его «грозящий голос лиры неправду в ужас приводил», что «страстью воли и гоненьем» он «стал известен меж людей»...
В. Ф Раевский направил друзьям новое послание - «Певец в темнице», в котором также были обращенные к Пушкину стихи. Пушкин взволнованно читал стихотворение заключенного друга, и особенно поразили его стихи:
Как истукан, немой народ
Под игом дремлет в тайном страхе:
Над ним бичей кровавый род
И мысль и взор казнит на плахе...
Пушкин повторил последний стих и заметил: «Никто не изображал еще так сильно тирана:
И мысль и взор казнит на плахе.
Хорошо выражено и о династии: «бичей кровавый род». И, вздохнув, прибавил: «После таких стихов не скоро же мы увидим этого Спартанца».
Вспоминая прошлые революционные вспышки и восстания, В. Раевский закончил стихотворение выражением убежденной веры в русский народ:
Но рано ль, поздно ли опять
Восстанет он с ударом силы!
Пушкин ответил на это ярким и сильным стихотворением, говорящим о его критическом взгляде на свет и то общество, подлинная суть которого все более открывалась ему:
Я дружбу знал - и жизни молодой
Ей отдал ветреные годы,
И верил ей за чашей круговой
В часы веселий и свободы;
Я знал любовь, не мрачною тоской,
Не безнадежным заблужденьем,
Я знал любовь прелестною мечтой,
Очарованьем, упоеньем.
Младых бесед оставя блеск и шум,
Я знал и труд и вдохновенье,
И сладостно мне было жарких дум
Уединенное волненье.
Но все прошло! - остыла в сердце кровь.
В их наготе я ныне вижу
И свет, и жизнь, и дружбу, и любовь,
И мрачный опыт ненавижу.
И закончил:
Везде ярем, секира иль венец,
Везде злодей иль малодушный,
А человек везде тиран иль льстец,
Иль предрассудков раб послушный.
* * *
«Первый декабрист» В. Ф. Раевский.Фотография 1863 года.
Такими же настроениями насыщен был набросок пушкинской трагедии о Вадиме - легендарном вожде восстания новгородцев, боровшихся в IX веке за вольность. Пушкин задумывает одновременно трагедию и поэму о Вадиме, отвечая тем самым на призыв В. Ф. Раевского воспевать «те священны времена, когда гремело наше вече и сокрушало издалече царей кичливых имена...».
В трагедии ее герой - Вадим обращается к Рогдаю с вопросом: слышал ли он в Новгороде глас народа и жива ль еще славянская свобода?
Рогдай отвечает:
Вадим, надежда есть, народ нетерпеливый,
Старинной вольности питомец горделивый,
Досадуя, влачит позорный свой ярем...
Не трудно видеть, что это тот же позорный «ярем», о котором Пушкин писал в ответе В. Ф. Раевскому на его послание из темницы. «Ярем», вызывавший вражду к правительству, пламя во встревоженных умах и негодование на то, что видел Рогдай в Новгороде, что поведал Вадиму в ответ на его вопросы... и что сам Пушкин наблюдал в ту преддекабристскую эпоху...
И трагедия и начатая поэма - обе под названием «Вадим» - остались лишь в отрывках и не были закончены Пушкиным.
* * *
Темы родной старины всё более и более привлекали к себе внимание Пушкина. Он прочитал как-то вышедшие в 1802 году рассуждения Карамзина «о случаях и характерах в Российской Истории, которые могут быть предметом Художеств». В них он нашел летописный рассказ о гибели Олега, первого князя Киевского, прозванного вещим после победоносного похода в 907 году на греков.
Карамзин писал, что во всяких старинных летописях есть сказания, освященные древностью, особенно если они представляют живые черты времени. И предложил вниманию будущего художника древнее сказание о смерти Олеговой.
Этим художником стал Пушкин. Он обратился к старинному изданию 1792 года, сохранившемуся в его личной библиотеке: «Летописец Русской от пришествия Рюрика до кончины царя Иоанна Васильевича». Здесь он прочитал:
«По сих имея Олег мир ко всем странам самодержавствуя в Киеве безо всякой опасности. И некогда во осеннее время вспомнил о коне своем, его же повелел кормить в стойле, и не употреблять никуды в разъезд, коего он весьма любил и всегда на нем ездил, а понеже много время его не видал, и для опасности на нем не ездил многа лета, а на пятой по прибытии от Царьграда год воспомнил о нем от коего ему прорекли умереть волхвы и кудесники, коих он собрав вопросил глаголя: от чего мне умереть?
И рече ему один кудесник тако: «Княже! Конь его же ты любишь и ездишь на нем, от того ти будеть кончина».
Летописец был, бесспорно, поэт, с душою лирическою и певучею, но Пушкин гениально пересказал это древнее сказание. Из семнадцати строф стихотворения семь занял рассказ летописца. В них поэт XIX века полностью сохранил историческую достоверность предания.
Олег встречается с кудесником:
Из темного леса навстречу ему
Идет вдохновенный кудесник,
Покорный Перуну старик одному,
Заветов грядущего вестник,
В мольбах и гаданьях проведший весь век...
К этому кудеснику, любимцу богов, приближается Олег, просит предсказать, что сбудется в жизни с ним. Просит не бояться его, - в награду обещает любого коня...
На этом обрывается рассказ летописца. Продолжение подсказано поэту тогдашней действительностью. И в уста кудесника поэт вложил гордый и смелый ответ:
«Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен.
Грядущие годы таятся во мгле;
Но вижу твой жребий на светлом челе».
Кудесник прорицает князю:
«Твой конь не боится опасных трудов;
Он, чуя господскую волю,
То смирный стоит под стрелами врагов,
То мчится по бранному полю,
И холод и сеча ему ничего...
Но примешь ты смерть от коня своего».
Так претворил Пушкин древнее летописное сказание и запись Карамзина.
Карамзин, доказывавший «необходимость самовластья», писал: «...Герой, победитель Греческой Империи, умер от насекомого! Впечатление сей картины должно быть философическое, моральное: Помни тленность человеческой жизни!..»
Поэт преддекабристской эпохи дал, устами кудесника, иной, смелый ответ по поводу того, какое должно быть «впечатление сей картины»:
Волхвы не боятся могучих владык...
* * *
Прошел еще год ссылки, и 13 июля 1822 года Пушкин пишет Гнедичу: «Пожалейте обо мне: живу меж гетов и сарматов; никто не понимает меня... не предвижу конца нашей разлуки».
В памяти воскресают вольные и веселые вечера «Зеленой лампы» У Никиты Всеволожского. Пушкин спрашивает в письме к приятелю Я. Н. Толстому:
Горишь ли ты, лампада наша,
Подруга бдений и пиров?
Вспоминая товарищей, «минутных друзей минутной младости» своей, Пушкин жалуется Толстому: «Два года и шесть месяцев не имею от них никакого известия, никто ни строчки, ни слова...»
В изгнанье скучном, каждый час
Горя завистливым желаньем,
Я к вам лечу воспоминаньем,
Воображаю, вижу вас...
В это время Пушкин получил через Толстого предложение, князя А. А. Лобанова издать его стихи в Париже. Пушкин ответил, что еще в Петербурге, перед ссылкою, обстоятельства принудили его продать Никите Всеволожскому подготовленную к печати рукопись первого сборника стихотворений.
Пушкин надеялся, что Всеволожский издаст их, и пишет Толстому, что рукопись требует пересмотра: иные понадобится поправить, иные снять, а написанные в последние три года включить. И не теряет на выпуск сборника надежды: «...Милый друг, подождем еще два, три месяца - как знать, - может быть, к новому году мы свидимся, и тогда дело пойдет на лад».
Пушкин мысленно переносится под царскосельские «липовые своды», «на берег озера, на тихий скат холмов», вспоминает «станицу гордую спокойных лебедей»...
Пишет нежное письмо брату Льву: «Скажи мне - вырос ли ты?
Я оставил тебя ребенком, найду молодым человеком; скажи, с кем из моих приятелей ты знаком более? что ты делаешь, что ты пишешь?..» Пишет сестре Ольге: «Мне не нужно твоих писем, чтобы быть уверенным в твоей дружбе, - они необходимы мне единственно как нечто, от тебя исходящее...»
И обоим выражает страстное желание повидаться с ними: «Радость моя, хочется мне с Вами увидеться; мне в Петербурге дела есть. Не знаю, буду ли к Вам, а постараюсь...»
Это были несбыточные мечты...
* * *
Наблюдая полувосточный, полузападный быт молдавских бояр, Пушкин часто посещал открытый дом Е. К. Варфоломея. Приемы в его доме отличались чисто восточной, красочной пышностью. Один из друзей Пушкина так описывал их:
«Вы садитесь на диван, арнаут в какой-нибудь лиловой бархатной одежде, в кованной из серебра, позолоченной броне, в чалме из богатой турецкой шали, перепоясанный также турецкою шалью, за поясом ятаган, на руку наброшен шитый золотом платок, которым он, раскуривая трубку, обтирает драгоценный мундштук, - подает вам чубук и ставит на пол под трубку медное блюдечко. В то же время босая, неопрятная цыганочка, с всклокоченными волосами, подает на подносе дульчец (сладости) и воду в стакане... или турецкий кофе, смолотый и стертый в пыль, сваренный крепко, без отстоя».
К своему дому Варфоломей пристроил огромную танцевальную залу, в которой выступали его, славившиеся на всю округу, цыганский оркестр и хор. Здесь устраивались балы с танцами, в которых Пушкина привлекала не только хореографическая или музыкальная сторона.
В Бессарабии, как и в Румынии, принято было во время танцев импровизировать стихи. Обычно в задорном танце они произносились в такт музыке, часто это были своего рода сатирические или юмористические эпиграммы на злобу дня. Пушкину нравилось все яркое, новое для него, особенно если это носило местный, национальный характер. И потому он охотно посещал такие вечера.
Когда в доме Варфоломея собирались гости, на домашней сцене появлялся хор цыган и молодежь танцевала под аккомпанемент скрипок, кобз и тростянок.
Из хора выплывала на авансцену молодая, жгучая цыганка в пестром, цветастом наряде, с ожерельем из золотых и серебряных монет, звеневших при каждом ее движении. Пересекая зал вихревой пляской, заглушая своим низким сопрано припев хора, она буйно пела по-цыгански:
Арде-мэ, фриде-мэ,
Не кэрбуне пуне мэ!
В один из вечеров, зачарованный бурной и стремительной страстностью песни, Пушкин попросил перевести незнакомую речь, и в сознании поэта она здесь же переплавилась в такую же буйную, страстную песнь на русском языке:
Старый муж, грозный муж,
Режь меня, жги меня:
Я тверда, не боюсь
Ни ножа, ни огня.
Ненавижу тебя,
Презираю тебя;
Я другого люблю,
Умираю любя.
Режь меня, жги меня;
Не скажу ничего;
Старый муж, грозный муж,
Не узнаешь его.
Он свежее весны,
Жарче летнего дня;
Как он молод и смел!
Как он любит меня!
Как ласкала его
Я в ночной тишине!
Как смеялись тогда
Мы твоей седине!
Пушкин даже попросил кого-то записать мелодию песни, не перестававшую звучать в его сознании...
Так на балу в доме Варфоломея, под звуки молдавской песни, возник один из мотивов будущей поэмы Пушкина «Цыганы».
* * *
Прошло уже три года со дня ссылки, и Пушкину неудержимо захотелось вырваться из наскучившего, надоевшего Кишинева.
Он принимает решение: 13 января 1823 года обращается к графу Нессельроде с просьбою разрешить ему отпуск на два или три месяца в Петербург, куда его призывают дела семейства, с коим он не виделся уже три года.
Министр докладывает просьбу поэта Александру I и получает резолюцию: «Отказать».
В марте Пушкин пишет Вяземскому: «Я барахтаюсь в грязи молдавской, черт знает, когда выкарабкаюсь. Ты - барахтайся в грязи отечественной и думай:
Отечества и грязь сладка нам и приятна».
Вспоминая веселые дни «Арзамаса», он подписал это письмо своим арзамасским прозвищем - «Сверчок».
Осведомившись об отказе царя, Пушкин сообщает Вяземскому в апреле: «Мои надежды не сбылись: мне нынешний год нельзя будет приехать ни в Москву, ни в Петербург. Если летом ты поедешь в Одессу, не завернешь ли по дороге в Кишинев?..»
Чувствуя, что дальнейшая жизнь в Кишиневе становится Пушкину невмоготу, петербургские друзья помогли ему выбраться из Бессарабии в Одессу, на службу к новороссийскому генерал-губернатору М. С. Воронцову.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ОДЕССА
1823-1824
«Я жил тогда в Одессе пыльной...»
Под бурей рока твердый камень,
В волненьях страсти - легкий лист.
Из письма А. С. Пушкина П. А. Вяземскому
«...Я оставил мою Молдавию и явился в Европу», - писал Пушкин брату из Одессы. Он снова приехал на несколько дней в Кишинев и провел их «неизъяснимо элегически». «...Кажется и хорошо - да новая печаль мне сжала грудь - мне стало жаль моих покинутых цепей», - добавил он.
Всю свою жизнь Пушкин был окован этими цепями. И, быть может, чувствовал поэт, что Одессу ему придется скоро покинуть с еще горшей печалью в груди.
«Ресторация и итальянская опера напомнили мне старину и ей-богу обновили мне душу... - сообщал он брату. - ...и все еще не могу привыкнуть к европейскому образу жизни...»
Что же представляла собою Одесса пушкинской поры? Почему поэт назвал этот город, морскую красавицу, пыльным, даже грязным, кем он населен был, чем жили его обитатели, чем занимались, что представляла собою замечательная итальянская опера, так полюбившаяся Пушкину?
Предоставим слово самому поэту:
Я жил тогда в Одессе пыльной...
Там долго ясны небеса,
Там хлопотливо торг обильный
Свои подъемлет паруса;
Там всё Европой дышит, веет,
Всё блещет югом и пестреет
Разнообразностью живой.
Язык Италии златой
Звучит по улице веселой,
Где ходит гордый славянин,
Француз, испанец, армянин,
И грек, и молдаван тяжелый,
И сын египетской земли,
Корсар в отставке, Морали.
Морали - мавр Али, родился в Египте, нажил пиратством большое состояние. Пушкин любил его, дружил с ним, называл корсаром. А когда друзья удивлялись этой дружбе, отвечал:
- У меня лежит к нему душа. Кто знает, может быть, мой дед с его предком были мне родней...
Пушкина забавлял и наряд мавра: белая шаль на голове, красная суконная, расшитая золотом куртка, короткие шаровары, подвязанные вместо пояса богатой турецкой шалью, блестевшие из ее складок пистолеты...
В «Отрывках из путешествия Онегина» поэт реалистически передает внешний вид Одессы:
В году недель пять-шесть Одесса,
По воле бурного Зевеса,
Потоплена, запружена,
В густой грязи погружена.
Все домы на аршин загрязнут,
Лишь на ходулях пешеход
По улице дерзает вброд;
Кареты, люди тонут, вязнут,
И в дрожках вол, рога склоня,
Сменяет хилого коня.
До приезда Пушкина в Одессе были замощены лишь две улицы, но скоро начали приводить в порядок еще многие улицы, а вдоль их высаживать тополя и белую акацию.
Здесь уже был прекрасный оперный театр, книжный магазин, издавалась французская газета. Существовало филармоническое общество. Было несколько модных кафе.
Пушкин остановился в отеле Рено, близ театра. С балкона можно было обозревать залив и рейд с пришвартовавшимися в Хаджибеевской бухте судами под иностранными флагами. Сюда ежедневно приплывали корабли из гаваней Адриатического моря и анатолийских городов. Здесь действительно «все флаги в гости были к нам», существовал беспошлинный ввоз иностранных товаров, шла бойкая торговля, дышалось легко и свободно, раздольно было беглой, беспаспортной русской вольнице той поры.
В архалуке и феске Пушкин нередко появлялся в казино близ своего отеля. С неизменной железной палкой в руке.
Часто Пушкин с самого утра приходил в кафе на Приморском бульваре. Море влекло его к себе:
Бывало, пушка зоревая
Лишь только грянет с корабля,
С крутого берега сбегая,
Уж к морю отправляюсь я.
Потом за трубкой раскаленной,
Волной соленой оживленный,
Как мусульман в своем раю,
С восточной гущей кофе пью.
Иду гулять. Уж благосклонный
Открыт Casino; чашек звон
Там раздается; на балкон
Маркёр выходит полусонный
С метлой в руках, и у крыльца
Уже сошлися два купца.
Проходит час, другой, и городом овладевает привычная суета:
Глядишь - и площадь запестрела.
Все оживилось; здесь и там
Бегут за делом и без дела,
Однако больше по делам.
Дитя расчета и отваги,
Идет купец взглянуть на флаги,
Проведать, шлют ли небеса
Ему знакомы паруса.
Какие новые товары
Вступили нынче в карантин?
Пришли ли бочки жданных вин?
И что чума? и где пожары?
И нет ли голода, войны
Или подобной новизны?
Жизнь шумного приморского города захватывает поэта своей новизной... Позже Пушкин переселился в превосходную гостиницу Отона. И здесь
Шум, споры - легкое вино
Из погребов принесено
На стол услужливым Отоном;
Часы летят, а грозный счет
Меж тем невидимо растет.
Так южное солнце и море - «свободная стихия» - уже в первые дни пребывания в Одессе наполнили поэта радостным настроением.
Пушкин встречается по службе с петербургскими друзьями и знакомыми - Александром Раевским, Ф. Ф. Вигелем. Дружеские отношения устанавливаются у него с сослуживцем, молодым поэтом В. И. Туманским.
В первые же дни Пушкин посещает одесский Ришельевский лицей.
- Как это напоминает мне мой Лицей! - заметил он, впервые переступая его порог и мысленно переносясь в родной Царскосельский лицей.
Это было весьма консервативное учебное заведение, где среди преподавателей и учащихся ревностно насаждались доносы, шпионаж, интриги. Читать произведения Пушкина учащимся Ришельевского лицея запрещалось, но и сюда проникал дух вольнодумства. Здесь учились будущие декабристы А. Поджио, А. Корнилович и другие прогрессивные деятели.
Зайдя как-то в лицей, Пушкин застал воспитанника за чтением его произведений. Хорошо осведомленный о царившем в лицее духе, он шутливо заметил:
- Охота вам читать этот вздор!..
Имя Пушкина уже было известно широким кругам, и в Одессе к Пушкину относились уважительно.
Гуляя однажды за городом, Пушкин приблизился к военному лагерю и неожиданно услышал орудийный залп. Сбежавшиеся тут же офицеры окружили подошедшего к ним поэта. Оказывается, заметив Пушкина, офицер П. А. Говоров дал приказ приветствовать его орудийным залпом. Поэта с триумфом повели в офицерское собрание и подняли в его честь бокалы...
* * *
«Я нигде не бываю, кроме в театре», - писал Пушкин брату. Одесский театр, выстроенный в начале века по проекту известного архитектора Тома де Томона, был обращен своим фасадом с классическими портиком и фронтоном к морю. Это был один из лучших театров тогдашней России.
Здесь особым успехом пользовались спектакли итальянской оперы, и Пушкин охотно посещал их:
Но уж темнеет вечер синий,
Пора нам в оперу скорей:
Там упоительный Россини,
Европы баловень - Орфей.
Не внемля критике суровой,
Он вечно тот же, вечно новый,
Он звуки льет - они кипят,
Они текут, они горят,
Как поцелуи молодые,
Все в неге, в пламени любви,
Как зашипевшего Аи
Струя и брызги золотые...
Но, господа, позволено ль
С вином равнять do-re-mi-sol?
В одесском театре шли оперы: «Севильский цирюльник», «Сорока-воровка», «Итальянки в Алжире», «Семирамида», «Турок в Италии», «Тайный брак» Чимарозы, «Агнесса» Паэра.
Темы оперных либретто часто перекликались с революционными событиями в Греции. В театре ставились пьесы на греческом языке, в исполнении греческих актеров.
В тогдашней печати сообщалось, что «в одесском театре показывали «Филоктета» Софокла, переведенного на новогреческий язык... Актерам аплодировали с восторгом. Энтузиазм слушателей невозможно передать, когда актер, выступавший в роли Филоктета, своей благородной и вместе с тем исполненной энергии декламацией растрогал слушателей до слез. В конце он воскликнул: «Да здравствует Греция! Да здравствуют ее великодушные друзья!» Затем выступали хоры с патриотическими гимнами, которые были покрыты аплодисментами».
* * *
Население Одессы не превышало в пушкинскую пору 30-35 тысяч человек. Театр являлся местом, где обычно встречались друзья и знакомые. Об этом Пушкин повествует в «Отрывках из путешествия Онегина»:
А только там очарований?
А разыскательный лорнет?
А закулисные свиданья?
A prima donna? а балет?
А ложа, где, красой блистая,
Негоциантка молодая,
Самолюбива и томна,
Толпой рабов окружена?
Она и внемлет и не внемлет
И каватине, и мольбам,
И шутке с лестью пополам...
А муж - в углу за нею дремлет,
Впросонках фора закричит,
Зевнет и - снова захрапит.
Строфа эта направлена была поэтом в адрес пользовавшейся в Одессе большим успехом красавицы Амалии Ризнич. Муж ее И. С. Ризнич, крупный коммерсант, негоциант, экспортировавший пшеницу и получавший взамен колониальные товары и предметы роскоши, был одновременно и директором одесского театра. Здесь Пушкин и познакомился с Амалией Ризнич.
Кто же была эта «негоциантка молодая»?
Высокая, стройная красавица с пламенными глазами, с густою черною косою до колен была, по одним сведениям, итальянка из Флоренции, по другим - полуитальянка-полунемка с примесью, быть может, еврейской крови, дочь венского банкира. Ризнич уехал в 1822 году в Вену, там встретился с Амалией, женился на ней и весною 1823 года приехал в Одессу, привезя с собой молодую двадцатилетнюю жену и ее мать.
Пушкин увлекся Амалией Ризнич. Она вдохновила поэта на многие лирические произведения.
Одно из первых, написанное им в Одессе, трогающее нежностью чувства, стихотворение «Ночь»:
Мой голос для тебя и ласковый и томный
Тревожит позднее молчанье ночи темной.
Близ ложа моего печальная свеча
Горит; мои стихи, сливаясь и журча,
Текут, ручьи любви, текут, полны тобою.
Во тьме твои глаза блистают предо мною...
Видя Амалию Ризнич окруженною поклонниками, Пушкин обращается к ней с мучительными вопросами:
Простишь ли мне ревнивые мечты,
Моей любви безумное волненье?
Ты мне верна: зачем же любишь ты
Всегда пугать мое воображенье?
Недолго прожила Амалия Ризнич в Одессе. В начале 1824 она заболела после родов, кашляла кровью и уехала с ребенком в Италию. Климат Италии не поправил здоровье Ризнич, и в начале 1825 года она скончалась там от чахотки.
* * *
В пору пребывания Пушкина в Одессе резко изменилась международная политическая обстановка.
Еще незадолго перед тем Пушкин писал из Кишинева В. Л. Давыдову, что восторг умов в дни восстания и провозглашения Грецией свободы дошел до высочайшей степени: везде собирались толпы греков, продававшие за ничто свое имущество, чтобы обменять его на оружие для борьбы с Турцией.
Но скоро усилиями Александра I и объединенных государств «Священного союза» революционное и национально-освободительное движение, охватившее многие страны Западной Европы, было подавлено.
Французская армия заняла мятежный Мадрид, доблестный Риэго был казнен. Австрия подавила итальянские революционные восстания в Неаполе и Пьемонте. Потерпело поражение греческое восстание. В России восторжествовал аракчеевский режим.
И совсем иное письмо написал тогда Пушкин Давыдову из Одессы - письмо, резко осуждавшее поведение греков, «этих новых Леонидов на улицах Одессы и Кишинева», не выдержавших даже первого огня турецких стрелков. Восставших греков, не выдержавших натиска турок, Пушкин иронически называет именем царя Леонида, удержавшего 300 спартанцами, в 480 году до н. э., Фермопильское ущелье от натиска персов.
Пушкин остра переживал эту смену завоеванной свободы тиранией и деспотизмом. Рождалось сомнение, не тщетны ли были и мечты о свободе... Пушкин пишет стихотворение, беря эпиграфом к нему слова из Евангелия - «Изыде сеятель сеяти семена своя»:
Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя -
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
* * *
Охваченный мрачными настроениями, Пушкин создает одно из самых сильных своих обличительных стихотворений:
Недвижный страж дремал на царственном пороге,
Владыка севера один в своем чертоге
Безмолвно бодрствовал, и жребии земли
В увенчанной главе стесненные лежали,
Чредою выпадали
И миру тихую неволю в дар несли...
Владыка севера - это русский самодержец Александр I. Ему Пушкин противопоставляет владыку Запада - Наполеона:
Сей всадник, перед кем склонилися цари,
Мятежной вольности наследник и убийца,
Сей хладный кровопийца,
Сей царь, исчезнувший, как сон, как тень зари.
Исчезнувший под мощным напором поднявшегося на борьбу русского народа... Но торжествует не народ-победитель, а глава европейской реакции, самодержец России -
Всё молча ждет удара,
Всё пало - под ярем склонились все главы...
Этим «зиждителям свободы» Александр I задает надменный вопрос:
Давно ли ветхая Европа свирепела?
Надеждой новою Германия кипела,
Шаталась Австрия, Неаполь восставал,
За Пиринеями давно ль судьбой народа
Уж правила свобода,
И самовластие лишь север укрывал?
Давно ль - и где же вы, зиждители свободы?
Пушкин в самом стихотворении дает ответ самодержцу:
Раздался бой полночи -
И се внезапный гость в чертог царя предстал.
В этих стихах слышен мотив опубликованной в 1821 году баллады Гейне «Die Grenadiere» - «Гренадеры», переведенной впоследствии Жуковским под заглавием «Ночной смотр». В ней повествуется о том, что «В двенадцать часов по ночам из гроба встает полководец» - Наполеон, «владыка запада, грозящий...».
* * *
Вид бульвара в Одессе. С литографии Гордынского. 1830-е годы.
В Одессе служебные занятия в дипломатической канцелярии наместника Тавриды Воронцова не очень обременяли Пушкина. Он имел возможность работать в превосходной библиотеке графа, где были собраны старинные английские и французские издания и манускрипты о крестьянских волнениях и дворцовых переворотах в России, о Смутном времени и Борисе Годунове, о Степане Разине, о Дмитрии и Лжедмитрии. Это было как раз то, чего жаждала душа поэта, что обогащало его познания и что он впоследствии использовал в своих творениях. Здесь Пушкин познакомился и с замечаниями Екатерины II на книгу Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву».
Брат Пушкина писал, что в Одессе Александр Сергеевич много работал. Он просыпался рано и работал обыкновенно несколько часов, не вставая с постели, полураздетый, с пером в руке и листком бумаги на коленях. Приятели часто заставали его то задумчивого, то помирающего со смеху перед строфою «Евгения Онегина».
Одесская осень благотворно действовала на Пушкина. Он видел ясное небо, дышал чистым морским воздухом и много успел. 22 октября 1823 года он закончил начатую еще в Кишиневе первую главу «Евгения Онегина», а на следующее утро приступил ко второй. В течение десяти дней им были написаны семнадцать строф второй главы, в ноябре - еще десять, 8 декабря, ночью, он завершил главу. 8-го же февраля 1824 года поэт начал третью главу, которую закончил уже в Михайловском.
* * *
Пушкин у Бахчисарайского фонтана. С рисунка Н. Чернеиова. 1837 г.
Ханский дворец в Бахчисарае. С литографии Ф. Гросса. 1830 г.
Еще в Бессарабии Пушкин вернулся к впечатлениям, вынесенным из путешествия по полуденным берегам Тавриды. 30 апреля 1823 года П. А. Вяземский писал А. И. Тургеневу, что получил «от Беса-Арабского Пушкина» письмо, в котором тот сообщал, что скучает своим безнадежным положением, но пишет новую поэму «Гарем» о Потоцкой, похищенной каким-то из ханов. «Событие историческое», - добавлял Вяземский.
Прошло около трех лет с той поры, когда с двумя розами в руках Пушкин бродил по безмолвным переходам дворца хана Керим-Гирея. Сопровождавший поэта татарин переводил прославлявшие хана надписи на стенах и на фонтане, показывал ему «Золотой кабинет» или «Залу совета», где устраивались совещания, приемы послов, аудиенции.
Пушкин проходил по тенистым и прохладным комнатам Марии Потоцкой с цветными стеклами, посетил ханское кладбище с гробницами Гиреев, украшенными поэтическими эпитафиями и скульптурными восточными орнаментами.
В домашней ханской мечети видел крест над двурогой луной - две эмблемы: восточный гарем и заточенная в нем пленница-христианка... Так переплелись две жизни - хана Керим-Гирея и Марии Потоцкой, чей нарядный мавзолей со сводчатым куполом высится и поныне на холме близ дворца...
«Бахчисарайский фонтан» - самое значительное произведение романтического периода творчества Пушкина. Сам поэт связал с этой поэмой апогей своего романтизма.
«Сцена Заремы с Марией имеет драматическое достоинство», - писал Пушкин, проявляя одновременно тенденцию к раскрытию в поэме реалистических черт человеческих характеров. Этот рассказ, навеянный крымскими впечатлениями, переплетается с личными автобиографическими отступлениями. Причем первое издание поэмы сопровождалось предисловием П. А. Вяземского под заглавием: «Разговор между издателем и классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова».
Полемизируя с классиком и приводя все появившиеся в печати возражения против романтизма, Вяземский подчеркивал особенности романтизма: свобода от всяких правил, независимость поэта и «местный колорит». «Народность, самобытность - главный признак истинной поэзии», - писал Вяземский.
* * *
По отзыву В. Г. Белинского, стихи этой поэмы, сравнительно с прежними, «лучше, поэзия роскошнее, благоуханнее...», «...в поэме много частностей обаятельно прекрасных...», «...музыкальность стихов, сладострастие созвучий нежат и лелеют очарованное ухо читателя...».
Мария и Зарема - два образа, две цивилизации: христианский гуманизм и варварство полудикого человека.
Зарема -
Как пальма, смятая грозою,
Поникла юной головою...
. . . . . . . . . . . . .
Но я для страсти рождена...
Мария -
Гирей несчастную щадит...
. . . . . . . . . . . . .
Невинной деве непонятен
Язык мучительных страстей...
«...Пленяет еще эта легкая, светлая грусть, эта поэтическая задумчивость, навеянная на поэта чудно-прозрачными благоуханными ночами востока и поэтическою мечтою, которую возбудило в нем предание о таинственном фонтане во дворце Гиреев. Описание этого фонтана дышит глубоким чувством», - писал Белинский.
Есть надпись: едкими годами
Еще не сгладилась она.
За чуждыми ее чертами
Журчит во мраморе вода
И каплет хладными слезами,
Не умолкая никогда.
Так плачет мать во дни печали
О сыне, падшем на войне.
«Что за роскошь поэзии... Это прекрасный благоухающий цветок, которым можно любоваться безотчетно и бестребовательно...»
В Бахчисарай Пушкин приехал больной. Войдя во дворец, он увидел испорченный фонтан, «из заржавой железной трубки по каплям падала вода». Он «обошел дворец с большой досадою на небрежение, в котором он истлевает, и на полуевропейские переделки некоторых комнат...».
* * *
Вскоре после выхода в свет поэмы Пушкин написал стихотворение, навеянное воспоминаниями о фонтане слез - «Фонтану Бахчисарайского дворца»:
Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы.
Твоя серебряная пыль
Меня кропит росою хладной:
Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!
Журчи, журчи свою мне быль...
Фонтан любви, фонтан печальный!
И я твой мрамор вопрошал:
Хвалу стране прочел я дальной;
Но о Марии ты молчал...
Светило бледное гарема!
И здесь уже ль забвенно ты?
Или Мария и Зарема
Одни счастливые мечты?
Иль только сон воображенья
В пустынной мгле нарисовал
Свои минутные виденья,
Души неясный идеал?
«Изгнанной лиры пенье» - южные поэмы Пушкина - имели огромный успех. Белинский писал, что «эти поэмы читались всею грамотною Россией; они ходили в тетрадках, переписывались девушками, охотницами до стишков, учениками на школьных скамейках, украдкою от учителя, сидельцами за прилавками магазинов и лавок. И это делалось не только в столицах, но и в уездных захолустьях».
Сам Пушкин находил, что его южные поэмы «отдают чтением Байрона», но Герцен подчеркнул большое различие между ними: «Пушкин знал все страдания цивилизованного человека, но у него была вера в будущее, которой человек Запада уже лишился. Байрон, великая свободная личность, человек, уединяющийся в своей независимости и все более и более закутывающийся в свое высокомерие, в свою гордую скептическую философию, становится все более и более мрачным и непримиримым. Он не видел никакого близкого будущего...»
Пушкина же никогда не покидал светлый взгляд на жизнь, в годы самой тяжелой реакции он верил, что «Россия вспрянет ото сна», и это находило выражение в его светлой, жизнерадостной, взволнованной и волнующей поэзии.
* * *
После простых, ясных, даже дружеских отношений, установившихся в Кишиневе с генералом Инзовым, в Одессе Пушкин оказался в пышном окружении графа Воронцова, царского вельможи с «аристократическими замашками, корчившего из себя в Новороссийском крае Ост-Индского губернатора», как аттестовал его будущий декабрист С. Г. Волконский.
У Воронцова с самого начала установились неприязненные отношения с Пушкиным. Он не видел и не хотел признавать в своем подчиненном поэта. Для него Пушкин был всего лишь мелкий канцелярский служащий, разночинец, в звании коллежского секретаря.
Гордого и независимого Пушкина это высокомерие графа ставило в двусмысленное и унизительное положение, которое усугублялось еще тем, что жизнь в Одессе требовала значительных расходов. А он, отторгнутый от Петербурга, лишен был какой бы то ни было возможности лично заниматься изданием своих произведений.
Пушкин упорно стремится сохранить независимость и делится своими невеселыми мыслями с братом: «Жить пером мне невозможно при нынешней цензуре; ремеслу же столярному я не обучался... в отставку идти невозможно... На хлебах у Воронцова я не стану жить - не хочу и полно - крайность может довести до крайности...»
Уезжая из Кишинева, Пушкин задолжал своему начальнику 360 рублей и, возвращая их генералу Инзову, писал: «Что касается извинений, у меня не хватает смелости их принести, и мне стыдно и совестно, что до сих пор я не мог уплатить вам этот долг - и погибал от нищеты...»
* * *
Через месяц после приезда Пушкина в Одессу, 6 сентября, «к позднему обеду», вернулась из Белой Церкви жена Воронцова, Елизавета Ксаверьевна. Ей представили Пушкина.
Она вскоре переехала на дачу Рено в одном из лучших пригородов Одессы. Поблизости жила В. Ф. Вяземская, жена петербургского друга Пушкина, и он посещал их.
Воронцова, дочь любимой племянницы Потемкина, была дочерью великого коронного гетмана К. П. Браницкого, поляка, приверженца России.
Писатель В. А. Соллогуб, современник Пушкина, так отзывался о ней: «Елизавета Ксаверьевна была одной из совершеннейших женщин своего времени. Все ее существо было проникнуто такою мягкою, очаровательною, женственною грациею, такой приветливостью, таким неукоснительным щегольством, что легко себе объяснить, как такие люди, как Пушкин, Раевский и многие, многие другие, без памяти влюблялись в Воронцову...»
Вяземская писала мужу, что любит сидеть на больших камнях, выдвинутых в море, видеть волны, разбивающиеся у ног, и порою испытывать страх перед стремительным приближением девятого вала. «Я вчера оставалась около часу на берегу моря с Пушкиным под проливным дождем, чтобы видеть, как трепало бурей корабль... Как-то с графиней Воронцовой и Пушкиным мы дожидались его, - девятого вала, - и были облиты так, что пришлось переменить платье...»
Не было ничего удивительного, что Пушкин увлекся обаятельной Воронцовой. Во время их прогулок по морскому берегу Елизавета Ксаверьевна любила иногда повторять строки из баллады Жуковского:
Не белеет ли ветрило,
Не плывут ли корабли?
И Пушкин прозвал Воронцову «принцессой Бельветриль»...
Пушкин нигде о ней не упоминает, как бы желая во что бы то ни стало сохранить тайну их любви. Она обнаруживается у него только многочисленными профилями прекрасной женской головы спокойного, благородного, величавого склада, которые идут почти по всем его бумагам из одесского периода жизни.
При создавшихся обостренных отношениях Пушкин все же продолжает бывать в доме Воронцовых. Он появляется обычно в черном, застегнутом на все пуговицы сюртуке, с большим золотым перстнем с гербовой печатью на руке. В передней он оставлял свою черную шляпу, тяжелую железную палку и, появившись в гостиной, сразу оказывался в центре общего внимания. На балах и маскарадах он восхищал всех своим неистощимым остроумием.
Воронцов заметил, что самыми близкими друзьями Пушкина являются люди из оппозиционно настроенной молодежи, в частности вызывавший подозрение царя либеральный командир дивизии М. Ф. Орлов и титулованный генерал С. Г. Волконский. Тот самый Волконский, который на вопрос императора Александра I о настроении дворянства в годы Отечественной войны ответил не колеблясь: «Государь! Стыжусь, что принадлежу к нему - было много слов, а на деле ничего!»
Пушкин раздражал Воронцова своим появлением, в нем страдало самолюбие начальника, задетое достоинством, с каким отстаивал свою независимость его подчиненный. Воронцов любил окружать себя людьми заискивающими, покорными, вежливо предупредительными. А Пушкин не мог и не хотел лакействовать. До Воронцова не могли не дойти и, разумеется, доходили слухи о направленной Пушкиным против графа эпиграмме...
«Я не люблю его манер и не такой уже поклонник его таланта», - писал, не скрывая своей неприязни, Воронцов генералу П. Д. Киселеву в Петербург... И он сделал все, чтобы избавиться от поднадзорного поэта. Повод для этого вскоре подвернулся...
* * *
В Херсонской губернии появляется в мае 1824 года саранча. И Воронцов не нашел ничего лучше, как послать Пушкина в командировку для истребления саранчи; обследовать пораженные саранчой уезды, выяснить ее количество и проверить результаты действующих против саранчи средств.
Пушкин считает это поручение оскорбительным и расценивает его, как вызов со стороны Воронцова. Он пытается уклониться от поездки, однако, вынужденный подчиниться, едет, но через несколько дней возвращается, не выполнив, по существу, поручения.
Поэт взбешен. Презирая и ненавидя Воронцова, он клеймит его уничтожающей эпиграммой:
Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец.
* * *
Александр I. Рисунок А. С. Пушкина на черновой рукописи. 1822-1824 годы.
Дальнейшее пребывание на службе у Воронцова становилось нестерпимым, и 8 июня 1824 года Пушкин подает на высочайшее имя прошение об отставке «по слабости здоровья, не имея возможности продолжать моего служения».
Правитель канцелярии Воронцова А. И. Казначеев выражает Пушкину опасения по поводу последствий этого рискованного шага. Пушкин, почитая получаемые им 700 рублей жалованья «пайком ссылочного невольника», отвечает: «О чем мне жалеть? О своей неудавшейся карьере? С этой мыслью я успел уже примириться. О моем жаловании? Поскольку мои литературные занятия дают мне больше денег, вполне естественно пожертвовать им моими служебными обязанностями и т. д. Вы говорите мне о покровительстве и дружбе. Это две вещи несовместимые. Я не могу, да и не хочу притязать на дружбу графа Воронцова, еще менее на его покровительство: по-моему, ничто так не бесчестит, как покровительство... На этот счет у меня свои демократические предрассудки, вполне стоящие предрассудков аристократической гордости...
Я устал быть в зависимости от хорошего или дурного пищеварения того или другого начальника...
Единственное, чего я жажду, это - независимости (слово неважное, да сама вещь хороша); с помощью мужества и упорства я в конце концов добьюсь ее».
Утонченный дипломат английской школы, Воронцов начинает держать себя с поэтом недостойно. Отношения между ними достигают крайнего напряжения, и Пушкин пишет 14 июля 1824 года А. Тургеневу: «...он начал вдруг обходиться со мною с непристойным неуважением, я мог дождаться больших неприятностей и предупредил его желания. Воронцов - вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое...»
О ссоре с Воронцовым, кончившейся подачей в отставку, Пушкин сообщает Вяземскому. Иронически именуя Александра I римским императором Тиверием, а Воронцова - его приближенным Сеяном, он пишет: «Но чем кончат власти, еще неизвестно. Тиверий рад будет придраться; а европейская молва о европейском образе мыслей графа Сеяна обратит всю ответственность на меня... А у меня голова кругом идет...»
Письмом от 11 июля 1824 года Нессельроде сообщал Воронцову, что Александр I удовлетворил его просьбу об удалении Пушкина из Одессы «после рассмотрения тех основательных доводов, на которых вы основываете ваши предположения, и подкрепленных, в это время, другими сведениями, полученными его величеством об этом молодом человеке. Всё доказывает, к несчастию, что он слишком проникся вредными началами, так пагубно выразившимися при первом выступлении его на общественное поприще... Вследствие этого, его величество, в видах законного наказания, приказал мне исключить его из списков чиновников министерства иностранных дел за дурное поведение... император... находит необходимым удалить его в имение родителей, в Псковскую губернию, под надзор местного начальства».
Псковскому губернатору Б. А. Адеркасу одновременно поручено было «снестись с предводителем дворянства о избрании им одного из благонадежных дворян для наблюдения за поступками и поведением Пушкина».
Последний должен дать подписку в том, что он будет вести себя благонравно, а наблюдающий дворянин должен доносить... через Адеркаса о «предосудительных поступках» Пушкина. При этом Пушкину дозволено было ехать одному, если он дает подписку, что отправится прямо в Михайловское, нигде не останавливаясь в пути. В противном случае предложено было отправить его с надежным чиновником.
* * *
Предстоял день отъезда и «грозный час разлуки» с Воронцовой, к которой Пушкин питал глубокие чувства. До него доходили вести, что приятель его, А. Раевский, ревнуя, настраивает против него графа. Оскорбленный и негодующий Пушкин укоряет Воронцову:
Я наслаждением весь полон был, я мнил,
Что нет грядущего, что грозный день разлуки
Не придет никогда... И что же? Слезы, муки,
Измены, клевета, всё на главу мою
Обрушилося вдруг... Что я, где я? Стою,
Как путник, молнией постигнутый в пустыне,
И всё передо мной затмилося! И ныне
Я новым для меня желанием томим:
Желаю славы я, чтоб именем моим
Твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною
Окружена была, чтоб громкою молвою
Всё, всё вокруг тебя звучало обо мне,
Чтоб, гласу верному внимая в тишине,
Ты помнила мои последние моленья
В саду, во тьме ночной, в минуту разлученья.
Поэт подавлен, мрачен. В Петербурге распространилась даже молва, будто Пушкин застрелился. Находившаяся в Одессе Вяземская опровергла ложный слух в письме к мужу.
* * *
Пушкин собирается в путь. Получает от Вяземской 1260 рублей, задолженных ему ее мужем, раскрывает окно своей комнаты, зовет извозчиков, расплачивается с ними за свои поездки. В течение трех дней веселится с моряками на кораблях в порту. 20 июля присутствует на представлении оперы Россини «Турок из Италии». Получает из канцелярии Воронцова 150 рублей жалованья, занимает у Вяземской 600 рублей и со своим дядькою Никитою Тимофеевичем Козловым направляется из одесской ссылки в михайловское изгнание.
Воронцова дарит Пушкину на память свой портрет в золотом медальоне и кольцо - «талисман» - с сердоликовым восьмиугольным камнем и надписью на древнееврейском языке: «Симха, сын почтенного рабби Иосифа... да будет благословенною его память»...
Это кольцо Пушкин бережно хранил потом.
* * *
Какова же была официальная причина настойчивых требований Воронцова удалить Пушкина?
Пущин писал в позднейших воспоминаниях: «Пушкин сам не знал настоящим образом причины своего удаления в деревню; он приписывал удаление из Одессы козням графа Воронцова из ревности; думал даже, что тут могли действовать некоторые смелые его бумаги по службе, эпиграммы на управление и неосторожные частные его разговоры о религии».
Конечно, ревность могла быть причиной враждебного отношения Воронцова к поэту. И Пушкину, конечно, принадлежит первое слово в оценке причин высылки его из Одессы в деревню.
Но, чтобы не ставить себя в смешное положение, Воронцову требовался официальный повод для удаления от него Пушкина. Таким поводом явилось перехваченное на почте письмо поэта, отправленное весною 1824 года из Одессы кому-то из друзей - видимо, В. К. Кюхельбекеру. Пушкин писал в нем: «...читая Шекспира и Библию, святый дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гёте и Шекспира. - Ты хочешь знать, что я делаю - пишу пестрые строфы романтической поэмы и беру уроки чистого афеизма. Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный афей, которого я еще встретил. Он исписал листов 1000, чтобы доказать, gu’il пе peut exister d’etre intelligent greateur et regulateur6, мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но к несчастью более всего правдоподобная».
Афей - англичанин, о котором писал Пушкин, - был доктор В. Гутчинсон, домашний врач Воронцова.
Безбожие приравнивалось к преступлению. Такова была официальная причина удаления Пушкина из Одессы в Михайловское.
* * *
Одесский сослуживец и приятель Пушкина И. П. Липранди смотрел на отъезд поэта как на событие, самое счастливое в его жизни: ибо вслед за его выездом, в 1824 году, в Одессе поселился князь С. Г. Волконский, женившийся на М. Н. Раевской; приехали будущие декабристы; из Петербурга прибыл делегатом Северного тайного общества состоявший при гвардейском генеральном штабе Корнилович; из армии приехали генерал-интендантю шневский, полковник Пестель, Аврамов, Бурцев и другие.
Все они посещали Волконского, «и Пушкин, с мрачно-ожесточенным духом... легко мог невинно сделаться жертвой».
Перед отъездом Пушкин обращается к морю. С ним поэт страстно прощается, и в прощание это вкладывает все, что волнует его в минуты расставания. Он вспоминает прогулки по морскому берегу с обаятельной «принцессой Бельветриль» - Воронцовой, неосуществившийся побег из России в Константинополь:
Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.
Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
Твой грустный шум, твой шум призывный
Услышал я в последний раз.
Моей души предел желанный!
Как часто по брегам твоим
Бродил я тихий и туманный,
Заветным умыслом томим!
Как я любил твои отзывы,
Глухие звуки, бездны глас
И тишину в вечерний час,
И своенравные порывы!
. . . . . . . . . . . . .
Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтический побег.
...Я был окован;
Вотще рвалась душа моя;
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я.
Дальше следовали три стиха, которые при жизни Пушкина не могли быть напечатаны:
Судьба земли повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Уж просвещенье иль тиран.
И последние строфы - прощание с Одессой перед отправкой в михайловское изгнание:
Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.
В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИХАЙЛОВСКОЕ
1824-1825
Ссылочный невольник
Но злобно мной играет счастье:
Давно без крова я ношусь,
Куда подует самовластье;
Усну, не знаю, где проснусь.
Всегда гоним, теперь в изгнанье
Влачу закованные дни.
А. С. Пушкин. «К Языкову»
В самом мрачном настроении Пушкин приехал 9 августа 1824 года из Одессы в Михайловское: шел пятый год его ссылки.
«Бесчеловечным убийством» назвал П. А. Вяземский ссылку поэта в глухую деревню, «...постигают ли те, которые вовлекли власть в эту меру, что есть ссылка в деревне на Руси? - спрашивал он. - Должно точно быть богатырем духовным, чтобы устоять против этой пытки. Страшусь за Пушкина!»
«И был печален мой приезд», - вспоминал Пушкин свое появление в Михайловском:
...я еще
Был молод, но уже судьба и страсти
Меня борьбой неравной истомили.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Утрачена в бесплодных испытаньях
Была моя неопытная младость,
И бурные кипели в сердце чувства
И ненависть и грезы мести бледной...
Направляясь в Михайловское, Пушкин обязан был явиться к псковскому губернатору Б. А. Адеркасу. Он пренебрег этим, и его сразу же вызвали в Псков, где он вынужден был дать унизительное обязательство «жить безотлучно в поместий родителя своего, вести себя благонравно, не заниматься никакими неприличными сочинениями и суждениями, предосудительными и вредными общественной жизни и не распространять оных никуда».
Над поэтом учрежден был сыскной надзор. Первым «опекуном» к нему приставили помещика И. М. Рокотова, но Пушкин сказал, что он когданибудь его выбросит в окошко. Рокотов не стал дожидаться такого конца и отрекся от опекунства. «Полное смотрение» за сыном принял на себя отец, Сергей Львович. Духовным опекуном Пушкина назначен был хитрый монах Святогорского монастыря Иона.
* * *
Ольга Сергеевна Пушкина, сестра поэта. С рисунка неизвестного художника. 1833 г.
Усадьба Пушкиных в Михайловском. Фотография.
«Изгнанья темным уголком» назвал Пушкин Михайловское, приглашая Языкова навестить его в новой ссылке.
Дома он застал отца, мать, сестру, брата, Арину Родионовну, много дворовых - 29 человек, - но поселился в домике няни, в горнице возле крыльца, с окном во двор. Обставлена была небольшая его комната скромно: кровать с пологом, небольшой письменный стол, диван, шкаф с книгами. Везде лежали исписанные листы бумаги, валялись обкусанные, обожженные кусочки гусиных перьев. Вход в комнату шел прямо из передней, дверь против нее вела в комнату Арины Родионовны...
В конце октября отношения Пушкина с отцом испортились. Между ними произошла крупная ссора. В письме к Жуковскому он сообщил, что Сергей Львович напуган его ссылкою и беспрестанно твердит, что его са. мого ожидает та же участь.
Вскоре отец и мать Пушкина покинули Михайловское, уехали в Петербург, и он попросил следовавшего за ними брата сообщить Жуковскому, что недоразумения его с отцом благополучно окончились.
С отъездом родителей большой михайловский дом опустел. Пушкин избавился от отцовской опеки, но не избавился от неволи.
Постепенно жизнь входила в норму. 9 декабря Пушкин пишет одному из одесских приятелей: «Буря, кажется, успокоилась, осмеливаюсь выглянуть из моего гнезда и подать вам голос... Вот уже 4 месяца, как нахожусь я в глухой деревне - скучно, да нечего делать; здесь нет ни моря, ни неба полудня, ни итальянской оперы. Но зато нет - ни саранчи, ни милордов Уоронцовых. Уединение мое совершенно - праздность торжественна. Соседей около меня мало, я знаком только с одним семейством (П. А. Осиповой в Тригорском. - А. Г.)... - целый день верхом - вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны... она единственная моя подруга - и с нею только мне не скучно...»
И в четвертой песне «Онегина» поясняет, как душевно и поэтически близка ему Арина Родионовна:
Но я плоды моих мечтаний
И гармонических затей
Читаю только старой няне,
Подруге юности моей...
Неожиданно пришло душевное, радостное письмо от Дельвига, которое так ободрило Пушкина:
«Великий Пушкин, маленькое дитя! Иди, как шел, то есть делай, что хочешь; но не сердись на меры людей и без тебя довольно напуганных! Общее мнение для тебя существует и хорошо мстит. Я не видел ни одного порядочного человека, который бы не бранил за тебя Воронцова, на которого все шишки упали... Никто из писателей русских не поворачивал так каменными сердцами нашими, как ты. Чего тебе недостает? Маленького снисхождения к слабым. Не дразни их год или два, бога ради! Употреби получше время твоего изгнания...»
«Поэзия, как ангел утешитель, спасла меня...» Пушкин сразу же принялся за работу и - «воскрес душой».
«Под шепот старины болтливой», няниных сказок и присказок, Пушкин пишет посвящение к поэме «Руслан и Людмила» и возвращается к начатой в Кишиневе третьей главе «Евгения Онегина». На бумагу ложится письмо Татьяны к Онегину.
В это время приходит письмо. Пушкин сразу узнает, от кого оно: на конверте печать «талисмана» - парного кольца, подаренного ему Воронцовой.
На рукописи письма Татьяны появляется пометка, что в тот день, 5 сентября, получено и это письмо, на полях - ее портреты.
Поэт берет подаренный ему Воронцовой золотой медальон, вглядывается в любимые черты:
Пускай увенчанный любовью красоты
В заветном золоте хранит ее черты
И письма тайные, награды долгой муки,
Но в тихие часы томительной разлуки
Ничто, ничто моих не радует очей,
И ни единый дар возлюбленной моей,
Святой залог любви, утеха грусти нежной -
Не лечит ран любви безумной, безнадежной,
Грустно проходит день 19 октября, седьмой лицейской годовщины. Друзья пируют в этот день в Петербурге без него. Все хором пропели сочиненный Дельвигом экспромт: «Семь лет пролетело...» Конечно, друзья вспомнили изгнанника Пушкина за заздравной чашей... И сам он в тот день был душою с ними.
* * *
Лев Сергеевич Пушкин, брат поэта. С рисунка А. Орловского.
Тягостно жилось Пушкину в деревне, вдали от друзей, от волновавших литературных и политических интересов. Досаждали приставленные к нему «опекуны»-надзиратели, отношения с раздраженным отцом все более ухудшались.
Брата Пушкин очень любил. Находясь в южной ссылке, он не переставал интересоваться его судьбою.
Когда Льву исполнилось семнадцать лет, Пушкин направил ему большое письмо на французском языке, в котором давал дружеские советы, наставления, как тот должен вести себя, вступая в жизнь, как вести себя в обществе и в «свете».
Пушкин много читал. Ночью, проснувшись, вставал, садился за стол, писал. Огонь в комнате горел всю ночь.
Летом уходил утром купаться в Сороти, зимою принимал ледяную ванну. После завтрака отправлялся на прогулку с тяжелой железной палкой в руке. Любил бросать ее кверху и ловить на лету или бросать вперед, поднимать и снова бросать. Любил стрелять в цель из пистолета, выпуская в утро до ста зарядов.
Обычный костюм его - красная, подпоясанная кушаком рубашка, широкие штаны, белая шляпа.
Часто с утра направлялся в соседнее имение Тригорское. Там обедал, проводил весь день и только поздним вечером возвращался к себе, в домик няни.
Тригорская молодежь любила Пушкина.
И сам он относился тепло и сердечно к хозяйке имения П. А. Осиповой и ее дочерям.
Вечера в Тригорском проходили шумно и весело. Днем Пушкин погружался в сокровища тригорской библиотеки. Необходимые для работы книги уносил с собою в Михайловское.
Нередко собирались гости из соседних помещичьих имений. Пушкин наблюдал их характеры, привычки, нравы - все это являлось ценнейшим материалом для автора «Евгения Онегина».
К соседям-помещикам Пушкин относился холодно, даже пренебрежительно, но с простым народом дружил и часто непринужденно беседовал во время прогулок.
Именно в Михайловском, по определению М. Горького, «будучи переполнен впечатлениями бытия, стремился отразить их в стихе и прозе с наибольшей правдивостью, с наибольшим реализмом - чего и достигал с гениальным уменьем».
* * *
Отправлявшемуся в Петербург брату Льву Пушкин передал для издания первую главу «Евгения Онегина». Он вспомнил сорок восьмую ее строфу, в которой писал, как однажды на берегу Невы -
С душою, полной сожалений,
И опершися на гранит,
Стоял задумчиво Евгений,
Как описал себя пиит... -
и тут приходит на ум занятная мысль. Пушкин берет лист бумаги и рисует на нем карандашом «картинку»: на берегу Невы, опершись на гранит, стоят в непринужденных позах - слева Пушкин, справа Онегин.
Под этими двумя фигурами Пушкин дает пояснения: «1 хорош - 2 должен быть опершися на гранит, 3 лодка, 4 крепость, Петропавловская».
На обороте Пушкин пишет письмо и в начале ноября 1824 года отправляет его брату из Михайловского в Петербург: «Брат, вот тебе картинка для «Онегина» - найди искусный и быстрый карандаш.
Если и будет другая, так чтоб всё в том же местоположении. Та же сцена, слышишь ли? Это мне нужно непременно».
Рисунок очень занимает поэта, и в середине ноября он осведомляется: «Будет ли картинка у «Онегина»?..»
2 октября 1824 года Пушкин заканчивает третью главу «Евгения Онегина» и возвращается к окончанию начатой еще в Одессе поэмы «Цыганы».
Переход от «Бахчисарайского фонтана» к «Цыганам» и продолжение «Евгения Онегина» явилось переходом Пушкина от романтизма к реализму. В «Цыганах» отчетливо наметились черты поэзии действительности, реалистическое объяснение человеческих страстей, быта и характера действующих лиц поэмы. При этом Пушкин все настойчивее обращается к источникам народного творчества, национально-историческим особенностям, их закономерности и реальной обстановке народной жизни.
«История народа принадлежит поэту», - пишет он 23 февраля 1825 года Н. И. Гнедичу. И, спрашивая, что предпримет он после окончания перевода «Илиады», замечает: «Тень Святослава скитается не воспетая, - писали Вы мне когда-то. А Владимир? а Мстислав? а Донской? а Ермак? а Пожарский?»
Сам Пушкин изучает в это время «Историю государства Российского» Карамзина, интересуется Пугачевым и Степаном Разиным и мыслью обращается к народной трагедии о Борисе Годунове и Лжедмитрии.
Свой переход от романтизма к реализму Пушкин как бы подчеркнул стихотворением «Разговор книгопродавца с поэтом», которое он предпослал изданию первой главы «Евгения Онегина».
Поэт вспоминает в нем время, когда он писал «из вдохновения, не из платы», когда «все волновало нежный ум» и в голове поэта «грезы чудные рождались». Он «музы сладостных даров не унижал постыдным торгом...». Теперь книготорговец предлагает поэту «Стишки любимца муз и граций» «вмиг рублями» заменить «и в пук наличных ассигнаций» обратить.
Предвидя возражения поэта, книготорговец замечает:
Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать.
Поэт-романтик спускается в мир реальной действительности и дает книгопродавцу согласие: «Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся...»
* * *
«Цыганы». Рисунок А. С. Пушкина на рукописи. 1823 г.
В Михайловском Пушкин создал поэму «Цыганы». В основу ее лег эпизод кишиневской ссылки - двухнедельная жизнь поэта в цыганском таборе.
Пушкин довольно часто посещал дом кишиневского помещика Захара (Земфираки) Ралли, с сыном которого, Константином, был дружен, а с дочерью Марией (Мариулой) любил танцевать.
Ралли принадлежали несколько молдавских и цыганских сел: Долно, ныне носящее имя Пушкина, Юрчены и Варзарешты. Направляясь в двухнедельную поездку в эти села, Ралли пригласил с собою Пушкина. Тот охотно принял приглашение.
После нескольких дней пути показались шатры цыганского табора, и в степи Пушкин неожиданно увидел юную красавицу цыганку. Высокого роста, с большими черными глазами и вьющимися длинными косами, она картинно выглядела в цветных мужских шароварах, бараньей шапке, вышитой молдавской рубашке и с трубкой на длинном чубуке. Богатое ожерелье из старых золотых и серебряных монет позвякивало при каждом ее движении.
Это была дочь старика, старосты табора. Звали ее Земфирой. Пушкина поразила дикая, знойная красота цыганки. Он оставил своих спутников, направился с нею к табору, дав понять, что хотел бы остаться с цыганами.
У шатров тлели еще уголья, готовился ужин. На табор снизошло уже «сонное молчанье», слышен был «лишь лай собак да коней ржанье... за шатром ручной медведь лежал на воле». Земфира подошла с Пушкиным к шатру отца. Тот у стывшего убогого ужина поджидал ее...
Отец Земфиры принял гостя в свой шатер. Утром табор поднялся, направляясь на новое место. Поэт, плененный вольной жизнью цыган, оставил Ралли и отправился с ними. По целым дням бродил он с цыганкой, рука об руку, по лесу или молча сидел с нею среди поля. По-русски Земфира не говорила, Пушкин не знал цыганского языка, и беседовали они жестами.
Цыганка пленила Пушкина яркой колоритностью своего образа, но сама увлеклась неожиданно молодым цыганом, и поэт начал ревновать ее.
Однажды утром она бежала из табора и направилась в Варзарешты. Пушкин вернулся с Ралли в Кишинев.
Все пережитое тогда в цыганском таборе надолго запечатлелось в сознании поэта и позже нашло отражение в поэме «Цыганы».
Начал Пушкин поэму «Цыганы» тем, что на листе бумаги нарисовал цыганский табор, голову старого цыгана и портрет А. К. Стамо, женатого на сестре Ралли.
В поэму поэт включил отрывок, в котором сравнивает кочевую жизнь обитателей табора с жизнью беззаботной птички:
Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда,
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда,
В долгу ночь на ветке дремлет...
А с наступлением поздней осени -
В теплый край, за сине море
Улетает до весны.
Вслед за этим читаем автобиографическое признание вольного поэта:
Подобно птичке беззаботной
И он, изгнанник перелетный,
Гнезда надежного не знал
И ни к чему не привыкал.
Ему везде была дорога,
Везде была ночлега сень;
Проснувшись поутру, свой день
Он отдавал на волю бога,
И жизни не могла тревога
Смутить его сердечну лень.
Его порой волшебной славы
Манила дальняя звезда...
И в «Эпилоге» поэмы приведено воспоминание о жизни поэта в цыганском таборе:
Волшебной силой песнопенья
В туманной памяти моей
Так оживляются виденья
То светлых, то печальных дней...
Встречал я посреди степей
Над рубежами древних станов
Телеги мирные цыганов,
Смиренной вольности детей.
За их ленивыми толпами
В пустынях часто я бродил,
Простую пищу их делил
И засыпал пред их огнями.
В походах медленных любил
Их песен радостные гулы -
И долго милой Мариулы
Я имя нежное твердил.
Пушкин закончил поэму. Его друзья декабристского лагеря встретили ее одобрительно, но цензора Гаевского смутили мысли Пушкина о «неволе душных городов», о людях, которые
Торгуют волею своей,
Главы пред идолами клонят
И просят денег да цепей.
«Я ничего не знаю совершеннее по слогу твоих «Цыган», - писал поэту Ж уковский.
Через несколько лет, уже будучи на свободе, Пушкин с грустью вспоминал перед женитьбою свои проведенные в таборе «вольные» дни:
Здравствуй, счастливое племя!
Узнаю твои костры;
Я бы сам в иное время
Провожал сии шатры.
Завтра с первыми лучами
Ваш исчезнет вольный след,
Вы уйдете - но за вами
Не пойдет уж ваш поэт.
Он бродящие ночлеги
И проказы старины
Позабыл для сельской неги
И домашней тишины.
* * *
Недоброжелатели не оставляли Пушкина в покое в его михайловском заточении. В журнале «Благонамеренный» появлялись заметки его издателя, А. Е. Измайлова, о поэзии Пушкина. Измайлов относился к нему недоверчиво - статьи его о поэте отличались двусмысленными оговорками.
Пушкин ответил на них стихотворением «Приятелям», которое Вяземский опубликовал под измененным им названием - «Журнальным приятелям» :
Враги мои, покамест я ни слова...
И, кажется, мой быстрый гнев угас;
Но из виду не выпускаю вас
И выберу когда-нибудь любого:
Не избежит пронзительных когтей,
Как налечу нежданный, беспощадный.
Так в облаках кружится ястреб жадный
И сторожит индеек и гусей.
Измайлов между тем продолжал свое. Одному из писателей он сообщал: «Слышал много нового об А. Пушкине от одного недавно возвратившегося из Пскова полулитератора. Проказничает наш Пушкин, да и только...»
Прочитав стихотворение «Журнальным приятелям», Измайлов поместил в «Благонамеренном» анонимную заметку - «Дело от безделья, или Краткие замечания на современные журналы». В ней были такие строки: «Страшно, очень страшно! Более же всего напугало меня то, что у господина сочинителя есть когти!»
Пушкин ответил новой эпиграммой - «По когтям узнаем льва»:
Недавно я стихами как-то свистнул
И выдал их без подписи моей;
Журнальный шут о них статейку тиснул,
Без подписи ж пустив ее, злодей.
Но что ж? Ни мне, ни площадному шуту
Не удалось прикрыть своих проказ:
Он по когтям узнал меня в минуту,
Я по ушам узнал его как раз.
* * *
Наводнение 7 ноября 1824 года в Петербурге. С рисунка А. Алексеева. 1825 г.
7 ноября 1824 года в Петербурге произошло страшное наводнение. До сих пор на дворцовых зданиях невской набережной сохранилась на высоте полутора метров отметка, дающая представление о том, как поднялась вышедшая тогда из берегов Нева. Это была стихийная катастрофа, никогда с такой грозной силой больше не повторявшаяся.
Пушкин позже описал это бедствие в «Медном всаднике»:
Над омраченным Петроградом
Дышал ноябрь осенним хладом.
Плеская шумною волной
В края своей ограды стройной,
Нева металась, как больной
В своей постеле беспокойной.
. . . . . . . . . . . . . . .
...Нева всю ночь
Рвалася к морю против бури,
Не одолев их буйной дури...
И спорить стало ей невмочь...
Поутру над ее брегами
Теснился кучами народ,
Любуясь брызгами, горами
И пеной разъяренных вод.
Но силой ветра от залива
Перегражденная Нева
Обратно шла, гневна, бурлива,
И затопляла острова,
Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась. Пред нею
Всё побежало, всё вокруг
Вдруг опустело - воды вдруг
Втекли в подземные подвалы,
К решеткам хлынули каналы,
И всплыл Петрополь, как тритон,
По пояс в воду погружен...
Пушкин взволнован... «Этот потоп с ума мне нейдет... - пишет он брату 4 декабря 1824 года. - Если тебе вздумается помочь какому-нибудь несчастному, помогай из Онегинских денег. Но прошу, без всякого шума, ни словесного, ни письменного. Ничуть не забавно стоять в «Инвалиде» наряду с идиллическим коллежским асессором Панаевым...»
Во время наводнения погиб издававшийся К. Ф. Рылеевым и А. А. Бестужевым альманах «Полярная звезда» на 1825 год. Но тут же был сразу еще раз отпечатан. Узнав об этом, Пушкин написал:
Напрасно ахнула Европа,
Не унывайте, не беда!
От петербургского потопа
Спаслась Полярная звезда...
* * *
А. С. Пушкин, Пущин и няня в Михайловском. С картины Н. Ге. 1875 г.
Еще в южной ссылке Пушкин написал кому-то из друзей:
Сегодня я поутру дома
И жду тебя, любезный мой.
Приди ко мне на рюмку рома,
Приди - тряхнем мы стариной.
В южной ссылке опальный поэт никого уже не ждал, но о встрече с друзьями страстно мечтал... И совершенно неожиданно 11 января 1825 года его навестил в михайловской ссылке любимый лицейский товарищ И. И. Пущин. А на рюмку рома пожаловал большой любитель этого напитка «опекун» Пушкина, настоятель Святогорского монастыря игумен Иона...
Встретившись как-то на балу у московского генерал-губернатора Голицына с А. И. Тургеневым. Пущин спросил его, не имеет ли он каких-либо поручений к своему другу Пушкину.
«Как! Вы хотите к нему ехать? Разве не знаете, что он под двойным надзором - и полицейским и духовным?» - изумился Тургенев.
«Все это я знаю; - ответил Пущин, - но знаю также, что нельзя не навестить друга после пятилетней разлуки в теперешнем его положении, особенно когда буду от него с небольшим в ста верстах. Если не пустят к нему, уеду назад». - «Не советовал бы; впрочем, делайте, как знаете», - прибавил Тургенев».
От поездки предостерегал Пущина и дядя поэта Василий Львович, но со слезами на глазах просил расцеловать племянника.
«Как сказано, так и сделано», - вспоминал все это через тридцать лет, пройдя каторгу и ссылку, декабрист Пущин.
Захватив по пути, в Пскове, три бутылки шампанского клико, Пущин вломился «с маху в притворенные ворота» михайловской усадьбы и едва не вывалился из накренившихся набок саней.
Выбравшись из них, он оглянулся и увидел «на крыльце Пушкина - босиком, в одной рубашке, с поднятыми вверх руками». В заиндевевшей шубе и шапке, боясь простудить друга, Пущин схватил его «в охапку» и внес в комнату... Расцеловались и молча смотрели друг на друга.
Прибежавшая Арина Родионовна застала обоих в объятиях, все поняла, тоже обняла гостя, и Пущин чуть не задушил ее...
Закипел кофе, друзья уселись с трубками, и полилась вольная, полная воспоминаний и расспросов беседа, прерывавшаяся шутками, анекдотами, веселым смехом.
Пущин сообщил Пушкину, что имя его сделалось в России народным, что все близкие помнят и любят его и искренне желают, чтобы скорее кончилось его изгнание.
Пушкин расспрашивал гостя об их лицейских товарищах и сказал, что в эти четыре месяца несколько примирился со своим новым бытием, вначале для него очень тягостным. Здесь он все же невольно отдыхает от прежнего шума и волнений, с музой живет в ладу и трудится усердно.
За этой дружеской беседой Пущин не скрывал больше, что он и многие друзья его состоят членами тайного общества.
«Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою - по многим моим глупостям», - сказал Пушкин.
Оба вздохнули. Пущин молча расцеловал друга.
За обедом хлопнула пробка, другая - подняли тосты «за Русь, за Лицей, за отсутствующих друзей и за нее» - за революцию. И няню потчевали.
После обеда Пушкин начал читать вслух привезенную Пущиным рукопись Грибоедова «Горе от ума». Он высоко отозвался о комедии, восхищался обрисовкой типов и картиной нравов: «Фамусов и Скалозуб превосходны... О стихах я не говорю: половина должна войти в пословицу».
Дружескую беседу прервал своим появлением рыжий монах, игумен Иона. Пушкин смутился, торопливо убрал со стола рукопись Грибоедова и раскрыл лежавшую рядом духовную книгу Четьи-Минеи.
Монах, угостившись ромом, выпив два стакана чаю и убедившись, что посетивший его поднадзорного - государственный служащий, однофамилец его знакомого, генерала П. С. Пущина, удалился восвояси.
На столе снова появилась рукопись комедии Грибоедова. Ее сменила черная кожаная тетрадь. Пушкин начал читать другу недавно законченную поэму «Цыганы». И, надо думать, поделился с ним уже набросанным 29 ноября 1824 года планом задуманной народной трагедии - «Борис Годунов»: «Убиение св. Димитрия», «Годунов в монастыре». Незадолго перед приездом лицейского товарища Пушкин набросал уже черновики первых четырех сцен и начал пятую.
Дело близилось к ночи. Арина Родионовна подала ужин, хлопнула третья пробка клико, и, заканчивал Пущин свои воспоминания, «Мы крепко обнялись в надежде, может быть, скоро свидеться в Москве. Шаткая эта надежда облегчила расставанье после так отрадно промелькнувшего дня. Ямщик уже запряг лошадей, колоколец брякал у крыльца, на часах ударило три. Мы еще чокнулись стаканами, но грустно пилось: как будто чувствовалось, что последний раз вместе пьем, и пьем на вечную разлуку! Молча я набросил на плечи шубу и убежал в сани. Пушкин еще что-то говорил мне вслед; ничего не слыша, я глядел на него: он остановился на крыльце, со свечой в руке. Кони рванулись под гору».
- Прощай, друг! - послышалось в морозном воздухе. Ворота заскрипели за уезжавшим Пущиным.
И тогда же Пушкин набросал черновик посвященного Пущину стихотворения «Мой первый друг, мой друг бесценный...».
Снова и снова переживая впоследствии волнующие минуты этой встречи, Пушкин спрашивал своего друга:
Забытый кров, шалаш опальный
Ты вдруг отрадой оживил,
На стороне глухой и дальной
Ты день изгнанья, день печальный
С печальным другом разделил.
Скажи, куда девались годы,
Дни упований и свободы,
Скажи, что наши? что друзья?
Где ж эти липовые своды?
Где ж молодость? Где ты? Где я?
Судьба, судьба рукой железной
Разбила мирный наш Лицей...
Вручила это послание Пущину жена декабриста А. Г. Муравьева лишь через три года, 5 января 1828 года, на каторге: подойдя к частоколу читинского острога, она подозвала к себе Ивана Ивановича и через щель передала ему написанный рукою Пушкина листок:
- Это вам от Александра Сергеевича!..
Чувствовал Пушкин, что они расстаются навечно. Перед Пущиным раскрывалась уже даль тридцатилетней каторги и ссылки. Пушкин в последний раз вспомнил своего друга через двенадцать лет, на смертном одре...
Хотел навестить Пушкина и В. К. Кюхельбекер, но у него было много своих неприятностей. К. Ф. Рылеев и А. А. Бестужев даже писали Пушкину в Михайловское, но не были уверены, что их приезд будет кстати.
Пушкин мечтал и о встрече с Дельвигом. «Дельвига с нетерпением ожидаю», «Дельвига жду», «Мочи нет, хочется Дельвига», - писал он брату.
И вот в начале апреля Дельвиг неожиданно приехал. Они окунулись в воспоминания о былом, о Лицее, о товарищах и друзьях юношеских лет, читали друг другу свои стихи. Пушкин познакомил его с первыми главами «Евгения Онегина» и несколькими уже написанными сценами «Бориса Годунова». Они часто бывали в Тригорском, и пробыл Дельвиг у Пушкина не один день, как Пущин, а больше недели.
* * *
Дельвиг уехал. Пушкин остался один - с няней. Приходят и по-прежнему волнуют его письма от Воронцовой из Одессы. Он прочитывает их, запершись в своей комнате, и сжигает:
Прощай, письмо любви, прощай! Она велела...
Как долго медлил я, как долго не хотела
Рука предать огню все радости мои!..
Но полно, час настал: гори, письмо любви.
Готов я; ничему душа моя не внемлет.
Уж пламя жадное листы твои приемлет...
Минуту!., вспыхнули! пылают... легкий дым,
Виясь, теряется с молением моим.
Уж перстня верного утратя впечатленье,
Растопленный сургуч кипит... О провиденье!
Свершилось! Темные свернулися листы;
На легком пепле их заветные черты
Белеют... Грудь моя стеснилась. Пепел милый,
Отрада бедная в судьбе моей унылой,
Останься век со мной на горестной груди...
На руке - подаренное Воронцовой кольцо. И в минуты горести и печали Пушкин обращается к нему:
Храни меня, мой талисман,
Храни меня во дни гоненья,
Во дни раскаянья, волненья:
Ты в день печали был мне дан.
Снова воскресает все пережитое в Одессе, и Пушкин пишет Воронцовой предельно краткое, полное горячего чувства послание:
Всё в жертву памяти твоей:
И голос лиры вдохновенной,
И слезы девы воспаленной,
И трепет ревности моей,
И славы блеск, и мрак изгнанья,
И светлых мыслей красота,
И мщенье, бурная мечта
Ожесточенного страданья.
* * *
Еще до ссылки Пушкин подготовил рукопись своих стихотворений для издания, но она пять лет пролежала у одного из «минутных друзей минутной младости» Никиты Всеволожского.
Пушкин часто бывал у него и однажды, встретившись за зеленым столом, под зеленой лампой, «полупроиграл», «полупродал» Всеволожскому за тысячу рублей свою готовую к печати рукопись.
Всеволожский приобрел, таким образом, право на издание рукописи, но даже и не помышлял о напечатании. И Пушкину с большим трудом, при помощи брата и друзей, удалось получить ее обратно 13 марта 1825 года.
Открывался сборник ранними, лицейскими, элегиями - «Гроб Анакреона» и «Пробуждение» и позднейшими - «Выздоровление» и «К ней». Обращаясь «к ней», к своей музе, Пушкин говорил:
В печальной праздности я лиру забывал,
Воображение в мечтах не разгоралось,
С дарами юности мой гений отлетал,
И сердце медленно хладело, закрывалось.
И вслед за этим - строки о своем возрождении как поэта, с особой силой прозвучавшие в послелицейский период его творчества:
Но вдруг, как молнии стрела,
Зажглась в увядшем сердце младость,
Душа проснулась, ожила,
Узнала вновь любви надежду, скорбь и радость.
Всё снова расцвело! Я жизнью трепетал...
Два дня подряд Пушкин, не покидая стола, работает над сборником стихотворений, вносит правку, уточняет названия, вычеркивает прежние стихи, вписывает новые, распределяет их по жанрам. Вся рукопись испещрена пометками Пушкина. Некоторые первоначальные варианты стихотворений звучат теперь по-новому.
Не имея права выезжать из Михайловского, Пушкин посылает рукопись в Петербург Плетневу, просит его связаться с Жуковским и Гнедичем, вместе с ними все проверить, исправить ошибки и по своему усмотрению исключить лишнее.
Отправляя рукопись, он пишет 15 марта 1825 года:
«Брат Лев
и брат Плетнев!
Третьего дня получил я мою рукопись. Сегодня отсылаю все мои новые и старые стихи. Я выстирал черное белье наскоро, а новое сшил на живую нитку. Но с вашей помощью надеюсь, что барыня публика меня по щекам не прибьет, как непотребную прачку».
Пушкин заботливо вникает во все подробности оформления будущей книги, просит друзей не забыть о виньетке.
* * *
В Михайловском Пушкин изо дня в день наблюдал ту «действительную жизнь» русского народа, певцом которой он стал. Здесь он, писал А. И. Тургенев, «находил краски и материалы для своих вымыслов, столь натуральных и верных и согласных с прозою и с поэзией сельской жизни в России».
В ярмарочные дни Пушкин приходил к Святогорскому монастырю в красной ситцевой рубахе, опоясанный голубой лентой, в соломенной шляпе и смешивался с народом. Прислушивался к пению нищих и слепцов о Лазаре, Алексее - человеке божьем, об архангеле Михаиле и страшном суде. Иногда, садясь рядом с ними на землю, подпевал, дирижируя тростью с бубенчиками, чем привлекал к себе массу народа и заслонял проход в монастырь. Не узнанный местным исправником, он был однажды отправлен под арест.
В другой раз, придя на ярмарку с железной палкой, сел наземь, собрал вокруг себя нищих, слепцов, слушал их песни и сказания.
Нередко имел при себе дощечку с наложенной на нее бумажкой и, держа ее в руке, незаметно для других заносил в нее для памяти свои наблюдения.
Как-то, еще не зная, что это за чудной и необыкновенный человек с черными бакенбардами, капитан-исправник, приехавший на ярмарку, послал старосту спросить, кто он такой. Староста подошел, спросил, а Пушкин ему в ответ:
- Скажи капитану-исправнику, что он меня не боится и я его не боюсь, а если надо ему знать меня, так я - Пушкин.
Капитан-исправник сообразил, что лучше ему с этим человеком не связываться, и ушел. Пушкин, дослушав песню, бросил слепцам монеты, взял свою железную палку и отправился домой...
Местные дамы, приезжавшие на ярмарку закупать сахар, вино и предметы домашнего обихода, удивлялись поведению своего соседа, помещикапоэта. А Пушкин рисовал их в строфах «Евгения Онегина» с натуры.
Истинное происшествие, случившееся в то время в Новоржевском уезде, навело Пушкина на мысль пародировать лежавшую у него на столе «Лукрецию» Шекспира. В два утра он написал поэму «Новый Тарквиний», переименованную позже в «Граф Нулин». Заканчивалась поэма назидательным четверостишием:
Теперь мы можем справедливо
Сказать, что в наши времена
Супругу верная жена,
Друзья мои, совсем не диво.
Так михайловские наблюдения и встречи с соседями помогли поэту населить строфы «Евгения Онегина» живыми образами, познакомить читателя с характерами и нравами обитателей помещичьих имений.
* * *
Любопытный «приятель» был у Пушкина в городище Воронине, одном из трех холмов Тригорского, - поп Ларивон Раевский по прозвищу Шкода.
С Пушкиным у него сложились особые отношения. Поп был человек любопытный. Ум имел сметливый, крестьянскую жизнь и всякие крестьянские пословицы и приговоры весьма знал. Пушкину это нравилось, и они виделись почти каждый день.
Если поп день или два не завернет в Михайловское, Пушкин сам идет к нему.
- Поп у себя? - спросит.
Если дома попа не окажется, накажет дочке:
- Скажи, красавица, чтоб беспременно ко мне наведался, мне кой о чем потолковать с ним надо!
«Раз вернулся Шкода тучей, - вспоминали люди, - шапку швырнул:
- Разругался я, - говорит, - сегодня с михайловским барином вот до чего, - ушел, даже не попрощавшись... Книгу он мне какую-то богопротивную все совал, - так и не взял, осердился!
А глядишь, двух суток не прошло, - Пушкин сам катит на Воронич, в окошко плеткой стучит.
- Дома поп? - спрашивает. - Скажи, я мириться приехал.
Простодушный был барин, отходчивый».
7 апреля 1825 года, в годовщину смерти Байрона, Пушкин заказал Шкоде с вечера обедню за упокой английского поэта. «Мой поп удивился моей набожности и вручил мне просвиру, вынутую за упокой раба божия боярина Георгия. Отсылаю ее к тебе», - сообщил он Вяземскому.
И в тот же день известил о том брата. «Это немножко напоминает обедню Фридриха II за упокой души Вольтера», - добавил Пушкин.
Он высоко ценил Байрона. В годы ссылки от него «с ума сходил», называл гением, а произведения его бессмертными.
Пушкин был в Одессе, когда пришло известие, что, приняв участие в борьбе за освобождение Греции, 36-летний Байрон погиб в Миссолонгах, и в одной из своих тетрадей коротко записал по-французски: «1824 19/7 апреля умер Байрон».
Сильными и яркими штрихами отметил Пушкин гибель английского поэта в стихотворении «К морю».
Он называл его оплаканным свободой гением, властителем наших дум, «могущим, глубоким, мрачным, как море, ничем неукротимым»:
Шуми, волнуйся непогодой:
Он был, о море, твой певец.
На смерть Байрона отозвались и друзья Пушкина.
В посвященном Пушкину стихотворении поэт И. И. Козлов писал, что вольнолюбием дышала чудесная арфа Байрона -
Он пел угнетенных свободу...
В. К. Кюхельбекер скорбел о его гибели:
Упала дивная комета!
Потухнул среди туч перун!
Еще трепещет голос струн:
Но нет могущего поэта.
Как будто проникая в глубь событий грядущего века, - «Не ты, Британия - вселенна!» - Кюхельбекер пророчествовал:
Увы! ударит час судьбы!
Веков потоком поглощенный,
Исчезнет твой народ надменный
Или пришельцовы стопы
Лобзать, окован рабством, будет -
Но Байрона не позабудет...
На фасаде вороничской церкви прикрепили мемориальную доску в память об отслуженной в ней попом Шкодой обедне за упокой раба божия боярина Георгия.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
МИХАЙЛОВСКОЕ
1825-1826
«Сильны мы... мнением; да! Мнением народным...»
...В разны годы
Под вашу сень, Михайловские рощи,
Являлся я; когда вы в первый раз
Увидели меня, тогда я был
Веселым юношей; беспечно, жадно
Я приступал лишь только к жизни; годы
Промчалися, и вы во мне прияли
Усталого пришельца...
А. С. Пушкин. «...Вновь я посетил»7
Анна Керн. Миниатюра работы неизвестного художника.
Михайловское. Аллея Керн в парке. Фотография.
В летний июньский вечер 1825 года Пушкин направился в Тригорское и застал там Анну Керн, приехавшую навестить своих двоюродных сестер - Анну и Евпраксию Вульф.
Пушкин и Анна Керн впервые встретились в Петербурге, в доме президента Академии художеств А. Н. Оленина. Увидев ее в Тригорском, поэт несколько смутился.
«Однажды, - вспоминала позже Анна Керн, - явился он в Тригорское с большою черною книгою, на полях которой были начертаны ножки и головки, и сказал, что он принес ее для меня. Вскоре мы уселись вокруг него, и он прочитал нам своих «Цыган». Впервые мы слышали эту чудную поэму, и я никогда не забуду того восторга, который охватил мою душу: я была в упоении как от текучих стихов этой чудной поэмы, так и от его чтения, в котором было столько музыкальности...»
Пушкин закончил чтение, и Анна Керн запела для него «Венецианскую ночь» слепого поэта И. И. Козлова, три строфы которой М. И. Глинка переложил на музыку в певучих итальянских ритмах:
Ночь весенняя дышала
Светло-южною красой;
Тихо Брента протекала,
Серебримая луной...
Об этой встрече Пушкин тотчас же написал П. А. Плетневу: «Скажи от меня Коз лову, что недавно посетила наш край одна прелесть, которая небесно поет его «Венецианскую ночь» на голос гондольерского речитатива - я обещал известить о том милого, вдохновенного слепца. Жаль, что он не увидит ее, но пусть вообразит себе красоту и задушевность - по крайней мере дай бог ему ее слышать!..»
Приписка поясняла, что письмо написано поэтом в присутствии Анны Керн.
Через несколько дней П. А. Осипова предложила совершить после ужина прогулку в Михайловское. Погода была чудесная. Лунная июльская тихая ночь была насыщена ароматом полей. «Мчалась младость на любви весенний пир...» Ни прежде, ни после Анна Керн не видела поэта таким добродушным, веселым и любезным. Он шутил без острот и сарказма, хвалил луну, не называл ее глупою и говорил: «Люблю луну, когда она освещает красивое лицо».
«Он быстро подал мне руку, - рассказывала Анна Керн, - и побежал скоро, скоро, как ученик, неожиданно получивший позволение прогуляться...»
Это была неожиданная, после шестилетнего перерыва, встреча. В душе поэта «настало пробужденье» - пробуждение от всех тяжелых переживаний, перенесенных «в глуши, во мраке заточенья» - в многолетнем изгнании.
Глубокой ночью Пушкин вернулся к себе. Он был взволнован, и владевшие им настроения вылились в изумительный, вдохновенный гимн любви:
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.
Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.
В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.
Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.
«Вакхическая песня», стихотворения «Если жизнь тебя обманет...» и «Я помню чудное мгновенье...» были созданы Пушкиным, одно за другим, в Михайловском, в 1825 году.
В них «Пушкин с поразительной поэтической силой выразил смену своих переживаний, психологический переход от мрачных дум к чувству бодрости и веры... Однако смысл и значение этого бессмертного творения пушкинской лирики («Я помню чудное мгновенье...»), конечно, не сводится к автобиографическим мотивам, как бы они ни были значительны. Стихотворение «Я помню чудное мгновенье...» - лирический гимн любви, ее могучей силе, способной возродить и очистить человека, вернуть его к творческой жизни»8.
* * *
Анна Керн пробыла в Тригорском около месяца и 19 июля вместе с А. Н. Вульф уезжала в Ригу. Пушкин подарил ей вышедшую тогда первую главу «Евгения Онегина». Между неразрезанными страницами лежал листок с написанным ночью стихотворением.
Анна Керн собиралась уже спрятать драгоценный поэтический подарок.
Пушкин долго смотрел на нее, потом неожиданно выхватил стихи и не хотел возвращать. «Насилу выпросила я их опять, - вспоминала Анна Керн. - Что у него промелькнуло тогда в голове, - не знаю...»
Уже через два дня Пушкин писал А. Н. Вульф: «Все Тригорское поет «Не мила ей прелесть ночи», и у меня от этого сердце ноет... Каждую ночь гуляю я по саду и повторяю себе: она была здесь - камень, о который она споткнулась, лежит на моем столе, подле ветки увядшего гелиотропа, я пишу много стихов - всё это, если хотите, очень похоже на любовь, но клянусь вам, что это совсем не то».
Бродя по аллеям Михайловского парка, Пушкин мучительно переживал охватившее его чувство. Он написал Анне Керн семь писем, семь восторженных посланий на французском языке, пестрых по настроению, полных противоречивых чувств, искрящихся страстью и ревностью и одновременно насыщенных преклонением перед поразившей его красотой. Он называл ее «чудотворной», «чудотворицей».
На одном из писем А. Н. Вульф к Анне Керн Пушкин приписал сбоку из Байрона: «Видение пронеслось мимо нас, мы видели его и никогда опять не увидим...»
Одна из аллей парка сегодня носит имя Анны Керн.
* * *
С поэтом И. И. Козловым, переводчиком на русский язык Байрона, Пушкин познакомился в петербургские свои годы.
В 1821 году в журнале «Сын отечества» появилось первое стихотворение еще никому не известного поэта И. И. Козлова «К Светлане». Оно проникнуто глубокой скорбью человека, чья «рано отцвела весна и солнце в полдень закатилось»: на сорок втором году жизни Козлов неожиданно ослеп, а паралич ног приковал его к постели.
В поэзии слепой поэт нашел «источник силы, ободрения, животворительных утех и сладкого самозабвения», а через несколько лет был признан большим поэтом, чье имя современники ставили рядом с Пушкиным и Байроном...
В 1825 году Пушкин получил в Михайловском экземпляр поэмы «Чернец», на котором рукою слепого было выведено кривыми строками, неровными буквами: «Милому Александру Сергеевичу Пушкину от автора».
В волнующем послании к жене и двум детям, предпосланном поэме, Козлов скорбит о том, что больше «не зреть ему дня с зорями золотыми, ни роз, ни сердцу милых лиц»:
Так в темну ночь цветок, краса полей,
Свой запах льет, незримый для очей.
Пушкина «Чернец» взволновал. Он написал брату Льву: «Подпись слепого поэта тронула меня несказанно. Повесть его прелесть... Видение, конец прекрасны. Послание, может быть, лучше поэмы - по крайней мере ужасное место, где поэт описывает свое затмение, останется вечным образцом мучительной поэзии. Хочется отвечать ему стихами, если успею, пошлю их с этим письмом».
И Пушкин ответил:
Певец, когда перед тобой
Во мгле сокрылся мир земной,
Мгновенно твой проснулся гений,
На всё минувшее воззрел
И в хоре светлых привидений
Он песни дивные запел.
О милый брат, какие звуки!
В слезах восторга внемлю им:
Небесным пением своим
Он усыпил земные муки.
Тебе он создал новый мир:
Ты в нем и видишь и летаешь,
И вновь живешь, и обнимаешь
Разбитый юности кумир.
А я, коль стих единый мой
Тебе мгновенье дал отрады,
Я не хочу другой награды:
Недаром темною стезёй
Я проходил пустыню мира,
О нет, недаром жизнь и лира
Мне были вверены судьбой!
Козлов сердечно поблагодарил Пушкина за эти тронувшие его стихи. Письмо писала, вероятно, под диктовку жена, а в конце он сам сделал небольшую приписку неровными строками, на французском языке: «Целую Вас от всего моего сердца, я весь Ваш навсегда Иван Козлов».
Напомним, что Козлов является автором весьма популярного и в наши дни романса «Вечерний звон» из Томаса Мура, положенного на музыку композиторами А. Гречаниновым и С. Монюшко.
* * *
«Два года незаметных» в михайловском «уголке земли» отмечены были большим творческим трудом:
Я был рожден для жизни мирной,
Для деревенской тишины,
В глуши звучнее голос лирный,
Живее творческие сны.
Свыше ста стихотворений написал Пушкин в Михайловском. Высокой поэзией зазвучал в деревне его «голос лирный». Сто двадцать четыре письма, отправленные из Михайловского, отражают все, чем жил и дышал поэт в изгнании, как работала его мысль.
С каждой почтой приходило много книг и журналов - их присылали Пушкину, по его требованию, брат и друзья. Он жадно набрасывался на них и затем садился за работу.
В этот михайловский период «творческие сны» Пушкина достигают необычайной красоты и зрелости.
К вере и непреклонному оптимизму призывает поэт:
Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.
Сердце в будущем живет...
И тогда же вслед за этим стихотворением родилась «Вакхическая песня» - гимн солнцу, музе и разуму:
Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!
* * *
В январе 1825 года Пушкин получил от К. Ф. Рылеева дружеское письмо. Редактор «Полярной звезды» поздравлял Пушкина с его поэмой «Цыганы», писал, что он «идет шагами великана», и закончил, переходя в этом письме со своим другом на «ты»: «Прощай, будь здоров и не ленись; ты около Пскова: там задушены последние вспышки Русской свободы; настоящий край вдохновения - и неужели Пушкин оставит эту землю без Поэмы?»
Мысль о такой «поэме» между тем уже созрела у самого Пушкина. Написаны были черновики первых четырех сцен «Бориса Годунова» и начата пятая.
Работа над этой трагедией показывает, что народности в литературе Пушкин начинает придавать особое значение; особенно это проявляется в михайловский период его творчества.
Размышляя, еще в Кишиневе, в небольшой статье «О французской словесности», об отрицательном влиянии французской словесности на русскую, поэт замечает: «...есть у нас свой язык; смелее! - обычаи, история, песни, сказки - и проч.».
В «Борисе Годунове» Пушкин поднимается на эту новую ступень - народ становится в его трагедии самостоятельным действующим лицом с своим отношением к событиям.
«Так, о чем бы ни писал Пушкин - о быте ли «детей вольности» - диких цыган, о переживаниях ли приговоренного к гильотине французского поэта, или о настроениях нового Фауста, - он неизменно создавал произведения, обладающие достоинствами великой народности, произведения, в которых он видел русскими глазами, чувствовал русским сердцем, судил русским судом. Однако в творчестве Пушкина михайловского периода еще большее значение имеет создание произведений (или отдельных мест в них), непосредственно связанных с миром русского народного творчества - песнями, сказками»9.
«Борис Годунов» увлек Пушкина, и он писал в июле 1825 года Н. Н. Раевскому: «Сочиняя ее, я стал размышлять над трагедией вообще. Это, может быть, наименее правильно понимаемый род поэзии. И классики и романтики основывали свои правила на правдоподобии, а между тем именно оно-то и исключается самой природой драматического произведения. Не говоря уже о времени и проч., какое, к чёрту, может быть правдоподобие в зале, разделенной на две половины, в одной из коих помещается две тысячи человек, будто бы невидимых для тех, кто находится на подмостках... Правдоподобие положений и правдивость диалога - вот истинное правило трагедии... до чего изумителен Шекспир! Не могу прийти в себя... Вспомните Шекспира. Читайте Шекспира, он никогда не боится скомпрометировать своего героя, он заставляет его говорить с полнейшей непринужденностью, как в жизни...»
Пушкин заявляет в заключение, что его «Борис Годунов» - попытка соединить «трагедию характеров» и «трагедию нравов».
Широту изображения характеров Шекспиром и свойства его народной драмы он особо отмечал и писал: «Твердо уверенный, что устарелые формы нашего театра требуют преобразования, я расположил свою трагедию по системе отца нашего Шекспира...» При этом, по примеру Шекспира, ограничился изображением эпохи и исторических персонажей без театральных эффектов.
* * *
Приступив к «Борису Годунову», Пушкин тщательно изучал эпоху Смутного времени. В те дни вышли два новых тома «Истории государства Российского» Карамзина, отражавшие этот период русской истории. Пушкин с восторгом окунулся в них и поразился: как повторяется история!
17 августа 1825 года он писал Жуковскому: «...читаю только Карамзина да летописи. Что за чудо эти 2 последние тома Карамзина! Какая жизнь! Это злободневно, как свежая газета...»
Мысленно обращаясь к главному действующему лицу своей трагедии - народу, - Пушкин просил Жуковского, не может ли он доставить ему или жизнь Железного колпака, или житие какого-нибудь юродивого. Он напрасно искал Василия Блаженного в Четьях-Минеях, а ему это очень нужно для создания образа юродивого Николки...
Пушкин с величайшим тщанием изучал старинные летописи, стремясь, с одной стороны, сохранить в своем творении подлинную историчность, с другой - представить ее художественно преображенной. «В летописях старался угадать образ мыслей и язык тогдашнего времени, - писал Пушкин. - Источники богатые! умел ли ими воспользоваться - не знаю - по крайней мере, труды мои были ревностны и добросовестны».
* * *
Виды развалин каменной городской стены Пскова. С литографии И. Селезнева.
Городище Воронин, псковский пригород, когда-то сильная крепость близ литовской границы, особенно интересовало Пушкина. Это был и польский рубеж у большой дороги из Москвы и Пскова на Литву и Польшу. Крепость эту окружал частично сохранившийся земляной вал с деревянными стенами, бойницами. У вала нередко находили древние ядра, старинные монеты и предметы домашней утвари.
Запись летописца знакомит нас с рассказом о посещении Воронина 29 ноября 1546 года царем Иваном Грозным. По его повелению в 1569 году на высоких Синичьих горах был основан - для укрепления Московского государства в этом приграничном районе - Святогорский монастырь.
Автор «Бориса Годунова» часто посещал этот монастырь, знакомился с его архивом, рукописными книгами, летописями, встречался с населявшими кельи монахами, интересовался их бытом и нравами, слушал передававшиеся из поколения в поколение предания и сказания о прошлом...
Здесь, в трапезной Святогорского монастыря, перед Пушкиным встали живые образы трагедии - беглые монахи Варлаам и Мисаил, - а под его древними сводами - летописец Пимен:
Еще одно, последнее сказанье -
И летопись окончена моя,
Исполнен долг, завещанный от бога
Мне, грешному...
Об образе Пимена Пушкин сообщал в письме издателю «Московского вестника»: «Характер Пимена не есть мое изобретение. В нем собрал я черты, пленившие меня в старых летописях: простодушие, умилительная кротость, нечто младенческое и вместе мудрое, усердие (можно сказать) набожное к власти царя, данной им богом, совершенное отсутствие суетности, пристрастия - дышат в сих драгоценных памятниках времен давно минувших...»
Созданный Пушкиным величавый образ Пимена изумил Белинского. Он писал, что вся сцена в келье Чудова монастыря так глубоко проникнута русским духом, так глубоко верна исторической истине, что это мог сделать лишь гений Пушкина - истинно национального русского поэта...
И поговорками, слышанными от игумена Святогорского монастыря Ионы, своего духовного опекуна-наблюдателя, Пушкин наметил сцену в корчме на литовской границе: «Пьем до донушка, выпьем, поворотим и в донушко поколотим...»
* * *
Обложка «Бориса Годунова».
Отрывок из письма А. С. Пушкина П. А. Вяземскому от 13 июля 1823 г. Автограф А. С. Пушкина.
Пушкин обязан был от времени до времени являться к псковскому губернатору Адеркасу. В начале октября 1825 года он писал Жуковскому: «На днях, увидя в окошко осень, сел я в тележку и прискакал во Псков...» И здесь, у Троицкого собора, в псковском Кремле, где когда-то висел вечевой колокол и на площади собиралось народное вече, Пушкин ощущал дыхание ушедшей эпохи.
В кафедральном соборе он стоял у гробницы юродивого Николая, осмелившегося сказать Ивану Грозному, когда псковичи подносили ему хлебсоль: «Иванушко! Иванушко! Покушай хлеба и соли, а не христианской крови!..»
И здесь родился у Пушкина перенесенный на страницы трагедии образ юродивого - тоже Николки, - смело ответившего на просьбу Бориса Годунова помолиться за него: «Нет, нет! Нельзя молиться за царя Ирода - богородица не велит...»
Рядом с юродивым Николкой и Иваном Грозным перед Пушкиным будто живые вставали образы Смутного времени. Губерния Псковская была его земля родная.
Казалось, сюда, на Псковщину, в Михайловское, доносился из Нов города набат новгородского вечевого колокола. Сюда Пушкин приведет позже и своего Онегина:
Среди равнины полудикой
Он видит Новгород великий.
Смирились площади - средь них
Мятежный колокол утих,
Не бродят тени великанов:
Завоеватель скандинав,
Законодатель Ярослав
С четою грозных Иоаннов,
И вкруг поникнувших церквей
Кипит народ минувших дней.
Здесь жили потомки народа, ставшего главным действующим лицом трагедии Пушкина.
Работа над трагедией захватила Пушкина, и в июле 1825 года он сообщает в письме к Вяземскому: «Покамест, душа моя, я предпринял такой литературный подвиг, за который ты меня расцелуешь: романтическую трагедию! - смотри, молчи же: об этом знают весьма немногие...
Передо мной моя трагедия. Не могу вытерпеть, чтоб не выписать ее заглавия: Комедия о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве писал раб божий Александр сын Сергеев Пушкин в лето 7333, на городище Воронине. Каково?»
Заканчивая «Бориса Годунова», Пушкин писал Вяземскому, что смотрел на своего героя с политической точки зрения, то есть на материале XVII века рассматривал общественные явления своего времени. Всеми помыслами своими Пушкин обращен был в ту далекую смутную пору.
Николаю Раевскому Пушкин отправил позже большое письмо: «Вот моя трагедия, она полна славных шуток и тонких намеков, относящихся к истории того времени, вроде наших киевских и каменских обиняков. Надо понимать их - это непременное условие».
И все, конечно, понимали это, когда слушали, как Пушкин читал в 1826 году в Москве, в кругу друзей, свою трагедию. Все понимали пушкинские обиняки и намеки на жестокий деспотический режим царствования Александра I и предшествовавшее ему убийство Павла I. В ряд действующих лиц трагедии он вводит своих предков из рода Пушкиных.
«Быть грозе великой», - замечает Шуйский, а Афанасий Пушкин отвечает:
Такой грозе, что вряд царю Борису
Сдержать венец на умной голове.
И поделом ему! он правит нами,
Как царь Иван (не к ночи будь помянут).
Нас каждый день опала ожидает,
Тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы.
«Как царь Иван», правил и Александр I, и мог он повторить вослед Годунову -
Противен мне род Пушкиных мятежный...
Александр Пушкин вкладывал в уста своего предка, Пушкина, гордые слова:
Но знаешь ли чем сильны мы, Басманов?
Не войском, нет, не польскою помогой,
А мнением; да! мнением народным...
Здесь к месту привести и любопытную параллель, невольно бросавшуюся в глаза. Еще до восстания декабристов Пушкин написал в 1825 году стихотворение «Андрей Шенье», которое не разрешено было полностью опубликовать. Изъяты были, в частности, стихи:
...Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! о позор!..
И в том же, 1825 году, работая над трагедией, Пушкин смело вложил в уста летописца Пимена ту же мысль:
Прогневали мы бога, согрешили:
Владыкою себе цареубийцу
Мы нарекли.
Это был уже не намек, а прямой выпад мятежного поэта против императора Александра I, о молчаливом соучастии которого в убийстве отца в Петербурге говорили свободно, как говорят о дожде или хорошей погоде...
Пушкин заканчивает «Бориса Годунова» и в начале ноября 1825 года пишет Вяземскому: «Поздравляю тебя, моя радость, с романтической трагедиен), в ней же первая персона Борис Годунов! Трагедия моя кончена; я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши и кричал, ай да Пушкин, ай да сукин сын! Юродивый мой малый презабавный... Жуковский говорит, что царь меня простит за трагедию - навряд, мой милый. Хоть она и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!..»
Это был намек на Александра I.
На рукописи Пушкин делает надпись: «Драгоценной для россиян памяти Николая Михайловича Карамзина сей труд, гением его вдохновенный, с благоговением и благодарностию посвящает Александр Пушкин».
«...«Борис Годунов» явился «первым подлинно и высоко реалистическим историко-художественным произведением всей мировой литературы. Пушкин сумел не только дать в нем необыкновенно полную и правдивую картину прошлого, но и так глубоко, как никто из его предшественников и современников, проникнуть «мыслью историка» в социальные отношения изображенной им эпохи, в борьбу социальных сил.
Равным образом и по своему духу, и по самой своей форме «Борис Годунов» - трагедия, действительно, «народная», произведение глубоко демократическое... подлинное чудо реалистического искусства. Пушкин - поэт действительности - празднует в нем одну из своих величайших побед»10.
Пушкин имел в виду продолжить свою хронику и написать еще «Лжедмитрия» и «Вас илия Шуйского», но замысел этот остался неосуществленным.
Московские друзья с интересом ждали рукопись новой трагедии Пушкина, просили прислать хотя бы отдельные ее сцены. От Баратынского он получил письмо из Москвы: «Жажду иметь понятие о твоем Годунове. Чудесный наш язык ко всему способен, я это чувствую, хотя не могу привести в исполнение. Он создан для Пушкина, а Пушкин для него. Я уверен, что трагедия твоя исполнена красот необыкновенных. Иди, довершай начатое ты, в ком поселился Гений! Возведя русскую Поэзию на ту степень между поэзиями всех народов, на которую Петр Великий возвел Россию между державами. Соверши один, что он совершил один; а наше дело признательность и удивление».
Пушкин был доволен. «Я пишу и размышляю, - сообщал он в июле 1825 года Н. Н. Раевскому. - Большая часть сцен требует только рассуждения; когда же я дохожу до сцены, которая требует вдохновения, я жду его или пропускаю эту сцену - такой способ работы для меня совершенно нов...»
И письмо свое закончил четким и ясным утверждением: «Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить».
* * *
Приближалось 19 октября, священная - уже четырнадцатая - годовщина открытия Лицея, и у Пушкина слагались строфы традиционного послания лицейским товарищам. Лес стоял преображенный на ярком, пестром ковре опавших осенних листьев, и Пушкин начал послание спокойным торжественным стихом - «Роняет лес багряный свой убор...». Отразив глубокое свое одиночество, он вспоминает своих наиболее близких по Лицею товарищей и друзей:
Печален я: со мною друга нет,
С кем долгую запил бы я разлуку,
Кому бы мог пожать от сердца руку...
И мысленно переносится в Петербург:
Я пью один, и на брегах Невы
Меня друзья сегодня именуют...
Перед Пушкиным встают живые образы самых близких ему лицейских друзей. Он с большой теплотой вспоминает их, каждому посвящает отдельную строфу - лирическую зарисовку его облика - и передает свое желание быть на празднике с ними, свои добрые чувства к ним:
На пир любви душой стремлюся я...
Вот вижу вас, вот милых обнимаю.
Я праздника порядок учреждаю...
Я вдохновен, о, слушайте, друзья:
Чтоб тридцать мест нас ожидали снова!
Садитеся, как вы садились там,
Когда места в сени святого крова
Отличие предписывало нам.
Лицейские товарищи уже начали уходить из жизни, и Пушкин с грустью призывает оставшихся:
Пируйте же, пока еще мы тут!
Увы, наш круг час от часу редеет;
Кто в гробе спит, кто дальный сиротеет;
Судьба глядит, мы вянем; дни бегут;
Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к началу своему...
Свобода и дружба... Утверждая их высшим идеалом нравственного облика поэта, Пушкин восклицает:
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен -
Неколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.
Четырнадцатую годовщину Лицея друзья праздновали 19 октября 1825 года в Петербурге, и уже на другой день, 20 октября, профессор Кошанский читал лицеистам нового поколения только что полученную рукопись «19 октября», читал «с особым чувством, прибавляя к каждой строфе свои пояснения».
После лекции лицеисты «принялись переписывать драгоценные стихи о родном Лицее и тотчас выучили их наизусть», вспоминал лицеист позднейшего выпуска, Я. К. Г рот.
В этом посвященном лицейской годовщине 1825 года стихотворении Пушкин писал:
Запомните ж поэта предсказанье:
Промчится год, и с вами снова я...
Поэт не ошибся...
* * *
Послание товарищам в лицейскую годовщину 1825 года насыщено было трогательными воспоминаниями о незабвенных лицейских годах. Совсем иные настроения нашли отражение в написанном вслед за этим стихотворении «Зимний вечер». Здесь пред нами картины тягостной жизни ссыльного поэта в Михайловском.
В вьюжный вечер, когда «буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя», Пушкин с большой нежностью обращается к няне:
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?
И заботливо стремится утешить ее:
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла...
Нужно было быть богатырем духа, чтобы в таком отрешении от живого общения с людьми работать вдохновенно, неутомимо.
А. Н. Вульф, навестив Пушкина, отметил в дневнике: «По шаткому крыльцу взошел я в ветхую хижину первенствующего поэта русского».
Сам Пушкин еще в ноябре 1824 года писал брату: «Знаешь мои занятия? до обеда пишу записки, обедаю поздно; после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки - и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!»
Со слов няни Пушкин записал семь сказок. И преобразил эти записи в «Сказке о царе Салтане», «Сказке о попе и о работнике его Балде», «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях». С ее слов он записал и четыре песни.
В декабре 1824 года, работая над «Евгением Онегиным», Пушкин писал одному из своих друзей в Одессу: «...вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны; вы, кажется, раз ее видели, она единственная моя подруга - и с нею только мне не скучно».
И, трудясь над «Борисом Годуновым», писал в июле 1825 года Н. Н. Раевскому: «У меня буквально нет другого общества, кроме старушкн-пяни и моей трагедии...»
* * *
В Михайловском Пушкин написал в 1825 году стихотворение «Андрей Шенье». Это было имя известного французского поэта, навлекшего на себя подозрение революционного французского правительства и казненного накануне падения Робеспьера.
В стихотворении Пушкин отразил черты собственного своего положения и эпиграфом к нему поставил строки на французском языке: «Но хоть и был я печальным пленником, все же лира моя пробуждалась...»
Пушкин в этом произведении выразил мысли и настроения идущего на казнь поэта. Гневные слова, обращенные Шенье в адрес Робеспьера и Конвента, Александр I мог принять на свой счет.
Поэт пишет:
Подъялась вновь усталая секира
И жертву новую зовет.
Певец готов; задумчивая лира
В последний раз ему поет.
«О чем поет? Поет она свободу...» И Пушкин влагает в уста французского поэта негодующие, клеймящие тирана слова:
«Я славил твой священный гром,
Когда он разметал позорную твердыню...
. . . . . . . . . . . . . . .
О горе! о безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! о позор!
. . . . . . . . . . . . . . .
Гордись, гордись, певец; а ты, свирепый зверь,
Моей главой играй теперь:
Она в твоих когтях. Но слушай, знай, безбожный:
Мой крик, мой ярьш смех преследует тебя!
Пей нашу кровь, живи, губя:
Ты всё пигмей, пигмей ничтожный.
И час придет... и он уж недалек:
Падешь, тиран! Негодованье
Воспрянет наконец. Отечества рыданье
Разбудит утомленный рок.
Теперь иду... пора... но ты ступай за мною;
Я жду тебя».
«Так пел восторженный поэт...» - этими словами Пушкин заключил последнюю перед казнью песнь Андрея Шенье. На месте казни Шенье ударил себя в голову и сказал: «Всё-таки у меня там кое-что было...»
Жалуясь во второй половине ноября 1825 года П. А. Вяземскому на многолетнее преследование его, Пушкин писал: «Грех гонителям моим! И я, как А. Шенье, могу ударить себя в голову и сказать: Здесь кое-что было... извини эту похвальбу и прозаическую хандру...»
Изъяв из стихотворения приведенные выше строки, цензура разрешила его к печати еще 8 октября 1825 года, но не разрешенные цензурой стихи получили широкое распространение в рукописных списках, а некий А. Ф. Леопольдов, враждебно относившийся к Пушкину, поставил над этим стихотворением надпись - «На 14 декабря» и донес на поэта Бенкендорфу. Надпись эта вызвала гнев Николая I.
Были произведены обыски. Стихи оказались у многих лиц, которые понесли строгое наказание.
Поэт не отрицал, что стихотворение написано им. Он заявил, что слова «Убийцу с палачами избрали мы в цари» относятся к Робеспьеру и Конвенту; слова «разметал позорную твердыню» разумеют взятие Бастилии, И т. д.
Однако объяснения Пушкина не удовлетворили царя. Началось длительное следствие.
Прошло всего несколько дней, и в первые дни декабря 1825 года в Михайловское и Тригорское дошли слухи, что 19 ноября в Таганроге скончался император Александр I. Сообщение это получено было в Петербурге во время молебна в Зимнем дворце о его выздоровлении.
Пушкин, предрекавший в своем стихотворении близкую смерть тирана, сразу же написал П. А. Плетневу: «Душа, я пророк, ей-богу пророк!
Я «Андрея Шенье» велю напечатать церковными буквами во имя отца и сына etc».
Новое царствование началось 14 декабря 1825 года кровавой расправой с восставшими против самодержавия и крепостничества декабристами.
* * *
Кто же были эти люди, возглавившие в мрачную эпоху самодержавия первое революционное движение против царизма и выступившие 14 декабря 1825 года с развернутыми боевыми знаменами на Сенатскую площадь?
«...Лучшие люди из дворян помогли разбудить народ», - отвечает на этот вопрос В. И. Ленин.
«...Фаланга героев, выкормленных, как Ромул и Рем, молоком дикого зверя... Это какие-то богатыри, кованные из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники...» - писал о декабристах А. И. Герцен.
Как возникли у этих «лучших людей из дворян» смелые, звавшие на подвиг, революционные мысли? Что питало их? Свободолюбивые стремления? Кто был их певцом и вдохновителем?
Рассказывая в своем труде «Движение декабристов» о том, как родились и созрели в России тайные общества, академик М. В. Нечкина пишет: «Н и Пушкина нельзя понять без декабристов, ни декабристов без Пушкина...»
От ечественная война 1812 года всколыхнула народные массы. Для офицеров и солдат она явилась подлинной школой политического воспитания. На полях сражений офицеры воочию убеждались в героизме, стойкости, великой любви к родине, в готовности солдат жизнью пожертвовать во имя победы. В лютые морозы в окопах или под открытым небом офицеры нередко спали, укрывшись одной шинелью со своими солдатами, и это сроднило их.
В этой боевой обстановке оппозиционные настроения крепли. Солдаты, измученные войной, вернувшись на родину и видя старые порядки, стали роптать.
«Еще война длилась, когда ратники, возвратясь в домы, первые разнесли ропот в классе народа. Мы проливали кровь, - говорили они, - а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас опять тиранят господа».
Эти мысли владели с лицейских лет и Пушкиным. Они, очевидно, питали его вольнолюбивые мечты, вдохновили и на создание политической лирики.
Это сделало его певцом декабристов. В их штабе - в петербургском доме Муравьевых на Фонтанке - он «читал свои Ноэли». Декабристы любили Пушкина, восторженно встретили его «Вольность», «Деревню».
Этими антикрепостническими, вольнолюбивыми настроениями были проникнуты члены тайных обществ.
«Мы... имели слово, потрясающее сердца всех сословий в народе: свобода», - писал своим судьям декабрист, заключенный в Петропавловскую крепость, П. Г. Каховский. «Дух преобразования заставлял, так сказать, везде умы клокотать», - говорил руководитель Южного тайного общества П. И. Пестель.
Характеризуя настроения русского общества и дух того времени. А. И. Гериен писал:
«Не велик промежуток между 1810 и 1820 годами, но между ними находится 1812 год. Нравы те же, тени те же; помещики, возвратившиеся из своих деревень в сожженную столицу, те же. Но что-то изменилось. Пронеслась мысль, и то, чего она коснулась своим дыханием, стало уже не тем, чем было».
И Пестель писал: «...Породилась мысль, что революция, видно, не так дурна, как говорят...»
Такова была обстановка в России, сложившаяся после Отечественной войны 1812 года.
Все эти годы тайные общества готовились к свержению самодержавия и крепостничества. Смерть Александра I привела эти силы в движение, она ускорила подготовку восстания.
Пушкин многократно стремился войти в среду декабристов. Так было в Каменке, когда он оказался в 1820 году в их кругу. Из слов посетившего его в михайловской ссылке И. И. Пущина он узнал, что тайное общество действительно существует. С. Г. Волконскому уже поручено было принять Пушкина в члены общества. Но друзья знали его возбудимость, знали, что он может каким-нибудь неосторожным словом повредить делу, и, главное, стремились уберечь, спасти, в случае неудачи, своего поэта.
* * *
Что происходило накануне восстания в Михайловском, в Зимнем дворце и в штабе декабристов - у К. Ф. Рылеева, рядом с Дворцовой площадью, в большом сером доме у Синего моста?
Первые известия о событиях в Петербурге привез в Тригорское повар Осиповой, ездивший в столицу за продуктами. Он рассказал в присутствии Пушкина о волнениях в Петербурге и о том, что насилу выбрался из города.
Пушкин сразу же замыслил самовольный отъезд в Петербург. От имени Осиповой он составил «билет» на проезд в Петербург крепостного Алексея Хохлова и садовника Алексея Кирилловича Курочкина и под именем Хохлова выехал в начале декабря из Михайловского. Но не успел отъехать, как случайно вынужден был вернуться.
Эта случайность спасла Пушкина... Иначе он попал бы к Рылееву в самый разгар событий, в разгар подготовки декабристов к восстанию.
Можно представить себе, как томился Пушкин в полной отрешенности от Петербурга и друзей! Он вел обычно обширную переписку с друзьями, а с первых дней декабря 1825 года и до конца января 1826 года не написал никому ни одного письма и от друзей получил всего три.
Лишь в двадцатых числах января 1826 года Пушкин написал П. А. Плетневу первое после восстания письмо, в котором удивлялся, почему все перестали ему писать - ведь он еще не в Нерчинске...
* * *
В штабе декабристов проходила в те дни напряженная работа. В течение двух недель члены тайного общества собирались у Рылеева для обсуждения и выработки плана действий.
План переворота был выработан на собраниях декабристов довольно подробно, но в нем отсутствовала самая главная и самая действенная сила всякой революции - народ.
Это не сулило успеха...
Подвиг декабристов был величайшим патриотическим подвигом, вызывающим, как отметил В. И. Ленин, нашу законную гордость и восхищение.
Этот подвиг имел огромное агитационное значение и призывал к действию все последующие поколения русских революционеров.
Давая оценку движению декабристов, В. И. Ленин писал:
«Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию.
Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной воли». Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. «Молодые штурманы будущей бури» - звал их Герцен. Но это не была еще сама буря.
Буря, это - движение самих масс. Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой революционной борьбе миллионы крестьян. Первый натиск бури был в 1905 году...»
* * *
В Зимнем дворце шла напряженная борьба за престол. Императором после смерти Александра I должен был стать его брат Константин, но он был женат на особе не царской крови, что, по закону о престолонаследии, лишало его права стать царем. Занимая должность главнокомандующего польской армией, он фактически был наместником царя в Польше, жил в Варшаве и давно отрекся от престола.
Отречение Константина держалось в глубокой тайне, о нем знал лишь очень ограниченный круг придворных.
Николай решил при таких условиях не считаться с формальностями. 12 декабря, вечером, он приказал изготовить манифест о своем восшествии на престол. 13 декабря, утром, подписал манифест и приказал Сенату 14 декабря, в семь часов утра, присягнуть ему, новому императору Николаю I...
* * *
Наступило новое царствование. Первый день его вызвал ужас и смятение...
Возглавившие восстание поднялись в тот день рано. Многие совсем не ложились. Начальник штаба восстания, старший адъютант командующего гвардейской пехотой поручик князь Е. П. Оболенский, начал еще затемно объезжать казармы. Декабристы готовились уже выводить войска на Сенатскую площадь.
Солдаты зарядили боевыми патронами ружья. Под сенью овеянных славою 1812 года знамен вышли первыми на Сенатскую площадь восемьсот человек Московского полка. Во главе их шел Александр Бестужев (Марлинский), уже известный тогда писатель, рядом с ним - его брат Михаил и Щепин-Ростовский.
Прибывшие выстроились у подножия памятника Петру I в каре - боевым четырехугольником, - что давало возможность отражать нападение со всех четырех сторон.
Было не очень холодно, около восьми градусов мороза, но с моря дул ледяной ветер. Стоять было нелегко. И все же настроение у всех было бодрое. На глазах у построившихся Александр Бестужев точил свою саблю о гранит петровского памятника...
Между тем Рылеев был озабочен. Уже на рассвете он получил одно за другим два тяжелых известия. Надламывались основные звенья намеченного декабристами плана восстания.
Позже выяснилось, что выбранный диктатором Трубецкой вовсе не явился на Сенатскую площадь и оставил восставших на произвол судьбы.
В этом сказался ограниченный характер дворянской революционности.
Николай I со своими приближенными находился на площади перед Зимним дворцом. Сенатская площадь, которую заняли восставшие, была рядом, в десяти минутах ходьбы. Можно было видеть друг друга невооруженным глазом.
Трудно сказать, как велико было тогда скопление народа на площадях и улицах Петербурга, - современники говорили об огромных людских массах, о десятках тысяч человек. В толпе преобладали цеховые, дворовые, крестьяне, разночинцы, составлявшие в то время, согласно официальной статистике, большинство населения столицы.
Многие из собравшихся в тот день у Сенатской площади были явно на стороне декабристов и открыто это выражали. В Николая I и его свиту, в действовавших по его приказу генералов и офицеров из толпы полетели поленья и камни, люди вооружались кольями, палками, кое-кто и ружьями и ножами.
- Мы вам весь Петербург в полчаса вверх дном перевернем!.. - раздавались голоса из толпы.
Но дворянские революционеры боялись активности народных масс и не использовали их. «Страшно далекие от народа», они боялись народа.
Боялись, что, соединившись с солдатами, «чернь» перехлестнет через их головы и перейдет к открытому восстанию и бунту.
Между тем на площади стояли три тысячи солдат - три тысячи человек, которые, оставив казармы, сожгли за собою все корабли и готовы были идти на все.
Так проходил час за часом, и Николай I, воспользовавшись бездействием восставших, успел собрать и выставить против них 9000 штыков пехоты и 3000 сабель кавалерии, не считая вызванных позже артиллеристов и 10 000 человек, стоявших на заставе в резерве.
В это время стало темнеть, восставшие были голодны и устали от вынужденного пятичасового бездействия.
Декабристы поняли, что дело их проиграно.
Рылеев обнял Николая Бестужева, приветствовал его «первым целованием свободы», отвел в сторону и попрощался с ним.
- Предсказание наше сбывается, последние минуты наши близки, но это минуты нашей свободы! Мы дышали ею, и я охотно отдаю за них жизнь свою, - сказал он.
Воспользовавшись этой заминкой, Николай I перехватил инициативу и прибегнул к пушкам. За первым выстрелом последовал второй, третий. Ряды восставших дрогнули, и солдаты бросились врассыпную в разные стороны, стараясь скрыться в прилегавших к площади улицах и на Английской набережной. Кровь залила выпавший снег...
В те же дни на юге произошло возглавленное П. И. Пестелем и С. И, Муравьевым-Апостолом восстание Черниговского полка, Южного тайного общества. Там ничего не знали о событиях в Петербурге. Лишь позднее выяснилось, что Александр I, получив накануне смерти донос Майбороды и донесение Бошняка о готовящемся восстании, дал приказ арестовать указанных в доносе офицеров.
Всех привлеченных прямо или косвенно по делу о тайных обществах, событиях 14 декабря и восстания в Черниговском полку насчитывалось более 3000 человек, из них свыше 500 офицеров и 2500 солдат. И все они вошли в историю под именем декабристов.
Восстание было подавлено. На престол вступил император Николай I.
* * *
1. Кондратий Федорович Рылеев. Миниатюра 1826 года.
Собрание у К. Ф. Рылеева накануне восстания 14 декабря 1825 года. С рисунка Д. Кардовского.
2. Павел Иванович Пестель. С портрета, принадлежавшего отцу декабриста.
Восстание 14 декабря 1825 года на Сенатской площади в Петербурге. С акварели Кольмана.
3. Сергей Иванович Муравьев-Апостол.Акварель Н. Уткина.
А. С Пушкин читает М. Н. Волконской послание декабристам «Во глубине сибирских руд...». С картины В. Дрезниной.
4. Михаил Иванович Бестужев-Рюмин.Зарисовка В. Адлерберга.
Список первых строк послания А. С. Пушкина декабристам. Принадлежал декабристу В. Ф. Раевскому.
5. Петр Григорьевич Каховский. Миниатюра начала XIX века.
Рисунки А. С. Пушкина на черновой рукописи V главы «Евгения Онегина».
В ночь на 15 декабря в Зимний дворец начали доставлять арестованных декабристов. Их направляли на дворцовую гауптвахту, обезоруживали и вели к царю. После первого допроса царь отсылал арестованных в здание Генерального штаба, где для них отведены были особые комнаты, или в Петропавловскую крепость, комендантом которой был черствый и раболепный генерал-адъютант Сукин. С декабристами обращались грубо и цинично.
Первый допрос арестованных производился во внутренних царских покоях. Минуя Эрмитаж, декабристов вели из гауптвахты в просторную, ярко освещенную переднюю, через которую беспрестанно приходили и уходили генералы и флигель-адъютанты.
Рядом, в большом зале, под портретом папы Климента IX, стоял стол, за которым сидел генерал-адъютант Левашев. Он задавал вопросы и записывал ответы.
От времени до времени дверь из соседней комнаты открывалась, и на пороге появлялся Николай I. Он грозно оглядывал арестованного, прерывал Левашева и сам начинал допрос. Левашев записывал.
Многих арестованных Николай знал лично, с другими знакомился при допросе. И с каждым разговаривал по-разному. Царь был до крайности подозрителен, всего боялся, всюду ему мерещились заговоры, он был настроен злобно и мстительно. Вникая во все подробности, царь пытался до конца распутать сложный клубок восстания. В зависимости от поведения арестованного, он действовал то лаской, то угрозой.
Свои выводы в отношении каждого декабриста Николай делал уже после первого допроса. Они часто находили отражение в записках, которые царь писал на клочках бумаги и отсылал вместе с арестованными коменданту Петропавловской крепости Сукину.
Всего было написано Николаем во время следствия около ста пятидесяти записок. Они выдают натуру мстительную и жестокую, между строк уже можно было прочесть царскую месть за участие в восстании и за смелое, решительное и непримиримое поведение во время допросов...
В своем поединке с декабристами Николай выступил и тюремщиком, и следователем, и судьей...
Суду преданы были 121 человек - генералов и офицеров. Среди них много бесстрашных героев, закаленных в боях с Наполеоном, героев Аустерлица, Прейсиш-Эйлау, Бородина, Кульма, Лейпцига. Все они беззаветно любили родину и хотели видеть ее счастливой. Это были в большинстве своем люди молодые. Многим из них не было еще и двадцати лет, когда они вступили в тайное общество. «Дети 1812 года» - генералы, полковники, капитаны, поручики, прапорщики блестящих гвардейских полков, - они всем сердцем своим стремились к свержению самодержавия, к освобождению русского народа от позорного ига крепостничества.
* * *
5 января 1826 года в официальной печати появилось сообщение об образовании следственной Комиссии для расследования «ужасного заговора» 14 декабря 1825 года, а в газете «Русский инвалид» - того же 5 января - объявление: «Стихотворения Александра Пушкина. 1826. Собрание прелестных безделок, одна другой милее, одна другой очаровательнее. Продается в магазине И. В. Слёнина у Казанского моста, цена 10 р., с пересылкою 11 р.».
«Прелестными безделками» названы были такие произведения Пушкина, как «Андрей Шенье», «К Овидию», «Песнь о вещем Олеге», «Вакхическая песня», «Лицинию», «Чаадаеву», «Муза», «Наполеон», «К морю», «Черная шаль» и другие.
В этом сборнике помещены были элегии, разные стихотворения, эпиграммы, подражания древним, послания, подражания Корану. Всего 99 произведений на 192 страницах. Сборник вышел тиражом в 1200 экземпляров.
Это было первое издание стихотворений Пушкина. С большинством из них читатели познакомились впервые. До этого печатались: поэма «Руслан и Людмила» - в 1820 году, «Кавказский пленник» - в 1822 году, «Бахчисарайский фонтан» - в 1824 году и первая глава «Евгения Онегина» - в 1825 году. Стихотворения же поэта распространялись в многочисленных списках, и выход сборника стал подлинным праздником для любителей книги.
* * *
До Пушкина доходили лишь отрывочные известия о декабрьских событиях, и, не получая ни от кого писем с начала декабря 1825 года до конца января, он написал Дельвигу: «Что делается у вас в Петербурге? Я ничего не знаю». И в новом письме, в начале февраля: «Насилу ты мне написал и то без толку, душа моя. Вообрази, что я в глуши ровно ничего не знаю, переписка моя отовсюду прекратилась, а ты пишешь мне, как будто вчера мы целый день были вместе и наговорились досыта...»
«Я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков», - писал Пушкин П. А. Вяземскому. И с нетерпением ожидал решения участи своих друзей.
«Мне сказывали, - пишет он снова Дельвигу 20 февраля 1826 года, - что 20, т. е. сегодня, участь их должна решиться - сердце не на месте...» «Меры правительства доказали его решимость и могущество...», и оно «может пренебречь ожесточение некоторых обличенных...».
Так мало был осведомлен Пушкин о ходе событий и тем больше волновался о судьбе своих друзей...
* * *
И. И. Пущин. С литографии неизвестного художника.
В. К. Кюхельбекер. С гравюры И. Матюшина.
Казнь декабристов. С рисунка Д. Кардовского.
Трудно еще было предсказать, какая кара постигнет восставших.
Маршалы Англии и Франции, Веллингтон и Мортье, прибывшие в Петербург поздравить Николая I с восшествием на престол, просили царя пощадить и помиловать декабристов. Их страны прошли через ряд восстаний и революций, и они хорошо знали, чем вызываются мятежи.
Император Николай I ответил Веллингтону:
- Я удивлю Европу своим милосердием...
В Петербурге между тем заканчивалось следствие по делу декабристов. Стремясь окончательно подавить вольнолюбивые настроения, Николай преобразовал Особую канцелярию при министерстве внутренних дел в III отделение собственной его величества канцелярии, а генерал-адъютанта Бенкендорфа назначили шефом жандармов и командующим императорскою Главною квартирою.
15 июля в «Русском инвалиде» был опубликован манифест от 13 июля по поводу окончания Верховным уголовным судом дела о восставших. В манифесте было сказано, что «преступники восприняли достойную их казнь».
В конце июля приговор Верховного суда над декабристами стал известен в Михайловском и Тригорском.
Пять человек, которых Пушкин близко знал, были повешены: К. Ф. Рылеев, П. И. Пестель, С. И. Муравьев-Апостол, М. П. БестужевРюмин и П. Г. Каховский.
Тридцать один человек были осуждены по первому разряду к смертной казни отсечением головы, впоследствии замененной вечной каторгой. С одиннадцатью из них Пушкин был знаком.
П. А. Осипова как-то показала Пушкину поразившую его запись, сделанную в Тригорском в черном сафьяновом альбоме рукою казненного С. И. Муравьева-Апостола. После первой записи, сделанной Осиповой, Муравьев-Апостол написал по-французски: «Я тоже не боюсь и не желаю смерти. Когда она явится, она найдет меня совершенно готовым. 16 мая 1816 года».
Запись эта была сделана еще тогда, когда только начали образовываться тайные общества. Сердцем, быть может, чувствовал Сергей МуравьевАпостол, что гибель его предрешена, и через десять лет он мужественно пошел ей навстречу...
В тот день, когда в Михайловское пришло известие о казни пяти декабристов, Пушкин занес в дневник короткую зашифрованную запись: «Уел. О С. Р. П. М. К. Б. 24».
Запись эта расшифровывается так: «Услышал о смерти Рылеева, Пестеля, Муравьева, Каховского, Бестужева 24 июля 1826 года».
«Повешенные повешены; но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна», - написал Пушкин 14 августа П. А. Вяземскому.
Мысли о казненных не покидают Пушкина. Он писал тогда в Михайловском пятую главу «Евгения Онегина», и на рукописи ее появляются портреты и рисунок виселицы с пятью повешенными и надпись: «И я бы мог как...»
* * *
Пушкин все же не терял надежды вырваться наконец из неволи. Через месяц после восстания он писал П. А. Плетневу: «Кстати: не может ли /Чуковский узнать, могу ли я надеяться на высочайшее снисхождение, я шесть лет нахожусь в опале, а что ни говори - мне всего 26. Покойный император в 1824 году сослал меня в деревню за две строчки нерелигиозные - других художеств за собою не знаю. Ужели молодой наш царь не позволит удалиться куда-нибудь, где бы потеплее? - если уж никак нельзя мне показаться в Петербурге - а?
Прости, душа, скучно мочи нет».
Тогда же, в двадцатых числах января 1826 года, Пушкин обращается к Жуковскому. Он пишет, что его легко уличить в политических разговорах с каким-нибудь из обвиняемых, - а между ними друзей его довольно, но если правительство захочет прекратить опалу, он готов с ним уславливаться (буде условия необходимы). Однако добавляет: «Вам решительно говорю не отвечать и не ручаться за меня. Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мною правительства etc».
И заканчивает: «Прежде, чем сожжешь это письмо, покажи его Карамвину и посоветуйся с ним. Кажется, можно сказать царю: Ваше величество, если Пушкин не замешан, то нельзя ли, наконец, позволить ему возвратиться?»
И 7 марта снова обращается к Жуковскому: «Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости».
Жуковский ответил Пушкину: «Ты ни в чем не замешан - это правда. Но в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством... не просись в Петербург. Еще не время. Пиши Годунова и подобное: они отворят дверь свободы».
Жуковский был воспитателем наследника престола, жил в Зимнем дворце и, конечно, имел основания советовать Пушкину пока «не проситься в Петербург».
* * *
После объявления приговора тайный агент доносил управляющему III отделением фон Фоку, ведавшему всем аппаратом тайной полиции и политическим сыском: «Все чрезвычайно удивлены, что знаменитый Пушкин, который всегда был известен своим образом мыслей, не привлечен к делу заговорщиков».
Фон Фок поспешил направить в Михайловское агента Бошняка вместе с фельдъегерем с заданием произвести «возможно тайное и обстоятельное исследование поведения известного стихотворца Пушкина, подозреваемого в поступках, клонящихся к возбуждению и вольности крестьян», арестовать его и отправить «куда следует, буде он оказался действительно виновным». Бошняку был выдан открытый лист на право ареста Пушкина.
Бошняк, выдавая себя за ученого-ботаника, пять дней усердно занимался сыском, опрашивал кого мог о поведении Пушкина и всюду получал самые добрые отзывы о нем: скромен и осторожен, о правительстве не говорит, никаких возмутительных песен не сочинял. «Он ни во что не мешается и живет, как красная девка», - подтвердил игумен Святогорского монастыря Иона.
Открытым листом на арест Пушкина Бошняку не пришлось воспользоваться...
* * *
Музей А. С. Пушкина в Михайловском. Фотография.
После смерти Александра I и воцарения Николая I, после разгрома декабристов, после отъезда из Михайловского приехавшего арестовать его агента тайной полиции и политического сыска Бошняка Пушкин задумывается над взаимоотношениями своими с правительством.
Он не намерен больше «безумно противоречить общепринятому порядку» и в начале июня 1826 года обращается к Николаю с личным письмом. Он пишет:
«В 1824 году, имев несчастие заслужить гнев покойного императора легкомысленным суждением касательно афеизма, изложенным в одном письме, я был выключен из службы и сослан в деревню, где и нахожусь под надзором губернского начальства.
Ныне с надеждой на великодушие Вашего императорского величества... решился я прибегнуть к Вашему императорскому величеству со всеподданнейшею просьбою.
Здоровье мое, расстроенное в первой молодости, и род аневризма давно уже требуют постоянного лечения, в чем и представляю свидетельство медиков: осмеливаюсь всеподданнейше просить позволения ехать для сего или в Москву, или в Петербург, или в чужие края».
К письму Пушкин приложил обязательство ни к каким тайным обществам не принадлежать и добавил, что к ним и не принадлежал.
В письме Пушкина не было обычного в обращении к монарху верноподданнического тона, и Вяземский обратил на это внимание.
Пушкин ответил ему 14 августа: «Ты находишь письмо мое холодным и сухим. Иначе и быть невозможно. Благо написано. Теперь у меня перо не повернулось бы».
И вот пришел ответ: в ночь на 3 сентября нарочный привез в Михайловское распоряжение псковского губернатора Адеркаса о немедленном выезде поэта в Москву. В бумаге было написано, со слов царя: «Пушкин может ехать в своем экипаже свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря; по прибытии в Москву имеет явиться прямо к дежурному генералу его величества».
Пушкин сидел в это время перед печкою, подбрасывая дрова, грелся. Встревоженный приездом нарочного, он начал бросать в печь разные бумаги, как это сделал в средине декабря 1823 года, когда, осведомившись о восстании декабристов в Петербурге, сжег большую часть своих автобиографических записок, которые, попав в руки правительства, могли «замешать многих, и может быть, и умножить число жертв...».
Няня Арина Родионовна разволновалась, заплакала навзрыд. Пушкин ее утешал: «Не плачь, мама, сыты будем; царь хоть куды ни пошлет, а все хлеба даст...»
Нарочный между тем торопил. Пушкин успел только взять деньги и уже через полчаса выехал. Он был неспокоен: соседство фельдъегеря не предвещало ничего хорошего. В Пскове Пушкин ознакомился с письмом начальника Главного штаба И. И. Дибича, который по приказу Николая I вызвал поэта из Михайловского в Москву. Оно было очень любезное по тону, внушало надежды, и поэт повеселел, начал даже шутить.
В Пскове, пока перепрягали лошадей, Пушкин попросил закусить. Подали щей. Хлебнув ложку-другую и обнаружив в них таракана, он, как ходила молва, нацарапал перстнем на стекле:
Господин фон Адеркас!
Худо кормите вы нас:
Вы такой же ресторатор,
Как великий губернатор!
Фельдъегерская тройка подкатила к крыльцу. Пушкин сел в нее, фельдъегерь рядом...
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
МОСКВА
1826-1827
«Москва, я думал о тебе!..»
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!
А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»
Пушкин въезжал в Москву бодрящим осенним утром. Промелькнул, «окружен своей дубравой», Петровский замок, «свидетель падшей славы» Наполеона. Промелькнула Тверская застава - граница города пролегала тогда у нынешнего Белорусского вокзала. Возок пронесся по Тверской, по нынешней Пушкинской площади, где стоял тогда Страстной монастырь со стаями галок на крестах.
Воспоминания далекого московского детства и радость возвращения в «края родные» охватили поэта - он взволнованно излил эти чувства в седьмой главе «Евгения Онегина»:
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!..
Москве Пушкин обрадовался. Но, как и вся Россия, находился под тяжелым впечатлением только что совершившейся казни пяти и сурового приговора 120 его «друзьям, братьям, товарищам».
Николай I приехал в древнюю Москву короноваться. И живший в то время в Ревеле П. А. Вяземский писал жене: «Хорош прелюд для ваших московских торжеств и празднеств! Совершенно во вкусе древних, которые также начинали свои празднества жертвами и излияниями крови ближнего».
И через несколько дней в новом письме: «Для меня Россия теперь опоганена, окровавлена; мне в ней душно нестерпимо... Я не могу, не хочу жить спокойно на Лобном месте, на сцене казни! Сколько жертв и какая железная рука пала на них!.. Мысль возвратиться в торжествующую Москву, когда кровь несчастных жертв еще дымится, когда тысячи глаз будут проливать кровавые слезы, эта мысль меня пугает и душит».
И в эту Москву Пушкин вынужден был прибыть тогда по вызову царя... Юный Герцен, бывший свидетелем коронационных празднеств, писал спустя тридцать лет: «Победу Николая над пятью торжествовали в Москве молебствием. Середь Кремля митрополит Филарет благодарил бога за убийства... Никогда виселицы не имели такого торжества; Николай понял важность победы. Мальчиком четырнадцати лет, потерянным в толпе, я был на этом молебствии, и тут, перед алтарем, оскверненным кровавой молитвой, я клялся отомстить казненных и обрекал себя на борьбу с этим троном, с этим алтарем, с этими пушками...»
«Первые годы, следовавшие за 1825-м, были ужасающие», - писал Герцен. И не было ничего удивительного в том, что коронационные торжества не вызвали энтузиазма населения. В присутствии императрицы и всей царской семьи в Кремле был отслужен торжественный молебен по случаю «избавления от крамолы, угрожавшей бедствием всему Российскому государству», как значилось в царском манифесте.
* * *
Автограф строфы о Москве из «Евгения Онегина» с рисунком А. С. Пушкина.
Триумфальные ворота в Москве в XIX веке. С литографии П. Бенуа.
Будучи еще великим князем, Николай I услышал из уст брата, императора Александра I, оценку Пушкина: «Прочел ли ты «Руслана и Людмилу»? Автор служит по Коллегии иностранных дел, - это бездельник, одаренный крупным талантом».
Вступив на престол и расправившись с декабристами, Николай I дал клятву: «Революция на пороге России. Клянусь, она не проникнет к нам, пока я сохраню дыхание жизни».
Николай I счел себя вынужденным пойти на примирение с мятежным поэтом. Бенкендорф дал при этом царю совет:
- Пушкин все-таки порядочный шалопай, но, если удастся направить его перо и речи, в этом будет прямая выгода.
Николай I внял совету шефа жандармов. Обладая способностью перевоплощаться в добродетель, он блестяще воспользовался этим при допросе декабристов: кое-кого из осужденных сумел обмануть, вызвал доверие к себе, затем вероломно злоупотребил их доверием. И к встрече с Пушкиным царь тщательно подготовился.
Положение Пушкина было трудное. И тем не менее, направляясь на встречу с царем, он принял твердое решение: при всех условиях сохранить свое достоинство и независимость. Он уже знал свое место в жизни России.
«Имя твое сделалось народной собственностью», - писал ему Вяземский в сентябре 1825 года.
«У тебя в руке резец Праксителя» (знаменитого ваятеля древней Эллады. - А. Г.), - заметил Александр Бестужев, познакомившись с первой главой «Евгения Онегина».
«Парнасским чудотворцем и чародеем» называл Пушкина Рылеев.
* * *
Пушкин пытался представить себе эту встречу на манер диалога с покойным императором в «Воображаемом разговоре с Александром I». Теперь ему предстояло встретиться с Николаем I после его жестокой расправы с декабристами, встретиться лицом к лицу с «убийцей гнусным».
Въезжая 8 сентября утром 1826 года в Москву, Пушкин имел при себе написанное в пути стихотворение «Пророк» - первое из намеченных Пушкиным четырех стихотворений, посвященных событиям 14 декабря. До нас дошло лишь только это одно.
Пушкин связал взятый из Библии отрывок с самыми жгучими событиями и настроениями передовой России в дни после восстания и казни декабристов. В «Пророке» он выразил собственное душевное состояние, подчеркнув высокое гражданское предназначение поэта-пророка. Сам Пушкин выступил в нем в образе пророка и защитника декабристов.
Стихотворение начиналось первоначально стихом «Великой скорбию томим», но затем Пушкин изменил его:
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился;
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой,
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал...
Дальше шли стихи, которые приводятся здесь в условной передаче некоторых мемуаристов, отражающие смысл, а не дословный текст стихотворения:
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, восстань, пророк России,
В позорны ризы облекись,
Иди и с вервием вкруг шеи
К убийце гнусному явись».
«Пророком России» входил поэт в кабинет царя. Обстоятельства сложились, однако же, так, что после встречи с царем Пушкин придал стихотворению иное окончание:
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».
* * *
Пушкина доставили в Кремль прямо с дороги, небритого, покрытого дорожной пылью. В большом кабинете Чудова дворца встретились поэт и царь. о
Было холодно. Поэт говорил с царем, стоя спиной к камину. Обогревая замерзшие ноги, он незаметно для себя прислонился к столу и почти сел на него. Николай I недовольно отвернулся и потом говорил: «С поэтом нельзя быть милостивым!»
Аудиенция длилась более двух часов. Пушкин держал себя с царем смело. В передаче современницы поэта, со слов самого Пушкина, Николай I спросил его:
- Пушкин, принял ли бы ты участие в 14 декабря, если 6 был в Петербурге?
- Непременно, государь, все друзья мои были в заговоре, и я не мог бы не участвовать в нем. Одно лишь отсутствие спасло меня... - ответил Пушкин.
- Довольно ты подурачился, - возразил император, - надеюсь, теперь будешь рассудителен, и мы более ссориться не будем. Ты будешь присылать ко мне все, что сочинишь; отныне я сам буду твоим цензором.
Вернувшись в Михайловское, Пушкин написал 9 ноября 1826 года Н. М. Языкову: «Царь освободил меня от цензуры. Он сам мой цензор. Выгода, конечно, необъятная. Таким образом, «Годунова» тиснем».
Увы, «Годунова» царь разрешил тиснуть лишь через пять лет. Царская цензура оказалась для поэта новым тягчайшим ярмом. Из рук самодержца Пушкин получил лишь полусвободу.
О своей встрече с царем он мог бы самому себе сказать словами шедшего на казнь поэта Шенье:
Гордись и радуйся, поэт:
Ты не поник главой послушной
Перед позором наших лет;
Ты презрел мощного злодея;
Твой светоч, грозно пламенея,
Жестоким светом озарил
Совет правителей бесславных;
Твой бич настигнул их, казнил
Сих палачей самодержавных;
Твой стих свистал по их главам...
* * *
Москва. Моховая улица. Справа дом с колоннами - Благородное собрание в XIX веке. (Теперь Дом Союзов.) С литографии Гуздона.
Москва восторженно встретила прославленного поэта. «Завидую Москве, - писал В. В. Измайлов. - Она короновала императора, теперь коронует поэта... Извините - я забываюсь. Пушкин достоин триумфов Петрарки и Тасса; но москвитяне - не римляне и Кремль не Капитолий...»
Измайлов сравнивал Пушкина с Петраркой, жившем в XIV веке, непревзойденным поэтом мировой лирики, и Тассом, поэтом, которого друзья собирались торжественно украсить в римском Капитолии лавровым венком...
После встречи с царем Пушкин заехал в гостиницу «Европа» на Тверской и сразу же направился к дяде Василию Львовичу, жившему на Старой Басманной, 36. В соседнем доме у французского посла, маршала Мармона, герцога Рагузского, в это время был бал. Присутствовавший на балу Николай I сказал, подозвав к себе Блудова:
- Знаете, что я нынче долго говорил с умнейшим человеком в России.
И назвал имя Пушкина...
Весть о прибытии в Москву Пушкина сразу распространилась среди гостей.
* * *
Страстная площадь (ныне площадь Пушкина) в Москве. С литографии XIX в.
Домик Лариных в Большом Харитоньевском переулке С акварели Б. Земенкова.
12 сентября 1826 года Пушкин впервые посетил Большой театр. Шла пьеса А. А. Шаховского «Аристофан» с участием М. С. Щепкина.
«Когда Пушкин... вошел в партер Большого театра, - рассказывали современники, - мгновенно пронесся по всему театру говор, повторявший его имя: все взоры, все внимание обратились на него...». «Имя его повторялось в каком-то общем гуле; все лица, все бинокли обращены были на одного человека, стоявшего между рядами и окруженного густою толпою».
16 сентября поэт посетил народное гулянье на Девичьем Поле, у Новодевичьего монастыря. На «царское угощение» собралось двести тысяч человек. Играло двадцать оркестров.
Пушкин писал П. А. Осиповой в Тригорское: «Сегодня... у нас большой народный праздник; версты на три расставлено столов на Девичьем Поле; пироги заготовлены саженями, как дрова; так как пироги эти испечены уже несколько недель назад, то будет трудно их съесть и переварить их, но у почтенной публики будут фонтаны вина, чтобы их смочить; вот - злоба дня...»
Люди, конечно, отдали дань «саженями заготовленным» пирогам, смачивая их «фонтанами вина». Между тем в разгар праздника лопнул запущенный в небо воздушный шар, началась давка, и обер-полицмейстер Шульгин пустил в ход нагайки...
На народном гулянье в Новинском с Пушкиным встретилась талантливая поэтесса той поры Е. П. Ростопчина, находившаяся в дружеских отношениях с Жуковским, Вяземским, Одоевским, Плетневым. В стихотворении «Две встречи» она описывала, как встретил Пушкина народ и какое впечатление сам он произвел на нее:
Вдруг все стеснилось, и с волненьем,
Одним стремительным движеньем
Толпа рванулася вперед...
И мне сказали: «он идет!
Он, наш поэт, он, наша слава,
Любимец общий!» Величавый
В своей особе небольшой,
Но смелый, ловкий и живой,
Прошел он быстро предо мной.
И глубоко в воображенье
Запечатлелось выраженье
Его высокого чела...
Им мысль моя была полна,
И долго, долго в грезах сна
Арабский профиль рисовался...
* * *
Пушкин привез с собою в Москву «Бориса Годунова». Он много раз читал эту трагедию у друзей - Соболевского, Вяземского, Баратынского, у себя в гостинице.
12 октября Пушкин читал ее у поэта Д. В. Веневитинова, в доме по Кривоколенному переулку. На фасаде его висит сегодня мемориальная доска с надписью: «Здесь у поэта Веневитинова А. С. Пушкин в 1826 году читал трагедию «Борис Годунов».
Почти сорок лет спустя Погодин записал свои воспоминания об этом чтении: «Какое действие произвело на всех нас это чтение, - передать невозможно. Мы собрались слушать Пушкина, воспитанные на стихах Ломоносова, Державина, Хераскова, Озерова, которых все мы знали наизусть. Учителем нашим был Мерзляков (критик, поэт, занимавший в Московском университете кафедру красноречия, сторонник классицизма. - А. Г.).
Надо припомнить и образ чтения стихов, господствовавший в то время. Это был распев, завещанный французской декламацией. Наконец, надо себе представить самую фигуру Пушкина. Ожиданный нами величавый жрец высокого искусства - это был среднего роста, почти низенький человечек, вертлявый, с длинными, несколько курчавыми по концам волосами, без всяких притязаний, с живыми, быстрыми глазами, с тихим, приятным голосом, в черном сюртуке, в черном жилете, застегнутом наглухо, небрежно повязанном галстухе. Вместо высокопарного языка богов мы услышали простую, ясную, обыкновенную, и, между тем, - поэтическую, увлекательную речь!
Первые явления выслушали тихо и спокойно или, лучше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем ощущения усиливались. Сцена летописателя с Григорием всех ошеломила... А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллова монастыря Иоанном Грозным, о молитве иноков, - «да ниспошлет господь покой его душе, страдающей и бурной», - мы просто все как будто обеспамятели. Кого бросало в жар, кого в озноб. Волосы поднимались дыбом. Не стало сил воздерживаться. Кто вдруг вскочит с места, кто вскрикнет. То молчание, то взрыв восклицаний, например, при стихах самозванца: «Тень Грозного меня усыновила».
Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга долго, и потом бросились к Пушкину. Начались объятия, поднялся шум, раздался смех, полились слезы, поздравления. Эван, эвое, дайте чаши!.. Явилось шампанское, и Пушкин одушевился, видя такое свое действие на избранную молодежь. Ему приятно было наше волнение.
Он начал сам, поддавая жару, читать песни о Стеньке Разине, как он выплывал ночью на Волге на востроносой своей лодке, предисловие к «Руслану и Аюдмиле» - «У лукоморья дуб зеленый»... Потом Пушкин начал рассказывать о плане Дмитрия Самозванца, о палаче, который шутит с чернью, стоя у плахи на Красной площади в ожидании Шуйского, о Марине Мнишек с самозванцем, сцену, которую написал он, гуляя верхом, и потом позабыл вполовину, о чем глубоко сожалел.
О, какое удивительное то было утро, оставившее следы на всю жизнь. Не помню, как мы разошлись, как закончили день, как улеглись спать. Да едва кто и спал из нас в эту ночь. Так был потрясен весь наш организм».
12 октября 1926 года, через сто лет, в той самой квартире Веневитинова, где читал свою трагедию сам Пушкин, отрывки из «Бориса Годунова» читали: В. И. Ка чалов, А. Л. В ишневский, В. А. Станицын, В. П. Лужский и другие артисты Московского Художественного театра.
* * *
В Москве Пушкин знакомится с членами «Общества любомудров» беллетристом В. Ф. Одоевским, поэтом Д. В. Веневитиновым и другими. Как-то зашла речь о выпуске журнала в противовес «Сыну отечества», издававшемуся реакционными журналистами Ф. В. Булгариным и Н. И. Гречем. Идея пришлась по душе «Обществу», и редактором нового двухнедельного «Московского вестника» выбрали М. П. Погодина.
Пушкин согласился участвовать в журнале. Ему необходимо было получить литературную трибуну, а новому органу участие Пушкина создавало авторитет. Он помещал в «Московском вестнике» свои стихотворения, но чувствовал себя в нем одиноко, тем более что ближайшие его литературные друзья - Вяземский, Жуковский, Дельвиг, Плетнев - оставались в стороне и, подобно Пушкину, философскому направлению журнала не сочувствовали.
Любомудры, как они сами себя называли, увлекались идеалистической философией Шеллинга, созерцательно относясь к действительности. Пушкин придавал большое значение «положительным познаниям», успехам просвещения и передовым настроениям общественного мнения.
В первом номере «Московского вестника» была напечатана сцена из «Бориса Годунова» - «Ночь. Келья в Чудовом монастыре».
* * *
Большой театр в Москве. С литографии 30-х годов XIX века.
В шумной, суетной Москве поэту часто вспоминалось тихое Михайловское. Вспомнилась няня Арина Родионовна, плакавшая навзрыд, когда фельдъегерь увозил его из Михайловского в Москву. Представляя себе, как она озабочена, волнуется, Пушкин написал:
Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, будто на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.
Глядишь в забытые вороты
На черный отдаленный путь;
Тоска, предчувствия, заботы
Теснят твою всечасно грудь.
То чудится тебе . . . . . .
Все могло «чудиться» няне, все могло «чудиться» и Пушкину...
Потрясенный казнью пяти, жестокой расправой царя с восставшими, он все чаще и чаще обращается теперь в своих произведениях к памяти декабристов.
22 декабря 1826 года в доме В. П. Зубкова Пушкин написал стихотворение «Стансы». Питая все еще иллюзии насчет политических обещаний Николая I, Пушкин побуждает его следовать примеру своего пращура, Петра I.
В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни;
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.
Но правдой он привлек сердца,
Но нравы укротил наукой,
И был от буйного стрельца
Пред ним отличен Долгорукой.
Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.
Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.
Иллюзии эти дорого обошлись Пушкину - даже в близких поэту кругах их сочли изменой прежним убеждениям поэта.
Пушкин ответил на это позже новыми стансами - «Друзьям»:
Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.
. . . . . . . . . . . . .
Я льстец! Нет, братья: льстец лукав,
Он горе на царя накличет,
Он из его державных прав
Одну лишь милость ограничит.
Он скажет: презирай народ,
Глуши природы голос нежный.
Он скажет: просвещенья плод -
Разврат и некий дух мятежный.
Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.
Стихи эти Пушкин направил Николаю I. Бенкендорф сообщил поэту, что «его величество совершенно доволен» стихотворением, но положил на нем резолюцию: «Это можно распространять, но нельзя печатать».
Царь понял, что три последние четверостишия заключают в себе целую политическую программу: противопоставляя себя льстецам, Пушкин проповедует защиту народных прав и просвещения, свободное выражение мнения...
В первую годовщину казни декабристов, стремясь выразить свое сочувствие, преданность и верность делу декабристов, Пушкин создает стихотворение «Арион». В основу его он положил миф о спасении дельфином греческого поэта и музыканта Ариона, прикрыв таким образом политический смысл стихотворения:
Нас было много на челне;
Иные парус напрягали,
Другие дружно упирали
В глубь мощны весла. В тишине
На руль склонясь, наш кормщик умный
В молчанье правил грузный челн;
А я - беспечной веры полн, -
Пловцам я пел... Вдруг лоно волн
Измял с налету вихорь шумный...
Погиб и кормщик и пловец! -
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.
* * *
Значительное общественное место в пушкинскую пору занимал в Москве салон «царицы муз и красоты» Зинаиды Волконской на Тверской, 14, у нынешней площади Пушкина. Построенный выдающимся русским зодчим М. Ф. Казаковым, но совершенно изменивший уже свой внешний и внутренний облик, дом ее сохранился до наших дней. Картины лучших мастеров, живописные плафоны и античные статуи украшали комнаты салона. В театральном зале, на фронтоне сцены, искусно была выведена латинская надпись: «Смеясь, высказывать истину». По сторонам висели портреты Мольера и известного итальянского композитора Чимарозы, служившего в конце XVIII века при русском императорском дворе.
В этом «римском палаццо у Тверских ворот», писал П. А. Вяземский, «соединялись представители большого света, сановники и красавицы, молодежь и возраст зрелый, люди умственного труда, профессора, писатели, журналисты, поэты, художники. Все в этом доме носило отпечаток служения искусству и мысли. Бывали в нем чтения, концерты, дилетантами и любительницами представления итальянских опер. Посреди артистов и во главе их стояла сама хозяйка дома...».
В квартиру Волконской вела широкая беломраморная лестница, и по ней не раз поднимался Пушкин. Оказавшись после ссылки в Москве, он встречался здесь с друзьями - Вяземским, Дельвигом, Баратынским.
Когда Пушкин впервые появился в салоне, Зинаида Волконская, приветствуя поэта, пропела своим звучным контральто романс на слова пушкинской элегии «Погасло дневное светило».
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан...
Пушкин преподнес хозяйке салона поэму «Цыганы» и стихи:
Среди рассеянной Москвы,
При толках виста и бостона,
При бальном лепете молвы
Ты любишь игры Аполлона.
Царица муз и красоты,
Рукою нежной держишь ты
Волшебный скипетр вдохновений,
И над задумчивым челом,
Двойным увенчанным венком,
И вьется и пылает гений.
Певца, плененного тобой,
Не отвергай смиренной дани,
Внемли с улыбкой голос мой,
Как мимоездом Каталани
Цыганке внемлет кочевой.
* * *
Салон 3. А. Волконской на Тверской. А. С. Пушкин слушает импровизации А. Мицкевича. С картины Г. Мясоедова.
В Москве Пушкин впервые встретился с великим польским поэтом Адамом Мицкевичем, отбывавшим сначала в Петербурге и Одессе, а затем в Москве ссылку за участие в нелегальном студенческом обществе. Два изгнанника встретились, как два брата. Поэзия сблизила их.
На известной позднейшей картине Мясоедова, изображающей салон Зинаиды Волконской мы видим среди гостей Пушкина и Мицкевича.
Польский поэт вдохновенно импровизирует, Пушкин взволнованно слушает его.
Миц кевич, писал П. А. Вяземский, «был не только великий поэт, но и великий импровизатор... Импровизированный стих его свободно и стремительно вырывался из уст его звучным и блестящим потоком. В импровизации его были мысль, чувство, картины и в высшей степени поэтические выражения. Можно было думать, что он вдохновенно читает наизусть поэму, им уже написанную. Для русских приятелей своих, не знавших по-польски, он иногда импровизировал по-французски, разумеется прозою, на заданную тему».
«На одной из таких импровизаций в Москве, - пишет один из друзей Мицкевича, - Пушкин, в честь которого давался тот вечер, сорвался с места и, ероша волосы, почти бегая по зале, воскликнул: «Quel genie! Quel feu svize! Que sui je aupres de lui?»11 - и, бросившись на шею Адама, сжал его и стал целовать, как брата... Тот вечер был началом взаимной дружбы между ними».
«Я с ним знаком, и мы часто видимся, - писал Мицкевич своему другу. - Пушкин почти ровесник мне... В беседе он очень остроумен и пылок, читал много и хорошо знает современную литературу; понятия его о поэзии - чистые и возвышенные. Он теперь написал трагедию «Борис Годунов»; я знаю несколько сцен ее в историческом роде, хорошо задуманных и с прекрасными частностями».
В прибавлении к посмертному собранию сочинений Мицкевича на французском языке приводится рассказ о том, как Пушкин, встретив на улице м ицкевича, посторонился и сказал:
- С дороги, двойка, туз идет!
- Козырная двойка туза бьет! - ответил Мицкевич.
Уже через много лет Пушкин тепло вспоминал свои московские встречи с Мицкевичем и их дружеские беседы:
. . . . . . . . . . . Нередко
Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.
* * *
Коронационные празднества закончились. Прошли они безрадостно. Николай I покидал Москву в том же мрачном настроении, в каком приехал.
Уезжал и Бенкендорф. Пушкин, собираясь вернуться в Михайловское, просил разрешить ему поездку в Петербург. Шеф жандармов ответил, что «государь император не только не запрещает вам приезда в столицу, но предоставляет совершенно на вашу волю, с тем только, чтобы предварительно испрашивали разрешения чрез письмо».
Вернувшись в Михайловское, Пушкин снова и снова переживал яркие и волнующие впечатления двухмесячной московской жизни после шестилетнего заточения. Но будущее представлялось ему все же крайне неопределенным.
«...Злой рок мой преследует меня во всем том, чего мне хочется... уезжаю со смертью в сердце», - написал он одному из друзей. И вслед за тем Вяземской: «Прощайте, княгиня, - еду похоронить себя среди моих соседей. Молитесь богу за упокой моей души».
Из Михайловского Пушкин писал Вяземскому: «Деревня мне пришла как-то по сердцу. Есть какое-то поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую тюрьму. Ты знаешь, что я не корчу чувствительность, но встреча моей дворни... и моей няни - ей-богу приятнее щекотит сердце, чем слава, наслаждения самолюбия, рассеянности и пр.».
Пушкин, однако, понимал, что вовсе не вольным вернулся он «в покинутую тюрьму». И очень скоро убедился в этом...
Из Михайловского Пушкин вынужден был представить Бенкендорфу объяснения, на каком основании он читал своим московским друзьям «Бориса Годунова». Оказывается, личная цензура всех произведений Пушкина императором Николаем I запрещала Пушкину не только печатать свои произведения, но и публично читать их. Пушкин объяснил Бенкендорфу, что он читал друзьям «Бориса Годунова» «не из ослушания, но только потому, что худо понял высочайшую волю».
Предвидя возможность осложнений при опубликовании своих произведений, Пушкин писал шефу жандармов:
«Мне было совестно беспокоить ничтожными литературными занятиями моими человека государственного, среди огромных его забот: я роздал несколько мелких моих сочинений в разные журналы и альманахи по просьбе издателей; прошу от Вашего превосходительства разрешения сей неумышленной вины, если не успею остановить их в цензуре».
В тот же день Пушкин взволнованно просил Погодина: «Милый и почтенный, ради бога, как можно скорее остановите в московской цензуре всё, что носит мое имя - такова воля высшего начальства; покамест не могу участвовать и в вашем журнале - но всё перемелется и будет мука, а нам хлеб да соль. Некогда пояснять; до свидания скорого. Жалею, что договор наш не состоялся».
Затребовав тогда же рукопись «Бориса Годунова», Бенкендорф сообщил Пушкину, что «оную драматическую пиесу» он получил и даст ему знать «о воспослед имеющем высочайшем отзыве». Письмо свое закончил строками: «Между тем прошу вас сообщить мне на сей же предмет все и мелкие труды блистательного вашего пера».
Получив через некоторое время обратно рукопись «Бориса Годунова», Пушкин прочитал на ней нелепейшую резолюцию Николая I: «Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если б с нужным очищением переделал комедию свою в исторический роман, наподобие Вальтера Скотта».
Пушкин ответил: «Согласен, что она более сбивается на исторический роман, нежели на трагедию, как государь император изволил заметить...»
Но тут же твердо и решительно заявил: «Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное».
И, подчиняясь насилию над его творчеством, закончил: «В непродолжительном времени буду иметь честь, по приказанию Вашего превосходительства, переслать вам мелкие мои стихотворения...»
* * *
В Михайловском Пушкин начал работать над поручением Николая I написать записку «О народном воспитании».
Это был своего рода политический экзамен: в письме своем Пушкину Бенкендорф подчеркнул, что и собственное его, Пушкина, воспитание было ложным и привело к «пагубным последствиям».
Признавая, что последние происшествия обнаружили много печальных истин, Пушкин в самом начале своей Записки отметил, что «одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия».
Он решительно высказался против домашнего воспитания юношества: «...ребенок окружен одними холопями, видит одни гнусные примеры, своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести».
Пушкин считал необходимым преобразование кадетских корпусов, «рассадника офицеров русской армии», и высказывался за отмену телесных наказаний: «Надлежит заранее внушить воспитанникам правила чести и человеколюбия. Не должно забывать, что они будут иметь право розги и палки над солдатом. Слишком жестокое воспитание делает из них палачей, а не начальников».
Особо остановился Пушкин на необходимости правильного преподавания литературы, высших политических наук, истории. В окончательном курсе преподавания истории, писал он, «можно будет с хладнокровием показать разницу духа народов, источника нужд и требований государственных; не хитрить; не искажать республиканских рассуждений, не позорить убийства Кесаря, превознесенного 2000 лет, но представить Брута защитником и мстителем коренных постановлений отечества, а Кесаря честолюбивым возмутителем...».
Пушкин ясно и четко изложил Николаю I свои соображения о народном воспитании, не преминув при этом упомянуть в своей Записке и о декабристах. Эти мысли, конечно, не понравились Николаю I, и Бенкендорф сразу же сообщил поэту мнение царя по поводу его Записки.
Шеф жандармов писал: «Его величество при сем заметить изволил, что принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано благонаправленное воспитание. Впрочем, рассуждения ваши заключают в себе много полезных истин».
В этом ответе Пушкину были также упомянуты декабристы и косвенно отмечена роль поэта в их восстании. Только что возвратившийся из ссылки опальный Пушкин должен был понять этот ответ как новое и серьезное предупреждение самодержца...
В условиях того времени Пушкин, конечно, не мог откровенно высказать царю свои мысли о народном воспитании. Он сделал это в Записке очень осторожно, стремясь, с одной стороны, не вызвать царского гнева, а с другой - не отказываясь от личных убеждений. Мысли эти касались необходимости воспитания юношества в духе просвещения и гуманизма. Пушкин считал, что это поможет повести Россию по вольнолюбивому пути.
* * *
Зимним вечером 19 декабря 1826 года Пушкин вторично после ссылки возвращался в Москву. Возвращался уже свободно, без фельдъегеря рядом. И не по вызову царя, а по зову сердца и друзей.
Был «отуманен лунный лик», многодневный путь по заснеженной дороге наводил на размышления о жизни, о том, что ждет его впереди. И полные глубокого раздумья слова грустно зазвучали в элегическом стихотворении «Зимняя дорога»:
Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.
По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.
Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска...
Ни огня, ни черной хаты...
Глушь и снег... Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне.
Эти же настроения отличали написанное за несколько лет перед тем, совсем в иной общественно-политической обстановке, до восстания декабристов, стихотворение «Телега жизни».
Переживая вместе с друзьями и современниками тягчайший общественный кризис тех лет, Пушкин снова возвращается к этим мыслям через год в потрясающем по силе стихотворении «Воспоминание».
Но любовь к родине, вера в здравый смысл и мощь русского народа преодолевают эти временные настроения подавленности, рождают уверенность в конечной победе светлых сил.
Об этом свидетельствуют стихотворения: «Стансы», «Во глубине сибирских руд...», «Арион», «Акафист Екатерине Николаевне Карамзиной», «Близ мест, где царствует Венеция златая...».
Московские друзья обрадовались возвращению Пушкина. Покидая в ноябре Москву, он получил в минуты отъезда в Михайловское письмо от Зинаиды Волконской:
«Возвращайтесь к нам. Московский воздух легче. Великий поэт России должен творить в ее степных просторах либо под сенью кремлевских стен. Автору «Бориса Годунова» приличествует обитать в царских покоях. Человек, гений которого весь - сила, весь - изящество, весь - непринужденность, то дикарь, то европеец, то Шекспир и Байрон, то Ариосто, то Анакреон, но всегда Русский... До скорого свидания, надеюсь.
Княгиня Зинаида Волконская».
* * *
И вот Пушкин снова в блистательном салоне Зинаиды Волконской, на прощальном вечере, устроенном ею в честь Марии Николаевны Волконской, уезжавшей в далекую, суровую Сибирь, к осужденному на каторгу мужу-декабристу.
В своих «Записках» М. Н. Волконская вспоминала, как трогательно провожали ее в Сибирь:
«В Москве я остановилась у Зинаиды Волконской, моей невестки, которая приняла меня с такой нежностью и добротой, которых я никогда не забуду: она окружила меня заботами, вниманием, любовью и состраданием. Зная мою страсть к музыке, она пригласила всех итальянских певцов, которые были тогда в Москве, и несколько талантливых девиц... Я говорила им: «Еще, еще! Подумайте только, ведь я никогда больше не услышу музыки!» Пушкин, наш великий поэт, тоже был здесь... Во время добровольного изгнания нас, жен сосланных в Сибирь, он был полон самого искреннего восхищения: он хотел передать мне свое «Послание к узникам» («Во глубине сибирских руд...») для вручения им, но я уехала в ту же ночь, и он передал его Александрине Муравьевой. Пушкин говорил мне: «Я хочу написать сочинение о Пугачеве. Я отправлюсь на места, перееду через Урал, проеду дальше и приду просить у вас убежища в Нерчинских рудниках».
Пушкин, наблюдая за нею, вспоминал свое незабываемое путешествие с Раевскими, в 1820 году, по Крыму и Кавказу, и снова перед ним воскресали их нежные, дружеские отношения.
Волконская уезжала на каторгу, к которой присуждены были два самых близких лицейских друга Пушкина - И. И. Пущин и В. К. Кюхельбекер. Как бы подчеркивая, что время и разлука не поколебали былых связей, Пушкин начал свое послание декабристам призывом «Прощальной песни воспитанников Царскосельского лицея» - «Храните, о друзья, храните... В несчастье - гордое терпенье...»:
Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье.
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут - и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.
Стихотворение это Пушкин направил декабристам с А. Г. Муравьевой, также уезжавшей вслед за М. Н. Волконской к мужу, на каторгу.
И с нею же передал И. И. Пущину другое стихотворение, написанное 13 декабря 1826 года, накануне годовщины дня восстания декабристов.
Пушкин напомнил в нем Пущину, как тот навестил его самого, ссыльного поэта, в Михайловском:
Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!
Вспоминая, как Пущин «день изгнанья, день печальный с печальным другом разделил», как «судьба рукой железной разбила мирный наш лицей», Пушкин спрашивал:
Скажи, что наши? что друзья?
Где ж эти липовые своды?
Где ж молодость? Где ты? Где я?..
Не желая, быть может, излишне волновать друга, Пушкин эти стихи оставил в черновиках и не послал Пущину.
В те дни, когда Муравьева прибыла на каторгу, Пущин находился еще в крепости. Его привезли лишь через год, и в самый день его приезда она подошла к окружавшему читинскую тюрьму частоколу, подозвала Пущина и через щель передала ему пушкинское послание.
«Пушкин первый встретил меня в Сибири задушевным словом... Отрадно отозвался во мне голос Пушкина!» - читаем мы в позднейших «Записках» Пущина...
Пушкину не дано было прочесть эти «Записки» и осведомиться о том, как «озарило заточенье» друга его послание. И не сразу дошел до Пушкина написанный поэтом-декабристом А. И. Одоевским ответ на его послание:
Струн вещих пламенные звуки
До слуха нашего дошли,
К мечам рванулись наши руки,
Но лишь оковы обрели.
Но будь спокоен, бард: цепями,
Своей судьбой гордимся мы
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями.
Наш скорбный труд не пропадет:
Из искры возгорится пламя,
И просвещенный наш народ
Сберется под святое знамя.
Мечи скуем мы из цепей
И вновь зажжем огонь свободы.
И с нею грянем на царей.
И радостно вздохнут народы.
* * *
Ответ декабриста А. И. Одоевского на послание А. С. Пушкина.
В этот второй свой приезд в Москву после ссылки Пушкин остановился у С. А. Соболевского, на бывшей Собачьей площадке, близ Арбата.
На протяжении пяти месяцев своего пребывания в Москве поэт часто бывал в доме Ушаковых на Средней Пресне, 16. С сестрами Ушаковыми, Екатериной и Елизаветой, у него сложились весело-беззаботные, светлоинтимные, дружеские, с оттенком влюбленности, отношения.
В доме Ушаковых царил особый культ Пушкина. Домашний альбом был заполнен стихами, рисунками и карикатурами поэта. На фортепьяно лежали ноты на стихи Пушкина. Его можно было нередко встретить со старшей, семнадцатилетней красавицей Екатериной на вечерах и концертах. И в обществе начали даже поговаривать, что Пушкин хочет связать с нею свою судьбу. Но и здесь его постигла неудача, несмотря на большую взаимную симпатию.
Поэт посвятил сестрам не одно стихотворение, а перед отъездом из Москвы, 16 мая 1827 года, написал Екатерине Ушаковой:
В отдалении от вас
С вами буду неразлучен,
Томных уст и томных глаз
Буду памятью размучен;
Изнывая в тишине,
Не хочу я быть утешен, -
Вы ж вздохнете ль обо мне,
Если буду я повешен?
«Если буду я повешен...» - это были снова мысли о декабристах...
* * *
Дом Д. В. Веневитинова в Кривоколенном переулке, 4. Здесь А. С. Пушкин читал 12 октября 1826 года «Бориса Годунова».Фотография.
Еще с середины 1826 года нависшее над Пушкиным дело по поводу стихотворения «Андрей Шенье» не было закончено. В январе 1827 года следствие возобновилось.
Четыре раза вызывался Пушкин к московскому обер-полицмейстеру Шульгину для дачи показаний и после исчерпывающих ответов на все поставленные ему вопросы раздраженно заявил, что больше ему ничего уже не остается сказать в доказательство истины.
Несмотря на ясность вопроса, дело перешло в Сенат, который определил: «Избавя его, Пушкина, от суда, обязать подпиской, дабы впредь никаких своих творений без рассмотрения и пропуска цензуры не осмеливался выпускать в публику под опасением строгого по закону наказания».
Но этим дело не окончилось. К рассмотрению его был привлечен и Государственный совет.
Решение Государственного совета безапелляционно гласило: «По неприличному выражению Пушкина в ответах своих насчет происшествия 14 декабря 1825 года и по духу самого сочинения... иметь за ним на месте его жительства секретный надзор».
Секретный надзор был учинен за Пушкиным 28 июня 1828 года, после дела об «А. Шенье»...
Отныне поэт за каждым шагом своим ощущал присутствие сыскных агентов и на предложение дать подписку ответил Бенкендорфу: «Требование полицейской подписки унижает меня в собственных моих глазах, и я твердо чувствую, что того не заслуживаю, и дал бы и в том честное мое слово, если б я счел еще надеяться, что оно имеет свою цену».
* * *
В Москве Пушкина обрадовали два нежных и трогательных письма, написанных ему няней 30 января и 6 марта 1827 года. Одно из них писалось каким-то полуграмотным однодворцем, другое - под диктовку Арины Родионовны Анной Вульф из Тригорского.
«Вы у меня беспрестанно на сердце и на уме, - диктовала няня, - и только когда засну, то забуду вас... Ваше обещание к нам побывать летом меня очень радует. Приезжай, мой ангел, к нам в Михайловское, всех лошадей на дорогу выставлю.
Прощайте, мой батюшка, Александр Сергеевич.
За ваше здоровье я просвиру вынула и молебен отслужила, поживи, дружочек, хорошенько, самому слюбится. Я, слава богу, здорова, целую ваши ручки и остаюсь вас многолюбящая няня ваша
Арина Родионовна».
Письма няни всегда радовали Пушкина. Он хранил их среди драгоценнейших своих бумаг. Первый биограф Пушкина П. В. Анненков писал, что поэт любил няню «родственной, неизменной любовью и в годы возмужалости и славы беседовал с нею по целым часам».
Письма Арины Родионовны находятся сегодня в Пушкинском доме Академии наук.
Пушкина потянуло в Петербург. Многое связывало его с северной столицей, и 24 апреля 1827 года он обратился к Бенкендорфу за разрешением выехать по семейным надобностям в Петербург. В начале мая от Бенкендорфа последовал положительный ответ, однако с оговоркою: «Его величество, соизволяя на прибытие ваше в С.-Петербург, высочайше отозваться изволил, что данное русским дворянином государю своему честное слово: вести себя благородно и пристойно, будет в полном смысле сдержано».
Три дня провожали друзья уезжавшего из Москвы Пушкина. М. П. Погодин провожал его завтраком, на который пригласил многих поэтов и литераторов, сотрудников «Московского вестника». На следующий день собрались у Н. А. Полевого, редактора «Московского телеграфа».
Наконец 19 мая провели вечер на загородной даче С. А. Соболевского, близ Петровского дворца. «Около вечера стали собираться знакомые и близкие Пушкина, - записал К. А. Полевой. - Мы увидели там Мицкевича... Постепенно собралось много знакомых Пушкина, а он не являлся. Наконец приехал А. Муханов и объявил, что он был вместе с Пушкиным на гулянье в Марьиной роще и что поэт скоро приедет. Уже поданы были свечи, когда он явился, рассеянный, невеселый, говорил не улыбаясь (что всегда показывало у него дурное расположение) и тотчас после ужина заторопился ехать. Коляска его была подана, и он, почти не сказавши никому ласкового слова, укатил в темноте ночи».
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ПЕТЕРБУРГ
1827-1828
На брегах Невы
Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит...
А. С. Пушкин
23 мая 1827 года Пушкин возвращался, после семилетнего отсутствия, в Петербург. Шесть дней пути в экипаже отделяли младшую столицу от «порфироносной вдовы», древней Москвы. Всего год прошел со дня казни пяти. И Пушкин, знакомясь с описанной в «Истории» Карамзина эпохой опричнины, создал оставшееся незаконченным стихотворение о «кромешнике удалом» и массовых казнях при Иване IV - «Какая ночь! Мороз трескучий»:
Какая ночь! Мороз трескучий...
. . . . . . . . . . . . . . .
И вся Москва покойно спит,
Забыв волнение боязни.
А площадь в сумраке ночном
Стоит, полна вчерашней казни.
Мучений свежий след кругом:
Где труп, разрубленный с размаха,
Где столп, где вилы; там котлы,
Остывшей полные смолы;
Здесь опрокинутая плаха;
Торчат железные зубцы,
С костями груды пепла тлеют,
На кольях, скорчась, мертвецы
Оцепенелые чернеют...
Недавно кровь со всех сторон
Струею тощей снег багрила,
И подымался томный стон,
Но смерть уже, как поздний сон,
Свою добычу захватила...
Петербург был уже не прежний... За годы отсутствия Пушкина он стал еще краше.
Поэт мог полюбоваться только что устремившейся ввысь «адмиралтейскою иглой» с корабликом на острие. Мог полюбоваться почти законченным мощным полукружием величественного здания Главного штаба с триумфальной аркой в центре, на которой вскоре появилась «колесница Победы» с шестеркою лошадей. Через несколько лет пред нею встал «Александрийский столп»...
Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия, -
писал Пушкин, воспевая этот прекрасный город в своих творениях: «Медный всадник», «Пиковая дама», «Домик в Коломне», «Родословная моего героя», «Пир Петра Великого»...
Петербург был прекрасен. Но «дух неволи», страх и скука сковали холодную, официальную столицу самодержавной монархии. «Петербург стал суше и холоднее прежнего, - писал Вяземский 18 апреля 1828 года, - общего разговора об общих человеческих интересах решительно нет».
Многих уже не было в столице, многих не стало, и Пушкину радостно было встретиться с Жуковским, Гнедичем, Плетневым, Дельвигом.
Но рядом с близкими друзьями поэта жили в Петербурге Бенкендорф и Дубельт, Булгарин и Греч и прочие агенты III отделения, всю жизнь преследовавшие его.
Пушкин любил и в то же время ненавидел Петербург...
Он снова поселился в Демутовом трактире, лучшей петербургской гостинице той поры, где занимал скромный номер в две комнаты с окнами во двор. Здесь у него бывали Грибоедов и Мицкевич, здесь его посещали литературные друзья. Он много работал - всегда утром, еще оставаясь в постели.
* * *
Петербург. Невский проспект у Аничкова моста. С картины Конради.
Поэта, много повидавшего, много пережившего в свои 28 лет, теперь все чаще и чаще одолевают горькие раздумья о пройденном жизненном пути. И как бы продолжением невеселых мыслей, выраженных в стихотворениях «Телега жизни» и «Зимняя дорога», явились «Три ключа»:
В степи мирской, печальной и безбрежной,
Таинственно пробились три ключа:
Ключ юности, ключ быстрый и мятежный,
Кипит, бежит, сверкая и журча.
Кастальский ключ волною вдохновенья
В степи мирской изгнанников поит.
Последний ключ - холодный ключ забвенья,
Он слаще всех жар сердца утолит.
Размышления о «последнем ключе» не покидают поэта. Он редко выходит из своего номера у Демута, заканчивает шестую главу «Евгения Онегина», читает корректуру печатающейся в Москве второй главы романа.
От времени до времени его можно встретить в кругу шумном и веселом молодежи. У родителей он встречает день своего рождения, посещает Карамзиных и, по-прежнему охваченный настроениями, выраженными в «Арионе», вписывает в альбом дочери историка, Е. Н. Карамзиной, «Акафист» - о спасенном после бури пловце... Одновременно готовит для передачи на высочайшую цензуру новые свои стихотворения - «Ангел», «Отрывок из «Фауста», «Песни о Стеньке Разине», поэму «Граф Нулин» и другие.
Внештатным цензором Пушкина был, по существу, не Николай I, а Бенкендорф, шеф жандармов. О тяжелом подневольном положении поэта дает представление характер его препроводительного к этим стихам письма Бенкендорфу от 20 июля 1827 года: «Честь имею препроводить на рассмотрение Вашего превосходительства новые мои стихотворения. Если Вы соблаговолите снабдить меня свидетельством для цензуры, то, вследствие Вашего снисходительного позволения, осмеливаюсь просить Вас о доставлении всех сих бумаг издателю моих сочинений надворному советнику Петру Александровичу Плетневу...»
* * *
«Я пустился в свет, потому что бесприютен», - писал Пушкин Вяземскому. Но этот «свет» был ненавистен поэту, поэт презирал его. После двухмесячного с небольшим пребывания в Петербурге Пушкин в конце июля 1827 года выехал в м ихайловское.
Работая в 1824 году в Михайловском над третьей главой «Евгения Онегина», Пушкин писал:
Быть может, волею небес,
Я перестану быть поэтом,
В меня вселится новый бес,
И Фебовы презрев угрозы,
Унижусь до смиренной прозы...
И обещал:
...просто вам перескажу
Преданья русского семейства,
Любви пленительные сны
Да нравы нашей старины.
Пушкин пишет 31 июля 1827 года Дельвигу: «Я в деревне и надеюсь много писать, в конце осени буду у вас; вдохновенья еще нет, покамест принялся я за прозу...»
Лета к суровой прозе клонят,
Лета шалунью рифму гонят, -
признается Пушкин в шестой главе «Евгения Онегина».
И принимается пересказывать нравы нашей старины и «преданья семейства» своего прадеда Абрама Петровича Ганнибала: начинает писать в прозе исторический роман «Арап Петра Великого».
К личности Петра I Пушкин вообще проявлял большой и настойчивый интерес. Оценивая эпоху Петра I и его реформы, как «мирную революцию», как мирный переворот в жизни России, Пушкин ставил его в пример Николаю I, предлагал «быть пращуру подобным», не презирать страны родной и самодержавною рукою смело сеять просвещенье, которое единственно приведет к народной свободе.
В романе Пушкин показывает петровское время в столкновении нового со старым, а самого Петра 1 как «великого преобразователя России во всей народной простоте его приемов и обычаев».
Романа этого Пушкин, к сожалению, не закончил. Но образ Петра I занимал всегда большое место в его художественных произведениях и статьях. «Я непременно напишу историю Петра I, а Александрову - пером Курбского, - сказал он тогда же Вульфу, играя с ним на бильярде. - Непременно должно описывать современные происшествия, чтобы могли на них ссылаться. Теперь уже можно писать и царствование Николая, и об 14-м декабря...»
* * *
Обложка первого издания поэмы «Полтава». 1829 г.
В следующем, 1828 году Пушкин снова вернулся к эпохе Петра I и написал историко-героическую поэму «Полтава».
За девять лет до пушкинской поэмы появилась поэма Байрона «Мазепа». Пушкин внимательно ознакомился с нею и пришел к выводу, что «Байрон знал Мазепу только по Вольтеровой «Истории Карла XII»... Но не ищите тут ни Мазепы, ни Карла... он выставил ряд картин одна другой разительнее - вот и всё, - писал Пушкин. - Но какое пламенное создание! Какая широкая, быстрая кисть. Если ж бы ему под перо попалась история обольщенной дочери и казненного отца, то, вероятно, никто бы не осмелился после него коснуться сего ужасного предмета».
Но Байрон создал типично романтическую, а не конкретно-историческую поэму, и Пушкин решает историческую тему по-своему, создает поэму на свой лад: «Соблазн, вражда, измена, лукавство, малодушие, свирепость... Сильные характеры и глубокая трагическая тень набросаны на все эти ужасы. Вот что увлекло меня, - Полтаву написал я в несколько дней...»
Став, как в «Борисе Годунове», на чисто историческую почву, положив в основу ее подлинные исторические факты, Пушкин стремился к наибольшей правдивости в изображении прошлого. «Мазепа действует в моей поэме точь-в-точь как в истории, а речи его объясняют его исторический характер», - писал Пушкин, возражая критикам его «Полтавы».
И подчеркнул с патриотической гордостью, что на поле Полтавской битвы, подготовленной всем развитием Петровской эпохи, решился вопрос о будущности русского государства:
Была та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра.
Суровый был в науке славы
Ей дан учитель: не один
Урок нежданный и кровавый
Задал ей шведский паладин.
Но в искушеньях долгой кары,
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.
Полтавской битве отведена третья песнь «Полтавы», и это основная тема поэмы.
Петр I предстает в поэме вождем новой России, «толпой любимцев окруженный», в ее исторический момент, на поле Полтавской битвы:
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как божия гроза.
Идет. Ему коня подводят.
Ретив и смирен верный конь.
Почуя роковой огонь,
Дрожит. Глазами косо водит
И мчится в прахе боевом,
Гордясь могущим седоком.
. . . . . . . . . . . . .
Далече грянуло ура:
Полки увидели Петра...
«Полтава», «Медный всадник», «История Петра» - Петр на первом плане во всех этих произведениях Пушкина. В 1834 году он писал: «Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, - при стуке топора и при громе пушек. Но войны, предпринятые Петром Великим, были благодетельны и плодотворны. Успех народного преобразования был следствием Полтавской битвы, европейское просвещение причалило к берегам завоеванной Невы».
«Полтава» явилась значительной вехой в творчестве самого Пушкина. Это подчеркивает Д. Д Благой в своей книге «Творческий путь Пушкина» (1826-1830): «Если «Цыганы» подготовили обращение Пушкина к работе над «Борисом Годуновым», опыт «Бориса Годунова» и связанного с этим погружения в творческий мир и метод Шекспира подготовил глубокий внутренний драматизм... сцен «Полтавы», в свою очередь, способствовавших углубленному психологизму маленьких трагедий, осуществленных года полтора спустя после «Полтавы».
Через пять лет после «Полтавы» явится «вторая его поэма о Петре, в которой историзм и народность подымутся на еще более высокую ступень, - «Медный всадник».
* * *
Летом 1827 года Пушкин съездил в Михайловское и снова вернулся в Петербург. В пути у него произошла 14 октября удивительная встреча. На станции Залазы, между Боровичами и Лугой, он остановился в ямщицкой избе. Пока перепрягали лошадей, Пушкин увлекся оказавшимися на столе «Духовидцами» Шиллера и неожиданно услышал звон колокольцев приближавшихся правительственных троек. Подъехали четыре тройки с фельдъегерем.
Пушкин вышел на крыльцо.
«Один из арестантов, - записал он тогда, - стоял, опершись у колонны. К нему подошел высокий, бледный и худой молодой человек с черною бородою, в фризовой шинели... Увидев меня, он с живостью на меня взглянул. Я невольно обратился к нему. Мы пристально смотрим друг на друга - и я узнаю Кюхельбекера. Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили. Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательством - я его не слышал. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали. Я поехал в свою сторону. На следующей станции узнал я, что их везут из Шлиссельбурга, - но куда же?»
Кюхельбекера перевозили тогда из Шлиссельбургской крепости в Динабургскую - он отбывал каторгу за то, что 14 декабря 1825 года «лично действовал в мятеже с пролитием крови и мятежников, рассеянных выстрелами, старался поставить в строй».
Эта неожиданная встреча потрясла лицейских друзей. Пушкин называл Кюхельбекера «братом родным по музе, по судьбам». С ним любил он беседовать в Лицее «о Шиллере, о славе, о любви». Поэт и чудак, «верная невинная душа», вечный неудачник, Кюхля, как называли его товарищи, был подлинным рыцарем чести и свободы.
После Лицея Пушкин все чаще и чаще возвращается тепло и сердечно к мыслям о нем.
В Париже Кюхельбекер читал лекции о русской литературе, но политическое направление их было таково, что русский посол выслал его за них в Россию. Пушкин запрашивает 21 июля 1822 года брата Льва: «Что Вильгельм? есть ли об нем известия?»
Приехав в Тифлис и устроившись на службу у А. П. Ермолова, «проконсула Кавказа», Кюхельбекер вынужден был и эту работу оставить. Пушкин 30 января 1823 года снова спрашивал брата: «А где Кюхельбекер?»
В письмах к друзьям Пушкин часто просит обнять Кюхельбекера и Дельвига, а 25 января 1825 года спрашивает П. А. Вяземского: «Что мой Кюхля, за которого я стражду, но все люблю? Говорят, его обстоятельства не хороши - чем не хороши?»
В одиночных камерах царских крепостей за участие в восстании 14 декабря 1825 года Кюхельбекер пробыл свыше десяти лет, и все эти годы Пушкин не забывал о нем и помогал ему чем мог.
Видимо, не без помощи тюремщиков Кюхельбекеру удалось, наладить даже сношения с внешним миром. 10 июля 1828 года он переслал Пушкину некоторые сочиненные им в Динабургской крепости «безделки». 20 октября 1830 года - новое письмо, в котором сообщал, что голоса петербургской жизни от времени до времени доходят до него сквозь глухие крепостные стены. В этом письме он благодарит друга за «Полтаву», дает высокую оценку «Борису Годунову».
Драму «Ижорский» Кюхельбекер написал в своей одиночной камере. Рискуя собою, Пушкин обратился к Бенкендорфу с просьбой о разрешении опубликовать ее - и добился своего в 1833 году. А через год вышел в свет «Русский Декамерон», тоже написанный Кюхельбекером в каторжной крепости.
В своих письмах Кюхельбекер горячо благодарил Пушкина из каторги и ссылки:
...Пушкин, Пушкин! Это ты!
Твой образ - свет мне во мраке темноты...
За Кюхлю Пушкин «страждал» до конца дней, а Кюхельбекер пережил его гибель как тяжелую личную утрату...
* * *
Вторично после ссылки приехав 16 октября 1827 года в Петербург, Пушкин прожил в столице год.
Это была пора расцвета лет и творческих сил поэта. Пришла слава, но душевного покоя и счастья по-прежнему не было. Литератор и почитатель Пушкина Н. В. Путята отмечал, что «в нем было заметно какое-то грустное беспокойство, какое-то неравенство духа; казалось, он чем-то томился, куда-то порывался. По многцм признакам я мог убедиться, что покровительство и опека императора Николая Павловича тяготили его и душили». Однажды на вечере в одном доме, на островах, Пушкин не находил себе места среди шумной веселящейся толпы... «Он подвел меня к окну, - рассказывает Путята, - и в виду Невы, озаряемой лунным светом, прочел наизусть своего «Утопленника» чрезвычайно выразительно».
«Что, может быть, неизвестно будет потомству, - писал близкий знакомый поэта дипломат Н. М. Смирнов, - это то, что Пушкин с самой юности до гроба находился вечно в неприятном или стесненном положении, которое убило бы все мысли в человеке с менее твердым характером».
И вскоре после приезда в Петербург Пушкин жаловался Осиповой на тяжелые, безнадежные свои обстоятельства и бесприютность: «Жизнь эта, признаться, довольно пустая, и я горю желанием так или иначе изменить ее. Не знаю, приеду ли я еще (в Михайловское). Однако мне бы хотелось этого. Признаюсь, сударыня, шум и сутолока Петербурга мне стали совершенно чужды - я с трудом переношу их...»
По приезде в Петербург в жизни Пушкина произошли два значительных события. Вопреки воле родителей вышла замуж за литератора и чиновника Н. И. Павлищева его нежно любимая сестра Ольга Сергеевна. Она поселилась в небольшой квартире в Большом Казачьем переулке, вблизи Владимирской площади, и пригласила к себе из Михайловского няню, Арину Родионовну. Но та недолго уже прожила в Петербурге - 31 июля 1828 года она скончалась. Ей было уже семьдесят лет...
Пушкин часто навещал сестру и как-то шутя сказал ей:
- Ты мне испортила моего Онегина: он должен был увезти Татьяну, а теперь... этого не сделает...
* * *
19 октября 1827 года Пушкин праздновал в кругу друзей шестнадцатую годовщину основания Лицея. И, как любил это делать, обратился и на этот раз к лицейским товарищам с дружеским посланием. В нем он помянул всех отсутствующих:
Бог помочь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!
Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море
И в мрачных пропастях земли!
В этом обращении к лицейским друзьям Пушкин вспомнил и декабристов, томившихся в «мрачных пропастях земли».,.
* * *
Осенью, в октябре 1827 года, вышла в свет III глава «Евгения Онегина». 6 февраля 1828 года Пушкин посылает дочери Кутузова, Е. М. Хитрово, только что вышедшие IV и V главы, позже жалуется ей на разные «заботы, огорчения, неприятности и т. д.».
Охваченный такими настроениями, Пушкин обращается к Бенкендорфу с просьбою дать ему «назначение» на Кавказ в действовавшую тогда против турок русскую армию.
Лишь через полтора месяца Бенкендорф сообщил Пушкину, что разрешить ему направиться в действующую армию невозможно, «поскольку все места в оной заняты».
Получив отказ, Пушкин просит разрешения съездить в Париж.
- Вот теперь чего захотел! - заметил Бенкендорф и не стал даже докладывать царю просьбу поэта. Но изъявил готовность пустить Пушкина в действующую армию в качестве прикомандированного к канцелярии III отделения.
Быть в штате Бенкендорфа, находиться под его началом и ежечасным надзором - на это Пушкин, конечно, не мог согласиться. Его одолевают тяжелые мысли и раздумья, созданные в эту пору произведения проникнуты чувством неудовлетворенности, тревогой.
26 мая 1828 года, в день своего рождения, Пушкин выражает сомнение в смысле жизни:
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.
* * *
А. С. Грибоедов. С портрета И. Крамского.
Весною 1828 года Пушкин встретился в Петербурге с А. С. Грибоедовым, который вернулся из Персии, заключив после войны с нею выгодный для России Туркманчайский мир. Он был торжественно встречен столицей, принят Николаем I и награжден алмазным крестом и четырьмя тысячами червонцев. Грибоедов, арестованный два года тому назад по делу о восстании декабристов, находившийся под подозрением, был назначен в апреле 1828 года полномочным посланником Российской империи в Тегеране: его ссылали подальше от столицы.
Талантливый драматург, поэт и музыкант, человек большого ума и здравого, холодного рассудка, Грибоедов импонировал Пушкину. «Его меланхолический характер, - писал он, - его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, - все в нем было необыкновенно привлекательно».
Они встретились в один из вечеров, на котором Грибоедов читал отрывок из своей романтической трагедии «Грузинская ночь». В другой раз - в доме графа Лаваля, отца жены декабриста княгини Е. И. Трубецкой, где Пушкин читал своего «Бориса Годунова». На этом чтении присутствовал и Мицкевич.
Однажды Пушкин и Грибоедов встретились с М. И. Глинкою. Грибоедов напел молодому композитору мотив слышанной им грузинской песни. Грибоедов напевал мотив песни, Глинка разрабатывал тему на рояле, а Пушкин, заинтересовавшись, написал к ней слова широко популярного и сегодня романса:
Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный.
Увы, напоминают мне
Твои жестокие напевы
И степь, и ночь, и при луне
Черты далекой, бедной девы!..
Я призрак милый, роковой,
Тебя увидев, забываю;
Но ты поешь - и предо мной
Его я вновь воображаю.
Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный.
«Красавица», к которой обращался в этом стихотворении Пушкин, была Оленина, бравшая у Глинки уроки музыки и напевавшая привезенную Грибоедовым грузинскую песню, а «призрак милый, роковой» «далекой, бедной девы» - это было воспоминание об его «утаенной любви» к М. Н. Волконской, находившейся тогда с мужем-декабристом в далекой Сибири, на каторге. Ей Пушкин посвятил поэму «Полтава».
Вскоре Грибоедов выехал в Персию, и больше они не встретились. В январе 1829 года, во время тегеранской резни, тело Грибоедова было изрублено и изуродовано до неузнаваемости...
* * *
Едва закончилось тянувшееся три года дело о стихотворении «Андрей Шенье», как назревало новое - об авторстве «кощунственной» поэмы «Гавриилиада».
Пушкин получил в те дни письмо от находившегося в Пензе Вяземского и 1 сентября 1828 года ответил ему: «Благодарствуй за письмо - оно застало меня посреди хлопот и неприятностей всякого рода... Ты зовешь меня в Пензу, а того и гляди, что я поеду далее.
Прямо, прямо на восток».
Список «Гавриилиады» дошел до высшего иерарха православной церкви, петербургского митрополита Серафима, в конце мая 1828 года. Он познакомил с поэмой царя.
Николай приказал посадить под арест штабс-капитана Митькова, у которого был найден список «Гавриилиады», и выяснить имя автора поэмы.
Пушкин решительно отказался от авторства ходившей под его именем поэмы и вынужден был предстать перед петербургским и кронштадтским главнокомандующим, председателем назначенной по делу комиссии графом П. А. Толстым. Граф ознакомил его с царским приказом: «Призвать Пушкина к себе и сказать ему моим именем, что, зная лично Пушкина, я его слову верю. Но желаю, чтобы он помог правительству открыть, кто мог сочинить подобную мерзость и обидеть Пушкина, выпуская оную под его именем».
Пушкин знал, что оскорбление церкви карается ссылкою в отдаленные места Сибири, и писал в стихотворении «Предчувствие»:
Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне...
Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?
Бурной жизнью утомленный,
Равнодушно бури жду:
Может быть, еще спасенный,
Снова пристань я найду...
Графу Толстому надлежало между тем дать ответ. И Пушкин был в тем большем затруднении, что царь взывал к его благородству. «Я его слову верю», - писал он. И Пушкин принял решение: написать царю личное письмо и признать в нем свое авторство «Гавриилиады». Будь что будет...
Так он и поступил. Содержание его письма к Николаю I не дошло до нас. Но царь получил в свои руки документ против Пушкина, который мог ему в будущем пригодиться...
И он «простил» Пушкина. Дело о «Гавриилиаде» приказал прекратить.
* * *
Наступило 19 октября.
Очутившись вечером среди товарищей и находясь в веселом, шутливом настроении, Пушкин написал своею рукою протокол лицейского собрания. Присутствующие были названы в протоколе своими лицейскими кличками, а все вместе «скотобратцами»: лицеисты нередко изображали друг друга в карикатурах с головами животных.
Под этим написанным Пушкиным протоколом все присутствовавшие собственноручно расписались. Каждый поставил свою фамилию и, в скобках, лицейские прозвища.
Сохранилась, между прочим, запись о том, во что обходилась такая встреча восьми ее участникам: ужин - 60 рублей, вино - 35, 3 фунта миндаля - 3 рубля 75 копеек, 3 фунта изюму - 3 рубля, 4 десятка бергамот - 3 рубля 20 копеек - всего 104 рубля 95 копеек...
В ту ночь, на 20 октября 1828 года, Пушкин уезжал в Малинники, Старинного уезда, Тверской губернии, в небольшое имение П. А. Осиповой. Он спешил, и написанный им протокол собрания закончил четверостишием:
Усердно помолившись богу,
Лицею прокричавура,
Прощайте, братцы: мне в дорогу,
А вам в постель уже пора.
Была уже глубокая ночь. У подъезда стояла запряженная тройка. Еще одна, другая здравица, и, распрощавшись с лицейскими однокашниками, Пушкин тронулся в путь.
* * *
В пятидесяти километрах от Торжка, в окрестностях Старицы, находилось несколько небольших помещичьих имений, названия которых встречаются в письмах Пушкина к жене и друзьям: Малинники, Берново, Павловское, Курово-Покровское, Прямухино, Грузины, Машуки.
Здесь переплелись родственными связями поколения людей пушкинского окружения: Прасковьи Александровны Осиповой, владелицы Тригорского, и детей ее от первого брака - многочисленных Вульфов; Полторацких, отца и дяди Анны Керн и самой Анны Петровны; Олениных, Бакуниных, декабристов Муравьевых...
Пушкин провел здесь две творческие осени в 1828 и 1829 годах. А. Н. Вульф, его приятель, вспоминал шутливый рефрен Пушкина:
Хоть малиной не корми,
Да в Малинники возьми...
И писал сестрам в Тригорское: «Приехал к нам в Старицу Пушкин, слава наших дней, поэт любимый небесами. Он принес в наше общество немного разнообразия. Его светлый блестящий ум очень приятен в обществе, особенно женском».
По временам Пушкин жил в Берново, Павловском и Курово-Покровском, у Полторацких и Вульфов.
* * *
Гостиница Пожарского в Торжке. Здесь А. С. Пушкин останавливался по пути из Петербурга в Москву.
В Малинниках Пушкина застала зима, и он писал:
Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю
Слугу, несущего мне утром чашку чаю,
Вопросами: тепло ль, утихла ли метель?
Пороша есть иль нет? и можно ли постель
Покинуть для седла, иль лучше до обеда
Возиться с старыми журналами соседа?
Соседей было много, и Пушкин пользовался их библиотеками, брал книги, журналы. У них он мог найти журналы «Музу» и «Детское чтение для сердца и разума» и прочитать в одном из них переведенную на русский язык статью из английского журнала «London magazine» о ядовитом дереве рода крапивных, анчаре, растущем в Ост-Индии и на Малайских островах.
Автор статьи, голландский врач Ф. П. Фурш, писал, что млечный сок этого дерева содержит сильный яд; этим ядом туземцы отравляют наконечники своих стрел. На острове Ява осужденным на смерть преступникам разрешалось, в качестве последнего шанса на спасение, пойти к этому дереву за ядом, и, если они возвращались живыми, им сохраняли жизнь. Среди местного населения существовало поверье, что даже испарения листвы анчара ядовиты, что даже само приближение к дереву смертельно для людей и животных.
По поводу анчара Пушкин прочитал в трагедии Кольриджа «Раскаяние» строки: «Это - ядовитое дерево. Пронзенное до сердцевины, оно плачет только ядовитыми слезами».
Поэт не мог пройти мимо столь яркого и мрачного образа - дерева, «плачущего только ядовитыми слезами». И здесь родилось стихотворение «Анчар» - одно из самых значительных произведений Пушкина, определявшее его общественно-политическую позицию после недавнего разгрома восстания декабристов.
Протест против деспотизма, насилия и безграничной власти человека над человеком всегда жил в душе Пушкина. «Анчар» - потрясающее по силе и глубине мысли, совершенное по художественной форме стихотворение:
В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит, один во всей вселенной.
Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила
И зелень мертвую ветвей
И корни ядом напоила.
Яд каплет сквозь его кору,
К полудню растопясь от зною,
И застывает ввечеру
Густой прозрачною смолою.
К нему и птица не летит
И тигр нейдет: лишь вихорь черный
На древо смерти набежит -
И мчится прочь, уже тлетворный.
И если туча оросит,
Блуждая, лист его дремучий,
С его ветвей, уж ядовит,
Стекает дождь в песок горючий.
Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом:
И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом.
Принес он смертную смолу
Да ветвь с увядшими листами,
И пот по бледному челу
Струился хладными ручьями;
Принес - и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.
А князь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы
И с ними гибель разослал
К соседам в чуждые пределы.
В черновиках после пятой строфы была еще одна, усиливавшая мрачную картину смертоносного действия древа яда:
И тигр, в пустыню забежав,
В мученьях быстрых издыхает,
Паря над ней, орел стремглав,
Кружась, безжизненный, спадает.
* * *
«Анчар» был впервые опубликован в «Северных цветах» на 1832 год и вторично в «Стихотворениях» А. Пушкина, в конце марта 1832 года.
Обращает на себя внимание, что в первой публикации последняя строфа начиналась стихом - «А царь тем ядом напитал», а во второй слово «царь» заменено было словом «князь» -
А князь тем ядом напитал...
Поэт вынужден был пойти на эту замену - и тем ослабить политическое звучание «Анчара» - по соображениям цензурным.
С этой вынужденной поправкой «Анчар» печатался до 1870 года. В последующих дореволюционных изданиях слово «царь» было восстановлено.
В первом советском издании однотомника сочинений Пушкина 1924 года «Анчар», однако, снова появился в прежней редакции - с заменой слова «царь» на «князь» и в этом виде печатается сейчас во всех советских изданиях.
Д. Д. Благой пришел к выводу, что для этой замены нет сегодня никаких оснований. Вынужденно искаженный стих «Анчара» должен отныне печататься в своем первоначальном виде:
А царь тем ядом напитал...
* * *
В Малинниках Пушкин отдыхал душой, а осень в деревне располагала к творчеству. «Здесь мне очень весело, ибо я деревенскую жизнь очень люблю», - писал он А. А. Дельвигу в ноябре 1828 года.
И эта тихая, неяркая, располагающая к внутреннему умиротворению природа севера подсказала поэту необычайно музыкальное, глубоко лирическое стихотворение «Цветок»:
Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я;
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя:
Где цвел? когда? какой весною?
И долго ль цвел? и сорван кем,
Чужой, знакомой ли рукою?
И положен сюда зачем?
На память нежного ль свиданья,
Или разлуки роковой,
Иль одинокого гулянья
В тиши полей, в тени лесной?
И жив ли тот, и та жива ли?
И нынче где их уголок?
Или уже они увяли,
Как сей неведомый цветок?
* * *
м ысль о назначении поэта не оставляет Пушкина. И вот здесь, в Малинниках, он снова предается своим излюбленным размышлениям. Лишь в минуты творческого вдохновения, писал тогда Пушкин, поэт «к ногам народного кумира не клонит гордой головы», вне этого он «меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он...».
Стихотворение «Поэт» явилось ответом всем, кто упрекал Пушкина в том, будто он проповедует «искусство для искусства», оторванное от народа, от жгучих общественно-политических вопросов его времени.
С особой силой Пушкин развил свое понимание роли поэта в стихотворении «Поэт и толпа», ранее носившем название «Чернь».
Действующим лицом в стихотворении представлена чернь, которая в диалоге с поэтом так сама себя характеризует:
Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыдны, злы, неблагодарны;
Мы сердцем хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнездятся клубом в нас пороки:
Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы послушаем тебя.
Ясно, что со всеми этими пороками перед поэтом предстает не простой русский народ, а «хладная и надменная», барски-пренебрежительная великосветская толпа - чернь.
К ней Пушкин обратил в эпиграфе стихотворения восклицание жреца из 6-й песни «Энеиды» Вергилия: «Procul este, profani» - «Прочь, непосвященные» :
Подите прочь - какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело:
Не оживит вас лиры глас!
Душе противны вы, как гробы.
Для вашей глупости и злобы
Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры...
И когда в модном салоне Зинаиды Волконской толпа светских гостей обратилась к Пушкину с просьбою прочесть какое-нибудь новое свое стихотворение, он в досаде прочел «Чернь» и, кончив, с сердцем сказал:
- В другой раз не станут просить!..
Размышления Пушкина о месте поэта в обществе завершил сонет «Поэту», написанный им через полтора года.
Возмущенный нападками «Московского телеграфа» и булгаринской «Северной пчелы», посягательством на его творчество со стороны официальных кругов, Пушкин мучительно переживал обвинения его в том, будто он проповедует отчуждение поэта от толпы поистине народной. Он сознавал свое величие подлинно национального поэта, и тем тягостнее было ощущать свое одиночество в чуждом ему светском обществе. Сохраняя гордую независимость, Пушкин обращается к самому себе как высшему судье своего труда:
Поэт! не дорожи любовию народной.
Восторженных похвал пройдет минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной:
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.
Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда тебя влечет свободный ум,
У совершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.
* * *
В Малинниках Пушкин работал над «Романом в письмах», седьмой главой «Евгения Онегина» и «Отрывками из путешествия Онегина».
В этих «Отрывках» порою трудно отличить, говорит ли Пушкин об Онегине или отдается личным воспоминаниям:
Какие б чувства ни таились
Тогда во мне - теперь их нет;
Они прошли иль изменились...
Мир вам, тревоги прошлых лет!
В ту пору мне казались нужны
Пустыни, волн края жемчужны,
И моря шум, и груды скал,
И гордой девы идеал,
И безыменные страданья...
Другие дни, другие сны;
Смирились вы, моей весны
Высокопарные мечтанья,
И в поэтический бокал
Воды я много подмешал.
«В этих строфах вскрыта эволюция творчества Пушкина за 1820-1830 годы - изменение идей, тематики и стилистики от периода «Кавказского пленника» до болдинской «Шалости» (1830) и «Истории села Горюхина» (начатой в 1830 г.). ...Мечты о независимой жизни в усадьбе, в поместье - «обители трудов и чистых нег» в 30-х годах получили у Пушкина устойчивую форму»12.
Дальше идет новый отрывок из «Путешествия Онегина»:
Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи
Да пруд под сенью ив густых,
Раздолье уток молодых;
Теперь мила мне балалайка,
Да пьяный топот трепака
Перед порогом кабака.
Мой идеал теперь - хозяйка,
Мои желания - покой,
Да щей горшок, да сам большой.
«Эта строфа давно признана манифестом пушкинского художественного реализма. Предельная простота формы была завоевана Пушкиным в длительном процессе творческого труда. Мастер слова, он, подобно другим художникам, знал «муки слова», приходил к итогу после долгих поисков»13.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ
1830
«Кавказ подо мною...»
Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство бога скрыться мне!..
А. С. Пушкин. «Монастырь на Казбеке»
Александр Сергеевич Пушкин. С акварели П. Соколова. 1830 г.
Наталья Николаевна Пушкина. С акварели А. Брюллова.
В декабрьский вечер 1828 года в Москве, куда снова приехал Пушкин, произошла встреча, роковым образом изменившая весь ход жизни Пушкина: на одном из московских балов поэт увидел шестнадцатилетнюю красавицу - Наталью Гончарову.
«В белом воздушном платье, с золотым обручем на голове, она в этот знаменательный вечер поражала всех своей классической, царственной красотой. Александр Сергеевич не мог оторвать от нее глаз. Слава его тогда уже прогремела на всю Россию. Он всюду являлся желанным гостем; толпы ценителей и восторженных поклонниц окружали его, ловя всякое слово, драгоценно сохраняя его в памяти. Наталья Николаевна была скромна до болезненности; при первом знакомстве их его знаменитость, властность, присущие гению, - не то что сконфузили, а как-то придавили ее...» - пишет А. П. Ланская, дочь Натальи Николаевны от второго брака.
Красота девушки поразила Пушкина, и он тогда же сказал, что участь его будет навеки связана с нею.
Будущее их не предвещало, однако, ничего доброго...
Тяжелая жизнь в доме Гончаровых наложила, видимо, на облик девушки какой-то отпечаток страдания. Дед ее, владелец полотняных фабрик в Калужской губернии, растратил нажитое предками огромное состояние, отец сошел с ума и страдал буйными припадками, мать создала для трех своих дочерей невыносимо тяжелую обстановку.
Пушкин был серьезно увлечен. Ему было уже тридцать лет, глубокое одиночество в чуждом поэту светском мире все больше и больше тяготило, воспоминания о пережитом вызывали «змеи сердечной угрызенья», и он мечтал о женитьбе, семейной жизни, возможности предаться спокойному творческому труду.
П. А. Вяземский, еще не знавший о встрече Пушкина с юной Гончаровой, сразу заметил в нем перемену и писал 9 января 1829 года А. И. Тургеневу: «Он что-то во все время был не совсем по себе. Не умею объяснить, ни угадать, что с ним было... и все не узнавал прежнего Пушкина».
В то время славились в Москве своею красотою две девушки - Алябьева и Гончарова. Осведомившись о серьезных намерениях Пушкина, Вяземский послал ему 26 апреля 1830 года, накануне помолвки, из Петербурга в Москву: «Гряди, жених, в мои объятия!.. Поздравляю тебя от всей души... Я помню, что сравнивал я Алябьеву с классической красотой, а невесту твою с красотою романтическою. Тебе, первому нашему романтическому поэту, и следовало жениться на первой романтической красавице нынешнего поколения».
Пушкин после встречи с Натальей Гончаровой уехал 3 или 7 января 1829 года в Старицу, имея в виду позаботиться о выпуске «Полтавы», но в середине марта снова вернулся в Москву. Он стал бывать в доме Гончаровых, познакомился и с восемнадцатилетней сестрой Натальи, Александриной, знавшей наизусть его стихи. Поэт нравился ей.
Наталья Гончарова была очень застенчива, держала себя с Пушкиным тихо и робко и тем еще больше нравилась ему. Впрочем, и сам поэт держал себя с нею застенчиво, с благоговейным восхищением, надеясь приобрести со временем ее расположение.
Мать, Наталья Ивановна, ханжа и церковница, женщина грубая и своенравная, не очень жаловала Пушкина, с его вольными стихами и мятежными репликами, оскорблявшими ее монархические чувства, ее преклонение пред Александром I.
И когда 1 мая 1829 года Ф. И. Толстой - «Американец» явился в дом Н. И. Гончаровой и от имени Пушкина просил руки ее дочери Натальи Николаевны, она ответила уклончиво: дочь еще слишком молода, надо подождать...
Поэт с сомнительной политической репутацией, не располагавший к тому же определенным материальным состоянием, не очень импонировал ей в качестве мужа дочери-красавицы. Собственное ее имение было разорено, она нуждалась и рассчитывала найти для дочери лучшую партию.
Пушкин, получив ответ матери Гончаровой, в тот же день написал, ей:
«На коленях, проливая слезы благодарности, должен был бы я писать вам теперь, после того как граф Толстой передал мне ваш ответ: этот ответ - не отказ, вы позволяете мне надеяться. Не обвиняйте меня в неблагодарности, если я всё еще ропщу, если к чувству счастья примешиваются еще печаль и горечь; мне понятна осторожность и нежная заботливость матери! - Но извините нетерпение сердца больного, которому недоступно счастье. Я сейчас уезжаю и в глубине своей души увожу образ небесного существа, обязанного вам жизнью...»
Отправив письмо, Пушкин тут же, не испросив разрешения Бенкендорфа, выехал на Кавказ и в Арзрум, где шла война России с Турцией. В действовавшей армии находились тогда брат Пушкина Лев, лицейский товарищ, декабрист В. Д. Вольховский, брат лицейского товарища, декабрист М. И. Пущин, близкие друзья его генералы М. Ф. Орлов и Н. Н. Раевский.
В рядах действовавшей против турок кавказской армии было вообще много разжалованных в рядовые декабристов, и «прикосновенных» к восстанию лиц, и очень много солдат - участников восстания.
Пушкину хотелось хоть на короткое время вырваться из тисков Петербурга, влекла его к себе и война, шум подъятых «знамен бранной чести», жажда сильных впечатлений -
Вечерний барабан, гром пушки, визг ядра
И смерти грозной ожиданье.
Бенкендорф насторожился, узнав о самовольном отъезде Пушкина на Ка вказ. Он предложил петербургскому генерал-губернатору П. В. Голенищеву-Кутузову учредить за поэтом на Кавказе наблюдение. Тот довел об этом до сведения главнокомандующего отдельным кавказским корпусом И. Ф. Паскевича. Паскевич приказал начальнику своего штаба предупредить тифлисского военного губернатора о предстоящем прибытии Пушкина и необходимости учредить за ним надзор.
Тифлисский военный губернатор с своей стороны предписал тифлисскому гражданскому губернатору «следить за Пушкиным по его прибытии и секретно доносить ему об его образе жизни».
Так весь полицейский и жандармский аппарат был поднят на ноги, чтобы преследовать по пятам поэта, осмелившегося выехать из Петербурга на юг...
* * *
4 марта 1829 года петербургский почт-директор К. Я. Булгаков выдал Пушкину подорожную на получение лошадей до Тифлиса и обратно.
В Москве Пушкин посетил его брата - А. Я. Булгакова, тоже назначенного вскоре московским почт-директором. Услышав, что поэт собирается ехать на Кавказ, дочь Булгакова воскликнула:
- Ах, не ездите! Там убили Грибоедова...
- Будьте покойны, сударыня, - ответил Пушкин, - неужели в одном году убьют двух Александров Сергеевичей? Будет и одного!
Еще один знакомый заметил Пушкину:
- О боже мой, не говорите мне о поездке в Грузию. Этот край может назваться врагом нашей литературы. Он лишил нас Грибоедова.
- Так что же? - ответил поэт. - Ведь Грибоедов сделал свое. Он написал уже «Горе от ума»...
Пушкин выехал на Кавказ 1 мая 1829 года. «Кавказский край, знойная граница Азии... Ермолов наполнил его своим именем и благотворным гением...» - писал он брату Льву еще 24 сентября 1820 года, из ссылки.
Уже тогда Пушкин заочно познакомился с знаменитым «проконсулом Кавказа» Алексеем Петровичем Ермоловым, который был в 1798 году посажен императором Павлом I в крепость и затем сослан... Ермолов прославился в войну 1812 года, и Александр I назначил его в 1817 году главноначальствующим Грузией, где он проявил себя талантливым администратором.
Поникни снежною главой,
Смирись, Кавказ: идет Ермолов! -
восклицал Пушкин в том же, 1820 году в эпилоге «Кавказского пленника».
Пушкин знал, как необычайно популярен был на Кавказе Ермолов, как покровительствовал он находившимся под его началом ссыльным декабристам и как они любили его. Знал, что, находясь у Николая I под сильным подозрением, Ермолов вынужден был в 1827 году, во время персидской кампании, подать в отставку и поселился в своей деревне под Орлом.
Выехав из Москвы и явно рискуя, Пушкин все же решил свернуть в сторону и сделать двести верст лишних, чтобы увидеть Ермолова.
«Лицо круглое, огненные серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на геркулесовом торсе» - таким предстал перед поэтом прославленный генерал.
Сам Ермолов тогда же, в мае 1829 года, писал Денису Давыдову об этой встрече: «Был у меня Пушкин. Я в первый раз видел его и, как можешь себе сообразить, смотрел на него с живейшим любопытством. В первый раз не знакомятся коротко, но какая власть высокого таланта! Я нашел в себе чувство, кроме невольного уважения».
Посетивший позже Ермолова П. И. Бартенев писал восхищенно: «Как хорош был среброволосый герой Кавказа, когда он говорил, что поэты суть гордость нации...»
* * *
Из Орла, минуя Курск и Харьков, Пушкин «своротил на прямую тифлисскую дорогу». «Переход от Европы к Азии делается час от часу чувствительнее», - писал Пушкин и рассказал, как посетил по пути калмыцкую кибитку:
«Всё семейство собиралось завтракать; котел варился посредине, и дым выходил в отверстие, сделанное вверху кибитки. Молодая калмычка, собою очень недурная, шила, куря табак. Я сел подле нее. «Как тебя зовут?» - «***». - «Сколько тебе лет?» - «Десять и восемь». - «Что ты шьешь?» - «Портка». - «Кому?» - «Себя». - Она подала мне свою трубку и стала завтракать».
Кибитка представляла собой клетчатый плетень, обтянутый белым войлоком. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Калмычка подала Пушкину свой ковшик. Он «не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа», и попросил чем-нибудь заесть это варево. Ему дали кусочек сушеной кобылятины, чему он был очень рад. «Калмыцкое кокетство испугало» Пушкина, и он поспешил выбраться из кибитки.
Этой «степной Цирцее» Пушкин посвятил 22 мая 1829 года стихи:
Твои глаза, конечно, узки,
И плосок нос, и лоб широк,
Ты не лепечешь по-французски,
Ты шелком не сжимаешь ног,
По-английски пред самоваром
Узором хлеба не крошишь,
Не восхищаешься Сен-Маром,
Слегка Шекспира не ценишь,
Не погружаешься в мечтанье,
Когда нет мысли в голове,
Не распеваешь: Ма dov’e14,
Галоп не прыгаешь в собранье...
Что нужды? - Ровно полчаса,
Пока коней мне запрягали,
Мне ум и сердце занимали
Твой взор и дикая краса.
Друзья! не всё ль одно и то же:
Забыться праздною душой
В блестящей зале, в модной ложе,
Или в кибитке кочевой?
* * *
«На холмах Грузии...» Автограф с рисунком А. С. Пушкина.
Пушкин приближался к Кавказу. Вдали показались десять лет тому назад воспетые им в «Кавказском пленнике» «престолы вечные снегов». Попрежнему «орлы с утесов подымались», «сдвигая камни вековые, текли потоки дождевые»... Они были всё те же. Но кругом поэт нашел большую перемену. «Мне было жаль их прежнего, дикого состояния, - писал Пушкин, - мне было жаль крутых каменных тропинок, кустарников и неогороженных пропастей, над которыми, бывало, я карабкался...»
Пушкин и сам изменился за десятилетие, протекшее со дня его первой встречи с Кавказом. Это был уже не юный романтический автор «Кавказского пленника», а много переживший, многое познавший тридцатилетний человек, ставший певцом русской действительности.
На горячих водах поэта снова охватили волнующие воспоминания о первом путешествии по Кавказу: «Я поехал обратно в Георгиевск - берегом быстрой Подкумки. Здесь бывало сиживал со мною Николай Раевский, молча прислушиваясь к мелодии волн», - вспоминал Пушкин.
Рядом с образом Николая Раевского перед поэтом встал образ сестры его, Марии Раевской, вышедшей замуж за декабриста Волконского и находившейся тогда вместе с мужем «далеко» в Сибири, на каторге. И вот слагается страстный гимн о давней его «утаенной любви»:
Всё тихо - на Кавказ идет ночная мгла,
Восходят звезды надо мною.
Мне грустно и легко - печаль моя светла,
Печаль моя полна тобою -
Тобой, одной тобой - унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит оттого,
Что не любить оно не может.
Прошли за днями дни. Сокрылось много лет.
Где вы, бесценные созданья?
Иные далеко, иных уж в мире нет.
Со мной одни воспоминанья.
Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь
И без надежд и без желаний.
Как пламень жертвенный, чиста моя любовь
И нежность девственных мечтаний.
Рядом с этими воспоминаниями встал другой образ - Натальи Гончаровой, чьей руки добивался в ту пору Пушкин... Он не мог поэтому открыто сказать тогда, что в душе его воскресли на Кавказе воспоминания о прежнем глубоком чувстве. И сразу же в первом, черновом, варианте стихотворения перечеркнул третью строфу, а вслед за нею и четвертую.
Остались лишь первые две, предельно обобщенные строфы, которые можно было отнести не к давнему увлечению Марией Раевской, а к новому, возникшему в сердце поэта чувству - увлечению Натальей Гончаровой.
При этом Пушкин изъял из первой строфы и упоминание о Кавказе, где он встретился с Марией Раевской, обозначив местом действия Грузию и берег Арагвы. После всех этих изъятий и исправлений стихотворение опубликовано было в таком виде:
На холмах Грузии лежит ночная мгла:
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит - оттого,
Что не любить оно не может.
* * *
«Кавказ нас принял в свое святилище. Мы услышали глухой шум и увидели Терек, разливающийся по разным направлениям... Чем далее углублялись мы в горы, тем уже становилось ущелье...» - записал Пушкин. Величавая, суровая природа, населяющий его свободный, гордый народ произвели на поэта большое впечатление.
Он очень мало написал в 1829 году, до поездки на Кавказ.
Направляясь по Военно-Грузинской дороге, Пушкин поражен был величием Дарьяльского ущелья, видом развалин крепости на крутой скале, где, по преданию, скрывалась какая-то царица Дария, именем этой царицы и было названо ущелье. Пушкин часто «шел пешком и поминутно останавливался, пораженный мрачною прелестию природы». Вот эту «мрачную прелесть природы» он и отразил потом в стихотворении «Кавказ»:
Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины:
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рожденье
И первое грозных обвалов движенье.
Здесь тучи смиренно идут подо мной;
Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады;
Под ними утесов нагие громады;
Там ниже мох тощий, кустарник сухой;
А там уже рощи, зеленые сени,
Где птицы щебечут, где скачут олени.
А там уж и люди гнездятся в горах,
И ползают овцы по злачным стремнинам,
И пастырь нисходит к веселым долинам,
Где мчится Арагва в тенистых брегах,
И нищий наездник таится в ущелье,
Где Терек играет в свирепом веселье;
Играет и воет, как зверь молодой,
Завидевший пищу из клетки железной;
И бьется о берег в вражде бесполезной,
И лижет утесы голодной волной...
Вотще! нет ни пищи ему, ни отрады:
Теснят его грозно немые громады.
* * *
Встреча А. С. Пушкина с телом А. С. Грибоедова. С акварели П. Бореля.
Пушкин приближался к Тифлису. Здесь надеялся он найти своего старинного друга Николая Раевского, но, узнав, что полк его уже выступил в поход, решился просить у главнокомандующего Кавказским корпусом графа Паскевича позволения приехать в армию.
В ожидании ответа знакомился с Тифлисом. Его дружески встретили виднейшие грузинские поэты Александр Чавчавадзе и Григорий Орбелиани. Передовая русская и грузинская молодежь устроила в его честь торжественный праздник в загородном саду за рекой Курой. Пушкина осыпали цветами, к нему «подходили с заздравными бокалами и выражали ему, как кто умел, свои чувства, свою радость видеть его среди себя и благодаря его от лица просвещенных современников и будущего потомства за бессмертные творения, которыми он украсил русскую литературу».
Пушкин был взволнован:
- Я вижу, как меня любят, понимают и ценят, - говорил он, - и как это делает меня счастливым...
Наконец пришел от Николая Раевского ответ. Он просил Пушкина спешить к Карсу, потому что через несколько дней войско должно было идти дальше.
Пушкин сразу же выехал. На границе Грузии с Арменией, у крепости Гергеры, он неожиданно увидел, как «два вола, впряженные в арбу, подымались на крутую гору. Несколько грузин сопровождали арбу».
- Откуда вы? - спросил их Пушкин.
- Из Тегерана.
- Что вы везете?
- Грибоеда, - последовал ответ.
Это было тело убитого в Персии поэта А. С. Грибоедова.
Еще так недавно Пушкин встречался с ним в Петербурге, читал в его присутствии, в доме графа Лаваля, своего «Бориса Годунова»...
«Он был печален и имел странные предчувствия, - записал после этой встречи Пушкин. - Я было хотел его успокоить; он мне сказал: «Vousne connaissez pas ces gens-la: voas verrez quil faudra jouer des couteaux»15. Он полагал, что причиною кровопролития будет смерть шаха и междоусобица его семидесяти сыновей. Но престарелый шах еще жив, а пророческие слова Грибоедова сбылись. Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства. Обезображенный труп его, бывший три дня игралищем тегеранской черни, узнан был только по руке, некогда простреленной пистолетною пулею.
Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году... - всё в нем было необыкновенно привлекательно...
Он... уехал в Грузию, где пробыл осемь лет в уединенных неусыпных занятиях. Возвращение его в Москву в 1824 году было переворотом в его судьбе и началом беспрерывных успехов. Его рукописная комедия «Горе от ума» произвела неописанное действие и вдруг поставила его на ряду с первыми нашими поэтами. Несколько времени потом... он назначен был посланником...
Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны...»
* * *
13 июня 1829 года Пушкин добрался, наконец, до лагеря русской армии. Генерал Раевский поселил его в своей палатке, и здесь он встретился с братом Львом, с лицейским товарищем Вольховским, с декабристом Михаилом Пущиным.
Пред Пушкиным сразу встал лик войны. В первый же день он увидел на склоне горы отряд казаков, а на вершине хребта - турецких всадников в высоких чалмах и красивых доломанах. Они с большой дерзостью прицеливались в казаков и, выстрелив, скакали назад. На горе лежал труп обезглавленного казака.
И тогда родились строфы стихотворения «Делибаш», что по-турецки означает «отчаянная голова». В одной из них Пушкин изобразил виденное:
Мчатся, сшиблись в общем крике...
Посмотрите! каковы?..
Делибаш уже на пике,
А казак без головы.
Вечером войско получило приказ идти вперед, а на другой день, 14 июня, завязалась перестрелка с турками. В ней принял неожиданно участие Пушкин. «Когда войска, совершив трудный переход, отдыхали в долине Инжа-Су, неприятель внезапно атаковал передовую цепь нашу, - записал об этом Н. И. Ушаков. - Поэт, в первый раз услышав около себя столь близкие звуки войны, не мог не уступить чувству энтузиазма. В поэтическом порыве он тотчас выскочил из ставки, сел на лошадь и мгновенно очутился на аванпостах. Опытный майор Семичев, посланный генералом Раевским вслед за поэтом, едва не настигнул его и вывел насильно из передовой цепи казаков в ту минуту, когда Пушкин, одушевленный отвагою, столь свойственною новобранцу-воину, схватив пику после одного из убитых казаков, устремился против неприятельских всадников. Можно поверить, что Донцы наши были чрезвычайно изумлены, увидев пред собою незнакомого героя в круглой шляпе и бурке. Это был первый и последний военный дебют любимца Муз на Кавказе».
Эпизод этот и самого себя, скачущего на казацкой лошади с нагайкою в руке, Пушкин запечатлел в стихотворении:
Был и я среди донцов,
Гнал и я османов шайку;
В память битвы и шатров
Я домой привез нагайку.
На походе, на войне
Сохранил я балалайку -
С нею рядом, на стене
Я повешу и нагайку.
* * *
Взятие Арзрума. Литография Хоштейна с рисунка Машкова.1830-г годы.
Русские войска продвигались вперед по турецкой земле. 23 июня они заняли древнейшую крепость турецкой Армении - Гассан-Кале, а 27 июня, в годовщину полтавского сражения, русские полки вошли в Арзрум, русское знамя развилось над его цитаделью. Сераскир и четверо пашей, высшие чины турецкой армии, были взяты в плен.
Один из них, увидев Пушкина не в военном облачении, а во фраке, осведомился, кто он. Услышав, что пред ним поэт, он сложил руки на грудь, поклонился и обратился к Пушкину с восточным приветствием:
«Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт брат дервишу. Он не имеет ни отечества, ни благ земных; и между тем как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли и ему поклоняются».
Выходя из палатки, где находились сераскир и пленные паши, Пушкин увидел молодого человека, полунагого, в бараньей шапке, с дубиною в руке и с бурдюком за плечами. Он кричал во все горло. Пушкину пояснили, что это был «брат» его, дервиш, пришедший приветствовать победителей.
Взятием Арзрума война была закончена. 2 сентября 1829 года был заключен с Турцией Адрианопольский мир, по которому Россия приобретала острова в устье Дуная и по которому к ней переходило все кавказское побережье Черного моря от устьев Кубани до северной границы Аджарии, а также крепости Ахалкалаки и Ахалцых с прилежащими районами на Черноморском побережье Кавказа от Анапы до Поти. Греция получала независимость.
Позже, уже находясь в Москве и получив сообщение о заключении мира, Пушкин прославил эту победу в стихах:
Опять увенчаны мы славой.
Опять кичливый враг сражен,
Решен в Арзруме спор кровавый,
В Эдырне мир провозглашен.
И дале двинулась Россия,
И юг державно облегла,
И пол-Эвксина вовлекла
В свои объятия тугие.
* * *
Из палатки Раевского в лагере Пушкин после взятия Арзрума переселился во дворец сераскира. С Паскевичем, который вначале встретил и принял его радушно, отношения испортились. Главнокомандующий, быть может, надеялся, что поэт будет воспевать его подвиги, и советовал во время боев находиться неотлучно при нем. А Пушкин при первой же возможности, по воспоминанию участника похода, скрывался от него и неожиданно оказывался где-нибудь впереди, в самой свалке сражения. Паскевич неоднократно предупреждал Пушкина не зарываться так далеко.
Не нравилось Паскевичу слишком близкое общение поэта с своими друзьями, разжалованными и направленными в армию декабристами. Это было главное. Наконец он вызвал его к себе в палатку и резко заявил:
- Господин Пушкин! Мне вас жаль, жизнь ваша дорога для России. Вам здесь делать нечего, а потому я советую немедленно уехать из армии обратно, и я уже велел приготовить для вас благонадежный конвой.
Пушкин порывисто поклонился Паскевичу, выбежал из палатки и начал собираться в путь.
19 июля 1829 года Пушкин пришел к Паскевичу проститься. Тот подарил ему на память турецкую саблю. «Она хранится у меня памятником моего странствования вослед блестящего героя по завоеванным пустыням Армении», - записал Пушкин. Она и сегодня хранится в последней квартире поэта на Набережной Мойки, 12, в Ленинграде.
В тот же день Пушкин покинул лагерь. Направляясь прежним путем в Москву, он 1 августа был уже в Тифлисе. Здесь посетил свежую могилу Грибоедова. Преклонив колена, «долго стоял, наклонив голову, а когда поднялся, на глазах его были заметны слезы».
И записал: «Не знаю ничего завиднее последних его годов бурной жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неравного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна».
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
МОСКВА - ПЕТЕРБУРГ
1829-1830
«Сколько мук ожидало меня по возвращении!»
Довольно! С ясною душою
Пускаюсь ныне в новый путь
От жизни прошлой отдохнуть.
А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»
В двадцатых числах сентября Пушкин вернулся в Москву. Он поспешил к Гончаровым, но здесь его ожидал холодный прием. Как вспоминал брат Гончаровой: «Было утро; мать еще спала, а дети сидели в столовой за чаем. Вдруг стук на крыльце, и вслед за тем в самую столовую влетает из прихожей калоша. Это Пушкин, торопливо раздевавшийся. Войдя, он тотчас спрашивает про Наталью Николаевну. За нею пошли, но она не смела выйти, не спросившись матери, которую разбудили. Будущая теща приняла Пушкина в постели».
Удрученный таким приемом, Пушкин писал ей позже: «Когда я увидел ее в первый раз, красоту ее едва начинали замечать в свете. Я полюбил ее, голова у меня закружилась, я сделал предложение, ваш ответ, при всей его неопределенности, на мгновение свел меня с ума; в ту же ночь я уехал в армию, вы спросите меня - зачем? Клянусь вам, не знаю, но какая-то непроизвольная тоска гнала меня из Москвы; я бы не. мог там вынести ни вашего, ни ее присутствия. Я вам писал; надеялся, ждал ответа - он не приходил...
Ваше молчание, ваша холодность, та рассеянность и то безразличие, с каким приняла меня м-ль Натали... У меня не хватило мужества объясниться...»
От Гончаровых Пушкин направился к своим друзьям Ушаковым. Он рассказывал им об Арзруме и в их знаменитом ушаковском альбоме сделал несколько зарисовок.
Пушкин пробыл в этот раз в Москве недолго. Выехав 12 октября 1829 года, он завернул по пути в Малинники и в начале ноября был уже в Петербурге. Здесь его около месяца ждал строгий запрос Бенкендорфа: «По каким причинам не изволили вы сдержать данного мне слова и отправились в закавказские страны, не предупредив меня о намерении вашем сделать сие путешествие?»
«По прибытии на Кавказ, - отвечал на это Пушкин, - я не мог устоять против желания повидаться с братом, который служит в Нижегородском драгунском полку и с которым я был разлучен в течение 5 лет. Я подумал, что имею право съездить в Тифлис. Приехав, я уже не застал там армии. Я написал Николаю Раевскому, другу детства, с просьбой выхлопотать для меня разрешение на приезд в лагерь. Я прибыл туда в самый день перехода через Саган-лу и, раз я уже был там, мне показалось неудобным уклониться от участия в делах, которые должны были последовать; вот почему я проделал кампанию в качестве не то солдата, не то путешественника».
Написанные Пушкиным по возвращении из Арзрума лирические произведения отражают глубокие раздумья поэта.
Пушкин создает одно из совершеннейших своих творений - трогательно-нежное стихотворение:
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.
«Любовь в поэзии Пушкина - это глубокое, нравственно чистое, бесконечно нежное и самоотверженное чувство, облагораживающее и очищающее человека. Даже тогда, когда ей нет отклика, она дар жизни. Идеал любимой представляется поэту как «гений чистой красоты», как «чистейшей прелести чистейший образец»16
Любви у Пушкина сопутствует часто ревность и разлука. Но, расставаясь, он всегда желает любимой счастья. Грусть, печаль и рядом с ними оптимизм, вера в жизнь - все это присуще творчеству зрелого Пушкина...
Такова лирика Пушкина... «Читая его творения, можно превосходным образом воспитать в себе человека... - писал Белинский. - Ни один из русских поэтов не может быть столько, как Пушкин, воспитателем юношества, образователем юного чувства. Поэзия его чужда всего фантастического, мечтательного, ложного, призрачно-идеального; она вся проникнута насквозь действительностью; она не кладет на лицо жизни белил и румян, но показывает ее в ее естественной, истинной красоте; в поэзии Пушкина есть небо, но им всегда проникнута земля».
Пушкин пишет стихотворение, в котором слышится мотив неизбежности смерти:
Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных,
Я предаюсь моим мечтам.
Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдем под вечны своды -
И чей-нибудь уж близок час.
Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.
Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю:
Мне время тлеть, тебе цвести.
День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.
И где мне смерть пошлет судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?
Тема о неизбежности смерти не раз звучала в произведениях Пушкина и других современных ему поэтов, но это стихотворение по существу своему глубоко оптимистично и заканчивается жизнеутверждающе:
И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.
И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.
* * *
Пушкина не оставляли в покое его идейные противники.
Много душевных сил отнимала у Пушкина и борьба с литературными недругами, развернувшаяся зимой 1829/30 года, - с критиком Н. И. Надеждиным и с издателем и вдохновителем «Северной пчелы» и «Сына отечества» Ф. В. Булгариным.
Острыми эпиграммами расправился Пушкин с яростно нападавшим на него Надеждиным; критик развязно писал, что поэзия Пушкина - «резвая шалунья, для которой весь мир ни в копейку», что «поэзия Пушкина есть просто пародия», что «для гения не довольно смастерить Евгения!», что «Полтава» есть настоящая Полтава для Пушкина: ему назначено было здесь испытать судьбу Карла XII...» «Бориса Годунова» Надеждин предлагал Пушкину просто сжечь...
Эпиграфом к одной своей статье он поставил Горациев стих: «Берите труд не свыше сил своих». Пушкин ответил ему притчей «Сапожник», написанной по мотивам рассказа знаменитого римского писателя I века Плиния Старшего о живописце IV века до нашей эры Апеллесе:
Картину раз высматривал сапожник
И в обуви ошибку указал;
Взяв тотчас кисть, исправился художник.
Вот, подбочась, сапожник продолжал;
«Мне кажется, лицо немного криво...
А эта грудь не слишком ли нага?..»
Тут Апеллес прервал, нетерпеливо:
«Суди, дружок, не свыше сапога!»
Есть у меня приятель на примете;
Не ведаю, в каком бы он предмете
Был знатоком, хоть строг он на словах,
Но черт его несет судить о свете:
Попробуй он судить о сапогах!
После критики «Полтавы» Надеждин игриво заметил: «Что будет, то будет! Утешаюсь, по крайней мере, тою мыслию, что, ежели певцу «Полтавы» вздумается швырнуть в меня эпиграммой, то это будет для меня незаслуженное удовольствие». Пушкин и доставил ему это «удовольствие».
* * *
Злейшим врагом Пушкина был Ф. В. Булгарин. Благодаря поддержке III отделения, агентом которого являлся Булгарин, газета его была самым распространенным органом печати той поры и, по существу, монопольным.
Против Булгарина и его газеты стала постепенно возникать в литературных кругах оппозиция. При участии Пушкина образовался кружок талантливейших писателей, поэтов, ученых, критиков того времени, противостоявших Булгарину и его монополии. Жуковский, Вяземский, Баратынский, Плетнев, Гнедич, вошедшие в этот кружок, решили издавать «Литературную газету».
Издателем и редактором этой газеты стал Дельвиг, соредактором - журналист О. Сомов, руководителями - Пушкин и Вяземский. Первый номер газеты вышел 1 января 1830 года; выходила она один раз в пять дней.
Газета Дельвига не имела права касаться политических тем. «Цель сей газеты, - объявлял издатель в первом номере, - знакомить публику с новейшими произведениями литературы европейской и в особенности российской».
Знакомя читателей с программой газеты, Дельвиг считал необходимым особо подчеркнуть: «Издатель признает за необходимое объяснить, что в газете его не будет места критической перебранке. Критики, имеющие в виду не личные привязки, а пользу какой-либо науки или искусства, будут с благодарностью принимаемы в «Литературную газету».
Пушкин стал вскоре душою газеты. После выхода двух первых ее номеров Дельвиг на некоторое время уехал в Москву, и десять номеров редактировал Пушкин.
Для него издание «Литературной газеты» имело особое значение. Он настоятельно нуждался в газетной трибуне для своих критических и публицистических высказываний. К этой деятельности он проявлял исключительный интерес.
Газета Дельвига состояла из восьми полос и по своему формату скорее походила на современный иллюстрированный журнал.
Полное ее название было - «Литературная газета, составленная из повестей, анекдотов, статей о нравах, разных литературных отрывков, библиографических и театральных статей и других произведений изящной словесности в стихах и прозе».
Читателям сообщалось, что будет помещаться на страницах газеты:
«1. Проза. В это отделение будут входить статьи исторические, повести оригинальные и переводные, отрывки из романов и т. п.
2. Стихотворения. Здесь будут помещаться произведения полные и отрывки из больших поэтических сочинений.
3. Библиография русская и иностранная. К известиям о книгах будут присовокупляться замечания более или менее обширные, смотря по важности предмета и по достоинству сочинений; местами же и любопытные выписки, особливо из книг иностранных.
4. Ученые известия. Об открытиях, изобретениях по части науки и искусства, о новых теориях, о замечательнейших учебных курсах; о важнейших путешествиях, изысканиях древностей и т. п.
3. Смесь. В этом отделении будут помещаться разные известия, не относящиеся до учености и политики; новейшие анекдоты, объявления, статьи о театре, короткие замечания и проч.
При всех сих отделениях, по принадлежности, будут иногда прилагаться чертежи, картинки, географические карты и ноты».
Такова была программа газеты. Она стала значительным литературным органом того времени.
В течение первых девяти недель существования «Литературной газеты» Пушкин опубликовал в ней 20 статей, рецензий, заметок... Ни в одном году своей жизни, если не считать года издания «Современника», Пушкин не уделял так много времени и внимания критике и публицистике, как в пору издания «Литературной газеты».
Пушкин проявляет во всех своих статьях и письмах исключительный интерес к вопросам литературной теории и критики. Он пишет заметки о творчестве поэтов и писателей как старшего, так и современного ему поколения, о литературе мировой - греческой и римской, раннего и позднего средневековья, о литературе Возрождения, о французском классицизме и романтизме, о литературе немецкой, английской, итальянской, о всех сколько-нибудь значительных новинках французской поэзии, прозы и публицистики...
Особенно часто и охотно Пушкин обращался к литературному наследию Шекспира, Вольтера, Гёте, Байрона, Вальтера Скотта, всегда учитывая при этом значение их опыта для путей развития русской литературы.
Исследования показывали, что до нас дошло около 160 статей и заметок Пушкина, не считая дневниковых записей и выписок из разных печатных и архивных источников. При жизни Пушкина из этих 160 произведений опубликовано было только 55, остальное входило в литературный и научный оборот в течение ста двадцати лет, появляясь на страницах общей и специальной печати, начиная с «Современника» 1837 года и первого посмертного издания «Сочинений Александра Пушкина».
Откликаясь на первые публикации неоконченных статей и заметок Пушкина, В. Г. Белинский писал, что во всех этих не известных ранее материалах «виден не критик, опиравшийся в своих суждениях на известные начала, но гениальный человек, которому его верное и глубокое чувство или, лучше сказать, богатая субстанция открывает истины везде, на что он ни взглянет... когда дело идет о таком человеке, как Пушкин, тогда мелочей нет, а все, в чем видно даже простое его мнение о чем бы то ни было, важно и любопытно: даже самые ошибочные понятия Пушкина интереснее и поучительнее самых несомненных истин многих тысяч людей».
* * *
Перелистывая страницы выпущенных Дельвигом номеров «Литературной газеты», мы видим, что первый номер открывается романом А. Погорельского «Магнетизер».
Затем следовал отрывок из «Путешествия Онегина»:
Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля
При свете утренней Киприды,
Как вас впервой увидел я...
В отделе библиографии, вопреки заявлению издателя, что в газете не будет места «критической перебранке», напечатана была резкая заметка по адресу московского Цензурного комитета. Только что вышедшее тогда двухтомное собрание сочинений и переводов Д. И. Фонвизина издано было «с повреждением текста, долженствовавшего оставаться неприкосновенным, с выпусками, с переменами оглавлений, со статьями без начала и конца, с бесчисленным множеством всякого рода ошибок».
Две заметки А. С. Пушкина помещены были в отделе смеси.
Первая из них:
«В конце истекшего года вышла в свет «Некрология генерала-от-кавалерии Н. Н. Раевского», умершего 16 сентября 1829 г. Сие сжатое обозрение, писанное, как нам кажется, человеком, сведущим в военном деле, отличается благородною теплотою слога и чувств. Желательно, чтобы то же перо описало пространнее подвиги и приватную жизнь героя и добродетельного человека. С удивлением заметили мы непонятное упущение со стороны неизвестного некролога: он не упомянул о двух отроках, приведенных отцом на поля сражений в кровавом 1812-м году!.. Отечество того не забыло».
Пушкин имел в виду известный эпизод из истории Отечественной войны 1812 года, когда генерал Н. Н. Раевский, взяв за руки двух своих сыновей, Александра и Николая, повел свою часть вперед со словами:
«Вперед, ребята! За царя и за отечество я и дети мои, коих приношу в жертву, откроем вам путь!..»
Эпизод этот нашел отражение в ряде красочных лубков того времени. Раевский был тогда очень популярен. О его подвиге Жуковский писал в одной из строф своего стихотворения «Певец во стане русских воинов»:
Раевский, слава наших дней,
Хвала! перед рядами.
Он первый, грудь против мечей
С отважными сынами!
Во второй заметке сообщалось о предстоящем выходе в свет переведенного князем Вяземским «славного романа» Бенжамена Констана «Адольф».
Содержание первого номера дельвиговской «Литературной газеты» позволяло судить о широкой программе, разнообразии материала, творческих возможностях ее авторов.
* * *
Второй номер открылся стихотворением Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных».
В те дни вышла на русском языке «Илиада» Гомера, над переводом которой поэт Н. И. Гнедич работал свыше двадцати лет.
Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи;
Старца великого тень чую смущенной душой...
Этими двумя чудесными строками отметил Пушкин появление «Илиады», а в «Литературной газете» писал:
«Наконец вышел в свет так давно и так нетерпеливо ожиданный перевод «Илиады»! Когда писатели, избалованные минутными успехами, большею частию устремились на блестящие безделки, когда талант чуждается труда, а мода пренебрегает образцами величавой древности, когда поэзия не есть благоговейное служение, но токмо легкомысленное занятие, - с чувством глубоким уважения и благодарности взираем на поэта, посвятившего гордо лучшие годы жизни исключительному труду, бескорыстным вдохновениям и совершению единого высокого подвига. Русская «Илиада» перед нами. Приступаем к ее изучению, дабы со временем отдать отчет нашим читателям о книге, долженствующей иметь столь важное влияние на отечественную словесность».
Знакомясь со следующими номерами газеты, мы видим, что постоянными сотрудниками ее были поэты А. С. Пушкин, П. А. Катенин, П. А. Вяземский, Е. А. Баратынский, И. И. Козлов, И. А. Крылов.
Несколько стихотворений прислал из Сибири декабрист А. И. Одоевский; стихотворения его, по понятным причинам, напечатаны были без подписи автора.
В первые месяцы существования газеты Пушкин довольно часто помещал в ней свои стихотворения. Там были напечатаны: «В часы забав иль праздной скуки...», «Когда твои младые лета...», послание «К Языкову» («Издревле сладостный союз...»), «Что в имени тебе моем...», «Послание к Н. Б. Ю.», «Собрание насекомых», «Кавказ», «Мадонна», отрывок из прозаического «Путешествия в Арзрум» и другие.
В марте 1830 года Пушкин уехал в Москву, но продолжал сотрудничать в газете.
В тридцать восьмом номере он поместил за подписью «Крс» (согласные буквы в обратном порядке его арзамасского прозвища «Сверчок») стихотворение «Калмычке».
В сорок третьем номере поэт впервые напечатал посвященное декабристам стихотворение «Арион».
* * *
Блюдя чистоту журнальных нравов, «Литературная газета» выразила свое отрицательное отношение к «Сыну Отечества», поместившего на своих страницах такую заметку о писателе Н. Полевом:
«Ныне некто г-н Николай Полевой, в сочинительском пылу о дарованиях и знаниях своих возмечтав, первый том «Истории русского народа» напечатал и там равномерно свои суесловия о происхождении руссов поместил» Николай Полевой был известным в свое время писателем, критиком и журналистом, издавал журнал «Московский телеграф». И хотя он был идейным противником «Литературной газеты», в ней напечатаны были следующие строки в адрес «Сына Отечества»:
«Мы не одобряем личностей и непристойных выходок, хотя бы предметами оных были и люди, коих мнения и литературные действия в совершенном противоречии с нашими. Выражение «некто г-н Полевой» есть выражение нелитературное, невежливое. Осуждайте творение, но имейте всегда уважение к лицу».
По поводу приемов критики Пушкин писал: «В одном из наших журналов дают заметить, что «Литературная газета» у нас не может существовать по весьма простой причине: у нас нет литературы. - Если б это было справедливо, то мы не нуждались бы и в критике; однако ж произведения нашей литературы как ни редки, но являются, живут и умирают, не оцененные по достоинству. Критика в наших журналах или ограничивается сухими библиографическими известиями, сатирическими замечаниями, более или менее остроумными, общими дружескими похвалами, или просто превращается в домашнюю переписку издателя с сотрудниками, с корректором и проч.
Скажут, что критика должна единственно заниматься произведениями, имеющими видимое достоинство; не думаю. Иное сочинение само по себе ничтожно, но замечательного своему успеху или влиянию; и в сем отношении нравственные наблюдения важнее наблюдений литературных...»
В первые два месяца существования «Литературной газеты», когда Пушкин исполнял, совместно с Сомовым, обязанности главного редактора, он «не только больше всех поместил своих критических статей в газете, но и подверг многое из чужих литературных материалов редакторско-стилистической правке, состоящей нередко из нескольких строк, в отдельных случаях резко выделяющейся по стилистическим признакам».
Но некоторые важные статьи газеты до сих пор остаются еще не прикрепленными к авторам, не расшифрованы подлинные имена писавших.
* * *
В «Литературной газете» Пушкин дал высокую оценку историческому роману М Н. Загоскина «Юрий Милославский»; всячески поощрял новые таланты в русской литературе.
Молодой Кольцов был поражен трогательным приемом, оказанным ему Пушкиным и высоко оценившим его песни. «Со слезами на глазах рассказывал нам об этой торжественной в его жизни минуте», - вспоминал В. Г. Белинский.
Дружески встречал всегда Пушкин Н. В. Гоголя, с которым познакомился у Жуковского. «Пушкин заставил меня взглянуть на дело серьезно, - рассказывал Гоголь. - Он уже давно склонял меня приняться за большое сочинение...»
Пушкин подсказал Гоголю сюжет «Ревизора» и «Мертвых душ» и был первым слушателем и ценителем его произведений.
Привлекая в «Литературную газету» новые таланты, Пушкин неизменно поддерживал все, что помогало развитию реалистического направления, органического сочетания реалистического письма с историзмом, сам он дал образец глубокого понимания социальной типичности человека, его классовой обусловленности.
«Литературная газета» просуществовала до середины 1831 года. Пушкин возбудил тогда ходатайство о разрешении ему издавать новую литературно-политическую газету.
Осенью 1832 года царь разрешил издание газеты, был даже набран «примерный ее нумер» под названием: «Дневник. Политическая и литературная газета». Но выход ее не состоялся. Лишь в 1836 году Пушкин начал издавать свой журнал «Современник».
Рождение «Литературной газеты» было особенно враждебно встречено Булгариным и Гречем.
Когда выяснилось, что из находившейся на просмотре в III отделении драмы Пушкина «Борис Годунов» Булгарин позаимствовал несколько сцен для своего «Дмитрия Самозванца», в «Литературной газете» появился анонимный критический разбор этого булгаринского произведения.
Булгарин приписал его перу Пушкина и поместил в «Северной пчеле» анекдот о некоем «французском стихотворце, служащем усерднее Бахусу и Плутусу, нежели музам».
Пушкин ответил на этот выпад эпиграммой в адрес некоего Видока Фиглярина, в котором все узнали Фаддея Булгарина, и вслед за нею - второй:
Не то беда, Авдей Флюгарин,
Что родом ты не русский барин,
Что на Парнасе ты цыган,
Что в свете ты Видок Фиглярин:
Беда, что скучен твой роман.
Имя Видока Пушкин не зря приобщил к фамилии Фиглярина - Булгарина. Во Франции вышли в ту пору Записки парижского палача и полицейского сыщика Видока, и Пушкин поместил в «Литературной газете» статью «О записках Видока», в которой нетрудно было определить острую памфлетную характеристику Булгарина. Одновременно была печатно разоблачена связь Булгарина с III отделением.
Булгарин провозгласил тогда «совершенное падение» Пушкина как поэта, поместив в «Северной пчеле» резко отрицательный отзыв о только что появившейся седьмой главе «Евгения Онегина». Он писал, что у Пушкина сердце, «как устрица, и голова - род побрякушки, набитой гремучими рифмами, где не зародилась ни одна идея», что он «чванится перед чернью дворянством, а тайком ползает у ног сильных» и т. д., и т. д.
Даже Николай I был возмущен этой «несправедливейшей и пошлейшей» статьей Булгарина. Бенкендорф защитил, однако, свого агента и не почел возможным закрыть его журнал. Булгарин между тем не унимался и выступил с новыми нападками на Пушкина. Он писал о забавности аристократических замашек некоего «мулата-поэта», возомнившего, что один из его предков - негритянский принц, тогда как этот принц был куплен пьяным шкипером в одном из портов «за бутылку рома». Пушкин ответил на новый выпад Булгарина стихотворением «Моя родословная» и эпиграммой:
Говоришь, за бочку рома;
Не завидное добро.
Ты дороже, сидя дома,
Продаешь свое перо.
В письмах к Плетневу Пушкин писал, что «русская словесность головою выдана Булгарину», что «в России пишет один Булгарин...», «Руки чешутся, хочется раздавить Булгарина».
* * *
Архангельское, усадьба князя Н. Б. Юсупова. Въездные ворота. Фотография.
Архангельское. Вид дворца со стороны парка. Фотография.
Большим нападкам подвергся вскоре Пушкин за написанное в Москве 23 апреля 1830 года стихотворение «К вельможе», адресованное князю Николаю Борисовичу Юсупову.
Этот сановник екатерининской эпохи объездил всю Европу. Встречался с Бомарше, посетил Вольтера в Фернее, был посланником при Ватикане, в Венеции и Неаполе. «Поняв жизни цель», живя для жизни, «смолоду ее разнообразив», увидел он Версаль, когда «там ликовало все», и снова оказался в Париже в дни революции...
Все изменилося. Ты видел вихорь бури,
Падение всего, союз ума и фурий,
Свободой грозною воздвигнутый закон,
Под гильотиною Версаль и Трианон
И мрачным ужасом смененные забавы.
Преобразился мир при громах новой славы.
Возвратившись из-за границы, Юсупов заведовал императорскими театрами и Эрмитажем и последние годы жил в своем великолепном подмосковном Архангельском.
Пушкин любил слушать рассказы деятелей XVIII века о былом. Получив приглашение Юсупова посетить его, он обратился к нему со стихотворным посланием, в котором нарисовал образ екатерининского вельможи, продолжающего жить в новой эпохе XIX века:
Один всё тот же ты. Ступив за твой порог,
Я вдруг переношусь во дни Екатерины.
Книгохранилище, кумиры, и картины,
И стройные сады свидетельствуют мне,
Что благосклонствуешь ты музам в тишине,
Что ими в праздности ты дышишь благородной.
Я слушаю тебя: твой разговор свободный
Исполнен юности. Влиянье красоты
Ты живо чувствуешь. С восторгом ценишь ты
И блеск Алябьевой и прелесть Гончаровой.
Беспечно окружась Корреджием, Кановой,
Ты, не участвуя в волнениях мирских,
Порой насмешливо в окно глядишь на них
И видишь оборот во всем кругообразный.
В этом послании Пушкин далек был от всякой лести Юсупову. Но Н. Полевой, недавно еще благожелательно относившийся к Пушкину, поместил в своей газете «Московский телеграф» памфлет «Утро в кабинете знатного барина», в котором показал Пушкина, явившегося к вельможе с благодарственным посланием за выпрошенное приглашение к столу.
Недостойному выпаду Полевого мог позавидовать Булгарин, но ответил на него не Пушкин, а Белинский: «Некоторые крикливые глупцы, - писал он, - не поняв этого стихотворения, осмеливались, в своих полемических выходках, бросать тень на характер великого поэта, думая видеть лесть там, где должно видеть только в высшей степени художественное постижение и изображение целой эпохи в лице одного из замечательнейших ее представителей... Этот портрет вельможи старого времени - дивная реставрация руины в первобытный вид здания. Это мог сделать только Пушкин».
* * *
Дом Гончаровых в Москве, на Большой Никитской, 50.
Журнальная борьба с литературными недругами и всякого рода неприятности, терзавшие Пушкина весною 1830 года в Москве, по-прежнему не могли отвлечь его от мысли о Наталье Гончаровой. Чувство поэта к ней росло, и он решил сделать новую попытку добиться ее руки. Полученное перед тем спокойное «милостивое» письмо от матери Гончаровой давало к тому основание.
5 апреля он в большом письме к ней горячо и откровенно выразил свои опасения и сомнения по поводу того, принесет ли их брак счастье ее дочери, а в апреле, в первый день пасхи, решил пойти к Гончаровым, на Большую Никитскую (ныне улица Герцена).
- Дай мне, пожалуйста, твой фрак, - обратился он к своему другу П. В. Нащокину. - Я свой не захватил, да, кажется, у меня и нет его...
Фрак оказался «счастливым», шутил позже Пушкин. Предложение его Наталье Гончаровой было принято. Безмерно счастливый, он сразу же сообщил об этом родителям:
«Я намерен жениться на молодой девушке, которую люблю уже год, - м-ль Натали Гончаровой. Я получил ее согласие, а также и согласие ее матери. Прошу вашего благословения, не как пустой формальности, но с внутренним убеждением, что это благословение необходимо для моего благополучия - и да будет вторая половина моего существования более для вас утешительна, чем моя печальная молодость».
В ответ на это Сергей Львович, отец, выделил сыну часть сельца Кистеневки, Сергачского уезда, - небольшую долю его нижегородского имения.
Чувствовалось, однако, что мать Гончаровой заботило политическое и материальное положение Пушкина: не находится ли он на дурном счету у государя?
Стремясь выяснить отношение к нему правительства, Пушкин написал письмо Бенкендорфу. Сообщая о согласии м-ль Гончаровой выйти за него замуж и опасения ее матери по поводу его материального состояния и положения относительно правительства, Пушкин вынужден признать, что положение его ложно и сомнительно. В 1824 году он был исключен из службы, но сегодня ему было бы тягостно вернуться на нее, ибо она отвлекла бы его от литературных занятий, которые дают ему средства к жизни.
Он признается, что счастье его зависит сегодня от одного благосклонного слова государя, и вынужден умолять его величество развязать ему руки и дозволить отпечатать написанного пять лет тому назад «Бориса Годунова» в том виде, в каком он считает это нужным.
Царь благосклонно отнесся к браку Пушкина с Гончаровой - он, видимо, полагал, что семейная жизнь отвлечет поэта от его мятежных настроений и выступлений, - и «Бориса Годунова» разрешил печатать «под личную ответственность» автора.
Сообщая об этом Пушкину, Бенкендорф цинично лгал по поводу отношения к нему правительства и полиции, когда писал: «Его величество император, в совершенном отеческом попечении о вас, милостивый государь, удостоил поручить мне, генералу Бенкендорфу, - не как шефу жандармов, а как человеку, к которому ему угодно относиться с доверием, - наблюдать за вами и руководительствовать своими советами; никогда никакая полиция не получала распоряжения следить за вами».
Письмо это, однако, необходимо было для успокоения родителей невесты, и оно достигло своей цели: 6 мая 1830 года состоялась помолвка Пушкина с Гончаровой. Об этом были разосланы печатные извещения. На посланном своему другу Нащокину билете Пушкин шутливо написал: «Павлу Воиновичу Нащокину, от автора, 6 мая 1830 г. Москва».
Друзья тепло и сердечно поздравляли Пушкина. «Он прикован, очарован и огончарован», - писал о Пушкине М. П. Погодин уехавшему в Италию С. П. Шевыреву.
Были и сомневающиеся. Генерал С. Д. Киселев, женившийся на Елизавете Ушаковой, сестре Екатерины, которой поэт немного увлекался, писал: «Пушкин женится на Гончаровой, между нами сказать, на бездушной красавице, и мне сдается, что он бы с удовольствием заключил отступной контракт».
Собственные свои настроения, глубоко личные переживания и мысли Пушкин выразил в отрывке «Участь моя решена. Я женюсь...». Отрывок этот был написан поэтом 12 и 13 мая 1830 года и от начала до конца автобиографичен:
«Участь моя решена. Я женюсь...
Та, которую любил я целые два года, которую везде первую отыскивали глаза мои, с которой встреча казалась мне блаженством, - боже мой, - она... почти моя.
Ожидание решительного ответа было самым болезненным чувством жизни моей. Ожидание последней заметавшейся карты, угрызение совести, сон перед поединком - все это в сравнении с ним ничего не значит...»
И еще чисто автобиографическое признание Пушкина:
«Я женюсь, т. е. я жертвую независимостью, моею беспечной, прихотливой независимостью, моими роскошными привычками, странствиями без цели, уединением, непостоянством.
Я готов удвоить жизнь, и без того неполную. Я никогда не хлопотал о счастии: я мог обойтись без него. Теперь мне нужно на двоих, а где мне взять его?..
Итак, уж это не тайна двух сердец. Это сегодня новость домашняя, завтра - площадная.
Так поэма, обдуманная в уединении, в летние ночи, при свете луны, продается потом в книжной лавке и критикуется в журналах дураками».
Пушкин был счастлив, но отношения с семьей невесты не налаживались. Пушкин писал своей приятельнице, Е. М. Хитрово: «Родным моей жены очень мало дела и до нее и до меня. Я от всего сердца плачу им тем же. Такие отношения очень приятны, и я никогда не изменю их».
* * *
После помолвки начались веселые предсвадебные дни Пушкина и невесты. Накануне они смотрели в Благородном собрании, нынешнем Доме Союзов, драму Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние». Не столько на знаменитую Семенову, сколько на Пушкина с невестой обращали зрители свои взоры.
Вместе с родными и Нащокиным они посетили Нескучный сад. При их появлении приостановлена была репетиция спектакля в только что открывшемся «воздушном театре», декорацией которого служили живые деревья и кустарники. Толпы народа восторженно приветствовали помолвленных.
Работал Пушкин в те дни мало и охотно посещал друзей. Посетил душевнобольного поэта К. Н. Батюшкова, жившего в Грузинах, в Тишинском переулке, в особом домике, под присмотром врача. Тот, однако, не узнал уже своего друга...
Тяжело болел тогда его дядя, поэт Василий Львович. Пушкин относился к нему тепло и сердечно, искренне любил, хотя к поэтическому творчеству его относился иронически снисходительно. Когда племянник сообщил ему о помолвке, он со слезами на глазах поздравил его стихами:
Блаженствуй! - Но в часы свободы, вдохновенья
Беседуй с музами, пиши стихотворенья,
Словесность русскую, язык обогащай,
И вечно с миртами ты лавры съединяй!
Погодин устроил обед, на который пригласил Пушкина и его ярого критика Надеждина, рассчитывая примирить их, но встреча эта ни к чему не привела.
Примирение не состоялось, а Пушкину Надеждин показался «весьма простонародным, вульгарным, скучным, заносчивым и без всякого приличия». Он считал его критики живыми, иногда красноречивыми, но очень глупо написанными. «В них не было мыслей, - отмечал Пушкин, - но было движение; шутки были плоски».
Сам Погодин нередко навещал Пушкина и был очень обрадован добрым отзывом поэта о его драме «Марфа Посадница».
Познакомился Пушкин со знаменитой итальянской певицей Анжеликой Каталани. После встречи она записала в своем дневнике: «Знаменитый поэт Пушкин, вернувшийся с Кавказа, был в Москве. Мне очень хотелось с ним познакомиться... Поэт был очень мил и наговорил мне кучу комплиментов. Говорят, что он очень увлечен Гончаровой и женится на ней».
В те дни Пушкин встретился с Анной Керн, которая написала П. А. Анненкову: «В этот приезд Пушкин казался совсем другим человеком: он был серьезен, важен, как следовало человеку с душою, принимавшему на себя обязанность осчастливить другое существо».
Во второй половине мая Пушкин выехал из Москвы в имение Гончаровых Полотняный Завод, находившееся в шестнадцати километрах от Калуги. Он провел здесь около недели, познакомился с дедом Натальи Николаевны, Афанасием Николаевичем, благословившим внучку на брак с Пушкиным.
* * *
После кратковременной поездки в Петербург Пушкин вернулся в Москву. Остановился у Вяземского.
Дядя Пушкина, поэт Василий Львович продолжал болеть. Уже изнемогающий, он прочитал в «Литературной газете» статью П. А. Катенина и, увидев входящего племянника, сказал после короткого забытья:
- Как скучны статьи Катенина!
И более ни слова. Услышав эти слова, Пушкин направился на цыпочках к двери и шепнул собравшимся родным и друзьям его:
- Господа, выйдемте; пусть это будут последние его слова...
И писал Плетневу: «Каково? вот что значит умереть честным воином, на щите, le cri guerre a la bouche!17»
На постели Василия Львовича лежал только что читанный томик Беранже.
Вместе с «депутацией всей литературы всех школ, всех партий» Пушкин проводил дядю от Старой Басманной до кладбища Донского монастыря. Могила его у самых стен кладбищенской церкви бережно охраняется и сегодня...
* * *
А. С. Пушкин. С гравюры Н. Уткина.
В связи со смертью Василия Львовича свадьбу, из-за семейного траура, пришлось отложить, Осложнялись и денежные дела. С матерью невесты, Натальей Ивановной, происходили на этой почве частые размолвки. После очередной крупной ссоры Пушкин уехал в Болдино «без уверенности в своей судьбе».
Он написал невесте: «Я уезжаю в Нижний, не зная, что меня ждет в будущем. Если ваша матушка решила расторгнуть нашу помолвку, а вы решили повиноваться ей, - я подпишусь под всеми предлогами, какие ей угодно будет выставить, даже если они будут так же основательны, как сцена, устроенная ею мне вчера, и как оскорбления, которыми ей угодно меня осыпать.
Быть может, она права, а неправ был я, на мгновение поверив, что счастье создано для меня. Во всяком случае, вы совершенно свободны; что же касается меня, то заверяю вас честным словом, что буду принадлежать только вам, или никогда не женюсь».
Он сообщил о ссоре и В. Ф. Вяземской, с которой был дружен. Жаловался, что «госпожа Гончарова наговорила ему вещей, которых он по чести не мог стерпеть», и потому, уезжая, он оставил дверь открытой настежь.
«Ах, что за проклятая штука счастье!» - закончил Пушкин письмо.
Своими грустными мыслями и настроениями Пушкин поделился с П. А. Плетневым:
«Сейчас еду в Нижний, т. е. в Лукоянов, в село Болдино - пиши мне туда, коли вздумаешь.
Милый мой, расскажу тебе все, что у меня на душе: грустно, тоска, тоска. Жизнь жениха тридцатилетнего хуже 30-ти лет жизни игрока. Дела будущей тещи моей расстроены. Свадьба моя отлагается день ото дня далее. Между тем я хладею, думаю о заботах женатого человека, о прелести холостой жизни. К тому же московские сплетни доходят до ушей невесты и ее матери - отсюда размолвки, колкие обиняки, ненадежные примирения - словом, если я и не несчастлив, по крайней мере не счастлив. Осень подходит. Это любимое мое время - здоровье мое обыкновенно крепнет - пора моих литературных трудов настает - а я должен хлопотать о приданом да о свадьбе, которую сыграем бог весть когда. Все это не очень утешно. Еду в деревню, бог весть, буду ли там иметь время заниматься и душевное спокойствие, без которого ничего не произведешь, кроме эпиграмм на Каченовского... Черт меня догадал бредить о счастии, как будто я для него создан...»
* * *
Накануне отъезда из Москвы Пушкин зашел к Ю. Н. Бартеневу, чтобы вернуть ему альбом, в который тот просил вписать какое-нибудь стихотворение. Пушкин вписал сонет «Мадона» (Пушкин писал это слово через одно «н»), созданное в Петербурге 8 июля 1830 года:
Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я всегда желал свою обитель,
Чтоб суеверно им дивился посетитель,
Внимая важному сужденью знатоков.
В простом углу моем, средь медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш божественный спаситель -
Она с величием, он с разумом в очах -
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.
Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона,
Чистейшей прелести чистейший образец.
Стихотворение это Пушкин, конечно, посвящал своей невесте.
На другой день он покинул Москву и направился в Болдино.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
БОЛДИНО
1830
«И с каждой осенью я расцветаю вновь...»
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута - и стихи свободно потекут...
А. С. Пушкин. «Осень»
Болдинская осень... Чудесная, вдохновенная осень. Самая яркая и лирическая страница жизни поэта.
Осень была всегда любимым временем года Пушкина, «Теперь моя пора... И с каждой осенью я расцветаю вновь...» - писал поэт, когда «уж роща отряхала последние листы с нагих своих ветвей».
Вот в такую осень 1830 года Пушкин выехал в Болдино и соседнее сельцо Кистеневку. Выехал для раздела имения, часть которого отец выделил ему перед женитьбой; Путь лежал через Москву, Нижний Новгород - нынешний Горький, - Лукоянов.
В те дни в приволжских губерниях разразилась эпидемия холеры, и друзья удерживали Пушкина от поездки, но на душе у него было неспокойно, и он писал невесте: «Не будь я в дурном расположении духа, когда ехал в деревню, я бы вернулся в Москву со второй же станции, где узнал, что холера опустошает Нижний. Но в то время мне и в голову не приходило поворачивать вспять, и я не желал ничего лучшего, как заразы».
Пушкин приехал в Болдино 3 сентября 1830 года.
Представим себе осень в небольшом захолустном Болдине. Имение Пушкиных. Старый, потемневший барский дом, в котором жил поэт, небольшой, одноэтажный, с черным двором и службами, обнесенный мелким дубовым частоколом. Кругом дома - пустырь: ни цветников, ни сада; вблизи только небольшой пруд, известный ныне под названием «Пильники», да два-три деревца, из которых до наших дней сохранилось разве одно - огромный могучий вяз. За оградою усадьбы, невдалеке, вотчинная контора, против нее, на площади, церковь... Из окон дома открывался унылый вид на соломенные крыши крестьянских изб.
Единственно, что радовало глаз, - это роща, которую поэт назвал «Лучинником».
Унылый болдинский пейзаж, непролазная грязь, кругом холера и неожиданное карантинное заточение, полуразрыв с невестою, неотвязные мысли о неустроенности своей жизни и вечные скитания... В таком невеселом настроении Пушкин закончил в Болдине ранее начатые «Дорожные жалобы»:
Иль чума меня подцепит,
Иль мороз окостенит,
Иль мне в лоб шлагбаум влепит
Непроворный инвалид.
Иль в лесу под нож злодею
Попадуся в стороне,
Иль со скуки околею
Где-нибудь в карантине...
Неожиданно пришло письмо от Натальи Николаевны. Это был ответ на письмо, в котором поэт предоставлял ей полную свободу.
Письмо было примирительное, и Пушкин ответил невесте: «Ваше письмо прелестно, оно вполне меня успокоило...»
Поэт получал, видимо, от невесты письма и другого рода, которые заставляла ее писать мать, - наставления о необходимости соблюдать посты, молиться богу. Но настроение Пушкина все же улучшалось, приходило вдохновение.
«Теперь мрачные мысли мои порассеялись; приехал я в деревню и отдыхаю, - сообщал он Плетневу. - Около меня колера морбус. Знаешь ли, что это за зверь? Того и гляди, что забежит он и в Болдино, да всех нас перекусает - того и гляди, что к дяде Василью отправлюсь, а ты и пиши мою биографию... Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты, да и засесть стихи писать. Жена не то, что невеста. Куда! Жена свой брат. При ней пиши сколько хошь. А невеста пуще цензора Щеглова, язык и руки связывает... Сегодня от своей получил я премиленькое письмо; обещает выйти за меня и без приданого. Приданое не уйдет. Зовет меня в Москву - я приеду не прежде месяца...»
Самая деревня преобразилась вдруг в воображении поэта, и он заканчивает письмо:
«Ах, мой милый! Что за прелесть здешняя деревня! вообрази: степь да степь; соседей ни души; езди верхом сколько душе угодно, пиши дома сколько вздумается, никто не мешает. Уж я тебе наготовлю всячины, и прозы и стихов...»
И Пушкин начал писать «сколько вздумается» - страстно, вдохновенно, дни и ночи напролет...
* * *
Музей А. С. Пушкина в Болдине. С рисунка А. Михраняна.
Уже 7 сентября Пушкин написал стихотворение «Бесы», которое Белинский назвал русской балладой. В нем он отразил состояние путника, сбившегося в метель с пути, и одновременно это были размышления о судьбах современной ему России:
Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Еду, еду в чистом поле;
Колокольчик дин-дин-дин...
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин.
«Эй, пошел, ямщик!..» - «Нет мочи:
Коням, барин, тяжело;
Вьюга мне слипает очи;
Все дороги занесло;
Хоть убей, следа не видно;
Сб ились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам...»
И на другой день, 8 сентября, - новые элегические стихи, мыслями о невесте навеянные:
Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино - печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть - на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.
А 9 сентября Пушкин закончил первую «Повесть покойного Ивана Петровича Белкина» - «Гробовщик». И в тот же день написал невесте: поблагодарил за письмо.
Гений Пушкина расцвел в ту осень необычайно. В Болдине, как в былое время в царскосельской лицейской келье, муза «открыла пир младых затей».
Своему другу, барону Дельвигу, редактору «Северных цветов», Пушкин написал из Болдина:
«Посылаю тебе, барон, вассальскую мою подать, именуемую цветочною, по той причине, что платится она в ноябре, в самую пору цветов. Доношу тебе, моему владельцу, что нынешняя осень была детородна, и что коли твой смиренный вассал не околеет, от сарацинского падежа, холерой именуемого и занесенного нам крестовыми войнами, то есть бурлаками, то в замке твоем, «Литературной газете», песни трубадуров не умолкнут круглый год. Я, душа моя, написал пропасть... Скажи Плетневу, что он расцеловал бы меня, видя мое осеннее прилежание...»
Чтобы понять, какой поистине титанический труд выполнил тогда Пушкин, познакомимся с тем, как быстро создавалось все в те дни рожденное.
13 сентября написана была «Сказка о попе и о работнике его Балде», 14 сентября закончена повесть «Станционный смотритель», 20-го - «Барышня-крестьянка», 25-го - девятая глава «Евгения Онегина», позже ставшая восьмой, 1 октября - «Румяный критик мой...».
Прервав работу, Пушкин съездил 2 октября в соседнее имение Голицыных, чтобы выяснить, нельзя ли прорваться через карантины в Москву, до которой, по полученным им известиям, холера уже докатилась. Проехав двадцать верст, Пушкин остановился: застава!
Ему не удалось прорваться. Он вынужден был вернуться в Болдино и снова принялся за работу.
«Повесть, писанная октавами (стихов 400)», так назвал Пушкин «Домик в Коломне», написана была в течение шести дней, 5-10 октября, «Выстрел» - 12-14 октября, 16 октября - «Моя родословная», 17 - «Заклинание».
20 октября Пушкин закончил повесть «Метель», 23-го маленькую трагедию «Скупой рыцарь», 26-го - «Моцарт и Сальери».
На последней странице повести «История села Горюхина» Пушкин поставил дату окончания - 1 ноября. Через три дня, 4 ноября, закончил «Каменного гостя», 6 ноября - «Пир во время чумы».
И сделал после этого новую попытку прорваться в Москву - доехал до небольшой почтовой станции Владимирской губернии, в двадцати трех с половиной верстах от Мурома. Здесь была холерная застава, дальше его не пустили, он вынужден был снова вернуться через Лукоянов в Болдино.
В промежутках между драматическими сценами и повестями Пушкин создал, как он сообщил Плетневу, «30 мелких стихотворений», ряд критических и полемических статей и заметок.
«Мелкими» Пушкин назвал стихотворения, из которых каждое - истинный шедевр: «Бесы», «Паж или пятнадцатый год», «Румяный критик мой...», элегию «Безумных лет угасшее веселье», «Прощанье», «Отрок», «Стамбул гяуры нынче славят...», «Заклинание», «Рифма», «Для берегов отчизны дальной», «Моя родословная», «Я здесь, Инезилья...», «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «В начале жизни школу помню я», «Герой», «На перевод Илиады», «Пью за здравие Мери...», «Царскосельская статуя» и другие.
* * *
Первая строфа VIII - первоначально IX - главы «Евгения Онегина». Автограф А. С. Пушкина.
В ту болдинскую осень Пушкин прощался не только с друзьями и увлечениями легкой юности своей. Он прощался и с Онегиным своим. 9 мая 1823 года он начал в Кишиневе роман -
...собранье пестрых глав,
Полусмешных, полупечальных,
Простонародных, идеальных,
Небрежный плод моих забав,
Бессонниц, легких вдохновений,
Незрелых и увядших лет,
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет, -
а закончил «Евгения Онегина» в Болдине 25 сентября 1830 года. На следующий день, 26 сентября, составил план и хронологию своего романа, который до того выходил в свет отдельными главами.
По этому плану роман должен был состоять из трех частей, по три главы в каждой. Всем главам Пушкин дал свои названия: первой - «Хандра», второй - «Поэт», третьей - «Барышня», четвертой - «Деревня», пятой - «Именины», шестой - «Поединок», седьмой - «Москва», восьмой - «Странствие», девятой - «Большой свет». Подготовляя «Евгения Онегина» к печати, Пушкин, однако, решил все эти названия отбросить. Он подсчитал, сколько времени трудился над «Евгением Онегиным», и оказалось: 7 лет 4 месяца 17 дней!..
В Болдине Пушкин закончил 18 сентября восьмую главу, вошедшую впоследствии в роман под заглавием «Отрывки из путешествия Онегина», а 25 сентября - девятую главу, занявшую место восьмой.
Окончив роман, Пушкин написал:
Пора: перо покоя просит;
Я девять песен написал;
На берег радостный выносит
Мою ладью девятый вал -
Хвала вам, девяти каменам...
К последней главе «Евгения Онегина» Пушкин поставил эпиграфом начальные строки стихотворения «Прости», написанного Байроном в связи с его разводом с женой:
Прощай, и если навсегда,
То навсегда прощай.
Поэт как бы навсегда прощался с героями своего романа и закончил главу стихами:
Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел ее романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим.
И в конце главы написал слово: «Конец».
Расставшись с Онегиным, Пушкин облегченно вздохнул. Свои мысли и чувства, вызванные окончанием романа, он выразил в стихотворении «Труд»:
Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний.
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?
Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный,
Плату приявший свою, чуждый работе другой?
Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,
Друга Авроры златой, друга пенатов святых?
В черновике после двух первых стихов были еще:
Тихо кладу я перо, тихо лампаду гашу,
Что ж не вкушает душа ожидаемых ею восторгов?
* * *
За годы работы над «Евгением Онегиным» Пушкин сжился с его героями, ему трудно было расстаться с ними. Он пытался написать в Болдине и десятую главу романа, но, уже работая над нею, убедился, что это был обвинительный приговор самодержавию, что ее опасно оставлять среди других созданных в ту Болдинскую осень рукописей. Вот почему, предварительно зашифровав главу, он решил сжечь ее...
Стояла глубокая ночь. Доносился щемящий душу вой осеннего ветра. Пушкин еще раз, в последний раз, пробежал строфы обреченной на долгое забвение рукописи и поднес ее к горевшей на столе свече. Пламя вспыхнуло, охватило листы, и стройные, звучные строфы превратились в горстку пепла...
В ту же осень, в Болдине, Пушкин написал «Моцарта и Сальери». Читая десятую главу романа, мы невольно вспоминаем стихи из монолога Сальери:
Вкусив восторг и слезы вдохновенья,
Я жег мой труд и холодно смотрел,
Как мысль моя и звуки, мной рожденны,
Пылая, с легким дымом исчезали.
Пушкин сжег десятую главу - это хочется особо подчеркнуть - 19 октября 1830 года, в «день Лицея». Эту «святую годовщину» лицеисты первого выпуска привыкли «торжествовать» всегда вместе, а Пушкин вынужден был оставаться в тот день в Болдине одиноким, вдали от друзей.
Зашифрованная рукопись сожженной десятой главы представляла собою ряд разрозненных, лишенных всякой связи стихов.
Лишь в 1910 году, через восемьдесят лет, редактору сочинений Пушкина П. О. Морозову удалось проникнуть в тайные мысли, владевшие Пушкиным в ту осеннюю болдинскую ночь 1830 года, отыскать «концы стихов и верность выраженья» зашифрованных пушкинских строф, разобраться в них, снова связать между собой и придать им первоначальную стройность и поэтический блеск.
* * *
Московские и петербургские друзья советовали Пушкину продолжать «Евгения Онегина». Поэт ответил им:
Вы за «Онегина» советуете, други,
Опять приняться мне в осенние досуги.
Вы говорите мне: он жив и не женат.
Итак, еще роман не кончен - это клад:
Вставляй в просторную, вместительную раму
Картины новые - открой нам диораму:
Привалит публика, платя тебе за вход -
(Что даст еще тебе и славу и доход).
Пожалуй - я бы рад -
Так некогда поэт
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пушкин закончил эти стихи рядом точек: друзья, очевидно, должны были понять, что Пушкину и самому хотелось бы продолжить свой роман, но в условиях тогдашней политической обстановки это было невозможно.
* * *
А. С. Пушкин. С портрета О. Кипренского. 1827 г.
Осень в Болдине. Фотография.
«Повести Белкина». Первое издание 1831 года. Обложка.
«История села Горюхина». Автограф заглавной страницы с рисунком А. С. Пушкина. 1830 г.
Титульный лист к «Драматическим Сценам».Рисунок А. С. Пушкина. 1830 г.
Гробовщик и Готлиб Шульц. Рисунок А. С. Пушкина. 1830 г.
Пушкин задумал свой роман как «шуточное описание нравов» своего времени, но постепенно, в течение многолетнего труда, роман превратился в широкую картину русской жизни начала прошлого века. «Евгений Онегин» - самое крупное, наиболее популярное и первое подлинно реалистическое произведение в мировой литературе XIX века.
«Все-таки он лучшее мое произведение», - писал Пушкин А. Бестужеву в марте 1825 года об «Онегине».
Современники высоко оценили этот пушкинский роман в стихах. «Его «Онегин», - писал В. Г. Белинский, - есть поэма современной действительной жизни не только со всею ее поэзиею, но и со всею ее прозой, несмотря на то, что она писана стихами... «Евгений Онегин» есть поэма историческая в полном смысле слова, хотя в числе ее героев нет ни одного исторического лица... В ней Пушкин является не просто поэтом только, но и представителем впервые пробудившегося общественного самосознания: заслуга безмерная!»
В романе последовательно отразились впечатления петербургской жизни поэта в 1817-1820 годах и настроения во время пребывания в Михайловском в 1824-1825 годах.
В этом «собранье пестрых глав» рядом с Онегиным и другими героями зримо присутствует и сам Пушкин: роман насыщен многочисленными «лирическими отступлениями», отражающими страницы личной жизни поэта, его взаимоотношения с друзьями.
Этим разнообразным и часто неожиданным отступлениям В. Г. Белинский дал такую оценку: «Отступления, делаемые поэтом от рассказа, обращения его к самому себе исполнены необыкновенной грации, задушевности, чувства, ума, остроты; личность поэта в них является такою любящею, такою гуманною. В своей поэме он умел коснуться так многого, намекнуть о столь многом, что принадлежит исключительно к миру русской природы, к миру русского общества! «Онегина» можно назвать энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением».
Жизнь Онегина, параллельно с жизнью самого Пушкина, вплетается в важнейшие события общественной жизни первой четверти XIX века.
В романе нашли художественное воплощение все слои русского общества крепостной эпохи, дана широкая картина быта и нравов. И если бы Пушкин продолжал свой роман, то, по его словам, «Онегин должен был или погибнуть на Кавказе, или попасть в ряды декабристов».
Известный пушкинирт Н. Л. Бродский в своей книге о романе «Евгений Онегин» особо подчеркивает, что Пушкин включил в свой роман «картину тех горячих споров, которые велись в Каменке в декабристской среде, которые он сам вел с крупнейшими деятелями общественного движения...».
О трагической судьбе трех главных действующих лиц романа - Ленского, Онегина, Татьяны - Пушкин повествует как о типическом явлении русской жизни своего времени, независимо от того, идет ли речь о судьбе простой крестьянки или гибели декабристов.
Пушкинский роман в стихах - подлинно реалистическое произведение, отличное от классической и романтической литературы; оно пронизано грустью, светлой печалью, исполнено веры в жизнь, в человека, в лучшее будущее.
«Онегин»; - писал В. Г. Белинский, - есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии, и можно указать слишком на немногие творения, в которых личность поэта отразилась бы с такою полнотою, светло и ясно, как отразилась в «Онегине» личность Пушкина. Здесь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здесь его чувства, понятия, идеалы. Оценить такое произведение значит - оценить самого поэта во всем объеме его творческой деятельности. Не говоря уже об эстетическом достоинстве «Онегина», эта поэма имеет для нас, русских, огромное историческое и общественное значение».
Высоко ценил Пушкина и «Евгения Онегина» В. И. Ленин. Посетив в конце февраля 1921 года коммуну Вхутемаса, Ленин сказал собравшейся молодежи по поводу ее увлечения футуризмом и отрицания «Евгения Онегина»: «Вот как, вы, значит, против «Евгения Онегина»? Ну, уж мне придется тогда быть «за»... Вот приеду в следующий раз, тогда поспорим...» И так как разговор происходил в третьем часу ночи, добавил шутя: «Ну, а вы все-таки спать-то пораньше ложитесь, а то что ж, научиться научитесь, а сил-то против «Евгения Онегина» не хватит...»
* * *
Созданные Пушкиным в Болдине маленькие трагедии явились новым словом в драматургии.
Работая в Болдине над «Домиком в Коломне», Пушкин писал:
...Странным сном
Бывает сердце полно; много вздору
Приходит нам на ум, когда бредем
Одни или с товарищем вдвоем.
Тогда блажен, кто крепко словом правит...
Все написанное в Болдине говорит о том, что Пушкин в созданных тогда произведениях действительно «крепко словом правил».
Замысел маленьких трагедий возник у Пушкина еще в 1826 году, в Михайловском, и вскоре он набросал тематический план этих трагедий, в который вошло десять названий: «Скупой», «Ромул и Рем», «Моцарт и Сальери», «Дон-Жуан», «Иисус», «Беральд Савойский», «Павел I», «Влюбленный бес», «Димитрий и Марина», «Курбский».
Из этих десяти задуманных произведений Пушкин написал в Болдине три: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и, помимо списка, «Пир во время чумы».
Маленькие трагедии построены на резких контрастах и отличаются глубоким раскрытием душевных свойств действующих лиц. Пушкин отразил в них накопленные им наблюдения противоречий человеческих чувств и борьбу страстей - скупости, зависти, честолюбия, любви, чувственности.
* * *
«Скупой рыцарь» - не низкий ростовщик, а барон, охваченный болезненной страстью к накоплению золота, приобретением огромной власти над людьми, которую деньги дают ему одному, владеющему им. С изумительной глубиной Пушкин раскрывает психологию средневекового феодала, ослепленного жестокой властью золота:
Мне все послушно, я же - ничему;
Я выше всех желаний; я спокоен;
Я знаю мощь мою: с меня довольно
Сего сознания...
(Смотрит на свое золото.)
Кажется, не много,
А скольких человеческих забот,
Обманов, слез, молений и проклятий
Оно тяжеловесный представитель!..
Пушкин был хорошо знаком с посвященными этой теме произведениями Шекспира, Мольера, Вальтера Скотта и других крупнейших писателей, но он сумел дать более яркий образ скупого.
Белинский писал о «Скупом рыцаре» Пушкина: «Страсть скупости - идея не новая, но гений умеет и старое сделать новым. Идеал скупца один, но типы его бесконечно различны. Плюшкин Гоголя гадок, отвратителен - это лицо комическое; барон Пушкина ужасен - это лицо трагическое. Оба они страшно истинны...» «По выдержанности характеров... по мастерскому расположению, по страшной силе пафоса, по удивительным стихам, по полноте и оконченности, - словом, по всему эта драма - огромное, великое произведение...»
* * *
«Моцарт и Сальери»... Сальери, выдающийся композитор, учитель Бетховена и Шуберта, охвачен иной страстью - завистью.
В пушкинскую пору - семидесятипятилетний Сальери умер в 1825 году, а Моцарт в 1791, в тридцатипятилетнем возрасте, - широко распространились слухи, будто Сальери из зависти отравил Моцарта. Авторитетные исследователи его жизни отрицали это. Вопрос этот и сегодня не выяснен, но Пушкин считал это вероятным и в заметке «О Сальери» писал: «В первое представление «Дон-Жуана», в то время, когда весь театр, полный изумленных знатоков, безмолвно упивался гармонией Моцарта, раздался свист - все обратились с негодованием, и знаменитый Сальери вышел из зала в бешенстве, снедаемый завистию.
Сальери умер лет восемь тому назад. Некоторые немецкие журналы говорили, что на одре смерти признался он будто бы в ужасном преступлении - в отравлении великого Моцарта. Завистник, который мог освистать «Дон-Жуана», мог отравить его творца».
Такими антиподами Пушкин и изобразил Моцарта и Сальери.
«Сальери гордый» убежден, что он никогда не был «завистником презренным», но, увидев, как Моцарт привел с собой из трактира слепого скрипача, который по его просьбе играл арию из «Дон-Жуана», восклицает:
Нет.
Мне не смешно, когда маляр негодный
Мне пачкает Мадонну Рафаэля...
И признается:
...А ныне - сам скажу - я ныне
Завистник. Я завидую; глубоко,
Мучительно завидую. - О небо!
Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений - не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан -
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!
Белинский высоко оценил и эту трагедию. Он находил, что Пушкин представил в ней, в лице великого Моцарта, тип непосредственной гениальности, проявляющей себя без всяких усилий, не подозревая даже своего величия. Радостное, солнечное искусство противопоставлено в трагедии злобной зависти и коварству Сальери... В лице Моцарта Пушкин защищал независимость и собственного творчества в условиях режима николаевского самодержавия.
* * *
«Моцарт и Сальери». Афиша первого представления 27 января 1832 г.
«Каменный гость»... Пушкинский Дон Гуан признается Доне Анне, что он «несчастный, жертва страсти безнадежной», любовной страсти -
Из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает;
Но и любовь мелодия...
Он по-человечески тепло вспоминает прежние свои увлечения и признается:
О, Дона Анна, -
Молва, быть может, не совсем неправа,
На совести усталой много зла,
Быть может, тяготеет. Так, разврата
Я долго был покорный ученик,
Но с той поры, как вас увидел я,
Мне кажется, я весь переродился.
Вас полюбя, люблю я добродетель
И в первый раз смиренно перед ней
Дрожащие колени преклоняю.
Как в «Скупом рыцаре» Пушкин ярко отразил эпоху, нравы и быт позднего средневековья, так в «Каменном госте» - нравы, типы и колорит эпохи Возрождения.
«Каменным гостем» В. Г. Белинский особенно восхищался. Он находил, что «драма непременно должна была разрешиться трагически - гибелью Дон-Жуана; иначе она была бы веселой повестью, не больше, и была бы лишена идеи, лежащей в ее основании... Каждый человек, чтобы жить не одною физическою жизнью, но и нравственною вместе, должен иметь в жизни какой-нибудь интерес, что-нибудь в роде постоянной склонности, влечения к чему-нибудь. Иначе жизнь его будет или нелепа или пуста...»
* * *
«Пир во время чумы»... Основой этой маленькой трагедии явилась одна из сцен драматической поэмы Джона Вильсона «Чумный город» о лондонской чуме 1665 года. В России свирепствовала холера, и Пушкин создал свое, совершенно оригинальное, самостоятельное произведение. Холеру народ тогда называл чумой...
Уже само название трагедии контрастно: пир в разгаре чумы. И в действии резкий контраст: мимо пирующих проезжает наполненная мертвыми телами телега, которой управляет негр.
Председатель пира поет песню:
Как от проказницы Зимы,
Запремся также от Чумы,
Зажжем огни, нальем бокалы,
Утопим весело умы
И, заварив пиры да балы,
Восславим царствие Чумы.
В это время появляется священник и обращается к пирующим с укоризной:
Безбожный пир, безбожные безумцы!
Вы пиршеством и песнями разврата
Ругаетесь над мрачной тишиной,
Повсюду смертию распространенной!
Средь ужаса плачевных похорон,
Средь бледных лиц молюсь я на кладбище,
А ваши ненавистные восторги
Смущают тишину гробов - и землю
Над мертвыми гробами потрясают.
Пирующие смотрят прямо в глаза смерти, сила человеческого духа побеждает страх перед чумою, перед грядущей гибелью...
И в этом произведении Пушкин поражает «способностью всемирной отзывчивости», говорил Ф. М. Достоевский в своей знаменитой речи, произнесенной 8 июня 1880 года, при открытии памятника Пушкину в Москве.
«Пушкин лишь один из всех мировых поэтов обладает свойством перевоплощения вполне в чужую национальность».
И В. Г. Белинский отметил, что Пушкину «ничего не стоило быть гражданином всего мира и в каждой сфере жизни быть, как у себя дома», оставаясь в то же время великим русским народным поэтом.
Насколько высоки и совершенны маленькие трагедии Пушкина, можно судить по тому, что, по позднейшему отзыву И. С. Тургенева, под монологом Скупого рыцаря «с гордостью подписался бы Шекспир», а композитор А. К. Лядов охарактеризовал «Моцарта и Сальери» как «лучшую биографию» Моцарта, вдохновенную поэму «о бессмертии гения, творения которого приносят радость и счастье человечеству».
* * *
Как и маленькие трагедии, новым словом в русской литературе явились и написанные Пушкиным в Болдине «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Их пять: «Выстрел», «Метель», «Гробовщик», «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка». Это были первые реалистические произведения русской бытовой прозы.
Чтобы судить о них, интересно ознакомиться с мыслями «О прозе», высказанными Пушкиным еще ранее, в 1822 году. Он начал свой небольшой отрывок словами:
«Д’Аламбер сказал однажды Лагарпу: «Не выхваляйте мне Бюфона. Этот человек пишет: благороднейшее изо всех приобретений человека было сие животное, гордое, пылкое и проч. Зачем просто не сказать лошадь».
Пушкин критикует и тогдашних писателей, «которые, почитая за низость изъяснить просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами. Эти люди никогда не скажут дружба, не прибавя: сие священное чувство, коего благородный пламень и пр. Должно бы сказать: рано поутру - а они пишут: Едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба - ах как всё это ново и свежо, разве оно лучше потому только, что длиннее».
И закончил: «Точность и краткость - вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей - без них блестящие выражения ни к чему не служат...»
«Стихи дело другое», - добавил Пушкин и заметил в скобках: «впрочем, в них не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо позначительнее, чем у них обыкновенно водится. С воспоминаниями о протекшей юности литература наша далеко вперед не подвинется».
За два года до Болдинской осени 1830 года Пушкин снова обращается к этой теме в очерке «О поэтическом слоге». Он критикует стремление авторов гоняться за обветшалыми украшениями своих произведений: «Мы не только еще не подумали приблизить поэтический слог к благородной простоте, но и прозе стараемся придать напыщенность, поэзию же, освобожденную от условных украшений стихотворства, мы еще не понимаем...»
Следуя этим уже с послелицейских лет выношенным мыслям, Пушкин и писал «Повести покойного Ивана Петровича Белкина».
Их отличают: лаконизм, простота, отсутствие беспредметных украшательств, словоизлияний, строгий характер сравнений и метафор, ритмичность повествования, обращение к простонародности, составляющей необходимую составную часть разговорного языка Пушкина.
* * *
Настойчиво работать над прозой Пушкин начал в конце 20-х годов. После «Арапа Петра Великого» он начал писать «Роман в письмах» между двумя братьями, о старой и новой русской аристократии, о положении дворянства и его отношении к крестьянству. Оба эти произведения остались незаконченными.
Жанр романа, дававший возможность раскрывать личную жизнь и внутренний мир человека в связи с жизнью социальной и общественными отношениями, приобретал в ту пору все большее значение. «Наш век - век романа», - провозгласил В. Г. Белинский.
Герои «Повестей Белкина» - «маленькие» люди, прозябающие на задворках жизни; с сочувствием переданы их мысли и переживания, горести и маленькие радости, их судьбы, вся неприглядность их существования. Это своего рода новеллы, сложные психологические этюды, в основе которых простота, точность и верность жизни.
Прототипом главного лица повести «Гробовщик» явился гробовщик Адриан, живший около дома Гончаровых, против нынешнего Центрального дома литераторов. Пушкин очень точно указал топографию происходивших здесь событий.
Среди страниц «Гробовщика» сохранился первоначальный план повести «Станционный смотритель».
«Рассуждение о смотрителях. Вообще люди несчастные и добрые. Приятель мой смотритель вдовый. Тракт сей уничтожен. Недавно поехал я по нем. Дочери не нашел. История дочери. Любовь к ней писаря. Писарь за нею в Петербург. Видит ее на гулянии. Возвратясь, находит отца мертвого. Могила за околицей. Еду прочь. Писарь умер. Ямщик мне рассказывает о дочери».
В повести «Выстрел» мы встречаемся с эпизодом личной жизни Пушкина - описанием его дуэли в Кишиневе, в 1822 году, с офицером Зубовым. На поединок Пушкин явился с черешнями в фуражке и, пока противник целился в него, спокойно завтракал ими, выплевывая в его сторону косточки...
Характерная особенность «Повестей Белкина» - Пушкин с первых же строк приступает к делу, заставляет говорить сами события и факты, развертывает мысль в ее главном и основном ходе событий.
Этой особенности творчества Пушкина дал высокую оценку Л. Н. Толстой. Об этом рассказывает жена его, С. А. Толстая, в своем дневнике, в записи от 19 марта 1873 года. Найдя в гостиной «Повести» Пушкина, которые Софья Андреевна дала почитать девятилетнему сыну Сереже, Лев Николаевич просмотрел их и сказал: «Многому я учусь у Пушкина, он мой отец, и у него надо учиться». Вечером того же дня Толстой прочитал отрывок Пушкина, начинавшийся словами: «Гости съезжались на дачу ***. Зала наполнялась дамами и мужчинами, приехавшими в одно время из театра, где давали новую итальянскую оперу...»
Прочитав эти первые строки, Лев Николаевич сказал:
- Вот прелесть-то! Вот как надо писать. Пушкин приступает прямо к делу. Другой бы начал описывать гостей, а он вводит в действие сразу.
И в тот же вечер Толстой написал первые строки романа «Анна Каренина»: «Все смешалось в доме Облонских...»
И в апреле 1873 года Л. Н. Толстой писал П. Д. Голохвостову:
«Давно ли Вы перечитывали прозу Пушкина? Сделайте мне дружбу - прочтите сначала все «Повести Белкина». Их надо изучать и изучать каждому писателю. Я на днях это сделал и не могу Вам передать того благодетельного влияния, которое имело на меня это чтение».
Уже по выходе в свет «Повестей Белкина» к Пушкину как-то зашел в 1831 году, в Царском Селе, его семнадцатилетний «внук по Лицею» П. И. Миллер и, увидев на столе эти повести, спросил:
- Какие это повести? И кто этот Белкин?
- Кто бы он там ни был, а писать повести надо вот эдак: просто, коротко и ясно, - ответил Пушкин.
Фамилию Белкина, к слову сказать, Пушкин заимствовал из своей же «Истории села Горюхина», написанной в ту же осень в Болдине.
...Находясь в течение трех месяцев в Болдине, Пушкин мог близко наблюдать крестьянскую жизнь, которая и нашла яркое и обобщающее отражение в этой «Истории». Она осталась недописанной, но в дошедшем до нас плане этого произведения мы читаем: «Была богатая вольная деревня. Обеднела от тиранства... мужики разорены... Бунт...»
В самом Болдине произошло в 1774 году восстание крестьян, пытавшихся повесить приказчика, за что их жестоко высекли. Предание об этих событиях Пушкин, видимо, услышал во время своего пребывания в Болдине.
В «Истории села Горюхина» Пушкин отразил угнетенное положение крестьянства крепостной России. И болдинская лирика Пушкина, насыщенная разнообразием тончайших человеческих переживаний, отражала проходившую пред глазами поэта повседневную безрадостную крестьянскую жизнь. Однажды Пушкин был свидетелем горестного события. Он сажал у своего дома лиственницу и увидел, как мужик нес хоронить ребенка. Этот печальный случай послужил поводом к созданию стихотворения, в котором с предельной чуткостью выписан грустный осенний день, убогая деревушка и крестьянин, почти механически справляющий обряд похорон:
Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогий,
За ними чернозем, равнины скат отлогий,
Над ними серых туч густая полоса.
Где нивы светлые? где темные леса?
Где речка? На дворе у низкого забора
Два бедных деревца стоят в отраду взора,
Два только деревца, и то из них одно
Дождливой осенью совсем обнажено,
И листья на другом, размокнув и желтея,
Чтоб лужу засорить, лишь только ждут Борея.
И только. На дворе живой собаки нет.
Вот, правда, мужичок, за ним две бабы вслед.
Без шапки он; несет под мышкой гроб ребенка
И кличет издали ленивого попенка,
Чтоб тот отца позвал да церковь отворил.
Скорей! ждать некогда! давно бы схоронил.
Это - не осуждение мужика. Последние строки стихотворения говорят не об эгоизме или бессердечии крестьянина, а о его забитости, задавленности делами, заботами.
Из Болдина Пушкин написал Наталье Гончаровой осенью 1830 года девять страстных, взволнованных писем. Двенадцать писем написал он Наталье Николаевне - уже жене, а не невесте - во вторую Болдинскую осень 1833 года...
Сохранилась и дошла до нас лишь одна короткая, по-французски, приписка Натальи Николаевны на письме своей матери к Пушкину:
«С трудом я решилась написать тебе: мне нечего тебе сказать, все свои новости я с оказией сообщила тебе на этих днях. Maman сама хотела отложить письмо до следующей почты, но побоялась, что ты будешь испытывать некоторое беспокойство, не получая в течение некоторого времени от нас известий. Это соображение заставило ее победить свой сон и усталость, которые одолели ее и меня, так как мы весь день пробыли на воздухе. Из письма maman ты увидишь, что мы все чувствуем себя очень хорошо. Поэтому я ничего не пишу на этот счет и кончаю письмо, нежно тебя обнимаю. Думаю написать тебе побольше при первой возможности. Прощай, будь здоров и не забывай нас».
Следуя пушкинской оценке письма Натальи Николаевны, мы вправе сказать, что эта ее приписка на письме матери «бестемпераментна»...
В последний день ноября, надеясь все же добраться до Москвы, Пушкин в третий раз выехал из Болдина. Но на 71-й версте от Москвы был задержан в карантине и только 5 декабря прибыл в Москву.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
МОСКВА, ЦАРСКОЕ СЕЛО, ПЕТЕРБУРГ
1831-1832
«Участь моя решена. Я женюсь...»
И может быть - на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.
А. С. Пушки н. «Элегия»
Общественное внимание приковано было в 1831 году к политической обстановке в Западной Европе (восстанию в Польше и откликах на него на Западе). Отстаивая свою национальную независимость, Польша подняла знамя восстания против России, польский сейм провозгласил низложение Николая I. В ответ русская армия перешла границы Царства Польского. В эти дни английская, немецкая и особенно французская печать резко выступали против России, а в Париже, у здания русского посольства, состоялась враждебная демонстрация. Во французской палате депутаты призывали свое правительство к вооруженному вмешательству в русско-польские военные действия.
16 августа Пушкин обратился к недругам России с стихотворением «Клеветникам России»:
О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.
Напоминая Западу о 1812 годе, когда «на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли» Наполеона, когда мы «нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир», Пушкин спрашивает:
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?
Так высылайте ж нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.
Вспоминая, как в 1812 году шли «племена, бедой России угрожая», Пушкин спрашивал в стихотворении «Бородинская годовщина»:
И что ж? свой бедственный побег,
Кичась, они забыли ныне;
Забыли русский штык и снег,
Погребший славу их в пустыне.
Знакомый пир их манит вновь -
Хмельна для них славянов кровь:
Но тяжко будет им похмелье;
Но долог будет сон гостей
На тесном, хладном новоселье,
Под злаком северных полей!
Здесь сказались патриотизм Пушкина, чувство гордости за свою страну, за свой народ.
* * *
А. А. Дельвиг. С рисунка А. С. Пушкина.
Альманах «Северные цветы» на 1832 год. Обложка.
Пушкина 1831 год встретил давно желанным подарком: вышел наконец «Борис Годунов».
«Вот, друг мой, мое любимое сочинение», - написал он 2 января П. Я. Чаадаеву, посылая только что вышедшую книгу.
Послал ее Пушкин еще нескольким друзьям, а знаменитой артистке Семеновой, «единодержавной царице трагической сцены», вышедшей замуж за князя Гагарина, - с надписью: «Княгине Е. С. Гагариной от Пушкина, Семеновой от сочинителя».
«Борис Годунов» был восторженно встречен читателями. Но литературные противники отзывались о нем враждебно, и Пушкин с горечью писал своей приятельнице Е. М, Хитрово: «Вы говорите об успехе «Бориса Годунова»: право, я не могу этому поверить. Когда я писал его, я меньше всего думал об успехе. Это было в 1825 году - но потребовалась еще смерть Александра... чтобы моя трагедия могла увидеть свет. Впрочем, все хорошее в ней до такой степени мало пригодно для того, чтобы поразить почтенную публику (то есть ту чернь, которая нас судит), и так легко осмысленно критиковать меня, что я думал доставить удовольствие лишь дуракам, которые могли бы поострить на мой счет...»
Январь 1831 года принес Пушкину и неожиданное горе: в цветущем возрасте в Петербурге скончался лицейский товарищ и близкий друг его - Дельвиг.
Оба они начинали свой творческий путь в Лицее. Покидая Лицей, Пушкин пророчил другу покой от «бурь злых»:
Любовью, дружеством и ленью
Укрытый от забот и бед,
Живи под их надежной сенью;
В уединении ты счастлив: ты поэт.
Наперснику богов не страшны бури злые:
Над ним их промысел высокий и святой;
Его баюкают камены молодые
И с перстом на устах хранят его покой.
Но буря налетела... Бенкендорф сразил «наперсника богов». Жандармы привели Дельвига в III отделение, и Бенкендорф набросился на него:
- Что ты опять печатаешь недозволенное?
Во Франции разразились тогда революционные июльские события 1830 года, и в «Литературной газете» были опубликованы четыре строки стихотворения французского поэта Делавиня, посвященные памяти жертв революции. Бенкендорф увидел в этом открытое выражение симпатий французским революционерам и добивался, откуда Дельвиг знает песню с призывом: «Аристократов на фонари!» Дельвиг оправдывался тем, что все это пропущено цензурой и «упреки его сиятельства» должны быть обращены не к нему, издателю, а к цензору.
Бенкендорф пришел в ярость. Он кричал:
- Законы пишутся для подчиненных, а не для начальства, и вы не имеете права в объяснениях со мною на них ссылаться и ими оправдываться!
Бенкендорф сам не читал «Литературной газеты», но не скрыл, что ему обо всем этом донес Булгарин.
Дельвиг заметил, что Булгарин у него никогда не бывает и он не считает Булгарина своим знакомым. Бенкендорфа это взорвало, и он выгнал Дельвига:
- Вон, вон! Я всех вас, троих друзей - тебя, Пушкина и Вяземского, - уже упрячу, если не теперь, то вскоре, в Сибирь!
«Три друга» и все их друзья возмущены были наглым поведением Бенкендорфа. Дельвиг решил жаловаться, но тогдашний министр юстиции, бывший член «Арзамаса» Блудов, вмешался в это дело и посоветовал Бенкендорфу извиниться перед Дельвигом.
Через некоторое время к Дельвигу явился жандармский чиновник и заявил, что сам Бенкендорф «по нездоровью» не может приехать, а прислал извиниться в том, что разгорячился при последнем свидании. Он сообщил при этом, что издание «Литературной газеты» будет разрешено, но только под редакцией ее сотрудника писателя Сомова, а не Дельвига.
Мягкого и впечатлительного Дельвига потрясла грубость Бенкендорфа. Его и без того слабое здоровье начало сдавать. Он простудился и 14 января 1831 года скончался.
«Литературная газета» в том же году, на тридцать седьмом номере, прекратила свое существование...
Ранняя смерть Дельвига глубоко взволновала друзей. Все его очень любили. Пушкин писал П. А. Плетневу: «Вот первая смерть, мною оплаканная. Никто на свете не был мне ближе... Помимо его прекрасного таланта, это была отлично устроенная голова и душа склада необычного... Он был лучший из нас».
Портрет Дельвига всегда висел в кабинете Пушкина над письменным столом, рядом с портретами Жуковского и Баратынского. И в наши дни они висят на том же месте в последней квартире Пушкина.
Дельвиг был редактором и издателем «Северных цветов». В свое время Пушкин напечатал в этом альманахе отрывок из «Бориса Годунова». А теперь не мог направить ему только что вышедшую целиком трагедию...
Обладатель баронского титула, Дельвиг не имел состояния, и друзья выпустили в пользу его семьи еще один номер «Северных цветов» на 1832 год. В него вошли последние неопубликованные стихи Дельвига, а Пушкин поместил две сцены из «Моцарта и Сальери» и около десяти стихотворений.
* * *
Наталья Николаевна Пушкина. С портрета В. Гау.
Два с лишним года прошло после первой встречи Пушкина с Натальей Г ончаровой.
В феврале назначено было венчание, но настроен был Пушкин совсем невесело.
За месяц до свадьбы он познакомил П. А. Плетнева со своими планами: «Полгода проживу в Москве, летом приеду к вам. Я не люблю московской жизни. Здесь живи не как хочешь - как тетки хотят. Теща моя та же тетка. То ли дело в Петербурге! Заживу себе мещанином припеваючи, независимо и не думая о том, что скажет Марья Алексеевна...»
В небольшом письме другу своих молодых петербургских лет, Н. И. Кривцову, написанном за неделю до свадьбы, Пушкин искренне, откровенно делится своими грустными мыслями: «Женат - или почти. Все, что бы ты мог сказать мне в пользу холостой жизни и противу женитьбы, все уже мною продумано. Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния, мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе как обыкновенно живут. Счастья мне не было. II n est de bonheur que dans les voies communes18. Мне за 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся. - Я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностию.
У меня сегодня spleen19 - прерываю письмо мое, чтобы тебе не передать моей тоски; тебе и своей довольно...»
Собиравший записи и воспоминания современников о Пушкине, П. И. Бартенев писал: «Нам случалось видеть еще одно письмо Пушкина, написанное также почти накануне свадьбы и еще более поразительное по удивительному самосознанию или вещему предвидению судьбы своей. Там Пушкин прямо говорит, что ему, вероятно, придется погибнуть на поединке».
В новом письме Плетневу, написанном за два дня до свадьбы, Пушкин писал: «В июне буду у вас и начну жить bourgeois20, а здесь с тетками справиться невозможно - требования глупые и смешные - а делать нечего. Теперь понимаешь ли, что значит приданое и отчего я сердился? Взять жену без состояния - я в состоянии, но входить в долги для ее тряпок - я не в состоянии. Но я упрям и должен был настоять, по крайней мере, на свадьбе. Делать нечего, придется печатать мои повести...»
* * *
Пушкина тянуло отвлечься от тяготивших его мыслей, и однажды вечером он отправился с Нащокиным к своей давней знакомой цыганке Тане - Татьяне Демьяновне, которая так описывала тот вечер:
«Под крыльцо сани подкатили, и в сени вошел Пушкин. Увидел меня из сеней и кричит: «Ах, радость моя, как я рад тебе, здорово, моя бесценная!» - поцеловал меня в щеку и уселся на софу. Сел и задумался, да так будто тяжко, голову на руку опер, глядит на меня: «Спой мне, говорит, Таня, что-нибудь на счастие; слышала, может быть, я женюсь?» - «Как не слыхать, говорю, дай вам бог, Александр Сергеевич!» - «Ну, спой мне, спой!» - «Давай, говорю, Оля, гитару, споем барину?» Она принесла гитару, стала я подбирать, да и думаю, что мне спеть... Только на сердце у меня у самой невесело было в ту пору... И, думаючи об этом, запела я Пушкину песню, - она хоть и подблюдною считается, а только не годится было мне ее теперича петь, потому она будто, сказывают, не к добру:
Ах, матушка, что так в поле пыльно?
Государыня, что так пыльно?
Кони разыгралися. А чьи то кони, чьи то кони?
Кони Александра Сергеевича...
Пою я эту песню, а самой-то грустнехонько, чувствую и голосом тоже передаю... Как вдруг слышу, громко зарыдал Пушкин. Подняла я глаза, а он рукой за голову схватился, как ребеночек, плачет... Кинулся к нему Па вел Воинович (Нащокин): «что с тобой, что с тобой, Пушкин?» - «Ах, - говорит, - эта ее песня всю мне внутрь перевернула, она мне не радость, а большую потерю предвещает!..» И недолго после того оставался тут, уехал, ни с кем не простился».
Через два дня назначена была свадьба Пушкина с Натальей Гончаровой.
* * *
Церковь Старого Вознесения на Большой Никитской, в которой венчался А. С. Пушкин.Фотография.
П. А. Вяземский. С портрета П. Соколова.
Венчание состоялось 18 февраля 1831 года в хорошо знакомой москвичам, прекрасно сохранившейся до наших дней церкви Старого Вознесения, у Никитских ворот, построенной знаменитым зодчим М. Ф Казаковым.
В церковь пропускали только родных и близких по пригласительным билетам. Полиция у входа строго наблюдала за порядком.
Во время обряда, как рассказывали присутствовавшие, Пушкин нечаянно задел за аналой, с него упали крест и Евангелие, а при обмене колец одно из них тоже упало на пол и погасла свеча. Пушкин побледнел и при выходе из церкви сказал: «Tous les mauvais augures!»21
Из церкви Пушкин направился с женою в нанятую им квартиру в сохранившемся под номером 53 доме на Арбате. Встретили их там Нащокин и Вяземский с малолетним сыном Павлом. Позже Павел вспоминал эту щегольскую, уютную гостиную, квартиру, оклеенную диковинными обоями под лиловый бархат с рельефными набивными цветочками, и полочку с боку дивана, на которой лежало собрание стихотворений Кирши Данилова.
До венчания Пушкин устроил «мальчишник» для друзей, а в следующие дни делал с женою визиты, посещал балы, маскарады, народные гулянья. 27 февраля Пушкин «славный задал бал» в своей квартире, было много приглашенных. Молодую чету часто навещали их друзья.
* * *
Пушкин прожил в Москве после свадьбы до середины мая. Суета московской жизни, вынужденное общение с тещей начали, однако, его утомлять. Пушкин пишет Е. М. Хитрово, что суматоха и хлопоты первого месяца не дают возможности назвать его медовым. «Москва - город ничтожества. На ее заставе написано: «Оставьте всякое разумение, о вы, входящие сюда».
26 марта Пушкин сообщает Плетневу в Петербург, что в Москве он оставаться никак не намерен. Лето и осень он хотел бы провести в Царском Селе, «в уединении вдохновительном, вблизи столицы, в кругу милых воспоминаний и тому подобных удобностей».
А в середине апреля обращается к нему с просьбой нанять квартиру в Царском Селе: «Фатерка чем дешевле, тем, разумеется, лучше - но ведь 200 рублей лишних нас не разорят. Садика нам не будет нужно, ибо под боком у нас будет садище. А нужна кухня да сарай, вот и все. Ради бога, скорее же! и тотчас давай нам и знать, что все-де готово и милости просим приезжать. А мы тебе как снег на голову».
1 июня Пушкин пишет Нащокину уже из Царского Села. Он доволен, что все, кажется, уладил и теперь станет жить потихоньку, «без тещи, без экипажа, следственно - без больших расходов и без сплетен».
Самой теще Пушкин объясняет так причину быстрого отъезда: «Я был вынужден уехать из Москвы во избежание неприятностей, которые под конец могли лишить меня не только покоя; меня расписывали моей жене, как человека гнусного, алчного, как презренного ростовщика, ей говорили: ты глупа, позволяя мужу и т. д. Согласитесь, что это значило проповедовать развод... Не восемнадцатилетней женщине управлять мужчиной, которому 32 года. Я проявил большое терпенье и мягкость, но, по-видимому, и то и другое было напрасно. Я ценю свой покой и сумею его себе обеспечить...»
* * *
Поселился Пушкин в Царском Селе, в доме, принадлежавшем некогда придворному лакею Китаеву. Сегодня в этих комнатах Музей А. С. Пушкина, и самая улица, на которой стоит дом, носит имя поэта.
Каждое утро Пушкин ходил обычно купаться. Возвращаясь, поднимался к себе наверх, в кабинет. Здесь царил всегда полный порядок. На большом круглом столе перед диваном лежали тетради и бумаги, простая чернильница и перья; на столике - графин, лед и банка с любимым крыжовниковым вареньем. На полу и на полках - книги.
Здесь поэт работал. Часто ходил по комнате, затем писал, лежа на диване, и каждый исписанный листок опускал на пол. Однажды к нему зашел в жаркий летний день знакомый молодой гусар граф Васильев и смутился, застав его чуть не в прародительском костюме.
- Ну, уж извините, - засмеялся Пушкин, пожав ему руку, - жара стоит африканская, а у нас там, в Африке, ходят в таких костюмах.
Вечером, часов в пять-шесть, Пушкин отправлялся с женою гулять вокруг озера. Сам он одет был всегда строго и тщательно, Наталья Николаевна - в белом платье, с красной шалью на плечах, в круглой шляпе. Не только царскоселы, люди из Петербурга приезжали часто, чтобы увидеть знаменитого поэта и его красавицу жену.
Гуляя по парку, Пушкин нередко встречал своих лицейских «внуков». Те обычно называли лицеистов первых выпусков своими «дедами», любили встречаться с ними и особенно радовались встречам с Пушкиным. Он держал себя с ними просто, приветливо отвечал на вопросы, иногда заходил в Лицей, показывал им свою лицейскую «келью» №14.
Встретив как-то в парке юного лицеиста П. И. Миллера, Пушкин стал забрасывать его вопросами:
- Что у вас делается в Лицее? А литература у вас процветает? Что ваш сад и ваши палисадники? А памятник в саду вы поддерживаете? Видаетесь ли вы с вашими старшими? Выпускают ли теперь из Лицея в военную службу? Есть ли между вами желающие? Какие теперь у вас профессора? Прибавляется ли ваша библиотека? У кого она теперь в руках?
По вечерам у Пушкина собирались друзья. Приходил Жуковский, проводивший в Царском Селе лето при своем воспитаннике - наследнике престола, будущем императоре Александре II; приезжали из Петербурга Гоголь, Плетнев, иногда Вяземский, Нащокин. Приходила умная, интересная собеседница фрейлина А. О. Россет, вышедшая позже замуж за Н. М. Смирнова.
* * *
Гулянье на Елагином острове в Петербурге в начале XIX века. С литографии А. Брюллова.
Однажды во время прогулки по царскосельскому парку Пушкин встретился с Николаем I, и тот задал ему вопрос, почему он не служит.
Поэт, как известно, еще в южной ссылке был в 1824 году уволен со службы. Он ответил:
- Я готов, но, кроме литературной службы, не знаю никакой.
Николай I предложил ему написать историю Петра I, назначил годовое жалованье в 5000 рублей и разрешил доступ в государственные архивы.
Пушкин тогда же сообщил Нащокину: «Нынче осенью займусь литературой, а зимой зароюсь в архивы, куда вход дозволен мне царем».
Историческая тема в ту пору особенно занимала Пушкина. В 1831 году вышел второй роман Загоскина - «Рославлев, или Русские в 1812 году». Эпоха Отечественной войны с Наполеоном была поэту особенно близка. Увидев, что Загоскин во многом неправильно истолковал события 1812 года, Пушкин начал писать своего «Рославлева».
В этом романе он оценил высокий патриотический героизм и подвиг народных масс, осудив в то же время трусливый «квасной» патриотизм дворянской знати, ее слепое преклонение перед всем иностранным.
К 1831 году относится и замысел нового прозаического произведения Пушкина - «Роман на Кавказских водах».
Пушкин много работал и над критическими статьями. В критике он видел «науку открывать красоты и недостатки в произведениях искусств и литературы». При этом по-прежнему проводил идею сближения русской литературы с действительностью, с современностью; особенно же подчеркивал необходимость развития реализма в произведениях исторического жанра.
Положительно отозвавшись о романах И. И. Лажечникова «Последний Новик» и «Ледяной дом», Пушкин иронически и даже презрительно отозвался о реакционно-дидактических романах Булгарина, осмеял его в знаменитой пародии «Настоящий Выжигин. Историко-сатирический роман XIX века».
В Царском Селе Пушкин подготовил к печати написанные в Болдине «Повести Белкина» и, состязаясь с Жуковским, работал над записанными со слов Арины Родионовны сказками. Успел закончить «Сказку о попе и о работнике его Балде», «Сказку о медведихе», читал друзьям «Сказку о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».
В пушкинских сказках нашли отражение народная мудрость, лукавство, доброта и смекалка. В них и острая сатира на поповскую жадность, и восхищение крестьянской сметливостью, и злая насмешка над беспечным, неумным царем...
* * *
Бал в Благородном собрании. С картины Д. Кардовского.
Летние месяцы 1831 года были счастливые, безоблачные месяцы жизни Пушкина.
«Я женат - и счастлив, - писал он Плетневу вскоре после венчания, - одно желание мое, - чтоб ничего в жизни моей не изменилось - лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился».
Кругом в то время свирепствовала холера, почта приходила редко и неаккуратно.
Получив грустное, опечалившее его письмо из Петербурга от Плетнева, который жаловался на свое одиночество после смерти друзей, Дельвига и Молчанова, Пушкин трогательно успокаивал его:
«Опять хандришь. Эй, смотри, хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвиг умер, Молчанов умер; погоди, умрет и Жуковский, умрем и мы. Но жизнь все еще богата; мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жены наши - старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята; а мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и любо.
Вздор, душа моя, не хандри - холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы».
В связи с холерой в то время распространялись нелепые слухи. Начались серьезные беспорядки. В Петербурге, на Сенной площади, народ остановил карету, в которой везли больных, карету разбили, а больных выпустили.
Вызванные войска и артиллерия держали площадь в осаде. Большие возмущения произошли в новгородских поселениях и Старой Руссе. В середине июля, спасаясь от холеры, в Царское Село «двор приехал и Царское Село закипело и превратилось в столицу». И все переменилось в жизни поэта.
Молодая жена его была представлена императрице, понравилась ей, имела большой успех и сразу вошла в круг большого света. Николай I, встречаясь в парке во время прогулок с Пушкиным и Натальей Николаевной, обоим им оказывал большое внимание. Пушкин даже как-то заметил шутя: «Царь со мною очень милостив и любезен. Того и гляди попаду во временщики...»
Приближалась осень. Поэт мечтал о тихой пристани, где можно было бы спокойно отдаться любимому творчеству, и он обратился к П. А. Осиповой в Тригорское, соседке своей по Михайловскому, с просьбой выяснить, нельзя ли ему приобрести, и на каких условиях, соседнее село Савкино: «Я бы выстроил себе там хижину, поставил бы свои книги и проводил бы подле добрых старых друзей несколько месяцев в году. Что скажете вы, сударыня, о моих воздушных замках, иначе говоря, о моей хижине в Савкине? - меня этот проект приводит в восхищение, и я постоянно к нему возвращаюсь».
Эти мечтания о воздушном замке в Савкине, как и надо было полагать, остались только мечтаниями...
Волновало Пушкина и другое: кончались приготовленные на годичный расход деньги. Жизнь в Царском Селе оказалась намного дороже, чем он предполагал. Расходы вблизи двора вырастали безмерно.
В середине октября Пушкин покинул с женою Царское Село и поселился в Петербурге. Вскоре вышли в свет «Повести Белкина» тиражом в 1200 экземпляров, по цене 5 рублей...
* * *
19 октября 1831 года, через несколько дней после переезда Пушкина в Петербург, лицеисты первого выпуска праздновали свою очередную лицейскую годовщину.
Видимо занятый поисками квартиры и ее устройством, Пушкин не был на этом празднике и, надо полагать, еще в Царском Селе написал свое послание лицейским товарищам.
Вид стен и садов Лицея, вид воспетых им памятников русской славы вызвали у Пушкина грустные чувства. Двадцать лет прошло с того дня, когда он и товарищи его переступили впервые порог Лицея!.. Оглядываясь на эти прошедшие годы, он писал:
Чем чаще празднует лицей
Свою святую годовщину,
Тем робче старый круг друзей
В семью стесняется едину,
Тем реже он; тем праздник наш
В своем веселии мрачнее;
Тем глуше звон заздравных чаш
И наши песни тем грустнее.
В черновиках оставил Пушкин строфу, повествующую о многом пережитом за эти десятилетия:
Давно ль, друзья... но двадцать лет
Тому прошло; и что же вижу?
Того царя в живых уж нет;
Мы жгли Москву; был плен Парижу;
Угас в тюрьме Наполеон;
Воскресла греков древних слава;
С престола пал другой Бурбон;
Отбунтовала вновь Варшава.
Шести лицейских товарищей уже не было.
Шесть мест упраздненных стоят,
Шести друзей не узрим боле, -
замечал Пушкин и всем погибшим отдал дань памяти: «там на ратном поле» нашел смерть полковник С. С. Есаков, «в земле чужой» нашли покой умершие за границей от чахотки Н. А. Корсаков и П. Ф. Саврасов, от «недуга» скончались Н. Г. Ржевский и К. К. Костенский, от «печали» преждевременно «во мрак земли» сошел А. А. Дельвиг.
Поэта охватили мрачные предчувствия:
И мнится, очередь за мной,
Зовет меня мой Дельвиг милый,
Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой,
Товарищ песен молодых,
Пиров и чистых помышлений,
Туда, в толпу теней родных
Навек от нас утекший гений.
Как бы преодолевая невеселые раздумья, Пушкин заканчивает послание бодрым призывом:
Тесней, о милые друзья,
Тесней наш верный круг составим,
Почившим песнь окончил я,
Живых надеждою поздравим,
Надеждой некогда опять
В пиру лицейском очутиться,
Всех остальных еще обнять
И новых жертв уж не страшиться.
На лицейской встрече 1831 года друзья не досчитались еще троих друзей, находившихся на каторге, декабристов И. И. Пущина, В. К. Кюхельбекера и В. Д. Вольховского.
Сами они не имели права тогда писать, это делали за них жены декабристов. Из письма директора Лицея Е. А. Энгельгардта Пущин узнал, как мало товарищей соединил этот лицейский праздник около старого директора, и просил жену декабриста А. В. Розен передать от его имени дружеский поклон всем верным Союзу дружбы и попенять охладевшим...
* * *
Заботы о судьбе семьи особенно омрачали в те дни Пушкина. Наталья Николаевна ожидала первого ребенка. «Долги, постоянная нужда в деньгах, вечные домашние волнения, - писал Н. М. Смирнов, муж А. О. Россет, - были главною причиною раздражительности и частой, неожиданной смены его настроений.
Придя к нам однажды, - продолжает Смирнов, - Пушкин ходил печально по комнате, надув губы и опустив руки в карманы широких панталон, уныло повторял: «грустно! тоска!» Временами улыбался шуткам и остротам, громко хохотал, но вслед за этим снова становился грустен и протяжно напевал: «грустно, тоска!»
Как-то вечером, осенью, Пушкин был с женою у Смирновых. Прислушиваясь к завыванию ветра, он сказал, вздохнув: «Как хорошо бы теперь быть в Михайловском!..» Смирнов предложил ему поехать вместе в деревню.
Наталья Николаевна, услышав их разговор, воскликнула: «Восхитительное местопребывание! Слушать завывание ветра, бой часов и вытье волков! Ты с ума сошел!» И залилась слезами...
Совсем недавно, в декабре 1970 года, в архиве Гончаровых найдено было доселе неизвестное большое письмо Пушкина, адресованное брату жены Пушкина Д. Н. Гончарову.
Эта редчайшая находка - письмо, написанное рукою поэта в 1832-1833 годах в связи с рождением первой дочери, Марии, свидетельствует о том, как материально стеснен был Пушкин.
«...Я Вас попрошу одолжить мне на шесть месяцев 6000 рублей, в которых я очень нуждаюсь и которые не знаю где взять...
Семья моя увеличивается, мои занятия заставляют меня жить в Петербурге, расходы идут своим чередом, и так как я не считал возможным сократить их в первый год своей женитьбы, долги так же увеличились...»
Письмо свое Пушкин закончил горестными строками:
«Я не богат, а теперешние обстоятельства мои не позволяют мне заниматься литературным трудом, который давал мне средства к жизни. Если я умру, жена моя окажется на улице, а дети в нищете. Все это печально и приводит меня в уныние...»
* * *
П. В. Нащокин. С портрета работы неизвестного художника.
3 ноября 1831 года Пушкин выехал в Москву для архивных изысканий по «Истории Петра» и устройства своих денежных дел. В этом ему обычно помогал большой друг его последних лет, Павел Воинович Нащокин, у которого он и останавливался в Гагаринском переулке, 4, ныне улице Рылеева.
Человек независимый, с тонким художественным вкусом, не чуждый и литературных интересов, Нащокин был близок Пушкину как человек «ума необыкновенного и доброты несказанной».
Современники говорили о нем, что он «не потерялся ни разу душою, не изменил ни разу ее благородным движениям, умел приобресть невольное уважение достойных и умных людей и, с тем вместе, самую искреннюю дружбу Пушкина, питавшего ее к нему, преимущественно перед другими, до конца своей жизни».
Нащокин был товарищем брата Пушкина, Льва Сергеевича, по университетскому Благородному пансиону. Друзьями Нащокина были: М. И. Глинка, В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, Е. А. Баратынский, Н. М Языков, Н. В. Гоголь, П. Я. Чаадаев, знаменитый актер М. С. Щепкин.
Нащокин нравился Пушкину широкой натурой, даже своими странностями. Жизнь его «состояла из переходов от разливанного моря (с постройкой кукольного домика в несколько тысяч рублей) к полной скудности, доходившей до того, что приходилось топить печи мебелью красного дерева». Он нравился и Гоголю, который, работая над «Мертвыми душами», придал черты характера Нащокина одному из своих героев, Хлобуеву.
Большой прожектер, Нащокин, будучи при деньгах, как-то задумал и осуществил оригинальную затею: построил в миниатюре дом и комнаты, в которых жил он сам и Пушкин, наезжая в Москву из Петербурга.
Эта удивительная миниатюра - копия комнат нащокинской квартиры - сохранилась до наших дней. Она находится во Всесоюзном музее А. С. Пушкина в бывшем Царском Селе, носящем сегодня имя поэта.
Посетители музея всегда с большим интересом рассматривают эту миниатюру и мысленно переносятся в обстановку комнат, где жил у Нащокина в 1831-1832 годы Пушкин.
Сохранился до наших дней и самый дом. На нем сегодня мемориальная доска с надписью: «В этом доме в 1831-1832 гг. останавливался у П. В. Нащокина А. С. Пушкин».
* * *
Нащокинский домик, кабинет. С литографии.
Нащокинский домик, спальня и уголок гостиной. С литографии.
В Москве Пушкин пробыл недолго. Познакомился с необходимыми ему архивными материалами по истории Петра, побывал у московских друзей. «Видел я Вяземских, Мещерских, Дмитриева, Тургенева, Чаадаева, Горчакова, Дениса Давыдова, - писал он жене уже на третий день после приезда. - Все тебе кланяются; очень расспрашивают о тебе, о твоих успехах; я поясняю сплетниц, а сплетен много... Тоска без тебя; к тому же с тех пор, как я тебя оставил, мне все что-то страшно за тебя... побереги себя...»
Через два дня новое письмо жене: «Не люблю я твоей Москвы. У тебя, т. е. в вашем Никитском доме, я еще не был. Не хочу, чтоб холопья ваши знали о моем приезде; да не хочу от них узнать и о приезде Натальи Ивановны, иначе должен буду к ней явиться и иметь с нею необходимую сцену; она все жалуется по Москве на мое корыстолюбие; да полно, я слушаться ее не намерен...»
Работать в Москве не удавалось. В доме Нащокина, где на этот раз остановился Пушкин, царила безалаберщина, от которой голова шла кругом. Нащокин очень любил Пушкина, для него он был «удивительный Александр Сергеевич, мой славный Пушкин, утешитель мой, радость моя». Уезжая в Английский клуб, Нащокин обычно укутывал и укладывал своего друга спать.
Но ни сердечный прием, ни доброта друга не могли более удерживать Пушкина, он устал и, покинув 13 декабря 1831 года Москву, возвратился в Петербург.
* * *
Н. М. Языков. С литографии К. Эргота.
В Петербурге Пушкин впервые зажил собственным домом, однако душевного покоя не обрел.
Бездушная, холодная, ненавидевшая Пушкина светская и придворная «чернь» начала завлекать Наталью Николаевну в свой круг, осложняя и без того тягостную жизнь поэта.
Графиня Нессельроде, жена министра иностранных дел, однажды без ведома Пушкина взяла Наталью Николаевну с собою на небольшой придворный вечер в Аничковом дворце. Императрица тепло встретила её.
Пушкин же был взбешен, когда узнал это, и резко выразил графине свое возмущение. Нессельроде сделалась после этого злейшим врагом Пушкина...
19 февраля 1832 года Пушкин присутствовал на новоселье у издателя и книгопродавца А. Ф. Смирдина, который перевел свой книжный магазин и библиотеку при нем в дом лютеранской церкви святого Петра на Невском, против Казанского собора.
Кн ижная лавка Смирдина была необычная, и Смирдин был необычный книгопродавец.
Александр Филиппович Смирдин - значительная и интересная фигура в литературном мире пушкинского времени. Страстный любитель книги, он был одновременно и просвещенным издателем. Его лавка являлась своеобразным литературным клубом, где «сочинители» почти ежедневно сходились для литературных бесед.Со многими из них Смирдин находился в дружеских отношениях.
В пушкинское время книжные лавки вообще были в Петербурге своего рода профессионально-литературными клубами. Но «литературный салон» Смирдина имел свой, отличный от других, стиль.
Стремясь объединить всех писателей, независимо от их взглядов и направлений, - это было его мечтой, - он пригласил на свое новоселье весь цвет тогдашней литературы: Пушкина, Гоголя, Жуковского, Одоевского, Вяземского, Крылова, Языкова - и одновременно реакционнейших литераторов той поры: Булгарина, Греча и Сенковского.
С Пушкиным у Смирдина сложились особые отношения. Смирдин был основным издателем произведений Пушкина. Он чуть ли не первым стал выплачивать писателям и поэтам гонорар за их литературные труды. До того поэты, большей частью состоятельные люди из аристократических кругов, считали неприличным получать деньги за свое поэтическое творчество.
Смирдину Пушкин предоставил впоследствии монопольное право издания его сочинений. И тот никогда не стремился снизить Пушкину авторский гонорар: он платил ему по червонцу за строку. При этом Пушкин принимал участие в издававшемся Смирдиным журнале «Библиотека для чтения».
* * *
Ежедневно Пушкин направлялся пешком на Дворцовую площадь, в здание Главного штаба, где изучал в архиве материалы по истории Петра. И одновременно знакомился с находившейся в Эрмитаже, приобретенной в свое время Екатериной II библиотекой Вольтера. В ней было семь тысяч томов книг и тридцать семь томов рукописей, материалы, относящиеся к истории Петра, заметки о России, по истории Камчатки, переписка Екатерины...
Все это представляло для Пушкина исключительный интерес. Свои находки он заносил в записную книжку, где сохранилось несколько отрывочных записей. На одной из ее страниц видим рисунок Пушкина - беглая зарисовка карандашом находившейся в библиотеке статуи Вольтера, выполненной французским скульптором Гудоном. На нем дата рукою Пушкина - 10 марта 1832 года...
Возвращаясь домой, Пушкин зашел однажды в магазин на Невском и купил альбом, имея в виду преподнести его в день рождения А. О. Смирновой-Россет. Александра Осиповна была в дружбе с ним и виднейшими писателями и поэтами той поры, и Пушкин хотел побудить ее писать свои записки. На альбоме он сделал надпись: «Исторические записки А. О. ***».
Передавая ей альбом, Пушкин сказал: «Вы так хорошо рассказываете, что должны писать свои «Записки», и от лица ее самой поместил, вместо эпиграфа, написанное им 18 марта 1832 года стихотворение:
В тревоге пестрой и бесплодной
Большого света и двора
Я сохранила взгляд холодный,
Простое сердце, ум свободный
И правды пламень благородный
И как дитя была добра;
Смеялась над толпою вздорной,
Судила здраво и светло
И шутки злости самой черной
Писала прямо набело.
* * *
В те дни Пушкин вернулся к новым вариантам задуманной еще в Михайловском, одновременно с «маленькими трагедиями», драме «Русалка». То прерывая работу, то снова возвращаясь к ней, поэт в апреле 1832 года закончил первые шесть сцен этой подлинно народной драмы, легенды о девушке-утопленнице и ее обезумевшем от горя отце, мельнике.
Тема эта навеяна была оперой венского композитора Кауэра, поставленной на русской сцене К. Краснопольским под названием «Днепровская русалка».
Пушкин, видимо, знаком был с этой оперой, судя по тому, что, описывая деревенский быт Ленского, включил в строфу «Евгения Онегина» стих из «Днепровской русалки»:
Потом приносят и гитару:
И запищит она (бог мой!):
Приди в чертог ко мне златой!..
«Русалка» - подлинно народная трагедия, поражающая глубоким проникновением поэта в психологию действующих лиц, верным изображением страданий покинутой девушки и безумия старика мельника. Сюжет произведения пронизан народными мотивами, овеян мягким лиризмом.
Драма осталась, к сожалению, незаконченной поэтом.
* * *
Московский университет в XVIII веке. С акварели К. Лопялло.
19 мая 1832 года у Натальи Николаевны родилась дочь Мария. Пушкин плакал при первых родах и говорил, что убежит от вторых. О рождении дочери он сообщил В. Ф. Вяземской: «Представьте себе, что жена моя имела неловкость разрешиться маленькой литографией с моей особы. Я в отчаянии, несмотря на все свое самомнение».
В середине сентября 16-17 числа 1832 года Пушкин выехал на некоторое время в Москву. Ему необходимо было снова засесть за архивные материалы.
В этот приезд Пушкин посетил Московский университет.
Это было 27 сентября 1832 года. «Когда он (Пушкин) вошел с Уваровым22, для меня точно солнце озарило всю аудиторию: я в то время был в чаду обаяния от его поэзии... - вспоминал об этом посещении, студент И. А. Гончаров, будущий знаменитый писатель. - Перед тем однажды я видел его в церкви, у обедни - и не спускал с него глаз. Черты его лица врезались у меня в памяти. И вдруг этот гений, эта слава и гордость России - передо мной в пяти шагах! Я не верил глазам. Читал лекцию Давыдов, профессор истории русской литературы».
Прерывая лекцию, Уваров, замечает Гончаров, сказал, обращаясь к студентам и указывая на Давыдова и Пушкина: «Вот вам теория искусства, а вот и самое искусство...». Он эффектно отчеканил эту фразу, очевидно, заранее приготовленную. Мы все жадно впились глазами в Пушкина. Давыдов оканчивал лекцию. Речь шла о «Слове о полку Игоревом». Тут же ожидал своей очереди читать лекцию после Давыдова и Каченовский. Нечаянно между ними завязался, по поводу «Слова о полку Игоревом», разговор, который мало-помалу перешел в горячий спор.
«Подойдите ближе, господа, это для вас интересно», - пригласил нас Уваров, и мы тесной толпой, как стеной, окружили Пушкина, Уварова и обоих профессоров. Не умею выразить, как велико было наше наслаждение - видеть и слышать нашего кумира.
Я не припомню подробностей их состязания, - продолжает Гончаров, - помню только, что Пушкин горячо отстаивал подлинность древнерусского эпоса, а Каченовский вонзал в него свой беспощадный аналитический нож...»
Гончаров подробно описывает далее внешний облик поэта, сравнивая при этом портреты двух художников:
«С первого взгляда наружность его казалась невзрачною. Среднего роста, худощавый, с мелкими чертами смуглого лица. Только когда вглядишься пристально в глаза, увидишь задумчивую глубину и какое-то благородство в этих глазах, которых потом не забудешь. В позе, в жестах, сопровождающих его речь, была сдержанность светского, благовоспитанного человека. Лучше всего, по-моему, напоминает его гравюра Уткина с портрета Кипренского. Во всех других копиях у него глаза сделаны слишком открытыми, почти выпуклыми, нос выдающимся - это неверно. У него было небольшое лицо и прекрасная, пропорциональная лицу, голова, с негустыми, кудрявыми волосами».
Собираясь на эту встречу, Пушкин писал 27 сентября жене: «Сегодня еду слушать Давыдова... но я ни до каких Давыдовых, кроме Дениса (его большого друга, партизана и поэта. - А. Г.), - не охотник - а в Московском университете я оглашенный. Мое появление произведет шум и соблазн, а это приятно щекотит мое самолюбие».
После посещения университета Пушкин делился своими впечатлениями в письме к На талъе Николаевне: «На днях был я приглашен Уваровым в университет. Там встретился с Каченовским (с которым, надобно тебе сказать, бранивались мы, как торговки на вшивом рынке). А тут разговорились с ним так дружески, так сладко, что у всех предстоящих потекли слезы умиления».
* * *
Закончив дела, Пушкин, после трехнедельного пребывания в Москве, снова вернулся 13 октября 1832 года в Петербург.
Близилась зима, но она не радовала поэта. Наталья Николаевна, увлекаясь балами, все больше и больше втягивалась в светский круг столицы. Необходимость сопровождать ее отвлекала Пушкина от работы.
«Блестящий свет и ветреное и рассеянное существование» - так охарактеризовал Пушкин тогдашнюю обстановку своей жизни и в конце февраля писал Нащокину: «Жизнь моя в Петербурге ни то ни се. Заботы о жизни мешают мне скучать. Но нет у меня досуга, вольной холостой жизни, необходимой для писателя. Кружусь в свете, жена моя в большой моде - все это требует денег, деньги достаются мне через труды, а труды требуют уединения».
«Пушкина нигде не встретишь, как только на балах, - с сожалением замечал Н. В. Гоголь в письме от 8 февраля 1833 года своему другу А. С. Данилевскому. - Там он протранжирит всю жизнь свою, если только какоинибудь случай, и более необходимость не затащут его в деревню...»
Одна из современниц, А. Д. Шевич, рассказывала, что на придворных балах Пушкину бывало просто скучно. Стоя как-то возле нее, пока Наталья Николаевна танцевала, позевывая и потягиваясь, он сказал два стиха из старинной песни:
Неволя, неволя, боярский двор,
Стоя наешься, сидя наспишься.
Так продолжалось всю зиму. Наталья Николаевна ждала в это время уже второго ребенка...
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВОЛГА, УРАЛ, БОЛДИНО
1833
«Путешествие нужно мне нравственно и физически»
Я посетил места, где произошли главные события эпохи, мной описанной, поверяя мертвые документы словами еще живых, но уже престарелых очевидцев и вновь поверяя их дряхлеющую память историческою критикою.
А. С. Пушкин. «История Пугачева»
Уезжая из Москвы, Пушкин получил от Нащокина неожиданный подарок - сюжет романа. Нащокин рассказал ему историю обедневшего помещика Островского, которого стал теснить богатый, влиятельный сосед. Призвав на помощь неправый суд, сосед выселил Островского из небольшого родового имения. Этого беднягу Нащокин увидел в остроге...
Тема заинтересовала Пушкина. Помещичий быт и тяжкая доля подвластных крепостникам крестьян были ему хорошо знакомы. Приезжая в Псков, он мог видеть и рисовать своего Троекурова с натуры.
В руки Пушкина попало в то время подлинное судебное дело, возникшее между подполковником Крюковым и поручиком Муратовым, рассматривавшееся в октябре 1832 года в Козловском уездном суде.
Пушкин тут же принялся за новый роман, получивший название «Дубровский». За двадцать дней, с 21 октября по 11 ноября 1832 года, написал восемь глав, причем во вторую главу включил полностью, без всяких переделок - лишь заменив фамилию, - копию решения Козловского уездного суда.
В это время Пушкин заболел ревматизмом. Выздоравливая, он неожиданно услышал заинтересовавший его рассказ о родовитом офицере Гренадерского полка, крестнике императрицы Елизаветы Петровны, Шванчиче, попавшем 8 ноября 1773 года в плен к Пугачеву. Шванчич перешел на сторону руководителя крестьянского восстания и присягнул ему.
В январе 1833 года Пушкин набросал план повести о Шванчиче - будущей «Капитанской дочки» - и, прервав работу над «Дубровским», на следующий же день обратился к военному министру Чернышеву с просьбой предоставить ему для изучения Следственное дело о Пугачеве.
Дело это было опечатано, не подлежало вскрытию без особого разрешения царя, и Пушкин в течение марта и апреля изучает архивы военной коллегии и секретную переписку о восстании 1773-1774 года и действиях военных и гражданских властей против Пугачева.
* * *
Необходимо заметить, что в царскосельское лето и последующие годы Пушкина все больше и больше влекло к прозе. Стихотворная муза его почти молчала: в 1831 году он написал всего 9 стихотворений, в 1832-13, в 1833-18, в 1834-7 и цикл «Песен западных славян».
Пушкин был свидетелем больших народных волнений во время поездки в 1830 году в Болдино. Холера и волна этих восстаний прокатились тогда по всей России.
«Народ подавлен и раздражен», - писал Пушкин, вернувшись в Москву 9 декабря 1830 года, своей приятельнице Е. М. Хитрово. «Народ ропщет», - пишет он в «Заметках о холере 1831 года».
За десятилетие с небольшим, истекшие после создания в 1819 году «Деревни», Пушкин много видел и испытал, был глубоко потрясен жестокой и беспощадной расправой с восставшими крестьянскими массами, неправдою на родной земле и перо свое обратил к защите обездоленных. Крестьянская тема становится главной в его творчестве, и он все чаще обращался к ней.
Изучая архивные материалы по истории Пугачева, Пушкин вернулся к «Дубровскому» и с 14 декабря 1832 года до 6 февраля 1833 года дописал последние одиннадцать глав романа. В них он очень смело раскрыл отношения между помещиками-крепостниками и крестьянами. «Старинный быт русского дворянства в лице Троекурова изображен с ужасающей верностью», - писал Белинский.
Ярко изобразил Пушкин исконных врагов крепостного крестьянства - подьячих, исправников, судей, заседателей, равнодушных к народу попов, корыстное «чернильное племя» чиновников.
И крестьян - от помещичьих холопов и прихвостней до бунтарей, типа кузнеца Архипа, готовых в огне сжечь своих угнетателей, - показал с их подлинными настроениями.
«Дубровский» - историко-бытовой роман, широко обобщающий помещичий быт и нравы начала прошлого века. Богатый своевольный помещиккрепостник бросает вызов бедному, но гордому, сохранившему человеческое достоинство соседу. Мстителем за него встает сын - обедневший дворянин, бунтарь Дубровский, поднявший своих крестьян против ненавистных им помещиков и чиновников.
Перед нами в романе три мира: с большой теплотой и сочувствием изображенный крестьянский подневольный люд; презренное «крапивное семя» - чиновники-казнокрады, кровососы народные; наконец, «барство дикое, без чувства, без закона» и «рабство тощее», грозно восставшее на защиту своих попранных человеческих прав.
В какой-то мере Пушкин и Дубровский в романе сливаются в одном образе, протестуя против позорного рабства, крепостничества и насилия над человеческим духом.
* * *
После «Истории села Горюхина» и «Дубровского» замыслы «Капитанской дочки» и «Истории Пугачева» полностью овладевают Пушкиным, и работа над ним идет у него параллельно. К лету 1833 года он настолько овладел материалом, что написал уже первую черновую редакцию «Истории Пугачева».
Ощущая необходимость на месте ознакомиться с фоном обстановки и людьми пугачевской эпопеи, желая быстрее закончить начатые труды, Пушкин обратился 22 июля 1833 года к Бенкендорфу с просьбою разрешить ему поездку в Оренбург и Казань.
Николай I изъявил желание узнать, что побудило Пушкина оставить свои исследования по истории Петра I, почему он едет в Оренбург и Казань, Пушкин на это ответил: «В продолжение двух последних лет занимался я одними историческими изысканиями, не написав ни одной строчки чисто литературной. Мне необходимо месяца два провести в совершенном уединении, дабы отдохнуть от важнейших занятий и кончить книгу, давно мною начатую, и которая доставит мне деньги, в коих имею нужду. Мне самому совестно тратить время на суетные занятия, но что делать? они одни доставляют мне независимость и способ проживать с моим семейством в Петербурге».
При этом Пушкин пояснил, что имеет в виду написать книгу о деревне - роман, коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани. Вот почему хотелось бы ему посетить обе сии губернии.
7 августа было получено разрешение на четырехмесячную поездку в намеченные места, и 18 августа 1833 года Пушкин выехал из Петербурга.
Уже 20 августа он писал жене из Торжка, а на следующий день - из Павловского, куда заехал по пути, направляясь в имение Гончаровых, Ярополец, где жила теща. Там он отобрал для себя в библиотеке десятка три книг и просил переслать их в Петербург вместе с вареньем и наливками.
Жене он писал, между прочим: «Забыл я тебе сказать, что в Торжке толстая M-lle Pojarsky (мадам Пожарская. - А. Г.), та самая, которая варит славный квас и жарит славные-котлеты, провожая меня до ворот своего трактира, отвечала мне на мои нежности: стыдно вам замечать чужие красоты, у вас у самого такая красавица, что я, встретя ее (?), ахнула... Ты видишь, моя женка, что слава твоя распространилась по всем уездам... Гляделась ли ты в зеркало, и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете - а душу твою люблю я еще более твоего лица. Прощай, мой ангел, целую тебя крепко».
29 августа Пушкин писал жене уже ив Москвы, где пробыл четыре дня, сообщил, кого посетил, с кем встречался, как выглядит древняя столица: «Однако скучна Москва, пуста Москва, бедна Москва. Даже извозчиков мало на ее скучных улицах. На Тверском бульваре попадаются две-три салопницы, да какой-нибудь студент в очках и в фуражке, да князь Шаликов...»
* * *
29 августа 1833 года Пушкин выехал на восток. А вслед ему полетели указания учинить всюду секретный полицейский надзор за поэтом. Петербургский обер-полицмейстер уведомил об этом нижегородского военного губернатора Бутурлина, тот сообщил оренбургскому военному губернатору Перовскому, а дальше об этом довели до сведения казанского.
При этом Перовскому предложено было учинить особое наблюдение за образом жизни и поведением «известного поэта, титулярного советника Пушкина».
Перовский давно знал Пушкина, был с ним на «ты» и поставил на официальном к нему письме резолюцию: «Отвечать, что сие отношение получено через месяц по отбытии г. Пушкина отсюда, а потому, хотя во время кратковременного его в Оренбурге пребывания и не было за ним полицейского надзора, но как он останавливался в моем доме, то я тем лучше могу удостоверить, что поездка его в Оренбургский край не имела другого предмета, кроме нужных ему исторических изысканий».
Любопытно, что, преследуя Пушкина по пятам, полицейские и жандармы сами запутались в своем сыске. Когда Пушкин вернулся в середине ноября 1833 года из Москвы в Петербург, петербургский военный генералгубернатор официально запросил московского генерал-губернатора, «по какому случаю признано нужным иметь г-на Пушкина под надзором полиции». Московский генерал-губернатор ответил, что сведений об этом у него не имеется...
* * *
Пушкин отправился на восток обогащенный уже большим материалом по истории пугачевского восстания, почерпнутым из архивов и официальных документов. Но ему необходимо было лично, на месте, ознакомиться с бытом яицкого казачества, крепостного крестьянства, кочевого населения охваченных пугачевским восстанием губерний, встретиться с участниками и свидетелями восстания, из уст их услышать рассказы о личности вождя крестьянского движения. И тогда оживут под его пером все эти мертвые документы ушедшей эпохи, оживет и сам Пугачев со своими соратниками.
Путь Пушкина лежал через Нижний Новгород, Казань, Оренбург, столицу Пугачева - Берды.
В Нижний Новгород Пушкин приехал 2 сентября, нанес визит губернатору, обнаружил в местном архиве и переписал заинтересовавший его документ, побывал на знаменитой нижегородской ярмарке, где, по выражению его современника писателя В. А. Соллогуба, «Азия сталкивается с Европой; Восток с Западом; тут решается благоденствие народов; тут ключ наших русских сокровищ».
Сюда, на берега Волги, Пушкин привел и Онегина в его «Путешествии»:
. . . . . . перед ним
Макарьев суетно хлопочет,
Кипит обилием своим.
Сюда жемчуг привез индеец,
Поддельны вина европеец,
Табун бракованных коней
Пригнал заводчик из степей,
Игрок привез свои колоды
И горсть услужливых костей,
Помещик - спелых дочерей,
А дочки - прошлогодни моды.
Всяк суетится, лжет за двух
И всюду меркантильный дух.
* * *
В ночь на 5 сентября Пушкин приехал в Казань, где - читаем мы в его письме к жене - «возился со стариками, современниками моего героя; объезжал окрестности города, осматривал места сражений, расспрашивал, записывал...»
И в письме трогательно вспоминает свою годовалую дочь: «Дорогой я видел годовую девочку, которая бегает на карачках, как котенок, и у которой уже два зуба. Скажи это Машке».
И неожиданно сообщает Наталье Николаевне: «Здесь Баратынский. Вот он входит...»
Поэт Е. А. Баратынский жил тогда в имении тестя Камарах, под Казанью. Он привез Пушкина к местному семидесятивосьмилетнему миллионеру Л. Ф. Крупенникову, который попал в 1774 году в плен к Пугачеву. Они часа полтора беседовали. Пушкин с большим вниманием слушал его.
Он был доволен, побывав в этих местах, и здесь же, в Казани, под свежим впечатлением написал седьмую главу своего труда, в котором запечатлел все только что услышанное.
Не задерживаясь далее, Пушкин на рассвете 10 сентября направился в Симбирск. Минуя Самару (нынешний Куйбышев), переправившись у Маячной горы через Урал, прибыл 18 сентября в Оренбург.
* * *
Дорога была прескучная, погода стояла холодная, и Пушкин писал жене: «Что, женка? скучно тебе? мне тоска без тебя. Кабы не стыдно было, воротился бы прямо к тебе, ни строчки не написав. Да нельзя, мой ангел. Взялся за гуж, не говори, что не дюж: уехал писать, так пиши же роман за романом, поэму за поэмой. А уж чувствую, что дурь на меня находит - я и в коляске сочиняю».
6 июля 1833 года у Пушкина родился второй ребенок, сын Александр. Он трогательно любил детей и, уезжая, волновался за свою заболевшую годовалую дочь Марию. С дороги он писал Осиповой в Тригорское: «Моя дочь в течение последних пяти-шести дней заставила нас поволноваться. Думаю, что у нее режутся зубки. У нее до сих пор нет ни одного. Хоть и стараешься успокоить себя мыслью, что все это претерпели, но созданьица эти так хрупки, что невозможно без содрогания смотреть на их страдания».
В Оренбурге Пушкина встретил В. И. Даль - врач, писатель и этнограф. Он сопровождал его в Бердскую слободку, «столицу Пугачева» - центр его армии, насчитывавшей 25 тысяч человек.
Они посетили обитую латунью избу, которую Пугачев называл своим «золотым дворцом». Пушкин сел за стол и стал заносить в записную книжку рассказы собравшихся стариков и старух.
«В деревне Берды, - писал Пушкин жене, - имел я удачу - нашел 75-летнюю казачку, которая помнит это время, как мы с тобой помним 1830 год».
От старухи этой, Бунтовой, Пушкин услышал много интересного и любытного. Он спросил, помнит ли она Пугачева, и услышал в ответ:
- Да, батюшка, нечего греха таить, моя вина.
- Какая же это вина, что ты знала Пугачева?
- Знала, батюшка, знала; как теперь на него гляжу: мужик был плотный, здоровенный, плечистый, борода окладистая, ростом не больно высок и не мал... Как же! Хорошо знала и присягала ему вместе с другими.
Бунтова спела Пушкину несколько пугачевских песен и позже рассказывала:
- Показал он мне портрет: красавица такая написана. «Вот, говорит, она станет твои песни петь...»
Пушкин много смеялся, когда ему рассказали, как, ворвавшись в Берды, где испуганный народ собирался в церкви и на паперти, Пугачев, приняв важный вид, прошел прямо в алтарь, сел на церковный престол и по неграмотности своей, видимо полагая, что церковный престол и есть царский престол, громко сказал:
- Как давно я не сидел на престоле!..
Пугачев, как известно, назвавшись императором Петром III, возглавил начатое яицким казачеством восстание и вовлек в него массы крепостного крестьянства и уральских рабочих.
Все слышанное Пушкин записывал и на прощание подарил старухе червонец. Это показалось подозрительным. На другой день старуху, прихватив с собой подаренный ей червонец, отвезли в Оренбург. И там она заявила:
- Вчера-де приезжал какой-то чужой господин, приметами: собой не велик, волос черный, кудрявый, лицом смуглый, и подбивал под «пугачевщину» и дарил золотом: должен быть антихрист, потому что вместо ногтей на пальцах когти.
Пушкин, как это известно, заботился «о красе ногтей»...
Работая над «Историей Пугачева», Пушкин показал в ней подлинно народный характер восстания, подчеркивал связь народа с Пугачевым: «Народ повалил на площадь, жители выходили из домов с хлебом и солью. Раздавался колокольный звон...», «Пугачев уехал: народ бросился за ним...», «Народ пошел провожать Пугачева...», «Народ толпился на улице... кланялся в пояс...», «Народ узнал колокольчик Пугачева и толпою бежал за ним...». Где бы ни появлялся Пугачев, везде его окружает возбужденный и радостный народ.
Социальную направленность движения, ненависть народа к дворянству Пушкин, не взирая на цензуру, показывает достаточно четко.
* * *
Казань в начале XIX века. Крепость. С гравюры Э. Турнерелли.
Оренбург в начале XIX века. Городская площадь. С рисунка А. Чернышева.
20 ноября 1833 года Пушкин возвратился в Петербург. По пути заехал в симбирское имение Языково, повидался с другом своих михайловских лет поэтом Н. М. Языковым и его братьями. Ночевал у них, рассказывал о своей поездке.
Он спешил закончить «Историю Пугачева» и, остановившись на обратном пути в Болдине, принялся за нее. Уже через месяц, 2 ноября, этот большой труд был закончен.
Он писал в предисловии: «Историческая страница, на которой встречаются имена Екатерины, Румянцева, двух Паниных, Суворова, Бибикова, Михельсона, Вольтера и Державина, не должна быть затеряна для потомства».
«История» вышла в свет около 28 декабря 1834 года, в количестве 3000 экземпляров. Но называлась она не «История Пугачева», как озаглавил ее Пушкин, а «История Пугачевского бунта», как переименовал ее Николай I, находивший, что Пугачев не имеет истории.
В условиях тогдашней цензуры Пушкин не мог полным голосом сказать в этом своем произведении, что пугачевщина явилась естественным следствием невыносимого положения крепостных крестьян, и сосредоточил свое внимание на личной судьбе Пугачева.
Направляя царю экземпляр «Истории», Пушкин «присовокупил к ней некоторые замечания, которых не решился он написать». В них он остановился на социальных причинах, объединивших на стороне Пугачева крестьянство против дворянства, и обрисовал роль потомственного дворянина, перешедшего на сторону Пугачева, - Шванчича.
«Уральские казаки (особливо старые люди), - писал Пушкин в одном из девятнадцати пунктов представленных царю «Замечаний о бунте», - доныне привязаны к памяти Пугачева. «Грех сказать, - говорила мне 80-летняя казачка, - на него мы не жалуемся; он нам зла не сделал». - «Расскажи мне, - говорил я Д. Пьянову, - как Пугачев был у тебя посажённым отцом». - «Он для тебя Пугачев, - отвечал мне сердито старик, - а для меня он был великий государь Петр Федорович...»
Свою записку царю Пушкин закончил общими замечаниями: «Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства»...
* * *
«История Пугачева» была закончена в болдинскую осень 1833 года и опубликована в 1834 году, а окончательный вариант «Капитанской дочки» был опубликован лишь в последнем номере пушкинского «Современника» за 1836 год.
При этом одна глава о бунте крестьян в деревне Буланино-Гринево, которую Пушкин назвал «Пропущенной главой», была по цензурным условиям опубликована лишь только в 1880 году.
Тема исторической хроники и романа - стихийное крестьянское восстание. Одновременно это изображение судьбы дворянской семьи в обстановке крестьянского восстания, причем, писал Пушкин, здесь «романическая история без насилия входит в раму обширнейшую происшествия исторического».
В «Исторических заметках» 1822 года Пушкин полагал, что «существование народа не отделилось вечною чертою от существования дворян», в 1830 году он видел огромную пропасть между крестьянством и подавляющим большинством дворянства.
В хронике и романе Пушкин ярко отразил социальный характер восстания, ненависть народа к дворянству и связь народа с Пугачевым. «Воеводы бежали из городов, дворяне из поместий... Пугачев объявил народу вольность, истребление дворянского рода... Дворянство обречено было погибели. Во всех селениях, на воротах барских дворов, висели помещики или их управители...» - читаем мы у Пушкина.
Одновременно Пушкин показывает в «Капитанской дочке» гуманность восставших в отношении к «простому народу» - крестьяне растаскивали только офицерские квартиры, а при приближении Пугачева даже у забитых крестьян пробуждалось чувство собственного достоинства.
При этом на всем протяжении романа Пушкин подчеркивает черты природного благородства Пугачева, его великодушие к простым людям.
«Капитанская дочка» получила очень высокую оценку современников. По словам Вяземского, Пушкину было в высшей степени присуще верное, ясное и проницательное понимание истории. Он был одарен способностью воссоздавать минувшее, переносить себя в прошлые эпохи.
«Капитанская дочка», - писал Гоголь, - решительно лучшее русское произведение в повествовательном роде. Сравнительно с «Капитанской дочкой» все наши романы и повести кажутся приторной размазней. Чистота и безыскусственность взошли в ней на такую высокую степень, что сама действительность кажется перед нею искусственной и карикатурной. В первый раз выступили истинно-русские характеры: простой комендант крепости, капитанша, поручик; сама крепость с единственной пушкой, бестолковщина времени и простое величие простых людей, все - не только самая правда, но еще как бы лучше ее».
Белинский так оценил роман Пушкина: «Капитанская дочка» - нечто вроде «Онегина» в прозе. Поэт изображает в ней нравы русского общества в царствование Екатерины. Многие картины по верности, истине содержания и мастерству изложения - чудо совершенства».
* * *
Исколесив за полтора месяца - от Петербурга до Урала и обратно - 3500 верст, Пушкин остановился 1 октября 1833 года в Болдине. Он писал жене: «Я сплю и вижу приехать в Болдино и там запереться».
Быть может, вспомнил поэт свою первую вдохновенную Болдинскую осень 1830 года, свой необычный тогда творческий взлет и, волнуемый новыми большими творческими замыслами, хотел в 1833 году повторить ее.
Уже на следующий день он пишет жене: «Плохо путешествовать женатому; то ли дело холостому! ни о чем не думаешь... Теперь надеюсь многое привести в порядок, многое написать и потом к тебе с добычею».
Через несколько дней - новое письмо: «Вот уж неделя, как я в Болдине, привожу в порядок мои записки о Пугачеве, а стихи пока еще спят. Коль царь позволит мне Записки, то у нас будет тысяч 30 чистых денег. Заплатим половину долгов и заживем припеваючи». Нащокину Пушкин пишет, шутя: «Емелька Пугачев оброчный мой мужик!»
И в то же время взволнованно просит жену: «Не стращай меня, женка, не говори, что ты искокетничалась; я приеду к тебе, ничего не успев написать - и без денег сядем на мель. Ты лучше оставь меня в покое, а я буду работать и спешить...»
Работать, однако, не удается. Прошел уже месяц, и Пушкин пишет В. Ф. Одоевскому: «Приехал в деревню, думал распишусь. Не тут-то было. Головная боль, хозяйственные хлопоты, лень - барская помещичья лень - так одолели меня, что ни приведи боже».
В письме от 21 октября Пушкин написал жене: «О себе тебе скажу, что я работаю лениво, через пень колоду валю. Все эти дни голова болела, хандра грызла меня; нынче легче. Начал многое, но никак ни к чему нет охоты: бог знает, что со мною делается. Старам стала, и умом плохам. Приеду оживиться твоею молодостию, мой ангел. Но не жди меня прежде конца ноября; не хочу к тебе с пустыми руками явиться, взялся за гуж, не скажу, что не дюж...»
Вдохновение родилось лишь после месячного пребывания в Болдине. 24 октября Пушкин создал первую часть поэмы «Анджело», 26-го - вторую и 27-го - закончил. 28-го перевел из Мицкевича стихотворения «Воевода» и «Будрыс и его сыновья».
В Болдине Пушкин написал «Пиковую даму». Он читал ее Нащокину и рассказывал, что она основана на подлинном факте. Девяностолетняя Наталья Петровна Голицына, современница Елизаветы, бывшая фрейлина пяти императриц - так называемая «усатая княгиня», - однажды сообщила своему проигравшемуся внуку три карты, названные ей в молодые годы в Париже Сен-Жерменом. Внук поставил на них и выиграл. Дальнейшее развитие повести было уже вымышлено Пушкиным.
«Пиковая дама» - типичная петербургская повесть из жизни великосветского общества пушкинской поры.
В ней поднята тема большого города с его социальными различиями, при необычайной глубине, стройности, лаконизме и драматизме построения сюжета.
И в «Пиковой даме» дан тонкий и глубокий анализ человеческой страсти. Ф. М. Достоевский очень высоко оценил повесть: «Мы пигмеи перед Пушкиным, нет уж между нами такого гения! Что за красота, что за сила в его фантазии. Недавно перечитал я его «Пиковую даму». Вот фантазия!.. Тонким анализом проследил он все движения Германа, все его мучения, все его надежды, и, наконец, страшное, внезапное поражение».
Пушкин записал 7 апреля 1834 года в своем «Дневнике»: «Моя «Пиковая дама» в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и кн. Натальей Петровной и, кажется, не сердятся...»
В болдинскую осень Пушкин создал одно из совершеннейших своих творений - «Медный всадник», поэму одновременно философскую, социальную и историческую.
В основе ее та мысль, что самодержавие, сыгравшее при Петре I прогрессивную роль в развитии России и укреплении ее на берегах Балтийского моря, при последующих царствованиях превратилось в реакционную силу, давившую все живое в стране, задержавшую ее развитие и просвещение.
В поэме вдохновенный гимн Петербургу:
Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит.
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный...
* * *
В ту осень 1833 года Пушкин написал в Болдине поэтический отрывок «Осень». Он, видимо, предался размышлениям о пережитом, воспоминаниям о былых встречах, и эпиграфом к стихотворению поставил державинский стих:
«Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?»
Октябрь уж наступил - уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад - дорога промерзает...
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Унылая пора! очей очарованье,
Приятна мне твоя прощальная краса -
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русский холод...
Поэт как бы знакомит нас дальше с процессом своего творчества:
И забываю мир - ив сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем -
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута - и стихи свободно потекут...
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
ПЕТЕРБУРГ
1834-1835
«В тревоге пестрой и бесплодной большого света и двора...»
Не дай мне бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад.
. . . . . . . . . . . . .
Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в темный лес!..
А. С. Пушкин
«Служащего в министерстве иностранных дел титулярного советника Александра Пушкина всемилостивейше пожаловали мы в звание камер-юнкера нашего двора» - этой непрошеной царской «милостью» открылся для поэта России новый, 1834 год.
Накануне царь заметил отсутствие в Аничковом дворце Натальи Николаевны и спросил, какая тому причина. Ему сказали, что поскольку муж не имеет права посещать эти вечера, он не пускает на них и жену. В ответ на это царь подписал указ о муже, а жена была 17 января официально представлена ко двору.
Пушкин был взбешен, когда узнал о навязанной ему царем «милости». Звание это давалось обычно только что вступившим в жизнь юношам, а ему было уже тридцать четыре года.
Поэт особенно остро отзывался на все, что касалось его личного достоинства, а это неожиданное камер-юнкерство являлось поводом для оскорбительных шуток в его адрес.
Уже 2 января 1834 года П. А. Вяземский писал А. Я. Булгакову: «Александр Пушкин, поэт Пушкин - теперь камер-юнкер Пушкин...»
«Певец свободы, - отметил в своих «Воспоминаниях» В. А. Соллогуб, - наряженный в придворный мундир для сопутствия жене-красавице, играл роль жалкую, едва ли не смешную. Пушкин был не Пушкин, а царедворец и муж».
Друзья В. А. Жуковский и М. Ю. Виельгорский должны были, как рассказывал П. В. Нащокин, обливать нового камер-юнкера холодной водой - до того он был взволнован царским «пожалованием». Если бы не они, возмущенный поэт готов был пойти во дворец и наговорить царю грубостей.
Мать Пушкина между тем восхищенно писала в это время дочери, Ольге Сергеевне, что «на бале у Бобринского Наталья Николаевна имела положительно необычайный успех, император танцевал с нею кадриль и за ужином сидел возле нее... Натали всегда прекрасна, элегантна, везде празднуют ее появление. Возвращается с вечеров в четыре или в пять часов утра, обедает в восемь часов вечера; встав из-за стола, переодевается и опять уезжает».
Ей было только двадцать два года, но она быстро освоилась со своей новой ролью, не видя и не понимая, как все это тягостно и не по средствам мужу.
* * *
А. С. Пушкин. С портрета Т. Райта.
Певец «Вольности», облаченный в шитый золотом кафтан, вынужденный, по установленному церемониалу, являться с «камер-пажихой» ко двору, имел возможность, пока она танцевала, наблюдать светский, придворный и правительственный Петербург, остро критиковать его и все это, в назидание потомству, заносить в «Дневник», который он неоднократно начинал вести и бросал «из лености».
В ноябре 1833 года он решил снова вести дневник и 1 января 1834 года записал: «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам). Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове. Так я же сделаюсь русским Dangeau23».
В последних словах чувствовалось много едва сдерживаемого негодования и желчи, скрытой угрозы.
Данжо... Маркиз де Данжо был приближенный придворный французского короля Людовика XIV. Начиная с 1684 года он на протяжении тридцати шести лет вел свои «Мемуары», в которых, не касаясь политических и общественных вопросов, делал записи о придворной жизни, празднествах, церемониях и быте двора. В 1830 году четыре тома «Мемуаров» его были опубликованы в Париже, экземпляр их сохранился в личной библиотеке Пушкина. Из них два тома полностью разрезаны, третий частично, и он, конечно, читал их.
Но «русский Данжо» не остался в своем «Дневнике» лишь регистратором событий своей эпохи, он давал им яркие, острые, критические оценки, но делал это с щепетильной осторожностью. Предназначая их для потомства, опасаясь, что они могут попасть в руки современников, Пушкин сдерживал себя.
Он не мог быть и не был бесстрастным летописцем. Это видно уже из первых записей, которые он вел с 24 ноября 1833 года до февраля 1833 года. Вот одна из первых записей, короткая, всего в три строки, но .сурово критикующая: «Осуждают очень дамские мундиры - бархатные, шитые золотом, особенно в настоящее время, бедное и бедственное».
Вслед за этим новая запись, стоящая злой эпиграммы, в адрес самого царя и высших сановников николаевской монархии - председателя Государственного совета и комитета министров В. П. Кочубея и министра иностранных дел графа К. В. Нессельроде, к слову сказать, злейшего врага Пушкина: «Кочубей и Нессельроде получили по 200 000 на прокормление своих голодных крестьян. Эти четыреста тысяч останутся в их карманах... В обществе ропщут, - а у Нессельроде и Кочубея... будут балы (что также есть способ льстить двору)».
В марте дворянство и купечество готовились дать бал в честь совершеннолетия наследника, будущего императора, и Пушкин осуждающе отметил: «Праздников будет на полмиллиона. Что скажет народ, умирающий с голода?»
Записи Пушкина - яркое и выпуклое отражение лица эпохи. Из них мы узнаём, между прочим, что день 14 декабря - восстания и кровавой расправы с декабристами - Николай I отмечал ежегодно дворцовым балом. И осведомляемся, сколь невысокого мнения был Пушкин о своем царе. «Государь не рыцарь», - записывает он и делает еще одну уничтожающую запись о нем на французском языке: «Кто-то сказал о государе: «В нем много от прапорщика и не много от Петра Великого».
Этот кто-то был, конечно, сам поэт...
Больше чем когда-либо - в ту зиму безудержных балов и развлечений Натальи Николаевны - Пушкина волновали непомерно возросшие расходы.
Крайне осложнилось тогда и материальное положение родителей: имение Болдино описали за долги, жить было нечем, в деревню не с чем было ехать.
Пушкин вынужден был взять в свои руки Болдино, отцу назначить содержание, устроить дела брата Льва и сестры. Новые долги, новые хлопоты...
И мужу сестры, И. Н. Павлищеву, написал: «Из моих денег уплатил уже в один месяц 866 за батюшку, а за Льва Сергеевича 1330: более не могу».
Пушкин мечтает: «плюнуть на Петербург, да подать в отставку, да удрать в Болдино, да жить барином! Неприятна зависимость...»
Бальный сезон кончился. Пушкин облегченно вздохнул. 15 апреля 1834 года Наталья Николаевна выехала с детьми на лето к матери, в Ярополец. Пушкин, оставшись в Петербурге, сообщал ей столичные новости, делился своими планами. Возмущенный полицией и почтой, сообщил: «Я не писал тебе потому, что свинство почты так меня охладило, что я пера в руки взять был не в силе. Мысль, что кто-нибудь нас с тобою подслушивает, приводит меня в бешенство буквально. Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности - невозможно: каторга не в пример лучше...»
Наталью Николаевну предупредил: «...будь осторожна... вероятно, и твои письма распечатывают: этого требует государственная безопасность».
И в «Дневнике» сделал откровенно презрительную запись: «Государю неугодно было, что о своем камер-юнкерстве отзывался я не с умилением и благодарностию. Но я могу быть подданным, даже рабом, но холопом и шутом не буду и у царя небесного. Однако какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства! Полиция распечатывает письма к жене и приносит их читать царю... и царь не стыдится в том признаться - и давать ход интриге, достойной Видока и Булгарина! Что ни говори, мудрено быть самодержавным».
* * *
А. С. Пушкин на набережной Невы. Рисунок Л. Бенуа.
Дневник А. С. Пушкина 1834 года Автограф.
Безмерно устав, стремясь вырваться из ненавистного Петербурга в деревню и отдаться любимому творчеству, Пушкин пишет:
Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит -
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить... И глядь - как раз - умрем.
На свете счастья нет, но есть покой и воля,
Давно завидная мечтается мне доля -
Давно, усталый раб, задумал я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.
И принимает решение: 25 июня 1834 года подает Бенкендорфу прошение об отставке: «В качестве последней милости» просит дозволения посещать архивы...
Стихотворение не было закончено. Набежавшие новые мысли отвлекали поэта, и он здесь же, под ним, поместил его окончание в прозе:
«Юность не имеет нужды в at home (в своем доме), зрелый возраст ужасается своего уединения. Блажен, кто находит подругу - тогда удались он домой.
О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню - поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические - семья, любовь etc. - религия, смерть».
Пушкин нервно ждет ответа на свое прошение об отставке, но ответ пришел неутешительный: «Его императорское величество не желает никого удерживать против воли», но на посещение архивов «не изъявил своего соизволения». «Но если Пушкин возьмет отставку, то между мною и им все кончено», - предупредил царь.
Жуковский, близкий ко двору, воспитатель наследника престола, недоволен Пушкиным, упрекает его в том, что он поступил «дурно и глупо», что он «тем может повредить себе на целую жизнь».
Под его влиянием Пушкин просит Бенкендорфа не давать его прошению хода, а Жуковскому сообщает, что «подал в отставку в минуту хандры и досады на всех и на все». Он пытается дать ему понять, как затруднительны его обстоятельства, как невесело его положение, как необходима ему перемена жизни.
Жуковский этого не понимает. Он снова упрекает Пушкина в грубости, считает, что ему следует «или пожить в желтом доме или велеть себя хорошенько высечь, чтобы привести кровь в движение».
Пушкин недоумевает. Он никак не может постичь психологии придворных обитателей и пишет Жуковскому: «Я, право, сам не понимаю, что со мною делается. Идти в отставку, когда того требуют обстоятельства, будущая судьба всего моего семейства, собственное мое спокойствие - какое тут преступление? какая неблагодарность? Но государь может видеть в этом что-то похожее на то, чего понять все-таки не могу. В таком случае я не подаю в отставку и прошу оставить меня в службе. Теперь, отчего письма мои сухи? Да зачем же быть им сопливыми? Во глубине сердца своего я чувствую себя правым перед государем; гнев его меня огорчает, но чем хуже положение мое, тем язык мой становится связаннее и холоднее. Что мне делать? просить прощения? хорошо, да в чем? К Бенкендорфу я явлюсь и объясню ему, что у меня на сердце - но не знаю, почему письма мои неприличны. Попробую написать третье».
И написал новое письмо, в котором повторил то, что уже сказал в своих первых письмах: подавая в отставку, он думал лишь о своих семейных делах, затруднительных и тягостных. Пушкин считал неудобным часто уезжать, находясь в то же время на службе...
Царь, однако, оставался глух. Он не хотел выпускать поэта из Петербурга, отказаться от наблюдения за ним, лишиться ежедневного контроля его образа жизни и творчества. «Пожаловав» поэта камер-юнкером, Николай I насильно привязал его к своей колеснице, заставил являться ко двору с женою по первому своему требованию.
* * *
А. С. Пушкин и Адам Мицкевич у Медного всадника. С рисунка В. Морозова.
В те дни вышел в свет цикл стихотворений Мицкевича. В них помещены были направленные против России политические сатиры, в частности «К русским друзьям» - ответ на стихотворения Пушкина «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Они виделись в последний раз в конце марта - начале апреля 1829 года. И, вспоминая встречи, Пушкин писал:
Он между нами жил
Средь племени ему чужого; злобы
В душе своей к нам не питал, и мы
Его любили. Мирный, благосклонный,
Он посещал беседы наши. С ним
Делились мы и чистыми мечтами
И песнями (он вдохновен был свыше
И свысока взирал на жизнь). Нередко
Он говорил о временах грядущих.
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.
Но в стихотворении «К русским друзьям» Мицкевич не скрывал своего возмущения: «Теперь я выливаю в мир кубок яда. Едка и жгуча горечь моей речи». На это Пушкин ответил:
Мы жадно слушали поэта. Он
Ушел на запад - и благословеньем
Его мы проводили. Но теперь
Наш мирный гость нам стал врагом - и ядом
Стихи свои, в угоду черни буйной,
Он напояет. Издали до нас
Доходит голос злобного поэта,
Знакомый голос!.. боже! освяти
В нем сердце правдою твоей и миром.
Стихотворение это Мицкевич прочитал уже после смерти Пушкина. А. И. Тургенев присутствовал однажды на его лекции в Париже, где он читал курс славянских литератур, и положил ему на кафедру копию этого стихотворения. «Голосом с того света» назвал его Мицкевич.
* * *
Полотняный Завод, имение Гончаровых. Спасские ворота и церковь у входа в усадьбу. Фотография.
Пушкин выехал из Петербурга к семье 25 августа 1834 года, остановился на несколько часов в Москве и в Полотняном Заводе прожил две недели. 8 сентября привез семью в Москву, а сам уехал в Болдино.
Здесь его встретил первый снег. Очень хотелось писать, но одолевали заботы: необходимо было разобраться в запутанном, заложенном и перезаложенном болдинском имении.
В этой неспокойной, несвойственной поэту деловой обстановке болдинская осень 1834 года не была уже такой творческой, как первые две...
«...Я еще писать не принимался, - тревожно писал Пушкин жене из Болдина 15 сентября, - и в первый раз беру перо, чтобы с тобой побеседовать. Я рад, что добрался до Болдина... написать что-нибудь мне бы очень хотелось. Не знаю, придет ли вдохновение...»
И новое письмо через несколько дней: «Вот уж скоро две недели, как я в деревне, а от тебя еще письма не получил. Скучно, мой ангел. И стихи в голову нейдут; и роман не переписываю. Читал Вальтера Скотта и Библию, а все об вас думаю... Видно, нынешнюю осень мне долго в Болдине не прожить. Дела мои я кое-как уладил. Погожу еще немножко, не распишусь ли: коли нет - так с богом и в путь. В Москве останусь дня три, у Натальи Ивановны (в Яропольце) сутки - и приеду к тебе. Да и в самом деле: неужто близ тебя не распишусь? Пустое...»
Вдохновение так и не пришло. За весь месяц болдинской осени 1834 года Пушкин написал лишь «Сказку о золотом петушке».
По поводу нее Пушкин позже записал в «Дневнике»: «Ценсура не пропустила следующие стихи в сказке моей о золотом петушке:
Царствуй, лежа на боку
и
Сказка ложь, да в ней намек,
Добрым молодцам урок».
* * *
По пути из Болдина Пушкин заехал в Ярополец, где жила теща с двумя дочерьми. Она вела в то время крайне неблаговидный образ жизни, и Пушкину пришлось принять обеих своячениц под свой кров, выручить их тем из тяжелого положения.
Внутренне Пушкин был против этого и писал жене: «Но обеих ли ты сестер к себе берешь? Эй, женка! смотри... Мое мнение: семья должна быть одна под одной кровлей: муж, жена, дети - покамест малы; родители, когда уже престарелы. А то хлопот не оберешься и семейственного спокойствия не будет».
И дальше советует жене «не пускаться в просительницы... о помещении сестер во дворец... Во-первых, вероятно, откажут; а во-вторых, коли и возьмут, то подумай, что за скверные толки пойдут по свинскому Петербургу... Мой совет тебе и сестрам быть подале от дворца; в нем толку мало».
* * *
Петербургский университет. С гравюры XIX века.
Жизнь Пушкина после возвращения Натальи Николаевны из Яропольца пошла по прежнему пути «тревоги пестрой и бесплодной большого света и двора». Снова начались балы, а расходы с приездом в Петербург двух сестер Натальи Николаевны увеличились.
Как-то он должен был быть во дворце, но рапортовался больным. Царь хотел даже прислать к нему своего врача Арендта, но через несколько дней по его распоряжению за Пушкиным и женою приехал придворный лакей с приглашением быть в восемь с половиною в Аничковом: поэту - в мундирном фраке, Наталье Николаевне - как обыкновенно.
Мать Пушкина восторженно писала своей знакомой: «Натали много выезжает, танцует ежедневно... Только и слышишь разговору, что о праздниках, балах и спектаклях». Вместе с Натальей н иколаевной выезжали и сестры.
Осенью 1834 года Гоголь читал лекции в Петербургском университете. Он преклонялся перед Пушкиным, а Пушкин высоко ценил его творчество.
В своей «Авторской исповеди» Гоголь признается, что «Пушкин заставил» его «взглянуть на дело серьезно». Когда он прочитал однажды небольшую сцену, Пушкин сказал ему: «Как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого, с этой способностью не приняться за большое сочинение! Это просто грех!» - и отдал Гоголю сюжет «Мертвых душ», из которого «хотел сделать сам что-то вроде поэмы и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому».
Позже Гоголь писал: «Когда я начал читать Пушкину первые главы из «Мертвых душ», в том виде, как они были прежде, то Пушкин, который всегда смеялся (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачней, сумрачней, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски:
- Боже, как грустна наша Россия!»
Во второй половине октября 1834 года Пушкин вместе с Жуковским приехал в Петербургский университет на лекцию Гоголя.
Тогдашний студент университета Н. И. Иваницкий так передавал об этом: «Однажды... ходим мы (студенты) по сборной зале и ждем Гоголя. Вдруг входят Пушкин и Жуковский. От швейцара они, конечно, уже знали, что Гоголь еще не приехал, и потому, обратись к нам, спросили только: «в которой аудитории будет читать Гоголь?» Мы указали на аудиторию. Пушкин и Жуковский заглянули в нее, но не вошли, а остались в сборной зале. Через четверть часа приехал Гоголь, и мы вслед за тремя поэтами вошли в аудиторию и сели по местам. Гоголь вошел на кафедру и вдруг, как говорится, ни с того ни с сего начал читать взгляд на историю аравитян. Лекция была блестящая. Она вся из слова в слово напечатана в «Арабесках»... Видно, что Гоголь знал заранее о намерении поэтов приехать на лекцию, и потому приготовился угостить их поэтически. После лекции Пушкин заговорил о чем-то с Гоголем, но я слышал одно только: «увлекательно!»
Лекция эта происходила в нынешнем здании Петербургского университета, на набережной Невы. Сохранилась поныне памятная доска в аудитории, где читал лекции адъюнкт-профессор кафедры всеобщей истории Н. В. Гоголь-Яновский.
* * *
К. П. Брюллов. С портрета В. Тропинина.
В те же дни Пушкин посетил выставку привезенной художником К. П. Брюлловым из Италии картины «Последний день Помпеи».
Помпея - древнеримский город около Неаполя был, как известно, разрушен в 79 году до нашей эры и засыпан пеплом при извержении Везувия, причем погибло около двух тысяч человек. В течение почти восемнадцати веков город оставался под пеплом, и лишь в конце XVIII века начались его раскопки.
Огромное полотно Брюллова с августа 1834 года находилось в Зимнем дворце, весною 1835 года было выставлено в Академии Художеств. Затем картину показал Леман в своем балагане на Адмиралтейской площади.
Пушкин, впечатленный картиной, написал стихотворение:
Везувий зев открыл - дым хлынул клубом - пламя
Широко развилось, как боевое знамя.
Земля волнуется - с шатнувшихся колонн
Кумиры падают! Народ, гонимый страхом,
Толпами, стар и млад, под воспаленным прахом,
Под каменным дождем бежит из града вон.
Под черновиком стихотворения поэт нарисовал центральную группу картины - двух мужчин, несущих своего отца.
* * *
К поэзии поэт обращался от случая к случаю, но внимание его привлекла вышедшая в Париже книга «Гузла, или Сборник иллирийских стихотворений, собранных в Далмации, Боснии, Хорватии и Герцеговине». Автором его был острый и оригинальный французский писатель Проспер Мериме.
На основе этого сборника Пушкин создал цикл «Песен западных славян». Одиннадцать из них были переделкой прозаических текстов песен в книге Мериме. Две переведены из сербских источников, три сочинены самим Пушкиным - «Песня о Георгии Черном», «Воевода Милош» и «Яныш Королевич». В основе последней песни тот же сюжет, что и в драме «Русалка».
* * *
А. С. Пушкин. С картины Б. Дехтерева.
Пушкин продолжал вести свой «Дневник». Это свидетельские показания летописца для потомства. Пушкин к этому и стремился. «Замечание для потомства» - читаем мы под одной записью. С января 1835 года Пушкин был очень «занят Петром» и записывает: «На балах был раза 3; уезжал с них рано. Придворными сплетнями мало занят. Шиш потомству...»
Записей, касающихся литературных вопросов, в «Дневнике» очень мало.
«В публике очень бранят моего «Пугачева», - записывает Пушкин, связывает это с именем товарища министра народного просвещения Уварова и дает ему в «Дневнике» уничтожающую характеристику: «Уваров большой подлец... Это большой негодяй и шарлатан... он у детей Канкрина был на посылках... Он крал казенные дрова...»
По поводу Уварова и назначения М. А. Дондукова-Корсакова вице-президентом Российской академии Пушкин пишет И. И. Дмитриеву: «Уваров фокусник, а Дондуков-Корсаков его паяс. Кто-то сказал, что куда один, туда и другой: один кувыркается на канате, другой под ним на полу».
И награждает Дондукова-Корсакова эпиграммой:
В Академии наук
Заседает князь Дундук.
Говорят, не подобает
Дундуку такая честь;
Почему ж он заседает?
Потому что есть чем сесть.
После этой эпиграммы имя «Дундук» стало нарицательным. Между прочим, последний стих приведен здесь в измененной, смягченной тогда редакции.
14 декабря 1833 года в «Дневнике» появилась запись: «11-го получено мною приглашение от Бенкендорфа явиться к нему на другой день утром.
Я приехал. Мне возвращен «Медный всадник» с замечаниями государя. Слово кумир не пропущено высочайшею цензурою; стихи
И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфироносная вдова -
вымараны. На многих местах поставлен (?), - всё это делает мне большую разницу. Я принужден был переменить условия со Смирдиным...»
О дневниковых записях Пушкина известный исследователь П. Е. Щеголев заметил: «Пушкин преследовал исторические задачи, но историческое дело он творил, как художник... Когда Пушкин заносил ту или иную деталь на память потомству, он смотрел на нее, как на деталь картины, которую нарисует в будущем на основании записей «Дневника» или он. сам, или неведомый читатель и исследователь».
* * *
Галерея 1812 года в Зимнем дворце.
Пушкин нередко посещал Галерею 1812 года в Зимнем дворце, где художник Дау увековечил образы М. И. Кутузова, М. Б. Барклая де Толли и их трехсот тридцати двух боевых сподвижников.
Посетив ее в 1835 году, Пушкин написал стихотворение «Полководец». Оно начинается с описания Галереи:
У русского царя в чертогах есть палата:
Она не золотом, не бархатом богата;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Толпою тесною художник поместил
Сюда начальников народных наших сил,
Покрытых славою чудесного похода
И вечной памятью двенадцатого года.
Нередко медленно меж ними я брожу
И на знакомые их образы гляжу,
И, мнится, слышу их воинственные клики.
Из них уж многих нет; другие, коих лики
Еще так молоды на ярком полотне,
Уже состарились и никнут в тишине
Главою лавровой...
Дальше Пушкин отдает дань памяти предшественника Кутузова - Барклая де Толли, «вождя несчастливого», чей «суров был жребий».
По поводу этого стихотворения появилась критическая заметка, обвинявшая Пушкина в том, что он не упомянул в нем М. И. Кутузова.
Пушкин объяснил, что стихотворением своим он хотел лишь воскресить память о Барклае де Толли, который навсегда останется в истории высокопоэтическим лицом, не успевшим оправдать себя перед глазами России, но достойным удивления и поклонения.
В то же время поэт высоко оценил роль Кутузова: «Слава Кутузова неразрывно соединена со славою России, с памятью о величайшем событии новейшей истории. Его титло: спаситель России, его памятник - скала Святой Елены! Имя его не только священно для нас, но не должны ли мы еще радоваться, мы, русские, что оно звучит русским звуком?»
Еще в 1831 году Пушкин писал, стоя перед гробницею Кутузова:
Перед гробницею святой
Стою с поникшею главой...
Всё спит кругом; одни лампады
Во мраке храма золотят
Столпов гранитные громады
И их знамен нависший ряд.
Под ними спит сей властелин,
Сей идол северных дружин,
Маститый страж страны державной,
Смиритель всех ее врагов,
Сей остальной из стаи славной
Екатерининских орлов.
В твоем гробу восторг живет!
Он русский глас нам издает;
Он нам твердит о той године,
Когда народной веры глас
Воззвал к святой твоей седине:
«Иди спасай!» Ты встал - и спас.
Необходимо сказать, что после Октябрьской революции в Галерее были помещены также написанные Дау полотна четырех солдат роты дворцовых гренадер - Ильи Ямника, барабанщика Василия Авксентьева, унтер-офицера латыша Егора Етторде и капитана из унтер-офицеров Василия Лаврентьева. Все они, по распоряжению державных хозяев Зимнего дворца, не были помещены в Галерее, а находились в кладовой.
В 1937 году, в дни столетия со дня смерти Пушкина, в Галерее установили мраморную доску с текстом пушкинского стихотворения «Полководец», которое Белинский считал одним из величайших созданий гениаль ного поэта.
Стихотворение свое Пушкин закончил:
О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и в умиленье!
* * *
Мысль покинуть Петербург, избавиться от суетной столичной жизни и переселиться в деревню не покидала Пушкина. Съездив как-то на несколько дней в м ихайловское и Тригорское, он был восхищен: «Господи, как у вас тут хорошо! А там-то, там-то в Петербурге, какая тоска зачастую душит меня!»
Дома он склонился над колыбелью только что родившегося, третьего своего ребенка. В память одного из предков, казненных в Смутное время, его нарекли Григорием.
Петербург показался ему более холодным и невыносимым после того, как подышал вольным воздухом деревни. И он решил говорить уже не об отставке, как год тому назад, - в чем ему было отказано, - а об отпуске на три или четыре года.
В письме к Бенкендорфу от 1 июня 1835 года он обрисовал свое положение: «У меня нет состояния... До сих пор я жил только своим трудом... В работе ради хлеба насущного, конечно, нет ничего для меня унизительного; но, привыкнув к независимости, я совершенно не умею писать ради денег; и одна мысль об этом приводит меня в полное бездействие. Жизнь в Петербурге ужасающе дорога...
Ныне я поставлен в необходимость покончить с расходами, которые вовлекают меня в долги и готовят в будущем только беспокойство и хлопоты, а может быть - нищету и отчаяние...»
На этом горестном письме поэта Николай I положил сухую, бездушную резолюцию: «Нет препятствий ему ехать, куда хочет, но не знаю, как разумеет он согласить сие со службою. Спросить, хочет ли отставки, ибо нет возможности его уволить на столь продолжительный срок».
Пушкин понимал, что резолюция царя вовсе не разрешает ему ехать, куда он хочет. Знал, что каждый шаг его, каждая мысль, каждое действие его находятся в поле зрения царя. И в полном бессилии пред неумолимым роком ответил на эту резолюцию: «Предаю совершенно судьбу мою в царскую волю и желаю только, чтоб... вход в архивы, когда обстоятельства позволят мне оставаться в Петербурге, не был бы мне запрещен».
Не видя выхода из давивших его тисков, Пушкин обратился к Бенкендорфу с просьбою о займе: за шесть лет вынужденной светской жизни в Петербурге он задолжал около 60 000 рублей, из которых половина - долги чести. Он просит избавить его от необходимости обращаться к ростовщикам и выдать взаймы 30 000 рублей, приостановив до погашения этого долга выплату ему жалования.
Просьба Пушкина была удовлетворена... А мать, Надежда Осиповна, писала в то время дочери, Ольге Сергеевне, что у Натальи Николаевны, только что освободившейся от родов, «большие планы повеселиться на петергофском празднике 1 июля, в день рождения императрицы, ездить верхом со своими сестрами на острова, нанять дачу на Черной речке, и не хочет она отправиться дальше, как желал бы Александр».
Ни мать Пушкина, ни жена его не отдавали себе отчета в том, что заем в 30 000 рублей, при наличии уже задолженности в сумме 60 000 рублей, ставил Пушкина в совершенно безвыходное положение и полную зависимость от царя...
* * *
Снова оказавшись в Михайловском, Пушкин съездил в соседнее Голубово, в гости к вышедшей замуж за барона Б. А. Вревского Евпраксии Вульф. Не было настроения писать, и он помогал им разбивать сад, сажал деревья, украшал цветами куртины, копал грядки, рыл пруд.
Возвращаясь в Михайловское, часто встречал знакомых поселян, помнивших его после Лицея еще веселым юношей. Как все изменилось с тех пор!..
Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет - уж за стеною
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни кропотливого ее дозора.
И дальше - оставшиеся в черновиках стихи.
Не буду вечером под шумом бури
Внимать ее рассказам, затверженным
Сыздетства мной - но всё приятным сердцу,
Как песни давние или страницы
Любимой старой книги, в коих знаем,
Какое слово где стоит.
Бывало,
Ее простые речи и советы
И полные любови укоризны
Усталое мне сердце ободряли
Отрадой тихой...
На прогулке прошла с поклоном знакомая баба. Пушкин не мог не сказать ей, что она переменилась.
- Да и ты, мой кормилец, состарился да и подурнел, - услышал он в ответ.
И писал жене: «Но делать нечего; все кругом меня говорит, что я старею... Хотя могу я сказать вместе с покойной няней моей: хорош никогда не был, а молод был. Все это не беда; одна беда: не замечай, мой друг, того, что я слишком замечаю».
Элегически настроенный Пушкин выразил тогда эти строки из письма к жене в стихотворении «...Вновь я посетил...»
Уж десять лет ушло с тех пор - и много
Переменилось в жизни для меня,
И сам, покорный общему закону,
Переменился я - но здесь опять
Минувшее меня объемлет живо,
И, кажется, вечор еще бродил
Я в этих рощах.
Пушкин писал жене: «...около знакомых старых сосен поднялась, во время моего отсутствия, молодая сосновая семья...»
Они всё те же,
Всё тот же их знакомый уху шорох -
Но около корней их устарелых
(Где некогда все было пусто, голо)
Теперь младая роща разрослась,
Зеленая семья; кусты теснятся
Под сенью их, как дети. А вдали
Стоит один угрюмый их товарищ,
Как старый холостяк, и вкруг него
По-прежнему все пусто.
Из Михайловского Пушкин писал своему другу Нащокину: «Мое семейство умножается, растет, шумит около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и старости нечего бояться. Холостяку в свете скучно: ему досадно видеть новые, молодые поколения; один отец семейства смотрит без зависти на молодость, его окружающую...»
Этот свой оптимизм, веру в светлое будущее Пушкин отразил в заключительных стихах написанной тогда, в Михайловском, элегии:
Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомянет.
Пушкин пробыл в Михайловском еще около двух недель и 2 октября писал жене: «Погода у нас портится, кажется, осень наступает не на шутку. Авось распишусь». А 11 октября - Плетневу: «...такой бесплодной осени от роду мне не выдавалось. Пишу, через пень колоду валю. Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен».
* * *
В Петербург Пушкин вернулся 23 октября. Сразу нахлынули неприятности с цензурой, семейные заботы...
Главный комитет цензуры не разрешил печатать второе издание одобренной Николаем I поэмы «Анджело», и Пушкин писал шефу жандармов: «Не знаю, чем мог я заслужить такое пренебрежение, - но ни один из русских писателей не притеснен более моего. Сочинения мои, одобренные государем, остановлены при их появлении - печатаются с своевольными поправками цензора, жалобы мои оставлены без внимания. Я не смею печатать мои сочинения...»
В те дни тяжело болела мать Пушкина. Врачи потеряли надежду, хотя ей было всего шестьдесят лет. Все, вместе взятое, очень волновало Пушкина, и он изливал свою душу в письме П. А. Осиповой: «Что до меня, я исхожу желчью и совершенно ошеломлен. Поверьте мне, дорогая госпожа Осипова, хотя жизнь и сладкая привычка, однако в ней есть горечь, делающая ее в конце концов отвратительной, а свет - мерзкая куча грязи. Тригорское мне милее...»
Приближалось 14 декабря 1835 года - десятая годовщина восстания декабристов, и Пушкин писал доверительно Осиповой: «Как подумаю, что уже 10 лет протекло со времени этого несчастного возмущения, мне кажется, что я все видел во сне. Сколько событий, сколько перемен во всем, начиная с моих собственных мнений, моего положения и проч. и проч...»
Наступил 1836 год. Последний, самый тяжкий год жизни Пушкина...
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
ПЕТЕРБУРГ.
1836
Последний год
О нет, мне жизнь не надоело,
Я жить люблю, я жить хочу...
А. С. Пушкин
В один из вечеров 1836 года у В. А. Жуковского собрались гости. Это был один из тех субботних вечеров, на которых поэты и писатели знакомились с новинками литературы, обменивались впечатлениями о событиях дня.
П. А. Вяземский, В. Ф. Одоевский, И. А. Крылов, П. А. Плетнев были постоянными участниками этих встреч. Позже здесь появились Н. В. Гоголь и А. В. Кольцов.
Приехал и Пушкин. После прекращения выпуска дельвиговской «Литературной газеты» и «Северных цветов» его не переставала занимать мысль о собственном органе печати. От издания разрешенной ему газеты он отказался и мечтал о журнале, в котором, как писал Гоголь, «могли бы помещаться статьи более обдуманные и полные, чем какие могут быть в еженедельниках и ежемесячниках, где сотрудники, обязанные торопиться, не имеют даже времени пересмотреть то, что написали сами...».
В тот вечер Вяземский прочитал письмо А. И. Тургенева из Парижа о крупнейших зарубежных политических и культурных событиях. Письмо это восхитило Пушкина. Раздались голоса:
- Жаль, что нет журнала, куда бы выливать весь этот кипяток, сочный бульон из животрепещущей утробы настоящего!..
В начале 1836 года издание журнала, по типу английских трехмесячных обозрений, было Пушкину разрешено.
* * *
Автограф А. С. Пушкина на обложке второго тома «Современника» за 1836 год.
Так родился «Современник». Пушкину позволено было выпустить в 1836 году четыре тома чисто литературных, исторических и ученых статей, также критических разборов русской и иностранной словесности.
Министр народного просвещения Уваров тогда же предложил председателю петербургского цензурного комитета Дондукову-Корсакову вести за журналом Пушкина особое наблюдение. Опека над «Современником» этих двух реакционных деятелей не предвещала ничего хорошего.
«Дундука» Пушкин заклеймил недавно острой эпиграммой, а с Уваровым у него были старые счеты. Этот бывший член «Арзамаса», не так давно учтиво сопровождавший Пушкина на лекцию профессора Давыдова в Московском университете, вступил на путь реакции и стал врагом поэта.
В те дни был тяжело болен граф Д. Я. Шереметев, один из богатейших людей тогдашней России, и Уваров, женатый на его двоюродной сестре, позарясь на огромное наследство, поспешил опечатать имущество умиравшего. Пушкин написал по этому поводу стихотворение «На выздоровление Лукулла». Описывая, как «угасал богач младой», как «в померкшей комнате... врачи угрюмые шептались», Пушкин продолжал:
А между тем наследник твой,
Как ворон, к мертвечине падкой,
Бледнел и трясся над тобой,
Знобим стяжанья лихорадкой.
Уже скупой его сургуч
Пятнал замки твоей конторы;
И мнил загресть он златы горы
В пыли бумажных куч.
Он мнил: «Теперь уж у вельмож
Не стану нянчить ребятишек;
Я сам вельможа буду тож;
В подвалах, благо, есть излишек.
Теперь мне честность - трын-трава!
Жену обсчитывать не буду,
И воровать уже забуду
Казенные дрова!»
Стихотворение это появилось в «Московском наблюдателе» и привлекло общее внимание. «Весь город занят «Выздоровлением Аукулла» ...Все узнают в нем, как нельзя лучше, Уварова», - записал в своем дневнике цензор А. Н. Никитенко.
Государь был недоволен, и Пушкину пришлось давать по этому поводу объяснения. Он доказывал, что в стихотворении хотел лишь представить образ низкого купца, пройдоху и стяжателя. Просил, чтобы ему доказали, будто он назвал какое-то конкретное лицо в стихотворении.
И когда Бенкендорф просил сказать, на кого оно написано, ответил:
- На вас...
Видя недоумение усмехнувшегося графа, Пушкин спросил:
- Вы не верите? Отчего же другой уверен, что это на него?..
* * *
Волнения наконец улеглись, и Пушкин вернулся к «Современнику». Смирдин предложил ему 15 000 рублей, если он откажется от журнала и станет сотрудником его «Библиотеки для чтения», но Пушкин не согласился.
Чем открыть первый номер «Современника»? Этот вопрос для издателя был совсем не маловажный.
Пушкин работал тогда над материалами по истории Петра и внимательно изучал находившийся в его библиотеке изданный в 1788-1789 годах десятитомный труд И. И. Голикова - «Деяния Петра Великого, мудрого Преобразователя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам».
В этих томах, находящихся в Пушкинском доме Академии наук, и сегодня сохранились оставленные Пушкиным между страницами закладки. Здесь он прочитал, что «Петр, простив многих знатных преступников, пригласил их к своему столу и пушечной пальбой праздновал с ними свое примирение».
Нужно побудить и Николая I, подобно Петру, примириться с декабристами! В его прямой адрес Пушкин направляет стихотворение «Пир Петра Великого», рассказывая, как и по какому поводу «пирует царь великий в Питербурге-городке»:
...Он с подданным мирится;
Виноватому вину
Отпуская, веселится;
Кружку пенит с ним одну;
И в чело его целует,
Светел сердцем и лицом;
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом.
Но Николая I не тронули, не смягчили эти стихи, он оставался мрачен, не дошел до него голос поэта...
* * *
Субботнее собрание у В. А. Жуковского. С картины А. Мокринкого, Г.Михайлова и др.
К «Современнику» Пушкин привлек своих друзей. Жуковский поместил в первом номере журнала стихотворение «Ночной дозор», Гоголь - «Коляску», «Утро делового человека» и большую статью «О движении журнальной литературы в 1834-1835 ГГ.».
Критикуя журналы той поры, Гоголь писал: «О чем же говорили наши журналы? Они говорили о ближайших и любимейших предметах: они говорили о себе, они хвалили в своих журналах собственные свои сочинения; они решительно были заняты только собою; на все другое они обращали какое-то холодное, бесстрастное внимание. Великое и замечательное было как будто невидимо. Их равнодушная критика обращена была на те предметы, которые почти не заслуживали внимания».
Сам Пушкин напечатал в первом томе журнала «Путешествие в Арзрум», маленькую трагедию «Скупой рыцарь», стихотворение «Из Шенье» («Покров, упитанный язвительною тенью...»).
Была еще помещена в первом номере статья с совершенно неподходящим для литературного журнала названием - «Разбор парижского математического ежегодника на 1836 год». Но автор ее, П. Б. Козловский, образованный прогрессивный человек, преклонявшийся перед Пушкиным, сумел насытить ее большим политическим содержанием. Он писал, что русская наука вправе занять свое высокое место в мировой научной литературе, осуждал преклонение русских перед западной наукой, критиковал политику в этом вопросе царского правительства и говорил о необходимости приобщать к науке не только привилегированные, но и низшие классы населения.
Цензура, сверх ожидания, прошла мимо статьи Козловского. Сообщая об этом Вяземскому, Пушкин восторженно писал: «Ура! наша взяла.
Статья Козловского прошла благополучно: сейчас начинаю ее печатать...»
В первом томе был напечатан также очерк «Долина А.житугай» за подписью Султана Казы-Гирея. Сегодня, когда так бурно расцвела национальная литература населяющих Советский Союз братских народов, написанное Пушкиным послесловие к этому очерку представляет особый интерес. Пушкин писал тогда:
«Вот явление, неожиданное в нашей литературе! Сын полудикого Кавказа становится в ряды наших писателей; черкес изъясняется на русском языке свободно, сильно и живописно. Мы ни одного слова не хотели переменить в предлагаемом отрывке; любопытно видеть, как Султан Казы-Гирей (потомок крымских Гиреев), видевший вблизи роскошную образованность, остался верен привычкам и преданиям наследственным...»
В отделе «Новые книги» давались небольшие рецензии о вышедших 56 книжных новинках, и особенное внимание уделено было «Вечерам на хуторе близ Диканьки» Гоголя.
* * *
Первый номер «Современника» вышел 11 апреля 1836 года.
Пушкин увлеченно работал над ним. Не было денег на бумагу, но владелица бумажной фабрики Кайданова отпустила ему в долг необходимую «цветную и библейную бумагу» на сумму 315 рублей. Во все издательские дела и тонкости он, поэт, должен был вникать сам, и друзья сомневались, хватит ли его долго на это. Но Пушкину деятельно в этом помогали Гоголь, Вяземский и Одоевский.
Особенно трудно приходилось с цензорами. Сначала журналу назначили самого трусливого и строгого А. Л. Крылова. Пушкин сменил его на П. И. Гаезского, но тот за какую-то оплошность только что просидел восемь дней на гауптвахте, и с ним было еще труднее.
Но все это не смущало Пушкина, он продолжал собирать материал для следующих номеров журнала.
* * *
Московский университетский благородный пансион, в котором учились В. А. Жуковский, А. И. Тургенев, В. Ф. Одоевский, А. С. Грибоедов, М. Ю. Лермонтов, М. И. Глинка, Л. С. Пушкин, брат поэта. С акварели Б. Земенкова.
Шел март. Всю зиму продолжала болеть мать Пушкина Надежда Осиповна.
29 марта 1836 года она скончалась. Не дождавшись выхода журнала, Пушкин выехал в Михайловское хоронить ее. Она нашла покой у стен Святогорского монастыря, рядом со своими родителями - Ганнибалами.
Две недели прожил Пушкин в родовом Михайловском и как бы навсегда прощался с ним. Бродил по аллеям парка, навещал соседей в Тригорском.
Не переставая думать о «Современнике», направил поэту Н. М. Языкову приглашение принять участие в журнале. Вспоминая, как он посетил его в годы ссылки, Пушкин писал: «Будьте моим сотрудником непременно. Ваши стихи - вода живая, наши - вода мертвая; мы ею окатили «Современника». Опрысните его Вашими кипучими каплями...»
В Петербург Пушкин вернулся 24 апреля. Михайловское он покидал на этот раз навсегда. Рядом с «матерью и Ганнибалами приготовил место и для себя у стен Святогорского монастыря.
В день возвращения в Петербург Пушкин получил неожиданное письмо от Кюхельбекера. Его поселили в Баргузине, и оттуда он отправил 12 февраля 1836 года письмо любимому лицейскому товарищу.
Это было письмо как бы с того света. Пушкин читал его с большим волнением: «Двенадцать лет, любезный друг, я не писал к тебе... Не знаю, как на тебя подействуют эти строки: они писаны рукою, когда-то тебе знакомою; рукою этою водит сердце, которое тебя всегда любило; но двенадцать лет не шутка... Впрочем, мой долг прежде всех лицейских товарищей вспомнить о тебе в минуту, когда считаю себя свободным писать к вам; долг потому, что и ты же более всех прочих помнил о вашем затворнике. Книги, которые ты время от времени пересылал ко мне, во всех отношениях драгоценны. Сверх того, мне особенно приятно было, что ты, Поэт, более наших Прозаиков заботишься обо мне. Верь, Александр Сергеевич, что умею ценить и чувствовать все благородство твоего поведения: не хвалю тебя и даже не благодарю, потому что должен был ожидать от тебя всего прекрасного; но клянусь, от всей души радуюсь, что так случилось.
Мое заточение кончилось: я на свободе, т. е. хожу без няньки и сплю не под замком...
Если пожелаешь письма поскладнее, отвечай!!!..»
Не успел Пушкин прочитать это сердечное, трогательное письмо доброго, благородного Кюхли, как Бенкендорф напомнил ему о себе: запросил, когда и от кого он получил его? Пушкин ответил, что вручил письмо его дворовым незнакомый человек в его отсутствии, без всяких объяснений...
На другой день он выехал в Москву.
* * *
Пушкин приехал в Москву 3 мая 1836 года. Ему необходимо было поработать в архивах, привлечь московских друзей к участию в «Современнике», «сторговаться» с книгопродавцами по поводу издания своих произведений и журнала.
На другой же день он посетил художника К. П. Брюллова, настойчиво приглашал его в Петербург, но тот отказывался. «Он настоящий художник, добрый малый, - писал Пушкин жене, - ...боится климата и неволи. Я стараюсь его утешить и ободрить; а между тем у меня у самого душа в пятки уходит, как вспомню, что я журналист... Что же теперь со мною будет?»
И позже: «Слушая толки здешних литераторов, дивлюсь, как они могут быть так порядочны в печати и так глупы в разговоре. Признайся: так ли и со мною? право, боюсь... Здесь хотят лепить мой бюст, - продолжал Пушкин, - но я не хочу. Тут арапское мое безобразие предано будет бессмертию во всей своей мертвой неподвижности; я говорю: у меня дома есть красавица, которую когда-нибудь мы вылепим».
* * *
Афиша первого спектакля «Ревизора» в Петербуржце.
Н. В. Гоголь. С автолитографии А. Венецианова.
М. С. Щепкин. С акварели А. Доброволъского.
Экземпляр «Ревизора», подаренный Н. В. Гоголем М. С. Щепкину, позже перешедший к К. С. Станиславскому.
Автограф «Записок Щепкина». Первые строки написаны рукою А. С. Пушкина.
В Москве готовились к постановке гоголевского «Ревизора», и Пушкин просил жену: «Пошли ты за Гоголем и прочти ему следующее: видел я актера Щепкина, который ради Христа просит его приехать в Москву прочесть «Ревизора». Без него актерам не спеться...»
В Петербурге прошла уже перед тем, 19 апреля, первая постановка «Ревизора», прошла в отсутствии Пушкина, который находился еще в Михайловском. Несмотря на то что роль городничего исполнял «дед русской сцены» знаменитый И. И. Сосницкий, а Хлестакова - Н. О. Дюр, пьеса, по выражению Пушкина, «упала» в Петербурге.
Спектакль смотрел Николай I, и инспектор труппы написал на афише: «Государь император с наследником внезапно соизволил присутствовать и был чрезвычайно доволен, хохотал от всей души. Пьеса весьма забавна, только нестерпимое ругательство на дворянство, чиновников и купечество.
Актеры все, в особенности Сосницкий, играли превосходно. Вызваны автор, Сосницкий и Дюр».
Но Гоголь не был доволен и прострадал весь вечер. Первый исполнитель роли Хлестакова, Дюр, писал он, «ни на волос не понял, что такое Хлестаков... он явился чем-то вроде целой шеренги водевильных шалунов, которые пожаловали к нам повертеться из парижских театров».
Через несколько дней после премьеры в Петербурге он писал М. С. Щепкину в Москву: «Все против меня. Чиновники пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул так говорить о служащих людях. Полицейские против меня, купцы против меня, литераторы против меня. Бранят и ходят на пьесу; на четвертое представление нельзя достать билетов... уже находились люди, хлопотавшие о запрещении ее».
Щепкин с большим волнением ждал «Ревизора» в Москве и писал Сосницкому, что бездействие и мелкие, ничтожные роли совершенно убивают его. При первом слухе о новой комедии Гоголя он оживился, расцвел, сделался веселым, всюду ездил и говорил о новой своей роли в «Ревизоре».
Бывший крепостной, выкупленный вместе с семьей друзьями за восемь тысяч рублей, Щепкин уже был свободен и жил в небольшом собственном домике в Каретном ряду. Пушкин был знаком с ним и не раз навещал его. Встречался он с ним и у Нащокина, к которому артист почти ежедневно приходил.
Гоголь между тем в Москву не поехал и отправил Щепкину рукопись «Ревизора» с письмом: «...познакомившись с здешнею театральною дирекциею, я такое получил отвращение к театру, что одна мысль о тех приятностях, которые готовятся для меня еще и на московском театре, в силе удержать поездку и в Москву и попытку хлопотать о чем-либо... Мочи нет. Делайте, что хотите, с моей пьесой...»
Премьера «Ревизора» в Москве состоялась 25 мая 1836 года, в Малом театре. Городничего играл Щепкин, Хлестакова - Ленский. На премьере присутствовало преимущественно светское общество, пьеса была принята сдержанно. О том, как прошел спектакль, Щепкин писал в Петербург Сосницкому: «...я ожидал гораздо большего приема. Это меня чрезвычайно изумило; но один знакомый забавно объяснил мне эту причину: «Помилуй, говорит, как можно было ее лучше принять, когда половина публики берущей, а половина дающей?»
Пушкин, уехавший из Москвы, на первом представлении «Ревизора» в Малом театре не присутствовал. Но, высоко ценя рассказы Щепкина обо всем им пережитом, он накануне отъезда побывал у знаменитого артиста и подарил ему альбом, на первой странице которого написал своей рукой начало автобиографических записок Щепкина: «17 мая 1836 года. Москва. Записки актера Щепкина.
Я родился в Курской губернии Обояньского уезда, в селе Красном, что на речке Пенке...»
Дальше Щепкин уже продолжал: «...1788 году, ноября 6-го числа...» и т. д.
* * *
Денис Давыдов. С портрета работы Д. Дау.
Кавалерист-девица Надежда Андреевна Дурова.С литографии.
Из Москвы Пушкин выехал в Петербург в ночь на 20 мая 1836 года. Ему не пришлось, как он того хотел, встретиться с В. Г. Белинским и, уезжая, он оставил Нащокину для него экземпляр «Современника» с приглашением принять участие в журнале.
Белинский писал позднее о Пушкине, что он «был совершенным выражением своего времени. Одаренный высоким поэтическим чувством и удивительною способностью принимать и отражать все возможные ощущения, он перепробовал все тоны, все лады, все аккорды своего века; он заплатил дань всем великим современным событиям, явлениям и мыслям, всему, что только могла чувствовать тогда Россия... Пушкин принадлежит к вечно живущим и движущимся явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжающим развиваться в сознании общества. Каждая эпоха произносит о них свое суждение и как бы ни верно поняла она их, но всегда оставит следующей за нею эпохе сказать что-нибудь новое и более верное, и ни одна и никогда не выскажет всего...»
Пушкин относился к критику с большим уважением, и только смерть помешала ему встретиться с ним и пригласить к участию в «Современнике».
Белинский писал позже Гоголю: «...меня радуют доселе и всегда будут радовать, как лучшее мое достояние, несколько приветливых слов, сказанных обо мне Пушкиным, и, к счастию, дошедших до меня из верных источников, и я чувствую, что это не мелкое самолюбие с моей стороны, а то, что я понимаю, что такое человек, как Пушкин, и что такое одобрение со стороны такого человека, как Пушкин...»
Пушкина в это время очень теснила цензура, и он просил сменить своего излишне мнительного цензора «Современника» другим, а Денису Давыдову писал: «Тяжело, нечего сказать. И с одною цензурою напляшешься; каково же зависеть от целых четырех? Не знаю, чем провинились русские писатели... Но знаю, что никогда не бывали они притеснены, как нынче».
В июле 1836 года вышел второй том «Современника». На одно из первых мест поставлено было стихотворение «Урожай» А. В. Кольцова, который незадолго до того познакомился с Пушкиным и был поражен дружелюбной откровенностью и удивительной простотой приема, оказанного ему знаменитым поэтом.
Пушкин поместил две статьи - «Российская Академия» и «Французская Академия». В первой он говорил о необходимости блюсти чистоту русского языка и приводил отрывок из доклада президента Академии:
«Академия есть страж языка; и потому должно ей со всевозможною к общей пользе ревностию вооружаться против всего несвойственного, чуждого, невразумительного, темного, ненравственного в языке. Но сие вооружение ее долженствует быть на единой пользе словесности основанное, кроткое, правдивое, без лицеприятия, без нападений и потворства, не похожее на те предосудительные сочинения, в которых, под мнимым разбором, пристрастное невежество или злость расточают недостойные похвалы или язвительные хулы без всякой истины и доказательств, в коих одних заключается достоинство и польза сего рода писаний».
«Ныне, - пишет далее Пушкин, - Академия приготовляет третье издание своего Словаря, коего распространение час от часу становится необходимее. Прекрасный наш язык, под пером писателей неученых и неискусных, быстро клонится к падению. Слова искажаются. Грамматика колеблется. Орфография, сия геральдика языка, изменяется по произволу всех и каждого. В журналах наших еще менее правописания, нежели здравого смысла...»
В статье «Французская Академия» Пушкин писал, в связи со смертью члена Академии поэта Арно, о свободе творчества, о независимости вдохновения и бескорыстной любви художника к своему искусству.
* * *
Большой интерес вызвали помещенные во втором томе «Записки Н. А. Дуровой» - девушки-кавалериста, корнета уланского полка. Пушкин познакомился с этой девушкой необычайной судьбы в мае 1836 года, навестил ее, когда она приехала со своими «Записками» в Петербург, пригласил к себе на Каменный остров обедать и, когда они проезжали мимо Петропавловской крепости, показал место казни декабристов.
«Запискам» Дуровой Пушкин предпослал предисловие: «В 1808 году молодой мальчик, по имени Александров, вступил рядовым в Конно-Польский Уланский полк, отличился, получил за храбрость солдатский Георгиевский крест и в том же году вышел в офицеры в Мариупольский Гусарский полк. Впоследствии перешел он в Литовский Уланский и продолжал свою службу столь же ревностно, как и начал...»
Предисловие свое Пушкин снабдил эпиграфом из Овидия, на латинском языке: «Modo wirs modo femina» - «То мужчина, то женщина».
Рукописи Дуровой Пушкин дал высокую оценку: «Прелесть. Живо, оригинально, слог прекрасный. Успех несомнителен...»
* * *
После выхода второго тома «Современника» Пушкин направил в типографию материалы для третьего тома.
Он открыл его пятнадцатью стихотворениями Ф. И. Тютчева. В нем помещен был «Нос» Н. В. Гоголя с заметкой от издателя: «Н. В. Гоголь долго не соглашался на печатание этой шутки; но мы нашли в ней так много неожиданного, фантастического, веского, оригинального, что уговорили его позволить нам поделиться с публикою удовольствием, которое доставила нам его рукопись».
Лично Пушкин поместил в третьем томе много своих произведений: «Родословная моего героя», «Полководец», «Сапожник», «Вольтер», «Анекдоты», большую рецензию на «Фракийские элегии» поэта В. Теплякова, ответ на критику «Истории Пугачевского бунта» и две большие заметки в отделе новых книг. Была напечатана еще большая статья Пушкина по поводу вышедших в Нью-Йорке «Записок Джона Теннера», цивилизованного американца, прожившего тридцать лет среди индейцев. Эта статья и сегодня звучит со всей силой укора политике расовой дискриминации.
«С некоторого времени Северо-Американские Штаты, - писал Пушкин, - обращают на себя в Европе внимание людей наиболее мыслящих... Но несколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и постановлений американских, и их наблюдения возбудили снова вопросы, которые полагали давно уже решенными. Уважение к сему новому народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Всё благородное, бескорыстное, всё возвышающее душу человеческую - подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort); большинство, нагло притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы; родословные гонения в народе, не имеющем дворянства; со стороны избирателей алчность и зависть, со стороны управляющих робость и подобострастие; талант, из уважения к равенству, принужденный к добровольному остракизму; богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты, им втайне презираемой; такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами.
Отношения Штатов к индейским племенам, древним владельцам земли, ныне заселенной европейскими выходцами, подверглись также строгому разбору новых наблюдателей. Явная несправедливость, ябеда и бесчеловечие американского Конгресса осуждены с негодованием... Остатки древних обитателей Америки скоро совершенно истребятся...
«Записки Джона Теннера»... будут свидетельствовать перед светом о средствах, которые Американские Штаты употребляли в XIX столетии к распространению своего владычества...»
Статья «Джон Теннер» была написана Пушкиным в августе 1836 года, а в 1833 году он, перекликаясь с известной книгой Радищева, закончил свое «Путешествие из Москвы в Петербург», где встречаются те же мысли о гнете английского капиталистического строя. «Прочтите, - писал Пушкин, - жалобы английских фабричных работников: волосы встанут дыбом от ужаса. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! какое холодное варварство с одной стороны, с другой какая страшная бедность! Вы подумаете, что дело идет о строении фараоновых пирамид...
Совсем нет: - продолжает Пушкин, - дело идет о сукнах г-на Смидта или об иголках г-на Джаксона. И заметьте, что всё это есть не злоупотребление, не преступление, но происходит в строгих пределах закона. Кажется, что нет в мире несчастнее английского работника, но посмотрите, что делается там при изобретении новой машины, избавляющей вдруг от каторжной работы тысяч пять или шесть народу и лишающей их последнего средства к пропитанию... У нас нет ничего подобного».
* * *
Петр I. Рисунок К. Рудакова к поэме А. С. Пушкина «Полтава». 1948 г.
Напряженно работая над «Современником», Пушкин не переставал подбирать и материалы по истории Петра. Задумав этот труд еще в 1827 году, он до конца дней не переставал возвращаться к нему.
«Я еще не мог доселе постичь и обнять вдруг умом этого исполина: - говорил Пушкин осенью 1833 года писателю В. И. Далю, - он слишком огромен для нас, близоруких, и мы стоим еще к нему близко, - надо отодвинуться на два века, - но постигаю его чувством; чем более его изучаю, тем более изумление и подобострастие лишают меня средств мыслить и судить свободно. Не надобно торопиться; надобно освоиться с предметом и постоянно им заниматься; время это исправит. Но я сделаю из этого золота чтонибудь...»
Жене Пушкин писал в конце мая 1834 года: «Ты спрашиваешь меня о Петре I? идет помаленьку; скоплю материалы - привожу в порядок - и вдруг вылью медный памятник, которого нельзя будет перетаскивать с одного конца города на другой, с площади на площадь, из переулка в переулок...»
В то время на площади Петровой уже стоял «Медный всадник» Фальконе...
И М. П. Погодину сообщил: «К Петру приступаю со страхом и трепетом...
Поэт видел в Кунсткамере восковую фигуру Петра, одетую в голубой кафтан, и мог составить себе достаточно полное представление об облике царя и быте той эпохи.
Задуманный Пушкиным труд должен был явиться, по словам Белинского, «учено-художественной историей», и поэт, следуя исторической правде, показал не только положительные, но и теневые стороны деятельности и личности Петра I. Петр предстает в пушкинском труде, как «одновременно Робеспьер и Наполеон (воплощение революции)». Петр - «деспот» и одновременно «сильный человек», «чудотворец-исполин», которого «народ почитал антихристом».
Поэт собирает, год за годом, обширные материалы по истории Петра с 1695 по 1725 год, изучает все изданные им указы, намечает план введения к «Истории Петра»: Россия извне, Россия внутри, подати, торговля, военная сила, дворянство, народ, законы, просвещение, дух времени.
И в записи, относящейся к 1721 году, отмечает: «Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые - нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности или по крайней мере для будущего, - вторые вырвались у нетерпеливого самовластного помещика».
Под этими строками Пушкин делает пометку в скобках: «Это внести в историю Петра, обдумав».
Собрав обширный материал для «Истории Петра», объемом в тридцать одну тетрадь большого формата, Пушкин рассчитывал закончить ее «в год или в течение полугода» и затем исправлять по документам. Но смерть прервала его работу.
Николай I, по поручению которого Пушкин начал писать «Историю Петра», ознакомившись с незавершенным трудом, признал его для себя неприемлемым и положил резолюцию: «Сия рукопись издана быть не может».
После тщательного «очищения» рукописи цензурой в Собрании сочинений Пушкина, вышедшем в 1855-1857 годах под редакцией П. В. Анненкова, было опубликовано лишь начало «Истории Петра».
Случилось так, что при перевозке библиотеки Пушкина в Петербург в 1900 году, в сельце Ивановском, где библиотека хранилась у внука поэта, остался ящик с рукописью «Истории Петра». Лишь в 1932 году, через девяносто пять лет после смерти Пушкина, рукопись была случайно обнаружена и вскоре опубликована. Сохранились и дошли до нас, к сожалению, только уцелевшие двадцать две тетради из тридцати одной.
* * *
Титульный лист сборника «Новоселье» с изображением А. С. Пушкина. Рисунок А. Брюллова. 1833 г.
В сентябре Пушкин посетил с женою осеннюю выставку картин в Академии Художеств. Узнав, что приедет Пушкин, молодежь устремилась в Античную галерею, куда он прошел. Учеником Академии был тогда будущий знаменитый маринист И. К. Айвазовский, и инспектор Академии представил его поэту как получившего золотую медаль.
Пушкин ласково попросил Айвазовского показать написанные им картины, и он увидел два полотна - «Облака с Ораниенбаумского берега» и «Группу чухонцев».
- Не болеете ли вы на севере? - спросил Пушкин, узнав, что он крымский уроженец...
Рассказывая об этой встрече, Айвазовский не забыл упомянуть, что Наталья Николаевна была в большой палевой соломенной шляпе, в изящном белом платье и бархатном черном корсаже с переплетенными черными тесемками.
Пушкин посетил и октябрьскую выставку в Академии Художеств. При взгляде на скульптуру, выполненную юным Н. С. Пименовым, сказал:
- Слава богу! Наконец и скульптура в России появилась народная.
Президент Академии А. Н. Оленин представил поэту юного скульптора. Пушкин пожал ему руку, назвал собратом, долго всматривался в его творение, обходя на разные расстояния, затем вынул записную книжку и тут же написал на листке экспромт «На статую играющего в бабки», передал Пименову этот листок, снова пожал его руку и пригласил к себе. На листке было написано:
Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено
Бодро опёрся, другой поднял меткую кость.
Вот уж прицелился... прочь! раздайся, народ любопытный,
Врозь расступись; не мешай русской удалой игре.
Уже будучи профессором, Пименов с жаром и слезами на глазах рассказывал своим ученикам об этой встрече.
Тогда же Пушкин увидел на выставке работу и другого ученика, скульптора А. В. Логановского и написал «На статую играющего в свайку»:
Юноша, полный красы, напряженья, усилия чуждый,
Строен, легок и могуч, - тешится быстрой игрой!
Вот и товарищ тебе, дискобол! Он достоин, клянуся,
Дружно обнявшись с тобой, после игры отдыхать.
Скульптуры эти украсили потом фасад Царскосельского Александровского дворца.
* * *
Наступило 19 октября, день лицейской годовщины. В этот день, утром, Пушкин отозвался на опубликованное в «Телескопе» нашумевшее «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева, в котором тот страстно нападал на отсталость и некультурность России.
Под письмом, вместо подписи, стояло греческое слово «Некрополис», обозначающее - «Город мертвых».
На это письмо своего друга и учителя молодых лет Пушкин отозвался взволнованно и страстно. Возражая против его пренебрежения к историческому прошлому России, он писал: «Войны Олега и Святослава, и даже удельные усобицы, разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие - печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется): оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, - как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел нас в Париж? и (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка?., я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора - Меня раздражают, как человека с предрассудками - я оскорблен, но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков...»
«Философическое письмо» Чаадаева привлекло к себе внимание правительства. Автора объявили сумасшедшим и подчинили ежедневному полицейскому и врачебному надзору, журнал «Телескоп», где оно было напечатано, закрыли, его редактора Н. И. Надеждина выслали в Устьсысольск, а пропустившего статью цензора уволили.
Пушкин в связи с этими репрессиями не послал Чаадаеву своих возражений на его письмо.
* * *
Протокол последнего лицейского собрания 1836 года, на котором присутствовал А. С. Пушкин.Автограф.
«Была пора: наш праздник молодой...» Автограф А. С. Пушкина.
Вечером 19 октября Пушкин праздновал с товарищами годовщину основания Царскосельского лицея. Обычно лицеисты первого выпуска праздновали этот день в своем тесном кругу. Но эта была двадцать пятая, и староста выпуска М. Я. Яковлев запросил Пушкина, не следует ли пригласить на эту юбилейную годовщину лицеистов других выпусков.
Пушкин настроен был мрачно и ответил Яковлеву сухой, решительной запиской: «Нечего для двадцатипятилетнего юбилея изменять старинные обычаи Лицея. Это было бы худое предзнаменование».
Вспомнив, что в послании товарищам 19 октября 1825 года он задал вопрос: «Кому ж из нас под старость день лицея торжествовать придется одному?» - Пушкин закончил записку: «Сказано, что и последний лицеист один будет праздновать 19 октября. Об этом не худо напомнить».
Грустное настроение Пушкина отразилось в тот вечер на настроении собравшихся. Из общего числа их пришло всего одиннадцать человек. Комовский приготовил сюрприз, явившись на вечер в сохранившемся у него старом лицейском мундире. При этом товарищи называли друг друга лицейскими кличками: Яковлев - Паяс, Буфон, Проказник, Музыкант, Песельник; Корф - Дьячок-мордан; Тырков - Курнофеиус, Кирпичный брус; Стевен - Швед; Комовский - Лиса; Илличевский - Олосенька; Пушкин - француз, Егоза, Сверчок.
Протокол собрания Пушкин написал своей рукою:
«Праздновали двадцатипятилетие лицея...
Собрались вышеупомянутые господа лицейские в доме у Яковлева и пировали следующим образом:
1) Обедали вкусно и шумно.
2) Выпили три здоровья (по заморскому toast):
а) за двадцатипятилетие лицея,
б) за благоденствие лицея,
в) за здоровье отсутствующих.
3) Читали письма, писанные некогда отсутствующим братом Кюхельбекером к одному из товарищей.
4) Читали старинные протоколы и песни и проч. бумаги, хранящиеся в архиве лицейском у старосты Яковлева.
5) Поминали лицейскую старину.
6) Пели национальные песни.
7) Пушкин начал читать стихи на 23-летие лицея, но всех стихов не припомнил и, кроме того, отозвался, что он их не докончил, но обещал докончить, списать и приобщить в оригинале к сегодняшнему протоколу».
Пушкин развернул лист со своим посланием товарищам, помолчал немного и при общей тишине начал читать:
Была пора: наш праздник молодой
Сиял, шумел и розами венчался,
И с песнями бокалов звон мешался,
И тесною сидели мы толпой.
Тогда, душой беспечные невежды,
Мы жили все и легче и смелей,
Мы пили все за здравие надежды
И юности и всех ее затей.
Биограф Пушкина, П. В. Анненков, сообщает, что поэт не дочитал стихотворения. При первых же словах слезы покатились из глаз его... Он положил лист на стол и отошел в угол комнаты.
Кто-то из товарищей взял со стола незаконченное Пушкиным стихотворение и продолжал читать:
Всему пора: уж двадцать пятый раз
Мы празднуем лицея день заветный.
Прошли года чредою незаметной,
И как они переменили нас!
Недаром - нет! - промчалась четверть века!
Не сетуйте: таков судьбы закон;
Вращается весь мир вкруг человека, -
Ужель один недвижим будет он?
В глубоком философско-поэтическом раздумье о жизни, молодости и тех великих исторических событиях, свидетелями и участниками которых лицеисты были, Пушкин писал:
Припомните, о други, с той поры,
Когда наш круг судьбы соединили,
Чему, чему свидетели мы были!
Игралища таинственной игры,
Металися смущенные народы;
И высились и падали цари;
И кровь людей то славы, то свободы,
То гордости багрила алтари.
События бурного начала века волновали Пушкина и его лицейских товарищей: война 1812 года, восстание декабристов, революционные вспышки в Западной Европе, греческое восстание, казнь Риэго, вождя испанских революционеров. И все это, как бы подводя итоги крупнейшим событиям первой четверти XIX века, Пушкин воссоздал в чеканно-четком стихотворении.
Лицеисты читали и письма, полученные Пушкиным из ссылки от Кюхельбекера. Тайно, с оказией, он переслал друзьям свое стихотворение «19 октября 1836 года»:
Шумит поток времен. Их темный вал
Вновь выплеснул на берег жизни нашей
Священный день, который полной чашей
В кругу друзей и я торжествовал.
Старый лицейский товарищ, чей «волос поседел, но сердце бьется молодо и смело», обращается к другу своей юности:
Чьи резче всех рисуются черты
Пред взорами моими? Как перуны
Сибирских гроз, его златые струны
Рокочут... Пушкин, Пушкин! это ты!
Твой образ - свет мне в море темноты;
Твои живые, вещие мечты
Меня не забывали в ту годину,
Как пил и ты, уединен, кручину.
Лицейский праздник прошел грустно. Собрались в четыре часа дня, а в половине десятого вечера уже разошлись.
Тягостное душевное состояние Пушкина на этом товарищеском празднике было вызвано все нарастающим недовольством двусмысленным положением его в светском обществе и острым ощущением надвигающейся катастрофы...
В конце декабря тягчайшего для него 1836 года Пушкин писал отцу: «Вот уж наступает новый год - дай бог, чтоб он был для нас счастливее, чем тот, который истекает... Мой журнал и мой Петр Великий отнимают у меня много времени; в этом году я довольно плохо устроил свои дела, следующий год будет лучше, надеюсь. Прощайте, мой дорогой отец...»
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
ПЕТЕРБУРГ
1836-1837
«Кончена жизнь!.. Теснит дыхание...»
Его уж нет. Младой певец,
Нашел безвременный конец!
Дохнула буря, цвет прекрасный
Увял на утренней заре,
Потух огонь на алтаре!..
А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»
22-летний корнет Кавалергардского полка, чужеземец, у которого было два имени и три отечества, Дантес ворвался в мирную, полную творческого труда жизнь Пушкина еще за два с половиной года до катастрофы.
Француз по происхождению, Дантес приехал в Россию через несколько лет после июльской революции во Франции, свергнувшей династию Бурбонов, с определенной целью сделать карьеру. Здесь он стал приемным сыном голландского посланника в Петербурге барона Геккерена.
Ему было оказано в Петербурге особое внимание. Император Николай I сам представил Дантеса офицерам полка. Взяв его за руку, он сказал: «Вот вам товарищ. Примите его в свою семью, любите... Этот юноша считает за большую честь для себя служить в Кавалергардском полку; он постарается заслужить вашу любовь и, я уверен, оправдает вашу дружбу».
Русского языка Дантес не знал, за книгой его никто никогда не видел, к своим обязанностям по полку он относился небрежно и за недолгую службу свою был подвергнут сорока четырем взысканиям.
Александр Карамзин писал брату в Париж, что «необразованность забавно сочеталась в нем с природным остроумием, а в общем это было полное ничтожество как в нравственном, так и в умственном отношении».
Это был красивый молодой человек, ловкий, наглый, самоуверенный, веселый. В не очень разборчивом аристократическом обществе петербургского большого «света» он пользовался успехом своими казарменными анекдотами и пустейшей болтовней.
Уже в 1834 году Дантес встретился с Пушкиным. Поэт иногда смеялся, слушая его каламбуры, но Дантес был ему противен своею развязною манерою, своим невоздержанным с дамами языком. Дантесу нравилась Наталья Николаевна. Он стал оказывать ей исключительное внимание, а ей, легкомысленной и кокетливой, льстило ухаживание блестящего кавалергарда.
Это даже не вызывало ревности Пушкина. Он любил жену и безгранично доверял ей. Не приходится удивляться, что, при царивших тогда в свете нравах, Наталья Николаевна простодушно и бездумно рассказывала мужу о своих светских успехах, о том, что Дантес обожает ее.
Дантес между тем открыто ухаживал за женой Пушкина. Злорадные усмешки и перешептывания за спиной поэта усиливались. Он ни на минуту не подозревал жену, но положение его в обществе с каждым днем становилось все более трудным.
* * *
Летом 1836 года Пушкины снимали дачу на Каменном острове. Неподалеку от них жил близкий друг Пушкина М. Ю. Виельгорский, композитор, музыкант, певец, поэт. У него собирались обычно поэты, писатели, художники, музыканты. М. И. Глинка проводил у него, перед первой постановкой, репетицию оперы «Жизнь за царя» («Ивана Сусанина»)...
Балкон дачи Виельгорского выходил на усаженное березами шоссе, которое вело от Каменноостровского моста, вдоль реки, к Елагину острову.
В яркий солнечный день сюда подъехала блестящая кавалькада. То были Наталья Николаевна Пушкина с сестрой Екатериной и Дантесом.
- Зайдите! - пригласил их Виельгорский.
- Некогда! - ответила Пушкина, хлестнула коня, который нетерпеливо рыл копытом землю, и маленькая кавалькада галопом помчалась дальше.
По этому самому шоссе полгода спустя Пушкин направлялся с Дантесом к месту роковой дуэли...
Вяземский рассказывал, что он шел как-то по Невскому с Натальей Николаевной Пушкиной, ее сестрой Екатериной и Дантесом. В это время мимо них, как вихрь, не оглядываясь, промчался Пушкин и мгновенно исчез в толпе гуляющих. Выражение лица его было страшно. Для Вяземского это явилось первым признаком надвигающейся катастрофы.
В ухаживаниях Дантеса поддерживал его приемный отец - голландский посланник в Петербурге барон Геккерен. Это был сластолюбивый старик, всегда двусмысленно улыбавшийся, отпускавший шуточки, во все вмешивающийся. И одновременно контрабандист, превративший дом голландского посольства в Петербурге в международный центр спекулятивной торговли антикварными вещами.
* * *
Каменный остров. Вдали - Павловский дворец. С рисунка В. Петерсона.
Пушкин видел, как росло и крепло увлечение жены Дантесом, знал из ее доверенных и простодушных рассказов подробности их встреч на балах и вечерах, но, убежденный в ее чистоте, до времени лишь наблюдал и не принимал никаких решений. Равнодушным он, конечно, оставаться не мог. Но до удобного момента откладывал свое вмешательство.
4 ноября 1836 года момент этот наступил. Группа светских бездельников занималась тогда рассылкой анонимных писем мужьям-рогоносцам - так шутливо называли мужей, чьи жены изменяли им. Пушкин получил по почте три экземпляра анонимного клеветнического пасквиля, оскорбительного для чести его самого и жены.
Такое же подметное письмо получили в тот день в двойных конвертах, для передачи Пушкину, семь-восемь его друзей и знакомых. Текст пасквиля во всех этих письмах был одинаков: «Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в Великом Капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена, его превосходительства Д. Н. Нарышкина, единогласно избрали г-на Александра Пушкина коадъютором великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена. Непременный секретарь граф И. Борх».
В другое время Пушкин почел бы это за шутку, быть может, заклеймил бы эпиграммой, но сопоставление в пасквиле имен Нарышкина и Борха с именем Пушкина давало людям, знакомым с придворными интригами, повод полагать, что здесь был намек на особое внимание Николая I к жене поэта.
По манере изложения и строю письма, по качеству и виду бумаги Пушкин сразу же заподозрил в этом гнусном деле иностранца, человека высшего общества, дипломата.
Почувствовав неладное, друзья Пушкина не сообщили ему о полученном пасквиле, но В. А. Соллогуб тотчас же направился к нему и сообщил, что в полученном на его имя пакете он нашел другой конверт с надписью: «Александру Сергеевичу Пушкину», сделанной нарочито кривым почерком.
- Я уже знаю, что это такое, - сказал Пушкин, распечатывая конверт, - я такое письмо получил сегодня же от Е. М. Хитрово: это мерзость против жены моей. Впрочем, понимаете, что безымянным письмом я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя - ангел, никакое подозрение коснуться ее не может.
* * *
Пушкин был возбужден, взволнован. Вопрос выходил за рамки его личных, семейных отношений и роли в них Дантеса, приобретал характер общественно-политический.
Прежде всего он счел невозможным оставаться больше обязанным Николаю I. Крайне нуждаясь в то время, он обратился 6 ноября к министру финансов Е. Ф. Канкрину с письмом, которое являлось до известной степени вызовом царю.
С разрешения Николая I Пушкин получал из казны заем в 54 000 рублей, из этой суммы 25 ООО он должен был уплатить в течение пяти лет. В письме к Канкрину Пушкин сообщил, что желает уплатить свой долг «сполна и немедленно», отказываясь, в связи с этим, в пользу казны от принадлежавшего ему болдинского имения. При этом он просил Канкрина не доводить оного до сведения государя императора.
Канкрин, однако, не мог удовлетворить его просьбу, и Пушкин выразил ему в новом письме свое сожаление по этому поводу.
На другой день после получения пасквиля, 5 ноября, Пушкин послал вызов Дантесу, считая его виновником нанесенной ему обиды.
В тот же день к нему явился приемный отец Дантеса, барон Геккерен, с просьбою отсрочить дуэль на 24 часа, а на следующий день был у него снова и просил об отсрочке уже на две недели. Пушкин оставался непоколебимым, но, тронутый слезами и волнением Геккерена, согласился.
Прошло всего несколько дней со дня данной Пушкиным Геккерену двухнедельной отсрочки дуэли. Тетка Натальи Николаевны, Е. И Загряжская, и В. А. Жуковский прилагали в это время все усилия к тому, чтобы предотвратить дуэль. И тогда неожиданно выяснилось, что еще до вызова на дуэль Дантес намеревался жениться на сестре Пушкиной - Екатерине Гончаровой.
Это новое, очень серьезное обстоятельство Дантес и Геккерен довели до сведения Пушкина, но он считал его невероятным. Всем было известно, что Екатерина Гончарова влюблена в Дантеса, но тот увлечен был ее сестрою, женою Пушкина.
Геккерен содействовал усилиям друзей Пушкина отстранить дуэль, но Пушкин увидел в этом трусливое стремление Дантеса вообще уклониться от поединка. Такой образ действий был ему противен, он афишировал низость Дантеса и ни на какие компромиссы не шел.
9 ноября, до истечения данной Пушкиным Геккерену двухнедельной отсрочки, Жуковский писал Пушкину: «...ради бога одумайся. Дай мне счастие избавить тебя от безумного злодейства, а жену твою от совершенного посрамления. Жду ответа».
Геккерен между тем стал настаивать на необходимости встречи Пушкина с Дантесом, чтобы выяснить, не расценивается ли желание Дантеса жениться на сестре жены Пушкина трусливой попыткой избежать дуэли. Пушкин, однако, от встречи с Дантесом отказался.
Встретившись вечером 16 ноября у Карамзиных с Соллогубом, он попросил его завтра же зайти к д’Аршиаку, секунданту Дантеса, и условиться с ним относительно материальной стороны дуэли.
- Чем кровавее, тем лучше. Ни на какие объяснения не соглашайтесь! - подчеркнул Пушкин.
Он говорил резко, был настроен решительно, и Соллогуб так объяснил впоследствии его поведение: «Он в лице Дантеса искал или смерти, или расправы с целым светским обществом».
Однако обстоятельства сложились так, что Пушкин вынужден был отказаться от дуэли. Но Дантес требовал, чтобы Пушкин письменно сообщил ему мотивы отказа, не касаясь при этом намерения его жениться на Екатерине Гончаровой. Пушкин написал письмо, удовлетворившее секунданта Дантеса, и вопрос о дуэли отпал.
Дантес полагал, что после этого он будет иметь возможность бывать у Пушкина и встречаться с Натальей Николаевной.
- Напрасно, - запальчиво сказал Пушкин. - Никогда этого не будет. Никогда между домом Пушкина и домом Дантеса ничего общего быть не может.
* * *
А. С. Пушкин с женою на придворном балу. С картины Н. Ульянова.
Дуэль А. С. Пушкина с Дантесом. С картины А. Наумова.
А. С. Пушкин скончался в кабинете, на диване, среди книг своей библиотеки. Фотография.
Последний бюллетень о состоянии здоровья А. С. Пушкина, написанный В. А. Жуковским.
Сообщение о смерти А. С. Пушкина в первом томе «Современника» за 1837 г.
Тайный увоз тела А. С. Пушкина. С картины А. Наумова.
Памятник А. С. Пушкину в Ленинграде. Скульптура М. Аникушина.
Пригласительный билет на отпевание А. С. Пушкина.
М. Ю. Лермонтов. С портрета П. Заболотского.
Автограф начальных строк стихотворения М. Ю. Лермонтова «Смерть Поэта».
В те дни, когда в большом сером доме на Набережной Мойки, 12, разыгрывался финал трагедии великого русского поэта, Петербург жил своей обычной жизнью. И Пушкин стремился временами отвлекаться от своих мрачных мыслей.
6 ноября 1836 года в Петербурге произошло событие, знаменовавшее собою рождение новой эпохи: был пущен первый паровоз по только что сооруженной, первой в России железной дороге от Петербурга до Павловска.
И еще одно большое событие произошло 27 ноября 1836 года: на сцене Петербургского Большого театра впервые прозвучали мелодии оперы «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»). Пушкин был знаком с автором оперы, композитором М. И. Глинкой, и вместе с друзьями присутствовал на его премьере.
Вскоре, 13 декабря, друзья чествовали композитора, автора оперы, и за обедом создали коллективно «Канон в честь М. И. Глинки»:
Пой в восторге, русский хор,
Вышла новая новинка.
Веселися, Русь! наш Глинка -
Уж не Глинка, а фарфор.
За прекрасную новинку
Славить будет глас молвы
Нашего Орфея Глинку
От Неглинной до Невы.
В честь толь славныя новинки
Грянь, труба и барабан,
Выпьем за здоровье Глинки
Мы глинтвеину стакан.
Слушая сию новинку,
Зависть, злобой омрачась,
Пусть скрежещет, но уж Глинку
Затоптать не может в грязь.
Первая строфа «Канона» была написана М. Ю. Виельгорским, вторая - П. А. Вяземским, третья - В. А. Жуковским, четвертая - Пушкиным.
Музыку к ней написали Одоевский и Виельгорский.
* * *
Несмотря на осложнения в семейной жизни, Пушкин продолжал работать над историей Петра, заинтересовался «Описанием земли Камчатки» С. П. Крашенинникова, встречался с литературными друзьями.
В Петербургском университете читал в то время лекции его друг, П. А. Плетнев, и пригласил на свою лекцию Пушкина.
Присутствовавший на лекции студент так вспоминал этот памятный в жизни тогдашней молодежи день: «Плетнев поднялся на кафедру, и в то же время в дверях аудитории показалась фигура Пушкина с его курчавой головой, огненными глазами и желтоватым, нервным ликом... Пушкин сел с каким-то другим господином из литераторов на одну из задних скамей и внимательно прослушал лекцию, не обращая внимания на беспрестанное осматривание его обращенными назад взорами сидевших впереди студентов. Профессор, читавший о древней русской литературе, вскользь упомянул о будущности ее, и при сем имя Пушкина прошло через его уста; возбуждение было сильное и едва не перешло в шумное приветствие знаменитого гостя. Это было уже в конце урочного часа, и Пушкин, как бы предчувствуя, что молодежь не удержится от взрыва, скромно удалился из аудитории, ожидая окончания лекции в общей проходной зале, куда вскоре вышел к нему Плетнев, и они вместе уехали. Это было незадолго до смерти Пушкина».
* * *
10 января 1837 года состоялась свадьба Дантеса с Екатериной Гончаровой. Дантес между тем полагал, что отношения его с домом Пушкина не должны прекратиться. Встречаясь с Натальей Николаевной на балах и вечерах, не стесняясь присутствием жены, он по-прежнему оказывал ей исключительное внимание, и сама Наталья Николаевна вела себя легкомысленно.
Дантес искал встречи с нею; великосветская дама Идалия Полетика, открытая ненавистница Пушкина, предоставила им для свидания свою квартиру, и встреча состоялась.
Всегда откровенно рассказывавшая мужу обо всем: о своих успехах в свете, о встречах с Дантесом, Наталья Николаевна скрыла от него это свидание, и Пушкин узнал о нем из полученного на другой день анонимного письма.
Раздражению и возмущению Пушкина не было предела. Поэт хотел публично оскорбить Дантеса на балу у Салтыкова, но Дантеса предупредили, и он на бал не явился.
Как-то вечером Наталья Николаевна возвращалась из театра. Шедший позади Геккерен спросил ее, когда же она наконец оставит своего мужа. Наталья Николаевна тогда же рассказала об этом Пушкину, и тот решил на другой день послать Геккерену резкое письмо.
Друзья всячески успокаивали Пушкина, говорили, что жена его вне всяких подозрений и в этом все уверены.
- Мне не довольно того, - ответил Пушкин, - что вы, что мои друзья, что здешнее общество, так же как и я, убеждены в невинности и чистоте моей жены: мне нужно еще, чтобы доброе имя мое и честь были неприкосновенны во всех углах России, где мое имя известно.
* * *
Пушкин решил действовать. Началась развязка назревшей драмы. Великосветский Петербург с волнением, многие с любопытством следили за каждым шагом поэта. Но никто не знал и не понимал истинного положения происходящих событий, не предвидел рокового конца. Даже в дружески расположенной к Пушкину семье Карамзиных события воспринимались легкомысленно. С неприкрытым любопытством, например, дочь историка, Софья Карамзина, лишенная возможности быть на свадьбе Дантеса и Екатерины Гончаровой, писала брату Андрею в Париж: «Это было не очень приятно для меня, да, вдобавок, и очень досадно - я теряла надежду видеть вблизи главных актеров в заключительной сцене этой таинственной драмы...»
А заключительный акт драмы развивался стремительно. Дошедшие до нас свидетельства современников дают возможность представить себе, как развертывались, день за днем, час за часом, события тех роковых дней.
25 января 1837 года.
В этот день Пушкин посетил вместе с Жуковским мастерскую знаменитого художника К. П. Брюллова.
Они восхищались его рисунками и хохотали, когда увидели акварель «Съезд на бал к австрийскому посланнику в Смирне». Смирнский полицмейстер, спящий посреди улицы на ковре и подушке, был так комичен, что трудно было глядеть на него равнодушно.
Пушкин не мог расстаться с рисунком, смеялся до слез и просил Брюллова подарить ему. Брюллов сказал, что рисунок принадлежит уже княгине Салтыковой, и обещал нарисовать другой.
- Отдай, голубчик! Ведь другого ты не нарисуешь для меня; отдай мне этот, - просил Пушкин, стоя с рисунком в руках перед Брюлловым на коленях.
Но художник не мог отдать его...
В то время уже вышел из печати четвертый том «Современника», в котором была опубликована значительная часть «Капитанской дочки», романа, вызвавшего восторженные отзывы Гоголя, Белинского, Чаадаева.
Продолжая готовить материал для очередного номера «Современника», Пушкин написал 25 января письмо молодой писательнице А. О. Ишимовой:
«Милостивая государыня Александра Осиповна,
На днях имел я честь быть у Вас и крайне жалею, что не застал Вас дома. Я надеялся поговорить с Вами о деле; Петр Александрович (Плетнев. - А. Г.) обнадежил меня, что Вам угодно будет принять участие в издании «Современника». Заранее соглашаюсь на все Ваши условия и спешу воспользоваться Вашим благорасположением: мне хотелось бы познакомить русскую публику с произведениями Barry Cornawall. Не согласитесь ли Вы перевести несколько из его драматических очерков? В таком случае буду иметь честь препроводить к Вам его книгу...»
Тем временем Пушкин начал осуществлять свой план нанесения удара Геккерену. Извлек из Ящика письменного стола еще в ноябре написанное, неотправленное, изорванное и до случая сохраненное письмо к Геккерену. Он разложил на столе разрозненные отрывки письма, перечитал их, внес в них, учитывая события последних дней, поправки и закончил работу над черновиком нового письма.
26 января 1837 года.
Утром Пушкин переписал набело подготовленный накануне черновик письма и отправил его по назначению - барону Геккерену, в здание голландского посольства:
«Позвольте мне подвести итог всему тому, что произошло недавно. Поведение вашего сына было мне известно уже давно и не могло быть для меня безразличным. Я довольствовался ролью наблюдателя, готовый вмешаться, когда сочту это своевременным... Случай, который во всякое другое время был бы мне крайне неприятен, весьма кстати вывел меня из затруднения: я получил анонимные письма. Я увидел, что время пришло, и воспользовался этим. Остальное вы знаете: я заставил вашего сына играть роль столь жалкую, что моя жена, удивленная такой трусостью и пошлостью, не могла удержаться от смеха...
Я вынужден признаться, барон, что ваша собственная роль была не совсем прилична. Вы, представитель коронованной особы, вы отечески сводничали вашему сыну... Подобно бесстыжей старухе вы подстерегали мою жену, по всем углам, чтобы говорить ей о любви вашего незаконнорожденного...
Вы хорошо понимаете, барон, что после всего этого я не могу терпеть, чтобы моя семья имела какие бы то ни было сношения с вашей. Только на этом условии согласился я не давать хода этому грязному делу и не бесчестить вас в глазах дворов нашего и вашего, к чему я имел и возможность, и намерение. Я не желаю, чтобы моя жена выслушивала впредь ваши отеческие увещания. Я не могу позволить, чтобы ваш сын, после своего мерзкого поведения, смел разговаривать с моей женой, и еще того менее - чтобы он отпускал ей казарменные каламбуры и разыгрывал преданность и несчастную любовь, тогда как он просто плут и подлец. Итак, я вынужден обратиться к вам, чтобы просить вас положить конец всем этим проделкам, если вы хотите избежать нового скандала, перед которым, конечно, я не остановлюсь».
В письме этом, по выражению Вяземского, Пушкин излил все свое бешенство, всю скорбь раздраженного, оскорбленного сердца своего. Дуэль становилась неизбежной.
Утро 26 января, после отправки письма, Пушкин провел с вернувшимся из Парижа Александром Тургеневым, который познакомил его с привезенными им «парижскими бумагами» - копиями донесений французских послов при дворе Петра I. Материалы эти очень интересовали Пушкина, историка Петра Великого.
Пушкин, с своей стороны, читал Тургеневу приготовленные для «Современника» материалы и пригласил его зайти на следующий день, чтобы еще почитать.
Днем Пушкин получил два письма. Одно от А. О. Ишимовой - ответ на посланное ей накануне письмо. Не имея понятия, на грани какой катастрофы находился в те дни Пушкин, она писала ему:
«Милостивый государь Александр Сергеевич!
Не могу описать Вам, сколько я сожалела в пятницу, приехав домой спустя десять минут после Вас! И это произошло от того, что я ожидала Вас уже в четыре часа, а не в три...
Сегодня получила я письмо Ва ше, и скажу Вашими же словами: заранее соглашаюсь на все переводы, какие Вы мне предложите, и потому с большим удовольствием получу от Вас книгу Barry Cornawall. Только вот что: мне хотелось бы как можно лучше исполнить желание Ваше насчет этого перевода, а для этого, я думаю, нам нужно было бы поговорить о нем. Итак, если для Вас все равно, в которую сторону направить прогулку Вашу завтра, то сделайте одолжение зайдите ко мне. Кроме добра, которое, вероятно, произойдет от того для перевода моего - Вы этим очень успокоите совесть мою, которая все еще напоминает мне о моей неисправности перед Вами в пятницу.
Искренно уважающая Вас и готовая к услугам Вашим
Александра Ишимова».
Вечером 26 января Пушкин был на балу у графини Разумовской, танцевал, просил Вяземского напомнить Козловскому его обещание прислать очередную статью для «Современника»... И в то же время искал секунданта для завтрашней дуэли. Он обратился с этим к советнику британского посольства Медженису, но тот отказался...
Поздно ночью, после бала у Разумовской, к Пушкину явился д’Аршиак, секундант Дантеса, и передал ему письмо с вызовом на дуэль. Оно было подписано Геккереном, а внизу была приписка Дантеса: «Читано и одобрено мною».
Пушкин принял вызов, даже не прочитав письмо.
27 января 1837 года.
Жуковский кратко обозначил в своем дневнике состояние Пушкина в роковой день дуэли, причем особенно подчеркнул его настроение: «Встав весело в 8 часов - после чаю много писал - часу до 11-го. С 11 обед - ходил по комнате необыкновенно весело, пел песни...»
Веселое настроение Пушкина в день дуэли, конечно, не отражало внутреннего состояния готовившегося к дуэли поэта. Это было нервное возбуждение, безмерная усталость, стремление любым путем выйти из создавшегося положения и - большая выдержка, позволявшая ему за несколько часов до дуэли работать над статьями для «Современника», писать ответные письма.
9 часов утра, после чая. Записка от д’Аршиака: «Я ожидаю сегодня же утром ответа на мою записку, которую я имел честь передать вам вчера вечером. Мне необходимо переговорить с секундантом, которого вы выберете, притом в возможно скором времени. До полудня я буду дома...»
10 часов утра. Пушкин закончил и отправил д’Аршиаку ответ. Судя по сохранившемуся черновику, он долго и нервно работал и над его содержанием, и над формой. Опасаясь расширить круг поисков секунданта, что могло привлечь внимание друзей и расстроить дуэль, Пушкин написал:
«Я не имею ни малейшего желания посвящать петербургских зевак в мои семейные дела; поэтому я не согласен ни на какие переговоры между секундантами... Так как вызывает меня и является оскорбленным г-н Геккерен, то он может, если ему угодно, выбрать мне секунданта; я заранее его принимаю, будь то хотя бы его егерь. Что же касается часа и места, то я всецело к его услугам...»
Отправив письмо, Пушкин все же стал думать, кого можно было бы пригласить секундантом и вспомнил своего лицейского товарища К. К. Данзаса, подполковника, человека открытого и благородного.
10 часов 30 минут утра. На столе лежало полученное накануне письмо А. О. Ишимовой и только что вышедшая ее книга «История России в рассказах для детей». Он развернул ее и стал читать. Затем разыскал том Барри Корнуолл, с очерками которого хотел познакомить читателей «Современника», и написал Ишимовой:
«Милостивая государыня Александра Осиповна,
Крайне жалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на Ваше приглашение. Покамест честь имею препроводить к Вам Barry Cornawall. Вы найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашом, переведите их как умеете - уверяю Вас, что переведете как нельзя лучше. Сегодня я нечаянно открыл Вашу «Историю в рассказах» и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!
С глубочайшим почтением и совершенной преданностью честь имею быть, милостивая государыня,
Вашим покорнейшим слугою
А. Пушкин
27 янв. 1837».
Не имея понятия о предстоящей дуэли и не получив еще письма, Ишимова, конечно, ждала Пушкина, быть может, даже вышла ему навстречу, Но поэт уже не мог явиться: в третьем часу дня, когда посланный вручил ей письмо и завернутую в серую бумагу книгу, Пушкин готовился уже отправиться к месту дуэли. Написанное Пушкиным за несколько часов до дуэли письмо поражает необычайным спокойствием, изумительной точностью в деле, касающемся «Современника». Даже почерк письма - обычный, ровный, спокойный - свидетельствует о большой выдержке поэта.
* * *
12 часов дня. Неожиданно приехал библиограф Ф. Ф. Цветаев и говорил с Пушкиным о новом издании его сочинений. Пушкин держался спокойно, и Цветаев был поражен, когда в тот же день к нему пришел А. И. Тургенев и сообщил о дуэли и тяжелом состоянии Пушкина.
По уходе Цветаева на посланное Пушкиным письмо пришел ответ д’Аршиака: «Оскорбив честь барона Жоржа Геккерена, Вы обязаны дать ему удовлетворение. Вы обязаны найти секунданта... Всякое промедление будет рассматриваться им, как отказ в том удовлетворении, которое Вы обещали ему дать, и как намерение оглаской этого дела помешать его окончанию...»
12 часов 30 минут дня. Пушкин стал готовиться к поединку. Вышел на лестницу, увидел, что морозно, вернулся и приказал подать в кабинет вместо бекеши большую шубу.
1 час дня. Пушкин вышел на улицу, дошел пешком до первого попавшегося извозчика, сел в сани и по дороге встретил своего старого лицейского товарища и друга К. К. Данзаса.
- Данзас, - обратился к нему Пушкин. - Я ехал к тебе, садись со мной в сани и поедем во французское посольство, где ты будешь свидетелем одного разговора.
Они приехали во французское посольство, где жил д’Аршиак, и тут Пушкин, после приветствия с хозяином, сказал Данзасу: «Теперь я вВеду вас в сущность дела», и рассказал все, что происходило между ним, Дантесом и Геккереном. Представив д’Аршиаку Данзаса в качестве своего секунданта, Пушкин официально ознакомил д’Аршиака с существом дела, начиная с момента получения анонимного пасквиля до последнего дня.
2 часа дня. Вручая Данзасу копию своего отправленного накануне Геккерену письма, Пушкин уехал к себе, оставив секундантов выработать и закрепить на бумаге условия дуэли.
Расставаясь с Данзасом, Пушкин сказал:
- Теперь я вам могу сказать только одно: если дело это не закончится сегодня же, то в первый же раз, как я встречу Геккерена, - отца или сына, - я им плюну в физиономию.
2 часа 30 минут дня. Секунданты выработали и подписали условия дуэли. Один экземпляр остался у д’Аршиака для Дантеса, второй Данзас взял с собою для Пушкина.
4 часа дня. Как условились, Пушкин ждал в это время Данзаса в кондитерской Вольфа и Беранже, на Невском проспекте, против Казанского собора. Данзас передал Пушкину выработанные секундантами условия:
«1. Противники становятся на расстоянии двадцати шагов друг от друга и пяти шагов (для каждого) от барьеров, расстояние между которыми равняется десяти шагам.
2. Вооруженные пистолетами противники, по данному знаку, идя один на другого, но ни в коем случае не переступая барьера, могут стрелять.
3. Сверх того принимается, что после выстрела противникам не дозволяется менять место, для того, чтобы выстреливший первым огню своего противника подвергся на том же самом расстоянии.
4. Когда обе стороны сделают по выстрелу, то, в случае безрезультатности, поединок возобновляется как бы в первый раз...
5. Секунданты являются непременными посредниками по всяком объяснении между противниками на месте боя.
6. Секунданты, нижеподписавшиеся и облеченные всеми полномочиями, обеспечивают, каждый за свою сторону, своей честью строгое соблюдение изложенных здесь условий».
Помимо того, во избежание новых распрей, секунданты не должны были допускать никаких объяснений между противниками и одновременно не упускать возможности к их примирению.
* * *
Раненый Пушкин стреляет в Дантеса. Скульптура И. Крестовского.
Пушкин принял условия дуэли, даже не ознакомившись с ними. Выпив стакан лимонаду, он вышел с Данзасом из кондитерской, оба сели в сани и отправились через Троицкий мост к месту дуэли, за Черной речкой, близ так называемой Комендантской дачи.
На Дворцовой набережной они встретили ехавшую в санях жену Пушкина, Наталью Николаевну. Она направлялась к Мещерской, дочери Карамзина, за находившимися там детьми. Встреча эта могла предотвратить дуэль, но жена Пушкина была близорука, а Пушкин смотрел в другую сторону.
4 часа 30 минут дня. Подъехали к Комендантской даче одновременно с Дантесом и д’Аршиаком. Было 15 градусов мороза, много снега. Дул сильный ветер. Пока выбирали площадку для дуэли, Пушкин сидел на сугробе и равнодушно смотрел на эти приготовления.
Языков писал позже, что они дрались насмерть. Для обоих уже не могло быть примирения.
Пушкин, закутавшись в медвежью шубу, сидел молча, но выражал нетерпение. Когда Данзас спросил его, находит ли он удобным место дуэли, ответил:
- Мне это решительно все равно, только, пожалуйста, делайте все это поскорее...
Площадка для дуэли была выбрана в стороне от дороги, окруженная крупным и густым кустарником, скрывавшим все происходившее от глаз оставшихся на дороге извозчиков.
Данзас утаптывал площадку вместе с Дантесом и д’Аршиаком Он добросовестно и точно отмерил шаги от барьера до барьера, шинелями обозначил их места, зарядил с противником пистолеты и аккуратнейшим образом следил за соблюдением всех правил дуэли. Но не способен он был даже сделать попытку примирить противников и избежать дуэли.
- Ну, как? Уже готово? - спросил Пушкин, наблюдая эти приготовления и все с большим нетерпением ожидая, когда все кончится...
5 часов дня. Все было готово. Противники встали на свои места. Данзас махнул шляпой, и они начали сходиться. Пушкин сразу подошел вплотную к своему барьеру. Дантес выстрелил, не дойдя одного шага до барьера.
Пушкин упал.
- Я ранен, - сказал он.
Пуля, раздробив кость верхней части правой ноги у соединения с тазом, глубоко вошла в живот и там остановилась, смертельно ранив.
Пушкин упал на служившую барьером шинель и, лежа лицом к земле, остался неподвижен.
Секунданты бросились к нему, но когда Дантес хотел подойти, Пушкин остановил его:
- Подождите! Я чувствую достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел...
Дантес стал на свое место боком, прикрыв грудь правой рукой. На коленях, полулежа, опираясь на левую руку, Пушкин выстрелил. Пуля, не задев кости, пробила Дантесу руку и, по свидетельству современников, ударившись в пуговицу, отскочила.
Видя, что Дантес упал, Пушкин спросил д’Аршиака:
- Убил я его?
- Нет, - ответил тот, - вы его ранили в руку.
- Странно, - сказал Пушкин. - Я думал, что мне доставит удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет.
Дантес хотел сказать несколько слов примирения, но Пушкин перебил его словами:
- Впрочем, все равно. Как только поправимся, снова начнем...
Из раны между тем кровь сильно лилась. Нужно было с полверсты нести его до саней. Подозвали извозчиков, разобрали по пути забор из жердей, уложили Пушкина сначала в сани, а затем, с согласия секундантов, но без ведома Пушкина, в карету, присланную Геккереном для Дантеса.
Пушкин испытывал жгучую боль, говорил отрывистыми фразами, его тошнило, обмороки довольно часто следовали один за другим. Карету трясло, когда его везли домой, приходилось не раз останавливаться.
Ехавшему с ним Данзасу Пушкин сказал:
- Кажется, это серьезно. Послушай меня: если Арендт найдет мою рану смертельной, ты мне это скажи. Меня не испугаешь. Я жить не хочу...
Наконец подъехали к дому.
7 часов вечера. Жена поэта сидела в своей комнате с сестрой Александрой. Стол был накрыт к обеду. Ждали хозяина. Уже в восьмом часу вечера в комнату неожиданно вошел без доклада Данзас и сообщил, что Пушкин дрался на дуэли и легко ранен. Он добавил, что это поручил ему передать от своего имени Пушкин. По выражению лица Данзаса было видно, что случилось страшное и непоправимое.
Наталья Николаевна побледнела и бросилась в прихожую. В это время камердинер Никита Козлов принял из кареты тяжело раненного Пушкина, взял его, как ребенка, на руки и нес по лестнице.
- Грустно тебе нести меня? - спросил Пушкин.
Увидев жену, Пушкин начал успокаивать ее, сказал, что ранен в ногу и рана не опасна. Просил не заходить к нему, пока он не разденется и не приведет себя в порядок.
Дети уже были дома. Но они, все четверо, были еще очень малы и не могли понимать, какая трагедия происходит в кабинете отца, за стеною рядом с их детской комнатой.
7 часов 30 минут вечера. Пушкина внесли в кабинет. Он сам разделся и лег на диван. Жену впустили только тогда, когда его вымыли и одели в чистое белье. Увидев ее, он сказал:
- Как я рад, что еще вижу тебя и могу обнять. Что бы ни случилось, ты ни в чем не виновата и не должна упрекать себя, моя милая!
Данзас поехал за врачами. Не застав дома Арендта, ни других врачей, он случайно встретил у ворот Воспитательного дома доктора Шольца, который и оказал раненому первую помощь.
Около больного в это время находились жена, Данзас и Плетнев. Пушкин просил всех удалиться, подал доктору Шольцу руку и сказал:
- Плохо со мною!.. Что вы думаете о моем положении?
- Не могу скрывать, что рана ваша опасная, - ответил Шольц.
- Скажите мне - смертельная?
- Считаю долгом не скрывать этого от вас.
- Спасибо! Вы поступили со мною, как честный человек... - Пушкин потер лоб и добавил: - Нужно устроить свои денежные дела.
- Не желаете ли видеть кого-нибудь из близких друзей? - спросил Пушкина Шольц.
- Разве вы думаете, что я и часа не проживу? - спросил Пушкин.
- О нет, не потому... Но я полагал, что вам приятно будет кого-нибудь видеть. Плетнев здесь...
- Я бы желал видеть Жуковского. Дайте мне воды, меня тошнит...
Стали съезжаться близкие друзья: Жуковский, Вяземский с женой, А. Тургенев, Виельгорский, Загряжская. Прибыли врачи: Спасский, Задлер, Саломон, Даль.
Приехал известный в то время доктор Арендт, придворный врач.
- Скажите мне откровенно, - обратился к нему, медленно произнося слова, Пушкин, - каково мое положение. Каков бы ни был ваш ответ, он испугать меня не может. Мне необходимо наверное знать мое положение; я должен успеть сделать некоторые нужные распоряжения.
- Если так, - ответил Арендт, - то я должен вам сказать, что рана ваша очень опасна и что на выздоровление ваше я почти не имею надежды.
Пушкин кивком головы поблагодарил Арендта, просил только не говорить об этом жене. К заявлению врача о безнадежности своего положения отнесся с невозмутимым спокойствием. Просил врача не подавать одновременно и жене больших надежд.
Арендт обязан был сообщить обо всем Николаю I и, уезжая, спросил Пушкина, не желает ли он передать что-нибудь царю.
Беспокоясь о том, что Данзас может пострадать за участие в дуэли. Пушкин ответил:
- Просите за Данзаса, за Данзаса, он мне браг.
Арендт пообещал. Уезжая, он сказал провожавшим его в передней:
- Штука скверная, он умрет...
Положение Пушкина было тяжелое. С каждым часом страдания его становились острее и мучительнее. У постели больного неотлучно находился его друг - писатель и врач В. И. Даль, с которым он сблизился во время поездки на места пугачевского восстания.
- Терпеть надо, друг, делать нечего, - сказал ему Даль, - но не стыдись боли своей, стонай, тебе будет легче.
- Нет, не от боли стону я, а от тоски... - прерывающимся голосом отвечал Пушкин. - Нет, не надо стонать, жена услышит, и смешно же, чтоб этот вздор меня пересилил, не хочу...
Среди всех страданий Пушкин вспомнил о полученном им утром в день дуэли пригласительном билете на похороны сына Греча.
- Если увидите Греча, - сказал он доктору Спасскому, - поклонитесь ему и скажите, что я принимаю душевное участие в его потере.
* * *
С начала до конца Пушкин был удивительно тверд, и доктор Арендт заметил:
- Я был в тридцати сражениях, я видел много умирающих, но мало видел подобного...
Можно ли было спасти Пушкина? На этот вопрос ответили известные советские хирурги.
Через сто лет после смерти поэта, в 1937 году, академик Н. Н. Бурденко сообщил Академии наук, что меры, принятые врачами Пушкина, были бесполезны, а в наши дни даже хирург средней руки вылечил бы его.
Интересно отметить, что научное исследование метода лечения раненого Пушкина проводил ассистент профессора Бурденко, доктор Арендт, потомок лечившего Пушкина Арендта.
Профессор С. С. Юдин писал, что в наше время подобный раненый имел бы пятьдесят - шестьдесят процентов шансов на выздоровление. Но в те годы об операции не приходилось и думать. Лишь через десять лет после смерти Пушкина появился наркоз, а необходимая для брюшных операций асептика - лишь через полвека...
Пушкину, по мнению современных врачей, в его очень тяжелом состоянии нужно было обеспечить максимальный покой и оберечь от лишних разговоров и волнений. Это значительно облегчило бы его муки.
* * *
Библиотека А. С. Пушкина. Фотография.
В. И. Даль. С портрета работы неизвестного художника.
Несмотря на тяжкие страдания, Пушкин сохранил полное самообладание. Подозвав Данзаса, он попросил составить список его неоформленных долгов и довольно твердой рукой подписал этот документ. Доктора Спасского просил вынуть из стола и сжечь какую-то написанную его рукою бумагу.
Пушкин попросил подать ему шкатулку, вынул из нее и подарил Данзасу кольцо - то самое, которое он получил, уезжая в последний раз из Москвы, от Нащокина.
- Это от нашего общего друга, - сказал он Данзасу.
На замечание Данзаса, что он готов отомстить Дантесу, Пушкин ответил, что не хочет, чтобы кто-нибудь мстил за него:
- Нет, нет, мир, мир!
Далю Пушкин подарил кольцо с бирюзой, а Жуковскому - кольцо, которым он особенно дорожил: в годы одесской ссылки Е. К. Воронцова подарила ему его.
«Талисман» - назвал Пушкин написанное им по этому поводу стихотворение. Кольцо это перешло впоследствии к И. С. Тургеневу.
* * *
Е. А Карамзина. С портрета Дамона.
Автограф письма E. А. Карамзиной сыну Андрею о прощании с А. С. Пушкиным.
Пушкин ясно сознавал, что умирает. Среди тяжких страданий он сказал доктору Далю:
- Худо мне, брат... Даль, скажи мне правду, скоро ли я умру?
- Мы все на тебя надеемся, Пушкин, право надеемся, не отчаивайся и ты! - ответил Даль, которому показалось, что положение умирающего несколько улучшилось.
- Нет! - ответил Пушкин. - Мне здесь не житье... Я умру, да, видно, уж так и надо...
При этом Пушкин не раз повторял, что страдает не столько от боли, сколько от чрезмерной тоски.
Ах, какая тоска! - восклицал он, закладывая руки за голову. - Сердце изнывает!
От времени до времени он просил доктора Даля поднять его, поворотить, поправить подушку. И тихо благодарил:
- Ну, так, так, хорошо, вот и прекрасно, и довольно, теперь очень хорошо!.. Кто у жены моей? - спросил он Даля.
- Около нее друзья.
- Ну, спасибо. Однако же поди, скажи жене, что все, слава богу, легко. А то ей там, пожалуй, наговорят... Долго ли мне так мучиться? Пожалуйста, поскорее!.. Скоро ли конец?
Необыкновенное присутствие духа не оставляло больного. От времени до времени он лишь на короткое время забывался.
28 января 1837 года.
Наступила ночь. Друзья не покидали квартиры больного и с волнением следили за его состоянием. Он мучительно страдал.
Утром Пушкин потребовал к себе детей. Их привели к нему и принесли полусонных. Он молча смотрел на каждого из них, клал на голову руку, трижды благословлял и прикладывал к их губам тыльную часть руки.
Пушкин впускал к себе только самых близких своих друзей, хотя беспрестанно спрашивал, кто приходил к нему.
- Мне было бы приятно, - сказал он, - видеть их всех, но у меня нет сил говорить с ними.
Некоторые из лицейских товарищей так и не могли проститься с ним.
12 часов дня. К полудню 28 января Пушкину стало несколько легче, он шутил и, приветливо встретив приехавшего Даля, сказал:
- Мне приятно вас видеть не только как врача, но и как родного мне человека по общему нашему литературному ремеслу.
Жену он часто призывал к себе, и она твердила:
- Он не умрет, я чувствую, что он не умрет...
Между тем было ясно, что приближался конец, и Пушкин сказал жене:
- Не упрекай себя моею смертью: это дело, которое касалось одного меня...
На вопрос доктора Спасского, кого из друзей ему хотелось бы видеть, Пушкин тихо промолвил, обернувшись к книгам своей библиотеки:
- Прощайте, друзья!
Его спросили, не хочет ли он сделать какое-либо распоряжение.
- Все жене и детям! - ответил он.
Жене Пушкин сказал:
- Отправляйся в деревню. Носи по мне траур два или три года. Постарайся, чтобы забыли про тебя. Потом выходи замуж, но не за пустозвона...
Друзья не переставали волноваться. Одоевский прислал записку: «Карамзину, Плетневу и Далю. Напиши одно слово: лучше или хуже. Несколько часов назад Арендт надеялся».
Когда состояние умирающего было совсем плохо, Вяземская послала записку Жуковскому: «Умоляю приходите тотчас. Арендт говорит, что он едва ли переживет ночь».
В течение всего дня 28 января Пушкин часто призывал жену, но разговаривать ему было трудно. Говорил лишь, что чувствует, как слабеют его силы.
8 часов вечера. Пушкину захотелось повидать друзей. Они входили один за другим.
С ними прощался он среди тяжких мучений и судорожных движений, но с духом бодрым и с нежностью.
Вяземскому Пушкин крепко пожал руку и сказал:
- Прости, будь счастлив...
Через короткое время он сказал:
- Как жаль, что нет теперь здесь ни Пущина, ни Малиновского, мне было бы легче умирать... А что же Карамзиной здесь нет?
Послали за Екатериной Андреевной Карамзиной. Она приехала очень быстро. Слабым, но явственным голосом Пушкин сказал:
- Благословите меня...
Она благословила его издали. Но Пушкин сделал ей знак подойти и сам положил ее руку себе на лоб. В письме к сыну Андрею Карамзина необычайно трогательно и сердечно описывала свое прощание с Пушкиным:
«...Пишу тебе с глазами, наполненными слез, а сердце и душа тоскою и горестию: закатилась звезда светлая. Россия потеряла Пушкина! Он дрался в середу на дуэли с Дантесом, и он прострелил его насквозь; Пушкин бессмертный жил два дни, а вчерась, в пятницу, отлетел от нас; я имела горькую сладость проститься с ним в четверг; он сам этого пожелал. Ты можешь вообразить мои чувства в эту минуту, особливо, когда узнаешь, что Арендт с первой минуты сказал, что никакой надежды нет!
Он протянул мне руку, я ее пожала, и он мне также, а потом махнул, чтобы я вышла. Я, уходя, осенила его издали крестом, он опять мне протянул руку и сказал тихо: перекрестите еще; тогда я опять, пожавши еще раз его руку, уже его перекрестила, прикладывая пальцы на лоб, и приложила руку к щеке, он ее тихонько поцеловал и опять махнул. Он был бледен, как полотно, но очень хорош; спокойствие выражалось на его прекрасном лице...»
Это изумительное письмо Е. А. Карамзиной было найдено в 1955 году в Нижнем Тагиле. Его нашла в старинном альбоме, среди старых книг, бухгалтер нижнетагильского рудоуправления О. Ф. Полякова, разбирая небольшую библиотеку своего умершего восьмидесятичетырехлетнего дяди, маркшейдера П. П. Шамарина, служившего еще на уральских заводах Демидовых. Местный краевед Н. С. Боташев сообщил о находке в Москву.
В потертом сафьяновом альбоме с золотым тиснением и потрепанным корешком оказались аккуратно подкленными сто тридцать четыре письма на трехстах сорока страницах - переписка семьи Карамзиных, относящаяся к 1830-1840 годам. Письма написаны были на тонкой, пожелтевшей от времени бумаге, уже выцветшими чернилами, почти все на французском языке.
Авторы найденных писем - вдова Карамзина Екатерина Андреевна, ее сын Александр и дочь, Софья Николаевна, дружившая с Жуковским, Пушкиным, Лермонтовым и другими замечательными людьми той эпохи. Письма эти писались в разные города Европы находившемуся там на излечении Андрею Карамзину, который позже женился на вдове рано умершего миллионера Демидова, известной красавице Авроре, урожденной Шернваль. С ней он дважды приезжал в Нижний Тагил, в 1854 году уехал добровольцем в армию, был убит, и письма остались в Нижнем Тагиле.
Такова история этой необычайной «тагильской» находки. Карамзины знали во всех подробностях семейную историю Пушкиных, у них бывали Пушкин и Дантес, их посещали все друзья поэта. Письма охватывают наиболее острый период тяжкой жизненной драмы Пушкина - с 27 мая 1836 года по 30 июля 1837 года. Писались они под свежим впечатлением событий, для печати не предназначались, кровавого исхода никто не предвидел, письма правдивы и искренни, и в этом их исключительная ценность. Они еще раз подтверждают, что убийство поэта было подготовлено петербургскими придворными кругами и что во главе этого заговора стоял сам Н иколай I.
29 января 1837 года.
Набережная Мойки и все прилегающие к ней улицы вплоть до Дворцовой площади были заполнены толпами народа. По словам современников, такого скопления людей на улицах Петербурга не было с 14 декабря 1823 года - дня восстания декабристов. Чтобы поддерживать на улицах порядок, пришлось вызвать воинский наряд.
В передней какой-то старичок сказал с простодушным удивлением:
- Господи боже мой! Я помню, как умирал фельдмаршал, а этого не было!
«Литературный талант есть власть», - писал поэт Языков, и это особенно внушительно выразилось в дни болезни и смерти Пушкина...
В столовой толпилось много людей. Парадную дверь закрыли, и все входили и выходили через маленькую дверь швейцарской, на которой углем было написано: «Пушкин». На этой же двери Жуковский вывешивал бюллетени о ходе болезни.
12 часов дня. Около двенадцати часов дня Пушкин попросил зеркало, посмотрелся в него и махнул рукой.
- Опустите сторы, я спать хочу... - сказал он.
Позже пощупал себе пульс и тихо сказал:
- Смерть идет!
1 час 15 минут. За полчаса до кончины ему захотелось моченой морошки.
- Позовите жену, пусть она меня покормит...
Во шла Наталья Николаевна, стала на колени у смертного ложа мужа, поднесла ему ложечку, другую и приникла лицом к изголовью.
Пушкин погладил ее по голове и сказал:
- Ну, ну, ничего, слава богу, все хорошо!
- Вот вы увидите, что он будет жив! - сказала она, выходя из кабинета, окружающим.
У постели больного находился в это время Даль. Умирающий несколько раз сжимал его руку и говорил:
- Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше, ну, пойдем!..
Придя в себя, он сказал:
- Мне было пригрезилось, что я с тобой лезу по этим книгам и полкам - и голова закружилась.
- Отходит! - тихо сказал Даль.
2 часа 45 минут дня. Пульс стал падать и скоро совсем не ощущался. Руки начали холодеть.
Минут за пять до смерти Пушкин попросил поворотить его на правый бок и тихо сказал:
- Жизнь кончена!
- Да, конечно, - сказал Даль, - мы тебя поворотили...
- Кончена жизнь!.. - произнес Пушкин внятно. - Теснит дыхание...
Это были последние слова Пушкина. Часы показывали два часа сорок пять минут дня. Дыхание прервалось.
- Что он? - тихо спросил Жуковский.
- Кончилось! - ответил доктор Даль.
Прекрасная голова поэта склонилась. Руки опустились. Всех поразило величавое и торжественное выражение его лица.
У ложа умирающего в это время находились: Жуковский, Вяземский с женой, А. Тургенев, Данзас, Загряжская, врачи Спасский и Андреевский. Они слышали последний вздох поэта. Доктор Андреевский закрыл ему глаза.
«Между тем тишина уже нарушена, - записал А. И. Тургенев. - Мы уже говорили вслух, и этот шум ужасен для слуха, ибо он говорит о смерти того, для коего мы молчали. Он умирал тихо, тихо...»
За минуту перед кончиной в кабинет вошла жена. Теперь она уже видела мужа умершим. Схватив Даля за руку, она в отчаянии крикнула:
- Я убила моего мужа, я причиною его смерти, но богом свидетельствую - я чиста душою и сердцем!..
Пушкин умер через 46 часов после дуэли. Часы на камине показывали 2 часа 45 минут. На этой минуте их остановили.
Сразу же послали за скульптором Гальбергом, который снял с мертвого маску.
3 часа дня. Через несколько минут после кончины Пушкина Жуковский вышел на набережную и со слезами на глазах объявил:
- Пушкин умер!
- Убит! - раздалось из огромной, стоявшей перед окнами дома толпы и как эхо, отозвалось со всех сторон.
Смерть Пушкина глубоко взволновала общественное мнение. В самую толщу народную проникли уже идеи декабристов и вольнолюбивые стихи Пушкина. Его знала вся Россия Незадолго до смерти поэта вышло третье издание «Евгения Онегина», и в три дня было раскуплено более двух тысяч экземпляров - факт исключительный, небывалый для того времени.
На Набережной Мойки не было ни прохода, ни проезда. Толпы народа и экипажи до глубокой ночи осаждали квартиру поэта. Извозчиков нанимали, просто говоря: «К Пушкину!».
30 января 1837 года.
Десятки тысяч людей всех состояний побывали у дома Пушкина во время его болезни и после гибели. Молодые люди и старики, дети и учащиеся, простолюдины в тулупах, а иные даже в лохмотьях приходили поклониться любимому поэту. Не было только здесь представителей великосветской черни, которую Пушкин так презирал...
Двадцатитрехлетний М. Ю. Лермонтов написал в те дни стихотворение «Смерть Поэта», которое с необычайной быстротой распространилось по Петербургу и затем проникло в списках во все уголки России:
Погиб Поэт! - невольник чести -
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде... и убит!
. . . . . . . . . . . . . . .
А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов.
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных рабов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда - всё молчи!..
Но есть и божий суд, наперстники разврата!
Есть грозный судия: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!
* * *
А. И. Тургенев. Литография с рисунка Винъерона.
31 января 1837 года.
Самодержец всея Руси боялся и мертвого Пушкина. Он опасался, что . в кабинете автора «Вольности» будут найдены какие-либо компрометирующие его документы, и сразу же после смерти поэта гроб с его телом выставили в переднюю, а кабинет опечатали.
Здесь он и лежал в своем темно-коричневом сюртуке, а не в придворном камер-юнкерском мундире, как того хотел бы парь. Сюда и пришли 30 и 31 января отдать последний долг поэту десятки тысяч людей всех возрастов и положений. Все глубоко возмущались иностранцем, посягнувшим на честь и славу России.
1 февраля 1837 года.
Отпевание Пушкина назначено было на 1 февраля в церкви при Адмиралтействе. Общественное мнение, однако, с такой огромной силой, с такой глубокой скорбью и негодованием отозвалось на события и обстоятельства убийства поэта, что, по приказанию царя, гроб с телом Пушкина ночью, тайком, перевезли для отпевания в Конюшенную церковь. На пригласительных билетах между тем была указана церковь при Адмиралтействе.
В квартиру при выносе тела невозможно было попасть. Пропустили всего двенадцать человек - родных и самых близких друзей поэта. Они собрались 31 января в гостиной, куда перенесли для прощания гроб с телом Пушкина, но сюда же явились и жандармы во главе с Дубельтом.
Их было много, «целый корпус», и Вяземский писал впоследствии, что у гроба собрались в большом количестве не друзья, а жандармы.
Толпы народа собрались на Конюшенной площади, но в церковь пропускали только тех, кто был в мундире, и высшую знать по пригласительным билетам.
После отпевания лицейские товарищи вместе с И. А. Крыловым и В. А. Жуковским перенесли гроб в церковный подвал, где он простоял ночь и весь следующий день.
3 февраля 1837 года.
Днем не решились перевозить тело. В ночь на 3 февраля гроб с останками величайшего русского поэта обернули рогожей, увязали веревками, поставили на простые дроги, прикрыли соломой и тайком увезли в Михайловское. Проводить Пушкина в его последний путь царь разрешил только одному А. И. Тургеневу. С ним выехал и дядька Пушкина Никита Козлов. Обоих их сопровождал жандармский офицер.
А. И. Тургенев писал друзьям через несколько дней после похорон:
«3 февраля, в полночь, мы отправились из Конюшенной церкви с телом Пушкина в путь; я с почтальоном в кибитке позади тела; жандармский капитан впереди оного. Дядька покойного желал также проводить останки... к последнему его жилищу, куда недавно возил он же и тело его матери; он стал на дрогах, кои везли ящик с телом, и не покидал его до самой могилы».
«В полночь, - писал впоследствии Жуковский отцу Пушкина, - сани тронулись: при свете месяца несколько времени я следил за ними глазами; скоро они поворотили за угол дома, и все, что было земной Пушкин, навсегда пропало из глаз моих...
Мертвый мчался к своему последнему жилищу, мимо своего опустевшего сельского домика, мимо трех любимых сосен, им давно воспетых...»
В Пскове губернатор прочел Тургеневу царское распоряжение: воспретить при следовании тела Пушкина «всякое особенное изъявление, всякую встречу».
Гроб с телом поэта отвезли в Михайловское без всяких проводов. Крестьяне вырыли могилу у стен древнего Успенского собора Святогорского монастыря, на Синичьей горе.
6 февраля 1837 года.
«6 февраля, в 6 часов утра, - писал А. Тургенев, - отправились мы я и жандарм!! - опять в монастырь... мы отслужили панихиду в церкви и вынесли на плечах крестьян и дядьки гроб в могилу...»
«Я препровождал... - читаем мы рассказ этого жандарма, полковника Ракеева. - Назначен был шефом нашим препроводить тело Пушкина. Один я, можно сказать, и хоронил его».
Тургенев бросил в могилу первую горсть земли, вторую завернул в белый носовой платок. Сестры Осиповы принесли цветы, собравшиеся крестьяне плакали. Так похоронили величайшего русского поэта.
* * *
Обелиск на месте дуэли.
Гибель Пушкина настолько потрясла всю Россию, что министр народного просвещения Уваров распорядился «соблюсти в газетах надлежащую умеренность и тон приличия» при печатании каких-либо сообщений о смерти поэта и приказал все эти сообщения пропускать через цензуру.
В газете «Литературные прибавления» к «Русскому инвалиду» появилось написанное В. Ф. Одоевским короткое сообщение в черной рамке:
«Солнце нашей Поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща!.. Более говорить о сем не имеем силы, да и не нужно; всякое Русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери, и всякое Русское сердце будет растерзано. Пушкин! наш поэт! наша радость, наша народная слава!.. Неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина?.. К этой мысли нельзя привыкнуть!
29-го января, 2 ч. 45 м. пополудни».
Прочитав этот некролог, Уваров вызвал редактора газеты Краевского.
- Что это за черная рамка вокруг известия о кончине человека не чиновного, не занимавшего никакого положения на государственной службе?.. - спросил его Уваров. - «Солнце поэзии»! Помилуйте, за что такая честь? «Пушкин скончался... в середине своего великого поприща»! Какое это такое поприще? Разве Пушкин был полководец, военачальник, министр, государственный муж? Писать стишки не значит еще проходить великое поприще!..
Строгий выговор получил от Бенкендорфа и Н. И. Греч за строки, напечатанные в «Северной пчеле»: «Россия обязана Пушкину благодарностью за двадцатидвухлетние заслуги его на поприще словесности».
Цензор А. В. Никитенко вынужден был вымарать несколько таких же строк, назначавшихся для «Библиотеки для чтения». «И все это, - записал он в своем дневнике, - делалось среди всеобщего участия к умершему, среди всеобщего глубокого сожаления. Боялись, но чего?»
«Наши журналы и друзья Пушкина не смеют ничего про него печатать, - писал Вяземский в марте 1837 года своим друзьям в Париж, - с ним точно то, что с Пугачевым, которого память велено предать забвению».
Отклики друзей на смерть Пушкина показывают, что они ценили в нем не только гениального поэта, но и человека, с которым связаны были глубокой дружбой. Такими же настроениями пронизаны отклики людей, лично даже не знавших Пушкина.
Тютчев писал:
Ты был богов орган живой,
Но с кровью в жилах... знойной кровью.
И сею кровью благородной
Ты жажду чести утолил -
И осененный опочил
Хоругвью горести народной.
Вражду твою пусть тот рассудит,
Кто слышит пролитую кровь...
Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет.
«И вдруг пришли и сказали, что он убит, что его более нет... - вспоминал И. А. Гончаров. - Это было в департаменте. Я... горько, горько, не владея собою, отвернувшись к стене и закрывая лицо руками, заплакал. Тоска ножом резала сердце, и слезы лились в то время, когда все еще не хотелось верить, что его уже нет, что Пушкина нет! Я не мог понять, чтобы тот, пред кем я склонял мысленно колени, лежал бездыханным... И я плакал горько и неутешно, как плачут по получении известия о смерти любимой женщины... Нет, это не верно, - по смерти матери, - да, матери...»
Брат Пушкина, Лев Сергеевич, находился в то время со своим отрядом в деле против чеченцев. Он писал отцу: «Если бы у меня было сто жизней, я все бы их отдал, чтобы выкупить жизнь брата».
«Плачь, мое бедное отечество! Не скоро родишь ты такого сына! На рождении Пушкина ты истощилось!..» - писал матери из Парижа Карамзин.
Гоголь узнал о гибели Пушкина в Риме. Он был потрясен и писал: «...никакой вести нельзя было хуже получить из России... Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его перед собою. Что скажет он, что заметит он, чему посмеется, чему изречет неразрушимое и вечное одобрение свое, вот что меня только занимало и одушевляло мои силы».
«Как странно! - писал Гоголь Плетневу в сентябре 1839 года из Москвы в Петербург. - Боже, как странно! Россия без Пушкина. Я приеду в Петербург, и Пушкина нет. Я увижу вас - и Пушкина нет...»
«Прострелено солнце!» - написал А. В. Кольцов.
«Пушкин был в ту эпоху для меня, как и для многих моих сверстников, чем-то вроде полубога», - писал юный И. С. Тургенев.
На смерть Пушкина отозвался и польский поэт Адам Мицкевич:
«Пуля, поразившая Пушкина, нанесла интеллектуальной России страшнейший удар... - писал он. - Ни одной стране не дано, чтобы в ней больше, нежели один раз, мог появиться человек с такими выдающимися и такими разнообразными способностями».
Лицейский товарищ Пушкина, Ф. Ф. Матюшкин, прислал лицейскому старосте М. Л. Яковлеву из Севастополя полные душевной скорби строки:
«Пушкин убит! Яковлев! Как ты это допустил? У какого подлеца поднялась на него рука? Яковлев, Яковлев! Как ты мог это допустить? Наш круг редеет; пора и нам убираться...»
У гробницы Александра Сергеевича Грибоедова в Тифлисе ссыльный декабрист Александр Бестужев (Марлинский) горько рыдал о погибших «Александре и Александре», и сам он, третий поэт Александр, тоже пал три месяца спустя.
В. А. Жуковский написал, стоя у гроба Пушкина:
Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе
Руки свои опустив. Голову тихо склоня,
Долго стоял я над ним, один, смотря со вниманьем
Мертвому прямо в глаза; были закрыты глаза.
Было лицо его мне так знакомо, и было заметно,
Что выражалось на нем, - в жизни такого
Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья
Пламень на нем; не сиял острый ум;
Нет! Но какою-то мыслью, глубокой, высокою мыслью
Было объято оно: мнилося мне, что ему
В этот миг предстояло как будто какое виденье,
Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось: что видишь?
* * *
Открытие памятника А. С. Пушкину в Москве 26 мая (6 июня) 1880 года.
Билет на торжественное открытие памятника А. С. Пушкину в Москве 26 мая (6 июня) 1880 года.
«Собираем теперь, - писал Вяземский, - что каждый из нас видел и слышал, чтобы составить полное описание, засвидетельствованное нами и документами».
В. А. Жуковский объединил все и опубликовал в виде письма к отцу поэта, в первом посмертном томе пушкинского «Современника», вышедшем в 1837 году под редакцией П. А. Вяземского, В. А. Жуковского, А. А. Краевского, В. Ф. Одоевского и П. А. Плетнева.
Приводим здесь его вступительную часть и начало:
«ПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫ ПУШКИНА
Россия потеряла Пушкина в ту минуту, когда гений его, созревший в опытах жизни, размышлением и наукою, готовился действовать полною силою - потеря невозвратимая и ничем не вознаградимая. Что бы он написал, если бы судьба так внезапно не сорвала его со славной, едва начатой им дороги? В бумагах, после него оставшихся, найдено много начатого, весьма мало конченного; с благоговейною любовию к его памяти мы сохраним все, что можно будет сохранить из сих драгоценных остатков; и они в свое время будут изданы в свет. Здесь сообщаются читателям известия о последних минутах его жизни. Они описаны просто и подробно в письме к несчастному отцу его.
«Я не имел духу писать к тебе, мой бедный Сергей Львович. Что я мог тебе сказать, угнетенный нашим общим несчастием, которое упало на нас, как обвал, и всех раздавило? Нашего Пушкина нет! Это, к несчастию, верно; но все еще кажется невероятным. Мысль, что его нет, еще не может войти в порядок обыкновенных, ясных, ежедневных мыслей. Еще по привычке продолжаешь искать его, еще так естественно ожидать с ним встречи в некоторые условные часы; еще посреди наших разговоров как будто отзывается его голос, как будто раздается его живой, веселый смех, и там, где он бывал ежедневно, ничто не переменилось, нет и признаков бедственной утраты, все в обыкновенном порядке, все на своем месте; а он пропал и навсегда - непостижимо. В одну минуту погибла сильная, крепкая жизнь, полная Гения, светлая надеждами. Не говорю о тебе, бедный дряхлый отец; не говорю об нас, горюющих друзьях его. Россия лишилась своего любимого, национального поэта. Он пропал для нее в ту минуту, когда его созреванье совершилось, пропал, достигнув до той поворотной черты, на которой душа наша, прощаясь с кипучею, буйною, часто беспорядочною силою молодости, тревожимой Гением, предается более спокойной, более образовательной силе здравого мужества, столь же свежей, как и первая, может быть, не столь порывистой, но более творческой. У кого из Русских с его смертию не оторвалось что-то родное от сердца?..»
Последний том «Современника», вышедший в 1837 году с этим письмом Жуковского, был своего рода венком друзей на могилу Пушкина. В нем были посмертно опубликованы и произведения поэта: «Медный всадник», «Герой», «Д. В. Давыдову», «Лицейская годовщина. 1836», «Молитва», «Отрывок», «Последний из родственников Иоанны д’Арк», «О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая», «Сцены из рыцарских времен».
* * *
Перед нами прошла вся жизнь поэта.
Со дня его гибели протекли почти полтора столетия, но он никогда не покидал нас. Его «песнь, - писал А. И. Герцен, - продолжала эпоху прошлую, наполняла мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в отдаленное будущее».
Отдаленное будущее пушкинской поры - это наше время, это мы сегодня. Пушкин бессмертный всегда меж нами. И сам он за несколько месяцев до гибели, 21 августа 1836 года, предсказал свое бессмертие, когда писал:
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.
Нет, весь я не умру - душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит -
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал...
И удивительно, как оживает сегодня образ Пушкина в аллеях Михайловского парка. Попав как-то в заповедник, А. В. Луначарский писал:
«Когда ходишь теперь по запустелому парку, с такой страшной интенсивностью думаешь о Пушкине, что кажется, нисколько не удивился бы, если бы вдруг из купы деревьев или из-за угла здания появилась бы его задумчивая фигура. Позднее, когда я уехал, мне живо представилось, что я действительно видел его там... Мне помнилось, что он вышел из густой тени на солнце, упавшем на его курчавую непокрытую голову, задумчиво опущенную, и будто он поднял голову и посмотрел на нас, людей, живущих через 100 лет, рассеянным взором. И за рассеянностью этих глаз была огромная, ушедшая в себя мысль...»
Пушкин знал свое место в жизни России. За пять месяцев до гибели он четко определил свое великое будущее - «Нет, весь я не умру...» И, гением своим ощущая великую к нему всенародную любовь будущих поколений к нам обратил свое вдохновенное, трогательное, поэтическое завещание:
...Увы, моя глава
Безвременно падет: мой недозрелый гений
Для славы не свершил возвышенных творений:
Я скоро весь умру. Но, тень мою любя,
Храните рукопись, о други, для себя!
Когда гроза пройдет, толпою суеверной
Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный,
И, долго слушая, скажите: это он;
Вот речь его. А я, забыв могильный сон,
Взойду невидимо и сяду между вами,
И сам заслушаюсь, и вашими слезами
Упьюсь...
1 Будь здоров! (лат.)
2 Гетеристы - участники тайных политических союзов греков, деятельность которых была направлена на освобождение от турецкого владычества.
3 Д Д. Благой. Творческий путь Пушкина (1813-1826). Академия наук СССР. М., 1950, стр. 270.
4 Здесь: в смысле философскими, политическими.
5 С. М. Петров. А. С. Пушкин. Очерк жизни и творчества. «Советская Россия», М., 1961, стр. 74-75.
6 Что не может быть существа разумного, творца и правителя (франц.).
7 Отрывок из черновой редакции.
8 С. М. Петров. А. С. Пушкин. Очерк жизни и творчества. М., 1961, стр. 103-104.
9 Д. Д. Благой. Творческий путь Пушкина. Академия наук СССР, М.-Л., 1950, стр. 388.
10 Д. Д. Благой. Творческий путь Пушкина (1817-1825). Академия наук СССР, М.-Л., 1950, стр. 492.
11 Какой гений! Какой священный огонь! Что я рядом с ним? (франц.)
12 Н. Л. Бродский. Евгений Онегин. Роман А. С. Пушкина. М., 1964, стр. 337.
13 Н. Л. Бродский. Евгений Онегин. Роман А. С. Пушкина. М., 1964, стр. 337-338.
14 «Но где».
15 Вы не знаете этих людей: вы увидите, что дело дойдет до ножей (франц.).
16 С. М. Петров. А. С. Пушкин. Очерк жизни и творчества. Советская Россия, М., 1961, стр. 125.
17 С боевым кличем на устах! (франц.)
18 Счастье можно найти лишь на проторенных дорогах (франц.).
19 Тоска (англ.).
20 По-мещански (франц.).
21 Это недобрые предвещания! (франц.)
22 Уваров С. С. (1786-1855), граф, с 1818 г. президент Академии наук, в 1834-1849 гг. реакционный министр просвещения.
23 Dangeau - Данжо (франц.).
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



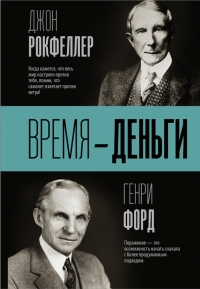



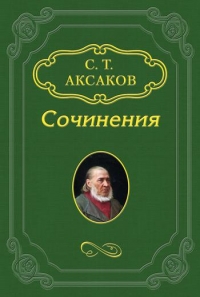
Комментарии к книге «Жизнь поэта», Арнольд Ильич Гессен
Всего 0 комментариев