По путевке комсомольской
У Ходынского поля
«Отречемся от старого мира…»
На земле донской
Комиссар полка
Среди мамонтовцев
Правда о Миронове
С напутствием Ленина
«Жуковка»
Слово об авторе этой книги
Примечания
Соколов- Соколенок Николай Александрович
По путевке комсомольской
У Ходынского поля
Мне было всего три года, когда началась русско-японская война. Но как отчетливо встают передо мной отдельные эпизоды, относящиеся к этому событию. Помню старую конку. На ее верхнем открытом - втором этаже мы вчетвером «едем на войну». На передней скамейке бабушка и прижавшаяся к ней, закутанная в какую-то длинную шаль заплаканная мать. Напротив - я и отец, у его ног - маленькая дорожная корзинка. Потом какая-то красная кирпичная казарма, перед ней - земляной вал, где стоят плачущие женщины с детьми на руках. Мы - среди них, мама опять утирает слезы. Но вот из казармы вернулся отец и сказал, что остается здесь, а мы должны ехать домой. И меня, твердо решившего остаться с ним, чтобы тоже «воевать», зареванного, вопящего, бабушка с матерью волоком потащили домой.
А жили мы тогда в Петровском парке - снимали маленькую деревянную дачку в Скалкинском, ныне Пеговском, переулке. И надо же такому случиться: окна нашего бывшего дома через три с половиной десятилетия окажутся точно напротив окон моего кабинета - в здании Военно-воздушной инженерной академии имени профессора Н. Е. Жуковского.
В старое время это был довольно необычный район Подмосковья, известный главным образом мощным скоплением всевозможных злачных мест. На относительно небольшой площади Петровского парка размещалось тогда скопище популярных ночных ресторанов, среди которых и такие, как «Яр», «Стрельня», «Эльдорадо», Скалкина. Вместе с многочисленными кабачками, дешевыми трактирами и притонами они служили излюбленным местом встреч всякого рода прожигателей денег и кутил, съезжавшихся сюда на лихачах и тройках уже к поздней ночи, а то и к самому утру. В нашем переулке и возвышался ресторан Скалкина, а совсем по соседству [4] - перейти дорогу - знаменитая «Стрельни». Так что не раз мы бывали свидетелями различных художеств ресторанных и трактирных гуляк, частенько вырывавшихся из этих заведений на улицу. Теперь хозяевами достопримечательных зданий являются совсем иного назначения учреждения: в первом - Дом офицеров прославленной академии имени Жуковского; во втором - Центральный музей авиации и космонавтики.
Мне особенно запомнились ранние финалы кутежей известного фабриканта - не то Саввы, не то Викулы Морозова. Он наведывался к Скалкину частенько, повидимому, это было излюбленное место отдыха богача. Гулянка кончалась обычно утром, но уже не в самом ресторане, а в полюбившемся ему мужицком трактире, находящемся на противоположном от ресторана углу. Сюда он переходил с ватагой своих нахлебников напоследок, чтобы выполнить ритуал посошка и отвести душу за чашкой чаю. Но главным для фабриканта было, повидимому, все же не это.
Апофеозом всему становился его «парадный выход к народу», чтобы показать себя и поглумиться над простым людом. Кутила выходил со своей пьяной свитой на крыльцо трактира, по-купечески низко кланялся уже скопившейся для такого случая толпе завсегдатаев, затем медленно и важно вынимал из бокового кармана специально приготовленную пачку новеньких рублевок и, держа ее на виду, начинал хрипло-пьяным голосом держать речь. Звучала она примерно так.
- Здрасьте, добрые люди! Пришли со мной повидаться? Спасибо, спасибо вам. И я без вас не могу, так как сам из таких же вышел. Кто там гуляет, - показывал он на ресторан, - как вот и эти, что со мной, - все это мерзавцы, дармоеды паршивые. Захочу - всех с потрохами купить могу!… А вот вам я от всего сердца! Нате, берите вашу долю! - И Морозов начинал разбрасывать в разные стороны по десятку рублевых бумажек. Начиналась невообразимая суматоха, давка. Все бросались ловить летящие бумажки, сбивая друг друга с ног и вступая из-за них в драки. Вот это ему, Морозову, по-видимому, и нравилось больше всего.
Был случай, когда одну рублевую бумажку ухитрился поймать и я, но тотчас же получил от какого-то детины оглушительный удар по голове и очнулся уже дома, да еще с вывихнутым коленным суставом. А чтобы [5] не проявлял больше ненужной прыти, получил внеочередную «добавку» и от отца.
Скалкинский переулок, где проходило мое раннее детство, как, впрочем, и все прилегающие переулки, был заполнен маленькими, дачного типа, домиками, постояльцами которых были преимущественно цыгане различных московских хоров. Непосредственными нашими соседями по дому были цыгане знаменитого хора «Яра».
Среди цыган, живших в нашем переулке, нашелся и такой, которого мы, соседские ребята, по-настоящему любили и к которому были необычайно привязаны. Этот уже немолодой бородатый почитаемый нами дядя Сеня считался, как тогда говорили, чуть ли не «самым главным» гитаристом на всю Москву. Люди отдыхают по-разному - дядя Сеня свой отдых и удовольствие находил среди детей, организуя для нас всевозможные игры и занятия. Несмотря на заметную тучность, он с юношеским задором играл с нами в бабки, городки, лапту и горелки, а когда надоедало и это - вступала в права его любимая гитара, под аккомпанемент которой дядя Сеня начинал напевать вполголоса какие-то очень заунывные цыганские песни. И своей исключительной любовью к этому инструменту, которую я пронес через всю жизнь, я обязан именно времени далекого детства.
Однако, вспоминая о добром цыгане Сене, нельзя не сказать о самом главном, чем он буквально покорял наши мальчишеские сердца. Дядя Сеня был страстным любителем и великолепным мастером по изготовлению огромных, раза в полтора больше моего роста, бумажных и полотняных змеев. Для всех было большущим праздником, когда мы, ребята, вместе с ним строили и конечно же испытывали и запускали их на Ходынском поле, около которого тогда жили.
При этих праздничных запусках змеев захватывающе интересным было все. И сам поход на Ходынку, когда во главе нашей команды важно шествовал бородатый атаман, и запуск змея-гиганта, когда нам, ребятам, доверялось держать его на старте, чтобы вовремя и аккуратно отпустить на подъем, и конечно же после достижения змеем предельной высоты получить разрешение вместе с хозяином змея подержаться за бечевку и испытать, с какой силой рвется он вверх. Но особый восторг здесь вызывали у нас еще две вещи. Во-первых, послушать, как лихо работали прикрепленные к змею трещотки, от шума которых шарахались в стороны ломовые [6] и извозчичьи лошади, а во-вторых, посылка - наших к змею - именных писем, которые потом раздавались нам как своего рода сувениры. Что касается эффективности змеевых трещоток, то о их силе воздействия на нормальную работу главного для тех лет конного транспорта можно судить хотя бы по такому факту. Как-то в один прекрасный день к нам на Ходынку пожаловал полицейский. Он заставил приземлить воздушного «нарушителя правопорядка» и пригрозил при повторении безобразий отбирать и ломать наши грохочущие самоделки, а дядю Сеню познакомить поближе с полицейским участком…
Жизнь по соседству с Ходынкой оказалась для меня счастливо-примечательной и потому, что мы, мальчишки этого района, стали свидетелями полетов здесь первых русских авиаторов: Уточкина, Ефимова, Прохорова и Россинского. Мог ли я подумать тогда, что всего через два десятка лет, в тридцатых годах, на этом же самом Ходынском поле будет базироваться летно-испытательная станция Военно-воздушной инженерной академии имени профессора Н. Е. Жуковского, которой я буду командовать, и, как летчик-испытатель, принимать участие в завоевании нашей авиацией новых высот и скоростей.
Ну а в ту пору уголок Дурова, зоопарк да еще цирк - вот тот треугольник московских занимательных мест, куда меня влекло больше всего.
В цирке Соломонского на Цветном бульваре я, кстати, считался как бы своим. Здесь после военной службы некоторое время играл в оркестре мой отец, и у него там было немало друзей, которые, включая и самого дирижера, частенько являлись гостями нашего дома. Поэтому постоянное место для меня в цирке было надежно забронировано - лежачее место у низенького бортика оркестровой ямы. Отец против моих походов в цирк обычно не возражал, но видел в этом средство поощрения за хорошее поведение и успеваемость в школе.
Многих, очень многих цирковых знаменитостей тех далеких лет мне довелось повидать на арене Московского цирка. Некоторые из них запомнились на всю жизнь. Разве можно когда-нибудь забыть клоунов Бим-Бом, дрессировщика лошадей Манжелли или выступления знаменитого Дурова?! Не меньше впечатлений связано и с борцами, выступления которых на арене проходили при неизменных аншлагах и сопровождались [7] исключительно бурной реакцией зрителей. На моих глазах проходили поединки знаменитых богатырей России Ивана Поддубного, Заикина, Ивана-Каина, Збышко-Циганевича, Луриха, Буля. Особенно интриговали публику всевозможные красные, синие и черные маски. Маски снимались, и скрывавшиеся под ними борцы становились известными только после поражения, которого всякий раз и, как правило, напрасно ждали зрители. А настоящая развязка обычно наступала где-то к концу многодневного чемпионата. А разве не захватывающе выглядели внезапные вызовы прямо из публики?! Это когда какой-нибудь самый простой парень с галерки, представившийся публике не более как кузнец из Подольска, или шахтер из Юзовки, или одним из известнейших богатырей, хотел помериться силами с любым.
Вспоминая о детстве, не могу не упомянуть и еще об одном своем совсем ином виде увлечений тех времен. Трижды в самом раннем школьном возрасте я побывал участником кулачных битв стенки на стенку, которые еще бытовали в Москве. В нашем районе они проходили на Бутырском валу, у железнодорожного полотна, соединяющего Белорусский вокзал с Савеловским. Противостояли здесь друг другу жители Петровского парка и москвичи той округи, что прилегала к Бутырке. При стечении огромного количества болельщиков дрались «противники» от мала до велика, и, как полагалось, на стенках начинал драку ребячий фланг, а затем вдоль фронта включались постепенно более старшие возрасты, включая и бородачей. Когда драка среди взрослых была в полном разгаре, ребята перебегали к месту основных событий, чтобы успеть поболеть там за своих или поддержать родную сторону своим активным участием. На последнее я отважился уже со второго посещения стенки и почему-то до сих пор уверен, что выступил на лихом поприще патриота Петровского просто здорово.
…В Москве наша семья прожила до двенадцатого года. Весной я окончил начальную школу, и моя мать с четырьмя детьми переехала во Владимир к бабушке, имевшей на Верхнем Боровке, на Лыбеди, собственный небольшой домик. Случилось так, что через два года началась первая мировая война, отца мобилизовали, и наша семья вместо временного пребывания окончательно осела в родном для матери Владимире.
В те годы это был небольшой, но красивый, утопающий в зелени и вишневых садах, древний мещанский городок. [8] Украшали его множество церквей и ряд разбросанных по всей округе уникальнейших памятников далекой старины. По размерам своим - рукой подать от одной окраины до противоположной. В основном городок был одно-, двухэтажным. Исключение составлял центр, расположенный на главной магистрали, проходившей через весь Владимир, как продолжение печальной памяти Владимирки, что шла в направлении Нижнего Новгорода. И только здесь, в центральной части города, размещались (можно на пальцах пересчитать) более или менее приличные здания, которые и занимали обличенные чинами верноподданные русского самодержавия. Сюда входили здания дворянского собрания, губернских присутственных мест, включая губернский суд, городской думы, банка и тому подобное. Совсем небольшой - центральный отрезок Дворянской улицы, носивший не совсем поэтическое прозвище Шалапаевка, где располагались торговые ряды, был, пожалуй, излюбленным местом горожан. Здесь владимирцы совершали вечерние прогулки, назначали встречи, свидания. Я был несказанно удивлен, узнав как-то, что по прошествии многих лет это прозвище за тем местом так и сохранилось.
Население Владимира в то время насчитывало немногим больше тридцати пяти тысяч человек. Доминирующей частью его были священнослужители, чиновники и военный люд расквартированных в городе 9-го Сибирского и 10-го Малороссийского гренадерских полков. Все живущие здесь были видны как на ладони, и если кто-либо и не были прямо знакомы, то знали друг друга в лицо и чуть ли не по фамилии. Если, бывало, в какой-нибудь семье случалось какое-то происшествие, весь город узнавал об этом молниеносно. Мы, мальчишки, были в курсе таких событий, конечно, в первую очередь.
* * *
С необычайной быстротой беспроволочного телеграфа узнавали жители о вступлении на окраины города со стороны Москвы очередной партии закованных в кандалы политкаторжан. И первыми встречали их, конечно, мы, мальчишки. Проделав трудный путь очередного этапа по проклятой Владимирке, они должны были еще немного продержаться, чтобы, пройдя через весь город, добраться до окраины Владимирского централа, где их ожидал кратковременный отдых. Эта старая тюрьма на своем веку повидала немало виднейших борцов [9] за общенародное дело: здесь побывали и декабристы, и петрашевцы, и народовольцы.
Во Владимире, городе прекрасных церковных хоров, из которых, между прочим, уже в послереволюционные годы вышло немало замечательных солистов наших ведущих оперных театров, я оказался «завербованным» в хор Ставровского. Нужно сказать, что все дети нашей семьи отличались хорошими голосами и музыкальным слухом. Лично я, только раз услышав понравившуюся мелодию или арию, придя домой, мог воспроизвести ее без каких-либо погрешностей на рояле на память. Причем играть на этом инструменте меня никогда не учили. Здесь, видимо, сказывалась незаурядная музыкальная наследственность, передавшаяся от отца. Кстати, отец, сам очень хороший музыкант, а впоследствии и дирижер, был решительно против того, чтобы я последовал по его стопам. В отношении музыкального образования он не раз повторял: можно затратить уйму труда, энергии и времени, но признанным талантом так и не станешь. Я лично склонен присоединиться к его мнению.
Но тогда не прошло и года, как я стал солистом хора и, более того, даже участвовал в различных благотворительных концертах, выступая с сольным исполнением различных светских песен и оперных арий. Вести о редком мальчишеском голосе дошли вскоре и до высших хоровых инстанций. Специально приезжавший представитель из Москвы после прослушивания сделал моим родителям очень заманчивое предложение о переходе их сына солистом в синодальный патриарший хор. Помимо солидного по тому времени жалованья мне полагалось полное казенное обеспечение, а также гарантировалось продолжение образования в консерватории.
Родители от такого предложения категорически отказались, и главным образом потому, что я уже зарабатывал хорошие (для своего возраста) деньги и у Ставровского, которые служили существенной помощью семье, особенно когда отца опять забрали в армию. [10]
«Отречемся от старого мира…»
Наступил конец шестнадцатого года. В прошлом уютный и безмятежный, ныне шумный, взбудораженный, заполненный беженцами и ранеными, Владимир особенно живо интересовался войной. В домах и на улицах города все более открыто и безбоязненно обсуждались причины неудач на фронте, и чаще всего говорящие связывали их с бездарностью руководства царских генералов, не щадили несостоятельность и самой царской семьи. Людям было непонятно, как могло случиться, что считавшийся лучшим в мире суворовский русский солдат оказался вдруг без патронов, а передовая русская артиллерия - без снарядов. Народ как бы сам искал выход из тупика империалистической бойни, называя имена тех немногих генералов, которые, по его мнению, могли бы еще спасти положение, если бы им было полностью доверено ведение войны. Чаще всего в те дни произносилась фамилия командующего Юго-Западным фронтом генерала Брусилова, замечательного военачальника, с которым мне доведется встретиться я близко познакомиться в 1921 году.
А тогда не менее тревожное положение в городе, как и по всей стране, складывалось с хлебом, да и с продовольствием вообще. Мировая житница Россия - и вдруг сама без хлеба. А голод уже настойчиво стучался в двери. Озабоченные нуждой женщины спозаранку, а то и с ночи скапливались в очереди у булочных и продовольственных лавок. Крестьяне, которые в мирное время заполняли рынок и весьма ощутимо поддерживали продовольственный баланс города, теперь съезжались сюда уже для того, чтобы вместе с горожанами выстаивать в очередях и покупать хлеб и другие продукты. Кстати, здесь же происходил обмен новостями, делились последними известиями о положении на фронтах и в стране. Рынок выплеснулся на Дворянскую. Шалопаевка перестала быть прежней Шалопаевкой. [11]
Очень тяжело жила в это время и наша семья. Отец на фронте, а мои вокальные данные, которыми я, как уже упоминалось, существенно поддерживал семью, в силу переходного периода начинали, как говорится, «раскамертониваться». Хор пришлось оставить. Мать с нами, четырьмя детьми, не спала ночами - шила солдатское белье, зарабатывая этим буквально гроши на наше пропитание.
Новый, семнадцатый год не сулил, казалось, никаких улучшений, положение во всех областях жизни резко обострилось. Но во Владимир уже докатывались, получая все более сочувственное восприятие, призывы политических забастовок и стачек Петрограда, Москвы, Нижнего Новгорода, Иванова и других городов. Лозунги «Долой царя!», «Долой войну!», «Даешь хлеба!» зазвучали громким набатом и для далеких вроде бы от политической борьбы владимирцев. Ход событий в городе способствовал этому.
За полторы недели до того как падет самодержавие, точнее, 18 февраля, во Владимире произошел стихийный бунт, который явился как бы прелюдией к восстанию и низложению царских порядков в городе. Не выдержав тяжелых испытаний нуждой, своего полуголодного существования, толпа городских и деревенских женщин с детьми внезапно двинулась в этот день к дому губернатора и, осадив его, начала вызывать его хозяина, выкрикивая требования: «Хлеба!», «Долой войну - верни мужей!». На вызов возмущенных женщин нежданно-негаданно вышел не сам губернатор, а его жена и вместо каких-либо деликатных разъяснений и успокоительных слов бросила в притихшую толпу: «Откуда вы взяли голод? Разве сейчас голод? Настоящий голод бывает тогда, когда люди едят своих детей»…
Только подоспевшая полиция спасла губернаторский дом и его обитателей от разгрома и расправы разъяренных женщин. Но эти страшные; жестокие слова, произнесенные равнодушной к людскому горю губернаторшей, с быстротой молнии разнеслись по городу и близлежащим деревням Владимирщины, накалив обстановку до крайнего предела. Дошли они, конечно, и до солдат гарнизона, недовольство которых существующими порядками становилось все заметнее.
27 февраля пало царское самодержавие. Пламя революции охватывало один за другим главные города России. [12] С опозданием на четыре дня докатилось оно и до Владимира.
Желая удержаться в своих креслах и при новом буржуазно-демократическом государственном устройстве, наместники царизма незаметно, но усиленно перестраивались и подлаживались к новой обстановке. Они предприняли целый ряд предупредительных мер, чтобы предстоящие события не смели их с лица политической жизни.
Первого марта губернатор Крейтон провел совещание губернских руководителей и сообщил о событиях в Петрограде. На другой день у него же обсуждается вопрос об улучшении положения с продовольствием в городе и губернии. В это же время городская дума намечает людей, которые могли бы взять власть в городе на себя, предполагая, что удастся все дело свержения самодержавия свести только к смене вывесок.
Пожалуй, только командующий Владимирским гарнизоном генерал Гамбурцев наиболее реально оценивал обстановку. И он принял весьма действенные меры по предупреждению надвигающихся событий. Узнав о предполагаемом приезде во Владимир вооруженной делегации восставших солдат Москвы в ночь на 3 марта, Гамбурцев приказал 82-му запасному полку выделить патруль для ее ареста и разоружения на вокзале и одновременно устанавливает особый режим в частях гарнизона. Кстати, ожидавшаяся делегация во Владимир не прибыла, да и надобность в ней отпала, поскольку 3 марта во Владимире произошел революционный переворот. Высланный же на вокзал патруль тут же присоединился к восставшим солдатам.
События во Владимире развивались не так, как планировали бывшие его властители и их главная опора - генерал Гамбурцев. В ночь на 3 марта первыми вышли на улицы спящего города те, кто уже испытал на себе все ужасы империалистической войны. Это были солдаты команды выздоравливающих, насчитывавшей в то время около 800 человек. Первый штурмовой отряд под руководством солдата Карманова и писаря воинского начальника старшего унтер-офицера Кокурина двинулся прямо к дому губернатора, чтобы сразу же арестовать царского наместника. По пути к отряду присоединилось дежурное по гарнизону подразделение из 668-й дружины.
Как рассказывает непосредственный участник этих [13] событий Дмитрий Карманов, у дома губернатора никакой охраны не было, но неожиданно для всех у освещенной входной двери особняка, как часовой, возник полицмейстер, который здесь же и был арестован, а вслед за ним, уже в самом доме, - и губернатор. При аресте губернатор не оказал никакого сопротивления, только удивленно промолвил: «Ведь я присоединился к новому правительству!»
Стояла еще глубокая ночь, а революционные события происходили в мартовском Владимире прямо-таки с калейдоскопической скоростью. Вслед за арестами губернатора и полицмейстера Иванова подверглись разоружению и разгрому ближайшие полицейские участки, были заняты городская управа, почта и банк. Солдаты команды выздоравливающих и 668-й дружины действовали уже объединение. Количество восставших к рассвету достигало почти 1000 человек.
Однако нельзя еще было сказать, что с царским режимом во Владимире уже покончено. Оставалось неизвестным, каковы политические настроения основных сил гарнизона, 82-го и 215-го запасных полков, вместе с которыми общая численность военного контингента города к этому времени доходила, по свидетельству Карманова, до 20-25 тысяч человек. Кроме того, командующий гарнизоном генерал Гамбурцев, несмотря на февральские события в Петрограде, еще твердо стоял на верноподданических позициях и в соответствии с секретным предписанием именно 3 марта готовился направить значительные силы Владимирского гарнизона для участия в подавлении восстания в Москве. Он также отдал приказ об отмене всяких увольнений солдат в город и переводе всего офицерского состава на безотлучное казарменное положение; по его распоряжению в город должны были быть посланы усиленные команды и отдельные подразделения для освобождения губернатора, охраны полицейских участков и захвата главнейших, ключевых объектов. В частности, для выполнения последней задачи предназначалась в полном составе учебная команда 82-го запасного полка во главе с полковником Штинским.
И вот на рассвете 3 марта, когда все эти предписания генерала Гамбурцева начали было приводиться в действие, навстречу всем его специальным отрядам, по пути к казармам, уже двигалась возглавляемая перешедшим на сторону революции прапорщиком Каном колонна [14] восставших солдат. И вопреки расчетам командующего гарнизона, при встречах с ней - после коротких, но откровенных диалогов - солдаты тотчас разоружали своих офицеров и сами пристраивались к колонне восставших. Обращение с простыми и доходчивыми словами: «Товарищи, мы против царя и против войны. Присоединяйтесь к нам!…» - действовало безотказно. Колонна восставших, разраставшаяся за счет присоединяющихся к ней солдат и горожан, продолжала свой путь под оркестровые звуки «Марсельезы» и приходившей ей на смену революционной песни «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног…».
Кто первый запел эту популярную песню революции, нельзя сказать точно, но при подходе к казармам ее уже знали и пели почти все. Пел во весь голос эту песню я я, бывший солист архиерейского хора, лихо вышагивающий вместе с другими мальчишками впереди колонны, совсем рядышком с бравым прапорщиком Каном.
Однако, пожалуй, самым запоминающимся моментом всех этих утренних событий была встреча у Золотых ворот с внушительным отрядом подполковника Штинского, высланным генералом Гамбурцевым в город, как уже было сказано, для наведения «порядка». Для меня эта встреча оказалась памятной еще и потому, что здесь я впервые наравне со взрослыми активно участвовал в ниспровержении надменного царского вояки.
Бравый, гордый, уверенный в себе, подполковник ехал верхом на коне во главе отряда. При встрече с колонной восставших он приказал прапорщику Кану образумиться - повернуть бунтовщиков обратно и развести людей по своим местам. Прапорщик, ничуть не смутившись, сам предложил подполковнику самому вернуться в полк и не подвергать себя опасности быть кем-либо оскорбленным, заявив при этом, что царский режим свергнут и что какое-либо сопротивление уже бесполезно. Произошел довольно резкий, выразительный диалог младшего по чину со старшим. И тут кто-то из разъяренных солдат крикнул: «Кончайте с ним, братцы! Хватит, попили нашей кровушки!»
И тотчас после этих магических слов все, кто стоял рядом с прапорщиком, набросились на подполковника. Солдатская же лавина головной части колонны с возгласами: «Братцы, присоединяйтесь к революции!» - подалась к солдатам команды Штинского и начала агитировать их присоединиться к восставшим и идти вместе [15] за солдатами в казармы. Те, кто напал на подполковника, моментально свалили его с коня, разоружили, сорвали погоны, и, если б не вмешательство прапорщика, неизвестно, что произошло бы дальше. Самое же главное в этой схватке для меня было то, что разбушевавшегося подполковника с коня стаскивал и я вместе с другими. По-мальчишески цепко, помню, схватил его за левую ногу и разжал пальцы только тогда, когда подполковник уже валялся у ног лошади. В этой своей первой «боевой» операции я был даже ранен, рассадив руку о подполковничью шпору. Кстати, не пройдет и часа, как я стану участником точно такого же «ниспровержения» с лошади реакционно настроенного командира 215-го полка полковника Евсеева, которого мы разоружили в расположении его собственного полка.
Таким образом, промаршировав через весь город, колонна восставших подошла наконец к расположению 82-го полка. Как и следовало ожидать, генерал Гамбурцев, находившийся здесь еще с ночи, ожидал появления нашей колонны и принял соответствующие меры, чтобы в загородной обстановке прицельным огнем расправиться с восставшими. Для того чтобы отвлечь внимание солдат 82-го запасного полка от событий в городе, он приказал вывести их, как обычно, с утра на плац и поротно заниматься строевой подготовкой, включавшей такие элементы, как маршировка, повороты, бег, перебежки и т. д.
Но это была только маскировка. Часть наиболее надежных, по мнению командования, солдат еще с ночи в полной боевой готовности находилась в цепи, нацеленной на город, на перехват ожидавшихся оттуда восставших. Однако все произошло не так, как планировали генерал Гамбурцев и командир 82-го полка полковник Тарасов. Предводитель восставших прапорщик Кан перехитрил старых царских вояк. Основные силы восставших подошли незамеченными и появились на территории полка внезапно с противоположной стороны. И пока шла словесная перепалка прапорщика с выбежавшим ему навстречу полковником Тарасовым, восставшие с криками «Ура!», «Долой войну!», «Арестовать полковника!» бросились на плац и, перемешавшись с солдатами полка, образовали единую ликующую толпу.
Люди обнимались и целовались друг с другом, обменивались шапками и винтовками - на память. Лично я в этой сумятице ликования оказался среди группы бросившихся [16] к крайней казарме. Там все окна верхних этажей были сплошь заполнены солдатами, машущими руками и что-то выкрикивающими. Это оказалось одно из подразделений полка, которое, как особо неблагонадежное, с ночи заперли наверху и не вывели на плац. У входа в казарму какой-то уже не молодой, вырвавшийся из плена солдат подхватил меня и, сделав со мной несколько припрыгивающих шагов, осторожно опустил на землю.
- На, парень, возьми и береги. Пригодится! - Он протянул мне свою винтовку и стремглав бросился в сторону толпы.
82- й запасный полк Владимирского гарнизона в составе, включающем немалое количество и младших офицеров, перешел на сторону революции. Командир полка полковник Тарасов на время где-то затаился, потом еще раз появился, чтобы как-нибудь восстановить желаемый порядок, но, услышав в ответ уже знакомое: «Арестовать его!», окончательно исчез из гарнизона. Как потом выяснилось, они вместе с генералом Гамбурцевым и, кажется, на его же санях перебрались в соседний 215-й запасный полк, который, по расчетам начальника гарнизона, был более благонадежным и, казалось, еще мог служить хорошей опорой царским наместникам.
Огромную колонну революционно настроенных солдат, двинувшуюся из расположения 82-го полка в соседний 215-й, генерал Гамбурцев встретил во всеоружии, он решился бы пойти на любой шаг, чтобы не только преградить путь восставшим, но даже и расправиться с ними. Приведенный в полную боевую готовность, полк был построен на вместительном плацу поротно и фронтом на дорогу, по которой приближалась наступающая революционная колонна. Более того, навстречу ей на дорогу в качестве заслона была выдвинута целая рота солдат с винтовками на изготовку. О решимости пойти на самые крайние меры по пресечению неповиновения солдат указывало и то, что впереди роты верхом на коне находился командир полка полковник Евсеев, а несколько сзади, на небольшом удалении, в легких санях восседал генерал Гамбурцев.
Когда до ощетинившегося винтовками заслона оставалось несколько десятков шагов, полковник Евсеев поднял вверх руку с плетью и закричал:
- Разойдись, мерзавцы! Стрелять буду!
Все остановились. Наступила леденящая тишина. Но [17] продолжалась она считанные секунды. Несколько человек, невзирая на предупреждение, бросились по дороге к стоявшей шеренге солдат с испытанными призывами:
- Братья! Не стреляйте! - но тут же остановились перед бесстрастными, холодными штыками.
Но вот, оправившись от такой неожиданной встречи, головная часть колонны, несмотря на продолжающиеся неистовые крики Евсеева: «Разойдись! Стрелять буду!» - начала медленно продвигаться вперед, охватывая солдат заслона с флангов.
До предела разъяренный Евсеев подал команду:
- По колонне пальба ротой! Рота, пли!
Но дважды поданная команда командира полка повисла в воздухе. Солдаты заслона стрелять отказались. Это была уже почти победа.
Передние ряды колонны отчетливо слышали, как полковник Евсеев, отскочивший за своих солдат, громко отрапортовал генералу Гамбурцеву:
- Ваше превосходительство, измена!…
К полудню 3 марта с царским режимом во Владимире было покончено. Весь гарнизон - около двадцати тысяч человек - перешел на сторону революции. Огромная масса солдат с офицерами стройными рядами под звуки военного оркестра двинулась в город, чтобы продемонстрировать свою верность революции и народу. Улицы города к этому времени были до отказа заполнены людьми.
На соборной площади состоялся грандиозный митинг. Здесь же городской голова и образованный городской думой временный исполнительный комитет приняли на себя власть. На митинге выступали представители партий кадетов, эсеров и меньшевиков, которые дружно присягнули на верность Временному правительству. Все шло, казалось, гладко. Но вот к концу митинга на трибуну один за другим поднялись представители вышедшей из подполья партии большевиков - солдаты Иван Токарев и Сергей Комиссаров. Оба они под гром аплодисментов солдатской массы открыто, простым и доходчивым языком, без всяких обиняков заявили, что борьба не окончена, что революция, которая нужна рабочим и крестьянам, только начинается. Вопросы войны и мира, передачи земли крестьянам, а фабрик и заводов рабочим не могут быть решены людьми, принявшими на себя власть после царя. Кровные интересы народа, говорили большевики, может защитить только его собственная, [18] трудового народа, власть, и поэтому нужно немедленно создавать Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов…
Эти выступления пришлись, конечно, не по вкусу новым городским властям, и митинг они поспешили свернуть. В старинном Дмитровском соборе начинался благодарственный молебен: владимирское духовенство провозгласило многие лета Временному буржуазно-демократическому правительству.
* * *
Самые первые - бурные - дни Февральской революции остались позади. Однако выведенная из равновесия жизнь в тихом уездном городке не вошла в свое привычное русло, как того хотели теперешние правители Владимира. И обусловливалось это прежде всего тем, что в нерабочем, по сути, городе оказалась довольно сильная большевистская организация, под влиянием которой находилась внушительная солдатская масса всего Владимирского гарнизона. Некогда спокойные и тихие улицы даже в дневные часы стали шумными и людными. Создавалось впечатление, что жители вдруг перестали работать, учащиеся - учиться. Кстати, в нашем училище так и произошло: более недели у нас не было занятий, так как для этого не собиралось необходимого количества учеников. Когда же занятия возобновились, то это было, скорее, просто отсиживание уроков в мечтах об окончании учебного года. Какая уж там учеба, когда у каждого голова до отказа была забита мыслями о революции и происходящих в жизни переменах!
А перемены эти были действительно захватывающими и впечатляющими! И сейчас остается только пожалеть, что они все-таки недостаточно освещены и проанализированы в нашей художественной и исторической литературе. Подумать только, в России было покончено с реакционнейшим монархическим строем! Свершилась буржуазно-демократическая революция, и массы трудового народа были приведены в невиданное движение, которому через каких-нибудь восемь месяцев суждено было стать открытием новой эры в истории человечества.
VI съезд нашей партии, состоявшийся в конце июля - начале августа семнадцатого года, окончательно взял курс на вооруженное восстание. Как и по всей стране, во Владимире и губернии приступили к срочному формированию отрядов Красной гвардии. В связи [19] с этим остро встал вопрос об оружии и боеприпасах. По призыву партии мне, как и другим моим товарищам по февральским событиям, пришлось вытащить из своего тайника трехлинеечку и добровольно сдать ее в отличном боевом состоянии вместе с двумя обоймами патронов в губком партии.
До слез жаль было расставаться с винтовкой, которую вручил мне в первые же часы Февральской революции во Владимире солдат 82-го запасного полка. На всю жизнь запомнились его слова: «На, парень, возьми и береги. Пригодится…» Однако что поделаешь. Большевикам, успевшим стать для меня самыми авторитетными на свете людьми, она была тогда нужнее.
В губкоме не без удивления принял от меня винтовку молодой солдат:
- Это чья же такая?
- Моя, - отвечаю.
- Откуда взял-то?
Я коротко рассказал ее историю.
- Значит, наша. Вот это здорово!
От своих уходить не хотелось. Я понял, что солдат, работавший в губкоме, имел прямое отношение к тому же, что и моя винтовка - 82-му запасному полку.
Но вот служивый придирчиво осмотрел винтовку, проверил работу всех ее частей, спустил курок и, не глядя на меня, тихо проговорил:
- Молодец. Все в порядке. Бывает же так!
Потом, поставив винтовку в угол комнаты, он взял две мои обоймы и начал пересчитывать патроны. Их оказалось девять.
- А где же десятый? Пальнул в кого-нибудь или по галкам пустил?
Я виновато ответил, что один оставил себе - на память, патрон был у меня в кармане.
- Ну один-то можно и оставить, - улыбаясь проговорил солдат. - Правда, сейчас каждый на счету. - Потом он подошел ко мне и обнял за плечи: - Спасибо, парнишка. Если есть еще у кого - пусть обязательно сдадут. Да поскорее. Они нам сейчас до зарезу нужны…
Никаких расписок за оружие тогда не давали, накладных не выписывали. Вошел я в губком почти что со слезой, а вышел оттуда радостным и окрыленным: ведь теперь мое боевое оружие принадлежало партии большевиков! [20]
В день, когда во Владимир пришла Советская власть, к нам домой, на Пятницкую, забежал приехавший из Москвы старинный приятель отца, знакомый еще по совместной службе в 10-м гренадерском Малороссийском полку, и занес от него долгожданное письмо. Матери и меня дома не было. Передав письмо старшей сестренке, он пообещал зайти к нам еще разок, чтобы рассказать об отце и всех московских делах поподробнее. Однако мы его так и не дождались - очевидно, уехал.
В одном из предыдущих писем отец писал, что, будучи раненным на фронте, он был эвакуирован в Москву и лежал там в госпитале, что по выздоровлении его наверняка отпустят домой или на побывку, а может быть, и совсем, так как кругом говорят, что к власти вот-вот придут большевики, которые требуют немедленного заключения мира.
А в письме, доставленном нам его другом, отец сообщал, что он уже не в госпитале, а в рядах Красной гвардии - капельмейстером и находится в отряде, который разместился в Петровском парке, в вилле Рябушинского «Черный лебедь», совсем рядом со Скалкинским переулком. Там наша семья жила до одиннадцатого года. Судя по тону письма, отец был всем доволен, особенно командиром, который оказался большим любителем музыки и создавал условия для сколачивания хорошего оркестра. В конце отец писал, что очень скучает по семье, и просил, чтобы мать приехала к нему. Едва я прочитал эти строки, сразу же созрело решение: ехать в Москву! Мать, привыкшая к моей ранней самостоятельности, не возражала. Ей очень хотелось узнать об отце все.
…Вагон ночного Нижнегородского поезда переполнен. Среди пассажиров много солдат. На нижних полках по четыре человека, на вторых - валетом или в обнимку, как правило, по два; на третьих, багажных, - счастливчики одиночки. Я устроился ниже всех, на краешке дорожной корзинки, которая высовывалась из-под нижней лавки прямо в проход вагона, да так, что в дневное время явно бы мешала ходьбе пассажиров. Владелец корзины, пожилой горожанин, сам предложивший мне это место, только предупредил:
- Сиди осторожно, не продави крышку, она не чугунная.
Так, сидя на корзинке, я незаметно и уснул.
Утром 11 ноября - уже Москва. Разыскал я виллу [21] «Черный лебедь», бывшую фешенебельную загородную дачу известного капиталиста Рябушинского.
Парадная дверь двухэтажной виллы, обращенная к лесному массиву Петровского парка, была закрыта. У ворот по соседству стоял часовой в черной ватной тужурке, вкривь подпоясанный солдатским ремнем, и в гражданском картузе. Только винтовка, небрежно приставленная к ноге, да место, занимаемое им у ворот, могли подсказать его служебное положение. Увидев его, я еще подумал: вот так солдат, даже не в военной форме! Но, подойдя к часовому, вежливо обратился:
- Нельзя ли, пожалуйста, вызвать музыканта Александра Васильевича Соколова?
- Какого это Александра Васильевича, капельмейстера, что ли? А ты кто ему будешь?
- Я его сын. Только из дома приехал, из Владимира.
- Ну раз из дома, тогда можно. Подождь немножко.
Часовой приоткрыл одну половину ворот и, увидев какого-то солдата, шедшего с ведром воды к заднему входу виллы, закричал:
- Эй, браток!… Браток, ты покликай там наверх капельмейстера Соколова, пусть выйдет. Здеся ево сын - Соколенок приехал…
Так появилась моя кличка - Соколенок, - которая потом, неизвестно кем перенесенная на фронты гражданской войны, была официально приплюсована к фамилии Соколов и сделала ее двойной.
Выйдя к воротам и увидев меня, отец даже опешил. Мы ведь не виделись около двух лет, и моего визита он никак не ожидал. В глазах отца были и радость, и едва скрываемое волнение, и удивление, и гордость за сына. Сам он выглядел уставшим, постаревшим. Попросив часового пропустить, отец буквально втащил меня во двор и, сделав всего несколько шагов, начал засыпать вопросами: как сюда попал? когда и зачем приехал? как это мать решилась в такое время меня отпустить? как дела дома?…
Затем отец представил меня командиру отряда. По всему было видно, что тот искренне уважал отца - звал его только по имени и отчеству. Это тогда было редкостью. Как и мой отец, он уже отбарабанил два с половиной года на русско-германском фронте, был дважды ранен и дослужился до старшего унтер-офицера. Отец рассказывал, что их командир отряда полный георгиевский [22] кавалер, но о своих солдатских доблестях никогда и никому не говорит.
Дальше все произошло так неожиданно, как я про себя мог только мечтать и как отцу наверняка и не снилось.
- Ну, Александр Васильевич, - начал командир отряда, - как вы думаете, зачем он к вам пожаловал? Думаете посмотреть, как отцу живется, а? Ничего подобного! Я этих архаровцев знаю. Взгляните на него, глаза-то все и выдают. Он в Красную гвардию хочет - вот и приехал на разведку. Вы же сами рассказывали, что он даже губернатора помогал в тюрьму запрятывать. Правильно я говорю, маленький Соколов?…
Я хотя и был прямо-таки ошеломлен таким оборотом дела, но не растерялся:
- Мне уже не шестнадцать, а целых семнадцать исполняется через несколько дней, шестого ноября. Я и винтовку хорошо знаю.
- Ну что ж, Александр Васильевич, значит оставляем, - последовало в ответ. - Парень-то больно хороший. С нами не пропадет…
* * *
Вот так я стал красногвардейцем.
Конечно, отец намеревался закрепить меня за своим оркестром в качестве его воспитанника и даже договорился с первым кларнетистом, чтобы тот взял надо мной шефство. Слух у меня был отличный, ноты я читал свободно, и, нужно думать, этот отцовский инструмент, при большом желании, покорился бы и мне. Однако я отказался категорически и предпочел общую красногвардейскую службу.
Отряд наш был невелик, всего несколько десятков человек. Примерно половину составляли солдаты бывшей царской армии, большинство которых уже понюхали пороха на русско-германском фронте. Попали они в отряд прямо из госпиталей или из команд выздоравливающих. Некоторые солдаты были еще не обстрелянные, недавно призванные в армию, и проходить службу им приходилось в запасных полках и маршевых ротах, готовившихся к отправке на фронт. Половину отряда сформировали рабочие московских предприятий. Это были люди разных возрастов, но в основном пожилые, сильные, решительные, во всем запевалы. В отличие от других красногвардейских отрядов, как я выяснил впоследствии, явной [23] молодежи в нашем отряде было мало. Семнадцатилетний Петр Васильев - подмастерье-литейщик с какого-то металлургического завода - да тех же лет Васюта - помощник по труду какого-то ломового извозчика. Оба, правда, рослые, здоровые ребята и мало чем отличались от взрослых красногвардейцев.
Моему отцу, как и подавляющему большинству активных участников Октябрьской революции, перенесших окопные тяготы первой мировой войны и переживших бурные месяцы правления Керенского, казалось, что они свое дело для революции уже сделали и теперь со спокойной совестью могут возвращаться к семьям. Да и письма от родных и друзей, успевших вернуться с фронтов, настоятельно звали задержавшихся в армии домой. Они должны были успеть к разделу отобранных у помещиков земель, а главное - помочь преодолевать охватившую страну хозяйственную разруху. Довольно весомым аргументом именно такого решения стало подписание Советским правительством Брест-Литовского мирного договора. Через Москву шли поезда, до отказа заполненные возвращающимися с фронтов солдатами.
Словом, в конце марта восемнадцатого года - прошло всего пять месяцев моей службы в отряде - я и отец тоже вернулись в родной город. Однако с красногвардейской гимнастеркой расстаться мне было уже не суждено.
* * *
Весной девятнадцатого года огромная, трехсоттысячная армия Колчака предприняла генеральное наступление с востока, намереваясь выйти на Волгу и, соединившись с добровольческой армией Деникина, обрушить мощный удар на Москву.
Партийные мобилизации на Восточный фронт следовали в это время одна за другой. Особенно значительная мобилизация была проведена в первой половине мая, тогда на фронт владимирцы отправили свыше 6000 коммунистов и комсомольцев, которые в борьбе с колчаковцами проявили себя как стойкие солдаты революции.
Еще до этого, в конце восемнадцатого года, на подавление мятежа чехословацкого корпуса владимирцы сформировали и отправили на фронт Первый добровольческий полк, состоявший из большевиков, красногвардейцев а комсомольцев, и этот полк в составе 26-й стрелковой дивизии и 5-й армии (227-й полк) героически сражался на Восточном фронте, участвуя в освобождении городов [24] Свияжска, Казани, Бугульмы и Уфы. Вслед за партийной мобилизацией, во второй половине мая 1919 года, Центральный Комитет РКСМ объявил свою первую Всероссийскую мобилизацию комсомольцев на Восточный фронт, давшую этому фронту внушительное по тому времени количество - 3000 - молодых воинов-защитников революции. Тогда наступил наконец-то и мой долгожданный черед.
…Запомнился тот майский день. Нас, владимирских комсомольцев, созвали на внеочередное общегородское собрание. Оно состоялось, как обычно, в комнатухе уездкома комсомола, размещавшегося там же, где и горком партии, в здании бывшего губернского дворянского собрания. Комсомольцев в городе тогда было немного - всего 47 человек, шестеро из которых - девушки. Обычно возбужденные, шумные, ребята в тот раз выглядели озабоченными, как-то сразу повзрослевшими. Все уже знали, что на повестке дня один вопрос - о мобилизации на фронт.
В торжественной тишине секретарь уездкома Николай Платонов зачитал телеграмму ЦК комсомола, в которой предлагалось провести мобилизацию комсомольцев в распоряжение Реввоенсовета Южного фронта для отправки их на Северный Дон. В телеграмме указывалось, что мобилизации подлежат в первую очередь те комсомольцы, которые сами изъявят желание поехать добровольцами для укрепления создаваемых там органов Советской власти и замены засевших в них контрреволюционеров.
Председатель уездкома Вася Свережев после зачтения телеграммы из ЦК комсомола предлагает всем желающим тут же записаться в списки добровольцев.
- Кто хочет? Прошу поднять руки.
И вот здесь уже с привычным мальчишеским шумом, словно вперегонки друг с другом, все сорок с лишним комсомольцев, включая и наших девушек, и самих членов бюро уездкома, бросились к Василию: «Пиши!…» Кажется, даже само здание бывшего дворянского собрания дрогнуло от нашего восторженного порыва.
Собрание окончено, но еще долго не расходились мы тогда, обсуждая вопрос об отправке на фронт. А на следующий день в объявленном списке восемнадцати мобилизованных комсомольцев я нашел и свою фамилию. Комсомол мне вручил путевку в армию - на всю жизнь… [25]
Сбор отъезжающих был назначен на 10 часов утра у здания горкома партии и комитета комсомола (ныне гарнизонный Дом офицеров). Почти все собрались на полчаса-час раньше. У каждого маленький чемоданчик или солдатский вещевой мешок, самодельная легкая сумка, а то и просто скромный узелок. А у меня огромная дорожная корзинка - хоть домой обратно беги!
Отбывающих на фронт восемнадцать человек, а провожать пришли чуть ли не всем городом. Здесь были и представители горкома партии, и родные, и знакомые ребята и девушки, и просто любопытные, и, конечно, туча мальчишек. Я не хотел, чтобы меня провожали родители, но в последние минуты пожалел о своем запрете. Не рискуя сердить меня, своего старшего брата, и поэтому скрываясь за спинами людей, промаячили все три мои любимые сестренки - Катюшка, Леля и Лизутка. Все-таки пришли…
Одиннадцать часов. Грянул оркестр. Под звуки походного марша колонна владимирских комсомольцев с огромной толпой провожающих двинулась на вокзал.
Короткий митинг. Напутственное слово произносит представитель горкома партии, затем выступает взъерошенный поэт Саша Безыменский. Он говорит от имени всей владимирской комсомолии и заканчивает свою речь экспромтом сочиненным им бодрым четверостишием.
Гудок паровоза извещает о конце проводов. Оркестр играет «Варшавянку». Последние, на ходу, короткие рукопожатия, объятия, поцелуи. Отъезжающие вскакивают в вагонные тамбуры, а меня как малорослого ребята подтягивают на руках прямо в окно вагона. Поезд трогается и без заметного ускорения торжественно плывет мимо перрона, давая нам возможность получше запечатлеть родные лица.
Вот и конец фасада вокзала. И вдруг за его углом, словно прячась от кого-то, - моя мать! Вытирая слезы, она силится улыбаться, приветливо кивает. Она счастлива, что я ее увидел…
Сколько лет минуло с той поры! Но на всю жизнь запомнилось мне родное материнское лицо в минуту прощания. Как все-таки мы бываем жестоки в молодости, ложно стесняясь публичного выражения любви своих матерей. А зря! Я помню, как яростно махал ей рукой и не спускал с нее глаз, пока она не скрылась совсем. Картина провожающей матери всю жизнь стоит передо мной как живая. [26]
Скрылся последний, видимый издалека форпост удаляющегося Владимира - величаво царствующий над всей округой древний Успенский собор. Прощай, родной вишневый город!
Одним еще посчастливится вернутся сюда, другие оставляют тебя навсегда - они отдадут свои жизни за дело революции.
Итак, курс на Москву и далее - в штаб Южного фронта, который находился в Козлове (ныне Мичуринск). [27]
На земле донской
Когда возвращаешься издалека в родные места, дорога кажется удивительно длинной, и, наоборот, когда, казалось бы, и торопиться некуда, время летит так быстро, что не успеешь ахнуть, как, пожалуйста, вылезай, приехали…
Меньше суток (при нашей-то железнодорожной разрухе в 1919-м) потребовалось, чтобы мы, владимирские комсомольцы, добрались из Москвы в Козлов и оказались в штабе Южного фронта. Такой скорости прибытия к месту назначения помогло в основном то, что наши теплушки были прицеплены к товарному поезду с военными грузами, которому была открыта «зеленая улица».
Первое, что бросалось в глаза в Козлове и произвело на нас несколько удручающее впечатление, - это множество эшелонов с беженцами. Простые люди покидали свои насиженные места и, теряя по дороге все, что имели, до последнего, без оглядки бежали на север, чтобы найти защиту у Советской власти от озверелой белогвардейщины.
Не дожидаясь, пока наши вагоны перегонят на запасный путь, мы двинулись в штаб фронта. Немного опередив нас, туда пришли и уже ждали пропуска в политотдел еще ночью прибывшие комсомольцы Саратова.
Пропустили нас в политотдел фронта довольно легко и без каких-либо формальных проволочек. Беседа проходила в большой комнате, приспособленной под кабинет. Принимал нас товарищ Потемкин Владимир Петрович, будущий народный комиссар просвещения РСФСР и президент академии педагогических наук. Выглядел он довольно усталым и чем-то озабоченным, однако это не помешало ему встретить нас по-отечески радушно, тепло и безо всякого начальственного назидания. Дата прибытия и количество посланцев комсомола здесь были хорошо известны, и нас уже ждали. Как выяснилось в ходе беседы, были сделаны даже предварительные наметки [28] распределения нас группами по местам назначения. Так что разговор сразу принял не только ознакомительный, но и инструктивный характер.
Перейдя к деловой части встречи, товарищ Потемкин спросил, представляем ли мы себе, для каких целей мобилизованы и поступаем в распоряжение Реввоенсовета Южного фронта, и отдаем ли мы отчет в важности для Советского государства стоящих перед нами задач.
Не помню, кто именно из наших ребят отвечал, но, когда сказал, что главное-то мы знаем, но «хотели бы спросить…», Потемкин его прервал и разразился длинной убедительной речью:
- Знаю, знаю… Наверное, прямо на фронт проситься хотите? Если так, то скажу сразу, из этого ничего не выйдет. Ох уж эти комсомольцы! Все просятся на фронт. Вам, наверное, так представляется: раз не фронт, значит, и не особенно важно. Это совсем неверно. В данный момент, когда наши войска заняли территорию Северного Дона, установить и укрепить там Советскую власть - задача не менее важная и почетная, чем просто бить врага из винтовок на фронте.
Казачество переживает сейчас исключительно тяжелое время резкого классового расслоения и междоусобиц. Большое количество обманутых казаков еще на стороне белых. Надо установить и укрепить Советскую власть так, чтобы все жители этой территории почувствовали, что эта их родная власть и приходит она сюда на вечные времена. И если даже пришлось бы временно оставить тот или иной район - война есть война, - население его, испытав на себе нашу власть, с нетерпением ждало бы ее возвращения, активно помогая нам уничтожать ненавистного врага.
И враги должны тоже почувствовать, что временными являются именно они и что будут обязательно изгнаны. Это их внутренне деморализует, они будут терять уверенность в возможности реставрации старых порядков, у них будет неизбежно расти сознание своей обреченности…
Вас, комсомольцев, - продолжал Потемкин, - тянет туда, где поопаснее, где побольше романтики. И это похвально. Так вот, дорогие товарищи, чтобы вы знали: на Дону сейчас и этого для вас хватит, хоть отбавляй, да еще может быть и побольше, чем на фронте. На фронте враг открытый, его видно, с ним и бороться удобнее; здесь же он скрытый, незаметный, и поэтому пострашнее. [29]
Мы поступили в распоряжение отдела Гражданского управления РВС Южного фронта, который и распределил нас по различным районам прифронтовой полосы. Я вместе с группой товарищей - владимирцев - поступал в распоряжение Усть-Медведицкого окружного ревкома Донской области, который в это время находился в слободе Михайловка (станция Себряково).
Отправить нас туда намечалось поздней ночью. А пока всей ватагой мы двинулись осваивать местный пристанционный и, нужно сказать, по-своему очень привлекательный общественный сад. Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что на эстраде сада и в этот вечер дает концерт Федор Иванович Шаляпин! Народу по этому случаю было сверх меры… Так, по пути на фронт, на станции городка Козлова нежданно-негаданно мы впервые увидели и услышали знаменитого русского певца. Как попал сюда в такое тревожное время Шаляпин, мы, конечно, знать не могли.
Спел он тогда предельно мало. Биссировать Федор Иванович явно не хотел, по-видимому заранее оговорив точное количество исполняемых вещей, а может быть, и потому, что берег голос, выступая на открытой сцене. Особенно сильное впечатление произвели на меня ария мельника из оперы Даргомыжского «Русалка», «Песня о блохе» Мусоргского и народные песни «Ноченька», «Вдоль по Питерской». Я имел не очень далекое от профессионализма отношение к вокальному искусству и буквально был поражен исполнительским мастерством певца, силой и красотой тембра его голоса. Невольные сравнения с известными мне замечательными басами - солистами хора Ставровского, в котором когда-то я пел сам, - явно сюда не подходили, величины были несравнимые…
Уставшие от всех треволнений дня, спали мы в эту ночь по-молодецки как убитые. Даже не слышали, как, прицепленные к какому-то проходящему поезду, двинулись дальше. Наш вагон должен был доставить нас на станцию Себряково, остальные следовали в Урюпинск и Новохоперск. И было страшно обидно, что в Поворино, когда мы крепко спали, наши вагоны рассортировали по разным составам и мы не смогли на прощание пожать своим друзьям руки. А ведь многих из них увидеть было уже не суждено.
Вскоре после Поворино мы пересекли наконец и границу «области войска Донского». Любопытным нашим [30] глазам все здесь казалось не таким, как у нас в центральной части России. Поражало раздолье донских степей и южная непривычность придорожных хуторов с белоснежными хатами и богатыми садами. Особое впечатление производили гордо вздымающиеся ввысь, диковинные для нас, северян, пирамидальные тополя.
На ходу из вагона и на станциях внимательно всматривались мы в лица стариков, женщин. Бросалось в глаза, что совсем не было видно казаков - ни молодых, ни среднего возраста… Со всем этим народом уже завтра нам придется работать, жить под одной крышей и делить поровну все заботы и тяготы сурового военного времени в условиях непосредственной близости к фронту.
Вот наконец и долгожданная станция Себряково, и здесь же слобода Михайловка, где мы должны поступить в распоряжение окружного ревкома. Поезд медленно подошел к перрону, мы высыпали из вагона и тотчас плотно сгруппировались, чтобы стать заметнее для встречающих. Но их не оказалось. Ничуть этим не смутившись, через несколько минут мы уже гурьбой шествовали в ревком.
О том, что группа молодцев-владимирцев следует из Козлова, в ревкоме знали, но точной даты прибытия, конечно, известно не было. Да и попробуй назови эту дату, когда вагон следует «на перекладных», прицепленный то к одному, то к другому попутному поезду, идущему к тому же по никому неизвестному расписанию.
* * *
У ревкома стояло десятка полтора подвод и арб. У входа и в коридоре толпились или сидели вдоль стен на корточках какие-то люди, преимущественно старики и пожилые женщины, одетые с расчетом на долгую дорогу. Как оказалось, это были дежурные подводчики, присланные сюда из станиц и хуторов для выполнения гужевых повинностей и, в частности, для передачи на месте указаний и распоряжений окружкома, а также и для доставки командированных. То, что мог бы мгновенно сделать обычный телефон, передавалось возницами конных подвод, а то и просто арб, запряженных парой волов. Как мы поняли, для особо срочных нужд предназначались стоящие на привязи два расседланных красавца дончака. Проскакать на таком было мечтой каждого из нас.
Ждать приема долго не пришлось. Увидев еще из окна [31] нашу братию, шествующую с вещами со станции, сам председатель ревкома вышел из кабинета в коридор и, узнав, кто мы такие, пригласил всех нас к себе со словами:
- Ну вот и познакомимся. Я и есть председатель ревкома. Проходите ко мне, там все порешим.
Предревкома считал своим долгом особо подчеркнуть и предупредить нас, что приехали мы не на готовенькое насиженное место, где все уже налажено и дела идут хорошо и гладко. В ряде станиц и хуторов, совсем недавно освобожденных от деникинцев, население, по существу, встречает настоящую Советскую власть впервые. Жителей там мало и те преимущественно старики, женщины и дети. В своих настроениях и симпатиях люди эти самые разные: одни - явно за Советскую власть, другие - еще колеблются, боясь возвращения белых, и, наконец, третьи настроены к нам враждебно. И таких, к сожалению, немало.
Не меньшие трудности в работе местных ревкомов и партийных организаций, заставлявшие всех советских и партийных работников быть постоянно начеку и в полной боевой готовности, создавали белогвардейские отряды и разрозненные белобандиты из местных же казаков, которые еще в большом количестве рыскали по всей территории округа. С этой стороны можно было ожидать в любую минуту как прямых вооруженных нападений, так и отдельных диверсий и террористических актов против представителей Советской власти.
В заключение предревкома сказал:
- А впрочем, вы и сами грамотные. Небось комсомольцы, да еще какие! Из Москвы присланные! Приедете на места, присмотритесь и сами разберетесь, что к чему. Если будут какие трудности, председатели ревкомов помогут, они у нас стреляные воробьи. Подскажем и мы - отсюда. Обращайтесь безо всякого стеснения. Вот и все. Желаю вам доброго пути и, как говорят, ни пуха ни пера.
Наверное, потому, что мы были еще очень молоды и неопытны, а также и потому, что почти ничего не знали, да и смутно представляли характер предстоящей жизни и работы, все нам казалось в эти минуты ясным, понятным и простым. Поэтому никаких уточняющих служебных или житейских вопросов с нашей стороны не последовало. Спросили только, кому конкретно куда ехать, как будем добираться и когда. [32]
Присутствовавший здесь же секретарь ревкома зачитал станицы и хутора, куда требовалось послать одного-двух человек пополнения. Мы же в свою очередь назвали по порядку расположения в списке фамилии тех, кто в названные места поедет.
Я и мой земляк и друг Вася Царьков направлялись членами ревкома в глубинную станицу Малодельскую, находившуюся примерно в 60 верстах от Михайловки, вверх по течению реки Медведицы, на ее левом берегу. На удивление близко от Малодельской, также по реке - на расстоянии всего в 10 верст, - располагалась еще две станицы: Сергиевская и Березовская, а в 25 верстах - крупная слобода Даниловка. Весь этот район приречных станиц являлся пограничным с Саратовской губернией ныне все они входят в Волгоградскую область).
Наша, малодельская, подвода, да еще парная, к счастью, стояла у ревкома, и мы с Васькой решили ехать немедленно. И хотя прибыть на место мы должны были далеко за полночь, предревкома такое решение одобрил, так как подвода, по его расчетам, еще засветло доберется почти до хутора Сенного, а там рукой подать до станицы Сергиевской, а дальше и Малодельская. Он считал, что участок дороги, где придется ехать в темноте, в это время был совсем спокойным и безопасным.
Возчик наш, назвавшийся Трофимом, исконный малодельский казак, имел чуть ли не во всех близлежащих станицах и хуторах многочисленных близких и дальних родственников, жизнь каждого из которых была у него как на ладони. А уж о малодельцах-то он знал всю их подноготную. За длинную дорогу Трофимыч - так мы сразу начали его величать - рассказал нам многое и о самих станичниках, и о былом житье-бытье казаков, и о думах, которыми они в настоящее время жили. И за это ему большое комсомольское спасибо, это нам очень пригодилось и помогло.
Первое, что нас особенно интересовало и волновало, - это история недавних боев Красной Армии и партизанских отрядов с красновцами и деникинцами в этом районе. Здесь мы готовы были ловить буквально каждое слово. Однако именно об этом Трофимыч ничего существенного рассказать не мог. Он не был ни участником боевых дел, ни их свидетелем. Гражданская война главным острием своим не затронула Малодельскую. В те времена, когда еще не было сплошных фронтов, станица всегда оказывалась вне главных событий, так как стояла [33] далеко в стороне от железнодорожных линий и наезженных большаков. Случалось, что ближайшие железнодорожные станции - например, Себряково, Аргада или Раковка - уже были взяты той или иной стороной, а малодельцы, не подозревая об этом, посылали по мобилизации свои подводы - для уже отступившего противника. Из того, что Трофимыч все-таки рассказал, пожалуй, наиболее захватывающими эпизодами оказались те, которые относились к более богатому всякого рода приключениями восемнадцатому году. Тогда на Северном Дону действовали многочисленные, но разрозненные по своим действиям красные партизанские отряды - Киквидзе, Сиверса, Миронова и другие. Успевшие обрасти всяческими небылицами, эти рассказы казались просто фантастическими.
И нам было особенно приятно, и мы уже заранее даже гордились, услышав, что наша Малодельская и соседние с него станицы в основном были красные и что очень большое количество казаков из этого района стали бойцами отряда Миронова и в настоящий момент продолжают драться с белогвардейцами на Донце, в районе Белой Калитвы.
Уже зная о том, кто мы такие и зачем едем в станицу (об этом он успел-таки проведать в Михайловке), Трофимыч больше всего огорчался, что мы теперь не увидим той доброй старой Малодельской, какой она была раньше, до войны. По его словам, это был спокойный, утопающий в зелени райский уголок донской земли с щедрыми гостеприимными казаками и казачками.
- А что касаемо казачек, то боевее и краше наших малодельских, бывало, по всему округу не сыщешь. Сейчас девчат тоже маловато стало, но… - Здесь Трофимыч чуть запнулся, повернулся в нашу сторону, хитровато улыбнулся и продолжал: - Про вас, двоих-то, найдется… - Что-то старик хотел добавить, но неожиданно замолк и после небольшой паузы снова заговорил, но уже о другом: - Станица сегодня совсем не та. Война все вверх дном перевернула. Главное - людей стало мало. Работы полно, а работать некому. Было когда, к примеру, две сотни добрых казаков, теперь и пары десятков не наберешь. А те, что есть, - какие это казаки? Старые хрычи, вроде меня, да инвалиды. Раньше даже бабы дюже работали, а теперь и их осталось не более половины. Как угнали куда-то с подводами, так и не вернулись. Теперь даже не разберешь, где они. Не то у ваших, не то у белых. [34] А те, что дома, тоже работать не хотят. Говорят так: красные пришли - корми, белые пожаловали - тоже корми, а здесь еще и зеленые завелись; когда нет ни красных, ни белых, эти зеленые тут как тут, тоже норовят на кормежку в станицу наведаться. Разве на всех напасешься?
Трофимыч задумался, а потом заговорил снова да о жаром:
- А казаки-то были какие! Что дубы! Справные во всем. А ежели в седло сядет, просто залюбуешься. Одна грация. Любой фокус покажет. Моргнуть не успеешь, как шашкой любое полено одним взмахом разрубит. Ваши мужики так и топором не справятся. Эх, да что там говорить! Тех казаков не стало…
- Будут, - сказал Вася.
- Где там быть? Разве на войну напасешься?! Одна кончилась, свою новую заварили. Как-никак уже пятый годок воюем, скоро шестой пойдет. Многие с немцев не пришли. А кто пришел, теперь друг против друга пошли, да дерутся-то как - только чубы летят! Хуже чужих - насмерть, без всякой пощады. Хотя бы примирил их кто…
- Ленин-то за народ, за мир, за счастье людей борется, - перебил я старика, - только вот казаки-то еще не все за него. Разных Красновых и деникинцев слушают. Прикончили бы их - и все мирно да тихо бы стало.
- Это-то верно, - помолчав, сказал Трофимыч. - Только вот пугают казаков: говорят, заместо казаков иногородние верх возьмут. А если так, казак с Советской властью не пойдет.
- Пойдет, - возразил я. - Молодежь пойдет. Подрастет, разберется, что к чему, и пойдет. Иногородние здесь ни при чем. Перед Советской властью все равны.
Старый казак повернулся, прищурился, хитро посмотрел на нас и не без иронии заметил:
- Говорите: молодежь? Ждать долго придется. Пока что она всеми днями на палках гоняет; в одной руке палка заместо коня, в другой - вторая заместо шашки. Крапивник рубают… А что касаемо иногородних, то казаки и на равную с ними не пойдут.
Поняв, что не переубедить старика, мы перевели разговор на другую тему.
- А где малодельцев больше: у наших или у белых?
- У красных, пожалуй, поболе. Много с Мироновым пошло, а теперь всего больше в двадцать третьей дивизии, [35] что на Донце сейчас стоит. Там и баб наших много. Кто за мужьями добровольно поехал, а кто по мобилизации со своими подводами в обозах мается.
Как потом выяснилось, дислокация частей нашей армии довольно легко и точно вскрывалась через тех самых мобилизованных подводчиков, которые, выполнив свои обязанности, возвращались в станицы. Во всяком случае находясь уже непосредственно на работе в станице, мы очень часто именно таким путем узнавали примерное расположение многих полков и дивизий 9-й и 10-й армий Южного фронта и почти безошибочно направляли по назначению отставших или одиночно следовавших в свои части красноармейцев.
За время долгого путешествия немало рассказали старому Трофимычу и мы. Он очень подробно расспрашивал о Москве, которую ему не довелось увидеть, о жизни в наших родных местах, о Советской власти, о том, что будет с казаками, если окончательно победят Советы.
- А правда, что при коммунии всю землю, движимое и недвижимое имущество у казаков отберут и все будет в общем пользовании с иногородними? Сказывали еще, что иногородних-то будет и больше: говорили, что их пришлют на Дон с тех мест, где земли недостаток…
Крестьянское сочувствие его было на нашей стороне, однако, судя по вопросам, влияние белогвардейской пропаганды проскальзывало в каждом слове, в любом вопросе.
- Намедни сказывали, что какая-то ваша говорила, что при коммунии даже и жены будут общие, вроде как…
Путь до станицы оказался исключительно утомительным и по времени, и по однообразию открытой степной местности. Каждый раз, когда мы спрашивали Трофимыча, сколько еще осталось ехать, то неизменно слышали в ответ: «Верст десять с гаком…» Что же это за мера такая - бесконечный гак! Чем меньше как будто остается ехать, тем гак этот оказывается длиннее действительного расстояния.
Позади остались хутора Сидоры, Моховской, Большой. В каждом у Трофимыча были друзья, знакомые. Хоть минуточку, но с каждым таким встречным надо остановиться, погутарить. Вопрос у всех один: «Что нового? Только вот сказывали, как будто по ходатайству ревкома наши подводы на днях вернутся, а на их место [36] уже мобилизуют из станиц, что поближе к фронту. Уж пора бы, дел и дома хватает…»
Наконец мы уснули и очнулись, когда подвода уже стояла. На просторной церковной площади, у широкого, с навесом, крыльца большого деревянного одноэтажного дома - кругом было темно и пусто. Только крыльцо тускло освещал висевший керосиновый фонарь. Света в ближайших хатах не видно. Это и была станица Малодельская. Мы остановились у крыльца Малодельского станичного ревкома.
Нас никто не встретил. В здании ревкома находился только дежурный - старый казак, назвавшийся Михаилом. Он быстро куда-то сходил и, вернувшись, сообщил Трофимычу, куда нас развести на постой, добавив при этом, что, если отведенные хаты нам не понравятся, завтра с утра их можно будет сменить.
Первым разместили на жительство Васю Царькова - здесь же на площади, прямехонько против ревкома, у местного дьячка. Хата была добрая. Сам дьячок, может быть, потому, что уже привык нести «постойную» повинность, а может быть, и потому, что еще крепко побаивался новой власти, принял Васю гостеприимно, приветливо, поместив его в отдельную, увешанную иконами комнату. Узнав, что мы приехали в станицу вместе - на постоянную работу в ревкоме, - дьячок предложил и мне поселиться здесь же, но я отказался и, как выяснилось потом, правильно сделал.
Меня поселили в небольшой, но чистой и хорошо прибранной хате казака Мелехова. По возрасту Мелеховы годились мне в родители и приняли меня исключительно тепло и радушно.
Не прошло и четверти часа, как я уже не без помощи хозяйки умылся и очистился от дорожной пыли и, несмотря на столь ранний час, забыв об усталости, сидел в кругу своих новых знакомых за наскоро накрытым столом. Хозяйка стыдилась бедности стола, я же, мысленно перенесясь в родные места, представлял, как были бы счастливы мои родители, если бы имели в своем доме такие съестные припасы…
Мелеховы, забыв, что еще не совсем рассвело, просто засыпали меня вопросами о жизни в Москве и Владимире, о моих родных и о собственной моей судьбе. Больше всего они желали скорейшего разгрома Деникина и возвращения красного донского казачества к мирному труду. [37]
Друг Вася, наверное, видел уже третий сон, когда наконец уложили в постель и меня. Спалось на новом месте после столь длительного путешествия, да еще на хозяйской пуховой перине, настолько хорошо, что, когда я проснулся, ходики показывали уже около одиннадцати часов. Хозяйка сообщила, что за мной уже два раза приходили из ревкома, но она, из жалости ко мне, не хотела меня будить. Наскоро собравшись и выпив молока, я отправился в ревком. Всю дорогу меня беспокоило только одно - как бы там, в ревкоме, не заслужить репутацию беспробудного сони, с которым больших дел не сделаешь, Советской власти не построишь.
Вася уже сидел в ревкоме и за два часа так освоился с обстановкой, что чувствовал себя как давнишний здешний работник. Он меня и представил председателю ревкома Григорию Ивановичу Гребенникову, его заместителю Решетину, ведавшему земельными делами, и казначею ревкома Макарову.
О всех трех я уже кое-что знал от Мелеховых. Мне было известно, например, что Гребенников и казначей Макаров - это «чистокровные» казаки, а Решетин, которого, кстати, в станице недолюбливали, - из иногородних. Гребенников, по мнению станичников, в теперешнее трудное время хорошо справлялся с делами и пользовался среди них высоким авторитетом, тогда как казак Макаров, семья которого до революции относилась к зажиточным, часто бывал груб и из-за своих критических, а порой враждебных высказываний вызывал у станичников чувство настороженности и подозрения. Оправдывая себя, он любил говорить: «Язык мой - враг мой».
Вся руководящая тройка, и особенно председатель ревкома, встретила меня приветливо. Чувствовалось, что Вася уже успел сообщить им мои биографические данные, и поэтому никаких вопросов по этому поводу мне не задавали. Все, казалось, было хорошо, если бы не мой слишком юный вид. Я явно читал на лицах присутствующих мысль: всем бы хорош, только уж очень молод, восемнадцать лет, а с виду не дашь и шестнадцати… Но нет худа без добра. Может быть, именно это и расположило ко мне впоследствии казаков станицы.
Несомненно, больше всех был доволен таким пополнением рядов председатель ревкома Григорий Иванович. В его распоряжение поступали два новых работника, на которых можно было положиться. Кроме того, в станице начинали действовать два опытных, со стажем практической [38] работы, комсомольца, а это означало, что в Малодельской появилась возможность создания комсомольской организации.
Прежде чем говорить с нами о деле и определять наши функции в ревкоме, председатель Гребенников поинтересовался, устраивает ли нас местожительство и нет ли необходимости его сменить. Я и Вася Царьков ехали сюда, как и другие наши товарищи, готовыми встретить любые трудности, готовыми к полевым и военным условиям жизни, и поэтому все здесь казалось нам на высоте. Лично я в этом не ошибся: жил в замечательной семье, которую искренне полюбил, которая достойна самых добрых воспоминаний.
Давая установку по работе, предревкома, собственно, подтвердил все то, что нам уже говорили и в штабе фронта, и в окружном ревкоме в Михайловке. Многое из того, на что он указывал, описывая местную обстановку, совпало с рассказами нашего славного деда Трофимыча по пути в Малодельскую.
Я и Вася еще в Михайловке назначались членами ревкома станицы. Теперь при распределении обязанностей Васе было поручено стать станичным казначеем, я же получил сразу три нагрузки: секретаря ревкома, завкульта и, что самое забавное, заведующего отделом записи актов гражданского состояния (сокращенно: загс), о названии и функциях которого я к этому времени просто не имел никакого понятия. В общем, стал первым завзагсом станицы Малодельской, с аппаратом в одну единицу.
- А что этот загс должен делать? - спросил я председателя ревкома.
- Дело нехитрое. По инструкции, заведешь тетрадь и будешь в ней записывать, или, как говорят, регистрировать, браки и новорожденных и после этого выдавать на руки вроде как бы брачные свидетельства и метрики. Бланков таких еще нет, а поэтому выдавай пока простые ревкомовские справки-удостоверения за моей подписью. Сегодня же сходи к попу и предупреди его, что без этих наших удостоверений совершать церковные обряды наперед нас ему строго запрещается, так как они никакой законной силы иметь не будут.
Немного помолчав и о чем-то подумав, Гребенников продолжил:
- По всем правилам, надо бы выдавать документы на умерших, но… пока этого делать не будем. С умершими [39] пусть пока поп разбирается, здесь ему послабление сделаем. Догадываешься почему? - Тут Григорий Иванович досадливо поморщился: - Шуму уж от этого очень много. Как начнут здесь родственнички на весь ревком голосить, не сразу сообразишь, куда деваться от них. Работа страдать будет… Правда, по инструкции предусмотрено загсу заниматься и еще одним гражданским делом - это разводами. Но у нас на Дону эта статья уж совсем ни к чему. Разводы у нас что-то совсем не слышны: раздерутся - разъедутся; соскучатся - опять вместе, как будто ничего и не бывало. Это не так, как у вас, москалей. У нас, если казак или казачка и побалуют где, семья все равно тверже камня остается.
* * *
Практически вся моя работа по загсу свелась к тому, что я только женил: в Малодельской я успел соединить законным браком пару станичников и несколько хуторских. Новорожденных за короткое время моего пребывания здесь регистрировать не пришлось.
Итак, мы, члены ревкома, стали осуществлять в станице власть и строить новую, многим людям еще не понятную жизнь.
По вечерам, точь-в-точь как бывало и до революции, при станичном атамане, крыльцо дома ревкома служило местом постоянной сходки казаков, любителей порассуждать о прошлом, настоящем и будущем (с той лишь разницей, что теперь здесь собирались преимущественно старики).
Больше всего казаков занимали события сегодняшнего дня, и среди них особенно положение на фронте, который находился совсем-совсем рядом. Источниками самой последней информации в этом случае служили временно мобилизованные подводчики, которые, отбыв гужевую повинность, возвращались по одному то в станицу, то в какой-нибудь из ближайших хуторов. Наиболее достоверные сведения, однако, привозили раненые одностаничники. Последних допрашивали здесь с особым пристрастием, и все сообщаемое ими немедленно, словно по телеграфу, становилось достоянием всех соседних станиц и хуторов. В частности, не успели мы еще и оглядеться как следует на новом месте, как на одной из таких сходок уже обсуждалось полученное из Березовской сообщение, что на участке фронта, где-то под Усть-Белокалитвинской, идут тяжелые для наших войск бои и что дела складываются для красных неважно. Эти сведения [40] привезли два раненых березовских станичника. Как потом выяснилось, были они недалеки от истины.
Буквально через несколько дней после приезда в Малодельскую и я и Вася Царьков чувствовали себя здесь совсем как свои люди. Мы уже знали почти каждую семью, и малодельцы все знали о нас, и мы им пришлись по нраву. Полюбили нас за то, что мы сразу, без разгона начали жить жизнью и заботами местных людей, в чем могли - помогали им, чего не умели - старались учиться у них. Нередко бывали мы и на вечерних сборищах. В свободное время мы шли туда потому, что хотели поближе познакомиться с людьми и услышать об интересных эпизодах из жизни казачества. Кроме того, мы и сами были не прочь послушать какие-нибудь новости, особенно о положении на фронте. Ну и конечно, когда речь заходила о сегодняшнем дне, нам предоставлялась очень благоприятная возможность кое-что и разъяснить казакам. Газеты присылались только в ревком, поэтому мы больше других были в курсе событий, переживаемых страной.
Приходилось отвечать на разные вопросы. Например, что такое Советская власть и что она дает народу? Чем отличаются между собой программы большевиков и меньшевиков, эсеров и других партий? Что дает казаку декрет о земле, которой у него, мол, хоть отбавляй - успевай только обрабатывать…
Жизнь в станице протекала в это время тихо, спокойно, неспешно. Все до единого ее жители горели единственным желанием, чтобы поскорее окончилась война и домой вернулись их родные и близкие. Однако за этой внешней тишиной и спокойствием скрывалось много нерешенных проблем. И в частности, одной из них являлся вопрос: как вернуть людей к нормальной трудовой деятельности?
Абсолютное большинство трудоспособных казаков действительно отсутствовали, они состояли в рядах Красной или белой армий, но в станице все же осталось достаточное количество людей, которые могли и должны были работать, каждый по своим силам.
Здесь жили такие неработающие старики, которые в наших, среднерусских местностях, как говорится, еще сто очков вперед молодым дадут. Даже с таким действительно престарелым казаком, каким был наш возница Трофимыч, не всякий еще сумел бы потягаться. В этом, кстати, мне пришлось убедиться, когда я впоследствии [41] встретился с ним на фронте, где такие же, как он, ходили на врага в атаку.
Слонялась по станице без дела и так называемая зеленая, или просто допризывная, молодежь, которая в наших родных местах - я уже не говорю о комсомольцах - равнялась в работе со взрослыми и на селе, и на транспорте, и в мастерских, работавших на оборону.
В таком же нерабочем состоянии находилось здесь немало взрослых казаков, которые по тем или иным причинам уклонились от добровольного активного участия в войне или уже побывали на фронте и после ранений, контузий и болезней не желали возвращаться в свои части.
Наконец, ударной трудовой силой в те трудные времена могли стать казачки, которые издревне несли на себе основательную часть не только домашних, но и сельскохозяйственных работ. Но и они не проявляли охоты тряхнуть стариной и взяться за работу.
Сил, как видно, было достаточно, но работать оказалось некому. Весной девятнадцатого, в месяцы страдной поры, на Дону в поле никто не вышел. Хлеб не посеяли. И на первый взгляд, кроме нас, ревкомовских работников, это никого и не беспокоило. Причин было много, главных же, на мой взгляд, две. Первая - жизнь на территории, непосредственно охваченной войной, в которой смертельные враги - свои же станичники, ничем не гарантировала, что собранный урожай попадет в руки, его растившие. Если завтра снова придут белые, они в отместку все до нитки отберут у тех, кто сочувствовал или воевал на стороне большевиков, говаривали одни. Примерно так же рассуждали и другие, среди которых быстро распространялись слухи, что большевики и у своих-то реквизируют излишки хлеба, а уж у белых все подчистую изымут.
Вторая причина безразличного отношения к родному полю была в том, что подавляющее большинство казаков жили еще достаточными запасами продовольствия. В то время как у нас, в центральной части России, население перебивалось четвертушкой черного, смешанного со жмыхом хлеба, здесь в каждой казацкой семье еще в достатке был и белый пшеничный хлеб, и пшено, и сало, и даже такие десерты, как соленые арбузы, моченые яблоки и сливы.
Еще одна из злободневных проблем, вставших перед нами: как в этой сложной обстановке и какими наиболее [42] действенными путями завоевать сочувствие и симпатии людей к Советской власти?
Говоря о малодельской молодежи - а ее в станице насчитывалось сравнительно много, - нужно учесть, что она по своим политическим взглядам и настроениям была исключительно разной и сложной. Одна часть была сочувственно настроена по отношению к нашей новой власти и во всем нам помогала. Другая, связанная с родственниками-белогвардейцами, держалась подавленно и тихо, как бы чувствуя свою вину за связь с белыми, многие из них стремились продемонстрировать уважительное к нам отношение. Пожалуй, самыми трудными для нас оказались те ребята, которые очень умело скрывали под личиной активности и доброжелательности ко всем комсомольским мероприятиям свои внутренние колебания, выжидательную позицию приспособления. Проверить их удалось. Но об этом несколько позже.
Помимо уже упоминавшихся служебных нагрузок мы с Васей Царьковым сразу же приняли на себя заботы о местной школе. Установив, что в станице не хватает преподавателей, мы срочно связались с родным Владимирским губкомом, в результате чего через каких-нибудь две недели к нам прибыл на пополнение гусевский учитель, комсомолец Тодорский. Нас, посланцев комсомола, стало трое - по тем временам уже силища!
Кстати, запрашивая себе пополнение, мы передали владимирским комсомольцам и первый коротенький отчет о наших делах на Дону, попросив их проинформировать обо всем и наших родителей, которым еще не удалось написать ни одной строчки.
Вспоминая пережитое, сейчас трудно сказать, что нам тогда было ближе и дороже: отцовский дом или комсомольский центр. Обещанного нами следующего подробного отчета послать не удалось. Для нас наступили жаркие дни.
Чтобы вовлечь молодежь в общественную работу, мы задумали и немедленно организовали в станице любительские драмкружок и хор. И тот, и другой начали настолько успешно работать, что через каких-нибудь три недели своими выступлениями мы покорили не только одностаничников, но и заявили о себе на всю округу: даже встал вопрос о наших «гастролях» в соседние станицы и в Михайловку. Кстати, в драмкружке я значился среди исполнителей главных ролей, а в хоре выполнял обязанности и его руководителя, и дирижера, и даже солиста. [43]
Сейчас с трудом представляю себе, как же слушали тогда мой голос, с возрастом ломавшийся и переходивший от дисканта в жиденький баритон.
Драмкружок по своему составу неожиданно оказался настолько многочисленным, что пришлось раздать роли для подготовки сразу двух пьес. Одной из них была небольшая одноактная пьеса-агитка неизвестного автора «Солдат вернулся с фронта», текст которой привезли из Михайловки; вторую - «Бедность не порок» Островского - предполагалось поставить позднее как более трудную. В первой я играл роль солдата, во второй - приказчика Мити. Вася Царьков в пьесе Островского должен был исполнять роль Гордея Карпыча Торцова, Коля Тодорский - Любима Карпыча.
Насколько рьяно все взялись за первую пьесу, можно судить по тому, что она была готова к показу всего-навсего за десять дней. Репетиции шли ежедневно. Своими силами кружковцы готовили и сцену, и декорации, и весь необходимый реквизит.
И вот спектакль состоялся. Школьный класс, где была оборудована сцена, станичники заполнили до отказа. Пришли и старые, и малые. Несмотря на некоторые шероховатости в игре «актеров», заметные только самим участникам спектакля, он прошел с большим, я бы сказал, с потрясающим успехом! Все мы были счастливы, но особенно я и Вася. Наша затея удалась на славу, если не считать, что произошел обычный для тех дней инцидент, который все квалифицировали, как прямое на меня покушение.
По ходу пьесы возвратившийся из Красной Армии молодой казак вступает в конфликт со своим отцом и старшим братом, ярыми сторонниками старого режима. На этой почве происходит острая семейная ссора, в результате которой старший брат хватает стоявший в углу хаты карабин и со словами: «Собаке - собачья смерть» - в упор стреляет в казака-красноармейца. Карабин, разумеется, зарядили холостым патроном, и мы с Васей это лично проверили до начала спектакля. В нужный момент раздался выстрел, но, как оказалось, не холостым, а самым настоящим боевым патроном. Падая на пол, я еще подумал: «Как здорово бабахнуло, вот это произведет впечатление на публику!…» Так оценили выстрел и все остальные члены кружка, пока, уже после спектакля, делясь впечатлениями, кто-то не обнаружил, что настоящая пуля пробила насквозь дверь на сцене и застряла в [44] стене следующей комнаты на высоте не более метра от пола. Тут же нашли и дырку под мышкой моей шинели.
На скорую руку произведенное расследование установило, что гибель владимирского комсомольца стала бы неминуемой, если б не большая - не по росту - шинель. Наступив на волочившуюся полу шинели, я споткнулся и начал падать на какую-то секунду раньше положенного срока, да и не в ту сторону. По нашим прикидкам, пуля должна была пробить мою грудную клетку. Кто-то из наших же кружковцев - тайных врагов новой власти - в последний момент незаметно успел перезарядить карабин боевым патроном. Но кто был автором этой хитро задуманной диверсии - установить не удалось.
После спектакля я возвращался домой очень поздно. Ночь была дьявольски темная - хоть глаз выколи.
То ли под влиянием только что сыгранной пьесы а злополучного выстрела боевым патроном, то ли под впечатлением распространившейся с вечера новости об убийстве пробравшимся в соседнюю станицу белобандитом своего зятя, секретаря местной партячейки, то ли, наконец, просто из-за тьмы кромешной и пустынной улицы, но я вдруг почувствовал какую-то неловкость и даже настороженность. Около моего дома заметил из-за изгороди тени каких-то людей, молча сидевших на крыльце. Я никогда не был трусом, но здесь что-то во мне екнуло. В мыслях промелькнули подбрасываемые нам, комсомольцам, анонимки, в которых на разные лады нам угрожали и требовали: «Москали, убирайтесь в свою совдепию, иначе мы с вами расправимся и живыми не выпустим». Во всяком случае, тогда я впервые упрекнул себя за беспечность и за то, что не носил с собой револьвера, как это делали большинство ревкомовцев.
Решение пришло тотчас же: идти вперед, готовым ко всяким неожиданностям. Только не подавать виду, что струсил. Иначе какой же я комсомолец!
Как только проскрипела отворяемая калитка, сидевшие на крыльце встали. Их было четверо. При моем приближении хрипловатый мужской голос спросил:
- Это не вы Соколов?
- Я.
Ответ прозвучал глухо.
- Мы до вашей милости. Не взыщите, что прямо домой да в такой поздний час. Решили дождаться, хоть до утра… [45]
Я насторожился: начатый разговор мог служить маскировкой. На улице ни души, в хате темно, не ждут. В надежде, что кто-нибудь из Мелеховых услышит и в случае чего успеет прийти на помощь, я, на ходу громко постучав по ставне, нарочито громко сказал:
- Да… поздновато. А в чем дело?
- Это мой сынок и его невеста, а это мать невестина - Наталья Ежова, из Березовской. Женить хотим. Уж пожалуйста. В долгу не останемся…
- В чем же дело? Пусть и женятся на здоровье. Попируем. Не ночью же женить! Завтра приходите в ревком, и все в порядке будет. Могут прийти и одни - не маленькие. Что еще вас беспокоит?
- Так-то по-законному должно и быть. Вчера они у тебя… у вас, значит, были, а вы отказали. Мы уж и с батюшкой на завтра договорились, а тут - на, пропасть какая, нет разрешения, или - как там по-вашему - легистрации какой-то…
В темноте узнать кого-либо из ночных посетителей было невозможно, но я сразу вспомнил, что вчера действительно отказал в регистрации брака по самой простой причине: жениху только что минуло семнадцать, а невесте не хватало двух недель даже до шестнадцати. При этом показалось особенно странным, что жених и невеста стоят и упорно молчат (как воды в рот набрали), а пришедшие с ними две матери, будущие свекровь и теща, буквально неистовствуют, с пеной у рта требуя, чтобы разрешение на брак было все-таки выдано. Дело дошло даже до угрозы жаловаться на меня.
Твердо зная, что по закону таких малолеток не женят, я считал, что поступал правильно. Для подкрепления же своей принципиальной позиции в этом вопросе хотел было с ними вместе зайти к самому предревкома, но его, к сожалению, не оказалось на месте: он уехал по делам в Михайловку.
По возвращении Гребенникова я поспешил рассказать ему о всем случившемся в загсе и даже надеялся, что за свою стойкость в решении брачных проблем заработаю похвалу. Каково же было мое удивление, когда вместо поощрения я услышал от предревкома указание, совсем не совпадающее с моим решением. Оказалось, что в данном случае я вовсе не прав и должен был брак этот все-таки зарегистрировать, «хотя бы как исключение». Григорий Иванович сказал, что такие ранние браки в казачестве не редкость и что вызваны они очень многими [46] причинами. Роднящиеся семьи он знал лично: в доме жениха нужны были рабочие руки, мать же невесты выдавала замуж свою несовершеннолетнюю дочь из-за нужды: она жила без мужа, а детей у нее было четверо.
- Потом все повернем по-своему, по закону. А пока не надо вызывать ненужного раздражения в народе, нарушая уклад жизни, существующий с прадедовских времен, - заключил Гребенников.
Теперь же у своей хаты мне ничего не оставалось делать, как согласиться утром следующего же дня принять ночных гостей, пообещав обязательно зарегистрировать брак и даже побывать на свадьбе.
Ложась спать, я уже совсем забыл о случившемся на спектакле, и засыпал довольный тем, что местный поп все-таки выполняет наши указания и не совершает обряды бракосочетания без нашей предварительной регистрации.
* * *
Между тем по мере роста активности окружных белобандитов заметно начали поднимать голову и внутристаничные враги, переходя от анонимных угроз по нашему адресу к их осуществлению. Два дня спустя чуть не поплатился жизнью и Вася Царьков, в которого стрелял, но, к счастью, не попал неизвестный бандит, когда мой друг ночью обходил дежурные точки станицы.
Вспоминая о нашем пребывании на Дону, нельзя не сказать о том, как мы, рязано-владимирские станичники (наше шутливое прозвище), пытались, так сказать, себя оказачить, стараясь изо всех сил во всем походить на местное население. Это касалось и бытовых сторон жизни, и разных казачьих забав - всевозможных манипуляций и выкрутасов с шашкой, - и пения казачьих песен, и залихватских плясок (в этом мы, владимирцы, никак не уступали), и многого другого. Однако главным - лично для меня - стало приобщение к основному казачьему искусству - искусству верховой езды. Научиться хорошо управлять конем, владеть шашкой и хотя бы двумя-тремя упражнениями казачьей джигитовки - это и была основная моя мечта, и она сбылась.
По просьбе предревкома обучать меня главному казачьему делу взялся старый бывалый казак Алексей Григорьевич Долгих, который, кстати сказать, по единодушному признанию пожилых станичников, когда-то в молодости слыл большим сердцеедом и буквально покорял [47] женский пол своей стройностью, осанкой и особенно, конечно, отменной джигитовкой. Он и сам этого не скрывал и даже гордился. «Когда я был молодым, - говаривал Алексей Григорьевич, - не то что наши - все заглядывались. Как в Царском стояли, чуть фрейлину одну к себе на Дон не заманул».
У дяди Леши остался под седлом замечательный, серой масти четырехлетний дончак, которого при отступлении белых он сумел хорошо припрятать.
Учитель он был строгий, педантичный, придирчивый, а главное, терпеливый. «Поспешишь - людей насмешишь, - повторял то и дело, - а я за тебя краснеть не хочу». Относился старый казак к взятым на себя обязанностям с охотой и чувствовал себя во время уроков так, словно выполнял большое государственное дело. В этом он видел, наверное, лучшую возможность доказать свою искреннюю преданность Советской власти.
Научиться хорошо ездить верхом оказалось не так-то просто, как представлялось мне вначале. У моего учителя была своя особая метода обучения, свой подход к этому делу. Сначала он учил меня просто сидеть на лошади («Чтоб не выглядел, как мешок с овсом»), потом правильно держать между пальцами повод и управлять конем, потом держаться на шенкелях. И все это мучение проходило пока без шага езды, на привязанном к арбе коне во дворе его дома.
Мне трудно давалась езда без седла, я сползал то вправо, то влево. Проходившие мимо девчата и мальчишки смеялись, особенно подростки, которые чуть ли не сызмальства чувствовали себя на расседланном коне не хуже, чем в седле.
Видя, как ребята лихо носятся на конях, когда отправляются целой гурьбой в ночное, я втайне от своего учителя две ночи подряд провел с ними там и, нужно прямо сказать, получил хорошие дополнительные уроки. А сколько потом мороки с седлом было! И опять подход к коню, и вдевание ноги в стремя, до которого я из-за своего маленького роста никак не мог дотянуться, и вскакивание в седло, минуя стремя… А как трудно правильно и красиво держаться в седле при езде на разных аллюрах и не набить холку лошади! Чего только здесь не натерпелся! А рубке густой лозы конца-краю не было…
И все же наступило время показать себя миру. Строгий учитель разрешил наконец прогарцевать на коне и перед взыскательными казаками, и перед насмешливыми [48] казачками. Однако как ни манила меня к себе ревкомовская площадь и заветный дом Маруси по соседству, я все же для начала решил попробовать свои силы за ближайшей околицей - по тихой, безлюдной дороге на хутор Муравли. Пробовал и шажком, вслух справляясь о своей посадке у друга-дончака, и рысью, и галопом. Удовольствию не было конца. Вот уж душу отвел!
Наиболее впечатляющий для зрителя галоп мне, еще неопытному всаднику, показался наиболее легким. И поэтому, когда наконец я решился въехать в станицу, избранным аллюром был именно он. Замелькали хаты… Казалось, вся станица в этот момент смотрит только на меня и кричит: «Давай, давай, Коля!…» В голове калейдоскопом одна мысль сменяла другую: жаль, что все это происходит не в родном Владимире - скажем, где-нибудь на Дворянской улице, против рядов! Что бы сейчас сказали оставшиеся там товарищи и девчата, особенно те, которые нравились, но не были еще близко знакомы?!
Вот и поворот - и я уже на прямой к ревкому. Вот и мой дом, а за ним чуть подальше и тот, перед которым хочется особенно отличиться, особенно лихо проскакать. Ведь в нем живет казачка Маруся!… Только одно было совсем непонятно. То ли я еще не овладел искусством управлять конем, то ли не хватало у меня сил побороть норов коня, почуявшего на себе хлипкого наездника, во всяком случае, вначале смирный, дончак вдруг перестал слушаться повода и, не снижая темпа, начал так прижиматься к левой стороне улицы, к самым хатам и изгородям, что это стало даже небезопасно. Когда же через мгновение мы оказались у изгороди хаты Маруси, дончак, неожиданно преодолев закон инерции, так резко застопорил движение и так сильно вильнул в сторону изгороди крупом, что я, лихой владимирский казак Коля Соколов, - о, ужас! - не удержался на коне и, совершив полет по неопределенной кривой, упал. И надо же случиться, что приземлился я за изгородью двора своей зазнобы, перед которой только что мечтал предстать прямо-таки джигитом.
Кстати, такая норовистая повадка у дончака - не редкость, особенно, когда он чувствует, что вместо хозяина или умелого всадника на нем сидит действительно «мешок с овсом».
Изрядно помятый, с невыносимой болью в боку, я еле-еле встал и с чувством страшного стыда, отворачивая лицо от окон Марусиной хаты, поспешил к калитке, чтобы [49] срочно ретироваться. В эту минуту мне казалось, что (надо мной смеется вся округа и станичники говорят: «Вот так казак: на коне удержаться не может! А еще комсомолец! Это тебе не арбуз съесть!» Больше всего волновал вопрос, что подумает теперь Маруся, которая наверняка сидела у окна и, наверное, тоже донельзя насмеялась. Если так, то грош ей цена! Была бы хорошая девушка, тут же выбежала, спросила бы: не ушибся ли сильно? Пожалела бы.
Но вокруг не было ни души, и даже мальчишки, эти завсегдатаи всех происшествий, и те куда-то исчезли. Конь как вкопанный стоял у изгороди, точно на том же месте, где только что меня скинул и, покачивая головой, как ни в чем не бывало оглядывался на незадачливого всадника.
Не решившись снова сесть в седло, я взял дончака за повод и повел кружным путем домой к дяде Леше, стыдясь даже улицы, по которой только что так лихо промчался.
Как потом выяснилось, по невероятному стечению обстоятельств момент моего падения никто даже и не видел, и все мои опасения оказались напрасными. Что касается дяди Леши, то он, к моему большому удивлению, был даже вне себя от радости, когда я рассказал ему о выходке коня.
- У него это бывает! - улыбался Алексей Григорьевич. - Чувствует, чертяга, что чужак в седло вскарабкался, а раз чужой, то и среди поля долой. Надо не только хорошо ездить, голубчик, но и научиться крепко держаться в седле. - Потом, по-видимому желая успокоить меня, добавил: - Такие шуточки и с казаками случаются.
Не совсем удачное начало не охладило меня к верховой езде. Наоборот, с той поры я каждодневно и еще более настойчиво стал отдавать все свое свободное время этому делу и достиг в нем, по отзывам окружающих, совсем даже неплохих результатов. А урок падения с коня мне вскоре и пригодился. Сколько бы потом я ни сменил лошадей и с каким бы норовом они ни встречались, ни одной из них ни при каких обстоятельствах не удалось вышибить меня из седла. Как, впрочем, и ни одному врагу, с которым не раз приходилось вступать в единоборство…
Если бы только не постоянная тревога по поводу рыскающих по округе белобандитов, жизнь в станице под [50] руководством Советской власти входила бы в нормальное мирное русло. Медленно, но верно сколачивался актив, который помогал вести коллектив станичного казачества по новой дороге. Временный, пока назначаемый сверху орган этой власти - ревком - уже начали признавать единственно законной местной властью. Сам же ревком все более и более начинал чувствовать себя зависимым не столько от назначавших его состав инстанций, сколько от уважения, доверия и авторитета среди своих одностаничников. Еще немного - и встал бы естественный вопрос: почему ревком, а не выбранный Совет казачьих депутатов? К этому вела сама жизнь, и мы первыми же голосовали бы за этот законный орган Советской власти.
Все чаще задачи, стоявшие перед ревкомом, обсуждались в присутствии приглашенных на заседания наиболее активных, преданных Советской власти казаков.
Здесь в это время принимались решения по таким вопросам, как учеба и воспитание детей и молодежи в школе, перераспределение и надел новых земельных участков, коллективная помощь нуждающимся казакам и семьям сражающихся в рядах Красной Армии, церковь и борьба с ее вредными влияниями на семьи одностаничников, сенокос и уборка хлебов…
18 июня день был с утра жаркий и ничем непримечательный. Обычно начался этот день, однако далеко не безмятежно закончился. И то, что случилось, началось опять с ревкомовской сходки на крыльце или, как мы ее окрестили, «крылечного вече». Перед тем как казакам разойтись, один из вернувшихся в Себряково станичников привез тревожную весть: Красная Армия начала отходить с Дона, в Михайловке паникуют и готовятся к эвакуации - якобы окружной ревком уже упаковывает свои дела и для отправки их вызвал подводы из ближайших хуторов.
На следующий день вся станица была на ногах спозаранку. Нескрываемая тревога охватила всех без исключения. Как бы в подтверждение полученных вечером сообщений, чье-то дотошное ухо во время утренней зари на Медведице прослушало даже далекую артиллерийскую стрельбу. Ревком стал будто улей: сплошная толкучка людей - одни уходят, другие приходят. Все задают единственный вопрос: действительно ли Красная Армия отступает и куда и как, в случае чего, будем отступать мы? Но что ответить? Мы и сами ничего не знали. Посланный в соседнюю станицу Березовскую верховой нарочный [51] привез точно такие же сведения, какими располагала и Малодельская. Откуда дошли такие же сведения до березовцев - никто не знал. Может быть, первоисточником оказались мы сами, малодельцы. Березовцы, как сообщил нарочный, тоже в тревоге и, не ожидая каких-либо указаний сверху, готовятся к отступлению. Нужно было послать нарочного в Михайловку, но решили до утра переждать. Если что-либо серьезное, сообщат сами: не оставят же нас в неведении. Показывать себя паникерами мы категорически не хотели.
Но как ни старайся быть внешне спокойным, а душа-то болит. По секрету от всех Григорий Иванович, Вася и я тоже решили прогуляться по берегу Медведицы и сами отчетливо уловили глухое ворчание отдаленных артиллерийских орудий. По авторитетному заявлению бывалого Гребенникова, отзвук артиллерийской канонады может доходить по воде с расстояния ста, а то и более верст. Он предположил, что стрельба эта идет где-то на Дону - в районе станицы Усть-Медведицкой, а может быть, и дальше - у Вешенской или Мигулинской. Так или иначе, расстояние до фронта невелико и отступающие войска могут преодолеть его не более чем за двое-трое суток, а если будет приказ оторваться от противника, то и в одни сутки уложатся…
Итак, не ожидая никаких указаний, предвидя надвигающиеся события, начали подготовку к возможному отступлению и в ревкоме, и наши станичники, которым мы, правда, каких-либо официальных рекомендаций на этот счет не давали. Казаки готовили лошадей, быков и повозки, укладывали самое необходимое и наиболее цепное. Нетранспортируемое имущество, в том числе и некоторые виды продовольствия, надежно упаковывали и закапывали в потаенных местах.
В скорое наше возвращение в станицу верили все и даже те семьи, которые были связаны с белыми и ждали в случае отступления Красной Армии появления дома своих отцов, сыновей, мужей. Но по нашим наблюдениям и разговорам одностаничников было ясно: подавляющее большинство этих семей на сей раз не проявляли злорадства, а, наоборот, старались в любой форме высказать сочувствие покидающим домашние очаги односельчанам. Чувствовалось по всему, что ожидание перемены власти не вселяло веры в эту власть, она воспринималась как временная, неустойчивая, ненадежная. И это прямо говорило о том, что Советская власть успела [52] завоевать среди казачества авторитет и внушить ему уважение и веру.
При отходе всем этим «белородственным» семьям мы дали строгий наказ защищать тех, кто из-за тяжелой болезни или по старости не мог уехать с нами и кого мы с тяжелым сердцем вынуждены были оставить в Малодельской. Ревком строго предупредил, что при нашем возвращении предателям и доносчикам пощады не будет.
Утром 20 июня нарочный привез распоряжение из Михайловки: начать отступление через станицу Березовскую и слободу Даниловку на Елань Саратовской губернии с последующей переотправкой всех ревкомовских дел, документов и ценностей в город Балашов. Нарочному приказано в Михайловку не возвращаться, а, присоединившись к малодельцам, отступать вместе с ними. На наш же ревком возлагалось своими средствами передать распоряжение об отступлении в Березовскую и Сергиевскую станицы. В посланных туда сообщениях о приказе окружного ревкомитета Гребенников одновременно оповещал ревкомы, что, если не случится ничего непредвиденного, малодельцы начнут отход на рассвете 21 июня и что в целях объединения всех отступающих в один боевой отряд желательно, чтобы березовцы поджидали нас, сергиевцев и раздорцев, согласовав ваше последующее продвижение на Елань и с даниловцами.
Было ясно, что Михайловка уже под угрозой захвата белыми, да и сам нарочный рассказал, что ночью через окружную станицу двигалось на север большое количество обозов.
Итак, отход на Елань начнется завтра. А пока уже сегодня, 20 июня, обстановка начала быстро усложняться. К полудню до нас дошли два неприятнейших сообщения. Первое: один из казаков соседнего хутора Муравли по пути на станцию Аргеда не проехал и десяти верст, был обстрелян около хутора Лозовского неизвестным конным разъездом, от которого еле унес ноги. И второе: раздорский казак, отправленный в Михайловку уточнить обстановку, сложил свою голову, не проехав и пяти верст, где-то на подъезде к хутору Субботин.
Все это происходило совсем рядом с Малодельской. Значит, в любую минуту могла возникнуть угроза организованного нападения на станицу как со стороны регулярных деникинских частей, которые, возможно, уже захватили железнодорожный участок Аргеды - Себряково, так и со стороны разрозненных белогвардейских банд. [53]
В сложившейся обстановке ревком принял необходимые меры: все население, способное нести воинские обязанности, не считаясь с возрастом, приводится в боевую готовность. И тут неожиданно для меня выяснилось, что все наши казаки оказались очень запасливыми: у них нашлись собственные карабины и винтовки, шашки и револьверы, все конское снаряжение. Если кому-то чего-то недоставало, необходимое выдавал ревком. О том, что Малодельский ревком располагал довольно значительными запасами оружия и патронов, я не имел никакого понятия. Ясное дело: Гребенников позаботился обо всем заранее.
Уже к полудню ревком превратился в настоящий военный штаб. На привязях вокруг здания стояли оседланные, готовые в поход кони. На многих из них прямо к седлам прикреплены шашки и карабины хозяев. А самих казаков просто не узнать! Во-первых, когда все оказались в сборе, выяснилось, что в станице их не так уж и мало. Во-вторых, выглядели они теперь совсем-совсем по-другому, во всяком случае, я их такими даже и не представлял: все при шашках, фуражки у всех по-ухарски набекрень, иная того и гляди на бок сползет, не удержится, а сами казаки, без скидок на возраст, стали словно более стройными, лихими, боевитыми, с острыми горящими глазами. На лицах - никакой будничной закиси. В общем, не казаки, а орлы боевые!
Только теперь, именно в этой тревожной обстановке, я увидел впервые настоящего боевого казака и почувствовал, что с такими молодцами любые горы сдвинуть можно, любого врага смести с земли русской. Даже старики и те помолодели и выглядели как бойцовые петухи.
Глядя на своих товарищей по оружию, я невольно вспоминал наш дорожный разговор с Трофимычем, который убеждал нас, что былых казаков теперь нет, что в станицах остались только одни старые хрычи да инвалиды. В этот момент Трофимыч почему-то не попадался на глаза, а как хотелось бы сейчас увидеть его!…
Сам я в это время не мог понять одного: почему все-таки многие из малодельцев, которые выглядели теперь такими орлами, с которыми, казалось, и в мирное время можно творить чудеса, до этого момента не хотели ничего делать по хозяйству и так беззастенчиво бездельничали? Неужели мы, ревкомовцы, коммунисты и комсомольцы, чего-то не учли, недоработали?… Усилий-то в этом отношении было приложено немало. Вероятнее всего, [54] основная причина заключалась все-таки в нежелании казаков рисковать своим трудом, ведь война шла совсем-совсем рядом и даже незначительное - временное отступление наших войск отдавало в руки врага все плоды их трудов.
Итак, мы готовились к отходу. Ревком - штаб, казаки, одностаничники - войско, казачки и явные старики со своими подводами, груженными до отказа домашним скарбом и одновременно всем минимально необходимым для обеспечения бойцов, включая патроны, - наш обоз, а с определенной точки зрения и обуза наша. Кстати, обоз оказался готовым к походу раньше всех предположений. Не ожидая команды, как будто по тайному уговору, подводы раньше всех заполнили ревкомовскую площадь и все улицы в направлении Березовской. А самое главное - все это делалось спокойно, без малейших признаков какой-нибудь суеты и паники.
Впереди всех подвод была и самая главная, пароконная, которая стояла прямо у крыльца ревкома. Загруженная ящиками и мешками с ревкомовскими и партийными делами и бумагами, она принадлежала моему товарищу Васюке Царькову. Перед ним ставилась ответственнейшая задача - любой ценой сберечь это имущество и доставить его в город Балашов.
Я назначался рядовым бойцом нашего самодеятельного отряда, но, как и многие другие казаки, из-за нехватки верховых лошадей был пока лишь пешим пластуном.
* * *
Около шести часов вечера, когда приготовления к отступлению вошли уже в спокойное русло и я собирался было пойти поискать подводу своих Мелеховых, чтобы что-нибудь перекусить, как вдруг где-то вдали, в стороне от дороги на Себряково, послышались глухие винтовочные выстрелы: сначала один, потом другой, третий. Почти тотчас же в том направлении, где-то совсем близко, последовали и наши ответные выстрелы. Это стреляло предусмотрительно выставленное Гребенниковым боевое охранение. Завязалась редкая перестрелка с неизвестным пока по силам противником.
Через минуту выбежавший на крыльцо предревкома окликнул казака Гундорова и начал давать ему какие-то указания. По торопливым жестам, которые я успел разглядеть из окна, можно было догадаться, что Гребенников приказывал использовать колокольню церкви и разместить что-то на улице, идущей сразу от ревкома. [55]
Когда я выскочил на улицу, Гребенников уже быстро шел в сторону нашей оборонительной линии.
Я побежал за ним, желая во что бы то ни стало присоединиться к нему и быть в этот момент только с ним. Для меня, неискушенного в искусстве анализа боевой обстановки, предревкома представлял абсолютный авторитет, у которого многому можно поучиться. Гребенников остановился у крайней хаты, с тыльной ее стороны. Здесь во дворе, прямо у изгороди, лежали двое из наших станичников и напряженно вглядывались в даль - похоже, выжидали появления противника между деревьями, чтобы произвести по нему очередные выстрелы. Точно так, как в тирах стреляют по движущимся мишеням. Еще один наш казак залег за ветряком, совсем недалеко от этой же хаты, но на левой стороне дороги, шедшей на Себряково. Позиция для наблюдения и стрельбы еще более выгодная, но его отделяло от нас ровное, открытое пространство, небезопасное для перебежки. Гребенников окликнул ближайших товарищей:
- Что там случилось?
- Вон на той опушке, - ответил полуобернувшись один из стрелков, - появились сначала двое, а потом и десяток конных и давай палить по станице! Как по ним дали - сразу в лес, спешились и вот теперь прячутся, заразы, за деревьями, стерегут, какого бы дурака выманить! Или это разведка какая, а может, и бандюги промышляют. - Казак показал на заполянский лес справа от дороги.
Это тот самый лес, по которому только вчера Гребенников, Вася и я совершили тайком путешествие на Медведицу, чтобы послушать зловещие рокоты орудий.
- А сейчас не больше стало? - спросил предревкома.
- Нет, вроде даже мене.
- Все равно надо смотреть в оба, ждать всякого можно. Так передайте и смене. Думается все же, что это бандюги. Проверяют: ушли мы из станицы или нет. А может, и нервы проверяют - вдруг с перепугу сами тронемся.
Гребенников перешел к другой стороне хаты и громко крикнул казаку у ветряка:
- Алексей! Смотри в оба. Не обошли бы слева. Кто у тебя там слева?
- Там народ есть. Все в порядке, Григорий Иванович. Бандюги что-то притихли. Может, и осталась какая-нибудь [56] одна сволочь, вот и пуляет себе изредка. Я его только что видел: вон там на опушке, у бугорка.
- Смотри лучше! - приказал Алексей Григорьевич. - Дело к вечеру, думаю, рисковать ночью не будут, а все ж! Вот к рассвету ждать можно всякого. Ну да меры примем. Бывайте!
Гребенников хлопнул меня по плечу и жестом дал понять, что пора возвращаться.
- Идем. Там есть дела поважнее, - сказал он, как будто ничего не случилось.
Только он это произнес, как снова раздалось два выстрела подряд - опять из того же злополучного леса. Я резко повернулся и хотел было бежать, чтобы присоединитъся к нашим бойцам, но Гребенников взял меня за руку и потащил за собой, как непослушного ребенка. Я никак не мог себе простить, что не удалось пострелять. Может быть, и подстрелил бы какого-нибудь гада.
- Успеешь. Скоро всем придется драться, - перебил мои мысли предревкома. - Наверное, даже еще сегодня ночью. Так что не торопись. - Немного помолчав, он добавил: - А впрочем, если хочешь, поди побалуйся. Хоть к карабину привыкнешь. Только смотри, ползком.
От волнения отчетливо ощущалось биение сердца. Прильнув к земле, я по-пластунски подобрался к правому из лежащих у изгороди казаков, который только что дал выстрел в сторону леса.
- Ты видишь? - спросил он соседа.
- Нет.
- Да вон он, смотри: справа от бугра стоит за деревом. Неужели не видишь?
- Нет.
Я уже залег по соседству и тоже начал разглядывать место, куда указывал казак, но тоже ничего не видел.
- А ты видишь? - спросил он меня.
- Да, вроде чего-то есть. Только человека не видно.
- Какой же дурак на рожон полезет! Он за деревом. Одна фуражка появляется.
Я пока ничего не замечал. Однако минуты через две мне что-то вроде показалось. Может быть, именно показалось, но я, не ожидая выстрела соседа, дал свой.
- Что, видишь? - спросил он.
- Вроде кто-то шевелился.
- Вот я и говорю, что там кто-то есть.
Ответных выстрелов не было. Оба казака молчали. Я отполз от них еще немного вправо, откуда, казалось, [57] должно быть виднее. Но все затихло. А жаль! Так хотелось подстрелить гада, отличиться…
Через минут двадцать осторожно, ползком, пробравшись на улицу, я уже двигался к ревкому, счастливый, что сделал из своего карабина первый боевой выстрел.
В ревкоме Гребенников, видимо уже назначивший различных командиров, давал указания о порядке и построении охранения при движении на Березовскую. Насколько я сумел уловить смысл этих распоряжений, они сводились к тому, что мы будем двигаться тылом наперед. Впереди обоз, а в середине и хвосте его на подводах - пешие бойцы. Главная конная группа прикрывает все движение и готовится к отражению возможного преследования сзади. Слева от дороги, по опушке леса вдоль реки Медведица, следуют отдельные всадники, выполняющие обязанности дозоров. Справа, по открытой местности, довольно хитро следует конный разъезд в составе 20-30 сабель: сначала он движется на восток, почти под прямым углом к оси общего движения, по дороге Малодельская - хутор Атамановский, а затем из Атамановского поворачивает почти строго на север - по дороге на Березовскую. В его задачу входит прикрытие всего движения справа, стороны, наиболее удобной для нападения на отступающих малодельцев. Значительная удаленность этого разъезда от основной колонны позволит главным силам в случае необходимости перестроиться в соответствующий боевой порядок.
Обстановка продолжала оставаться такой же неясной и сложной. Опаснее пуль, которые уже просвистели над станицей, была полная неосведомленность о том, что делается кругом. По всем данным, группа красных станиц - Малодельская, Сергиевская, Березовская и слобода Даниловка, которые собирались вместе делить горечь отступления, уже к вечеру двадцатого оказывались в окружении. Во всяком случае, по всему было видно, что наступающие деникинские войска обходили нас и с северо-запада и с юго-востока, занимая территории к северу по железнодорожным линиям Иловля - Себряково - Филоново - Поворино и Иловля - Камышин. Следовательно, завтрашнее наше продвижение будет проходить уже в тылу деникинской армии, в условиях всяких неожиданностей, возможных столкновений и боев.
Обстановка требовала немедленного выступления в поход. Однако Гребенников считал, что ночь - не лучшее время для формирования объединенного отряда казаков [58] наших соседних станиц. Кроме того, он решил, что до Елани не так уж далеко - каких-нибудь девяносто - сто верст - и крепкому отряду под силу преодолеть их за несколько дней, да и своими рейдами по тылу деникинцев помочь нашей регулярной армии. Ревкомы станиц, с которыми поддерживалась постоянная связь, с такой постановкой вопроса были согласны.
К ночи в станице все привели в полную боевую готовность. На окраинах - наиболее вероятных направлениях появления противника - было выставлено усиленное сторожевое охранение с выдвинутыми вперед дозорами. Дежурная пешая группа - у ревкома; в ней находился и я. Основная конная группа (главные силы) - на выезде к дороге, ведущей на хутор Атамановский, обоз - по улице в направлении Березовской.
Поздно вечером Гребенников созвал последнее собрание партячейки и комсомольцев. На повестке дня: задачи коммунистов и комсомольцев во время похода на соединение с частями Красной Армии. В текущих делах - прием в члены партии.
- В этот тяжелый для нашей Советской Республики момент в ячейку поступило заявление о приеме в члены партии комсомольца Соколова Николая, - сказал в конце собрания предревкома. - Пишет, что хочет идти в бой партийным. Рекомендуют его - я, Решетин и Василий Царьков. Мы все его знаем. Уверен, что доверие партии он оправдает.
Меня приняли единогласно. Так в ночь перед отступлением с Дона я стал членом партии. Теперь мне предстояло делом оправдать высочайшее звание члена РКП(б).
…С тех пор прошло много лет, но я вспоминаю этот день, 21 июня 1919 года, как самый знаменательный в моей жизни и чувствую тепло рукопожатий и добрых напутствий друзей-коммунистов из станичной партячейки.
Около трех часов утра, когда занявшийся июньский рассвет уже переборол полную тревожных ожиданий ночную темноту, я услышал зовущий меня с улицы голос предревкома:
- Соколов! Николай! Поди сюда поскорее!
Я вышел. У крыльца стояли Григорий Иванович и дорогой мой дядя Леша Долгих, которого мне очень хотелось повидать и узнать, какое место он занял в нашем отряде. Предревкома сразу схватил меня за руку и неожиданно закричал: [59]
- А ну-кось, целуй своего учителя, да по-казацки, покрепче!
- А в чем дело? - недоумевал я.
- Целуй, целуй, а потом и спрашивай!
Я охотно обнял и поцеловал дядю Лешу.
- Ну вот и порядок, - с удовлетворением сказал Гребенников. - Ты погляди, какой Алексей Григорьевич тебе подарочек припас. А я-то все время за тебя мучаюсь, не знаю, где достать! Думал: из первых трофейных или где-нибудь по пути раздобыть.
У крыльца на привязи стоял оседланный, полностью экипированный гнедой красавец дончак. Я настолько растерялся, что не мог даже слова вымолвить, и снова бросился к дяде Леше и еще раз крепко-крепко расцеловал его, а за ним следом, от избытка чувств, - и предревкома.
- Где же вы раздобыли такого? - спросил я Алексея Григорьевича, не решаясь пока подойти к коню.
- Да ты бери скорей, не расспрашивай, - расчувствовался дядя Леша. - Нашел, и все тут. Только смотри, стремена сразу по своему росту подгони. Я сейчас Григорию Ивановичу говорил: уж больно понравился ты мне, - продолжал Долгих. - Своего бы отдать не пожалел, да сам еще хочу стариной тряхнуть. Уж если не рубать, то насчет разведки какой или иных каких поручений не подкачаю - краснеть за меня вам не придется.
- А где же все-таки раздобыл? - не унимался я.
- Ну вот, опять за свое! - заворчал дядя Леша. - Говорю, забирай! Конь добрый. Я давно за ним присматривал. Молодица одна припрятала и хоронила с самого прихода Советской власти. Как припер, говорит, что, мол, муж в Красной Армии служит. А я ей: раз в Красной - пошто прятать? Придут белые - все равно отберут, а у нас сохранится, да еще службу сослужит. Вот и прибрал. Да, вот что еще что! Чертова баба наотрез отказалась назвать кличку. Давай назовем его на первый раз Гнедок, а дальше сам решишь.
Мы наконец подошли к дончаку. Гребенников признался, что тоже слышал об этом коне и держал его на примете, но в теперешней суматохе совсем забыл да, наверное, так бы и не вспомнил.
Окинув взглядом дончака, Гребенников с минуту подержался за луку седла, потом похлопал его по шее и сказал: [60]
- Добрый конь. Это тебе, кстати, и партийный подарок. Принимай. Ты у нас теперь совсем казаком станешь. Ну а мне пора. Скоро выступаем.
Дядя Леша между тем рассказал, что коня он раздобыл еще поздним вечером, а всю экипировку подобрал у невестки, которая бережно хранила ее после гибели на германском фронте брата (она отступала вместе с нами). Алексей Григорьевич успел опробовать коня и рассказал о некоторых его повадках. По словам дяди Леши, дончак был резвым и немного горячим, запальчивым. Говоря об этом, Долгих добавил:
- На моем ездил - с этим справишься. Этот поспокойнее, не сбросит. Береги его, Коля. Конь на войне - твой самый близкий друг и помощник, твои ноги и руки. Казак без коня - что солдат без ружья. Что будет нужно, ко мне обратишься. Я недалече буду. Меня Григорий Иванович при себе оставил, для всяких поручений и тому подобного.
Я был просто счастлив. Все сложилось так, как бывает только в мечтах.
…Ровно в семь утра последним покинул ревкомовскую площадь станицы конный отряд в составе двенадцати сабель - наш арьергард. Главные силы малодельцев численностью до 50 сабель и 40-50 пеших бойцов на подводах следовали впереди, на расстоянии не более одной версты. Минут за пятнадцать раньше до нас с этой же площади выступил на хутор Атамановский отряд правофлангового прикрытия в составе двадцати человек. Как уже говорилось, он должен был присоединиться к нам в станице Березовской, где нас поджидала более многочисленная группа березовцев и сергиевцев. Здесь наш объединенный отряд становился довольно значительной боевой силой, способной не только прорваться на соединение с частями Красной Армии, но и наделать немало дел в деникинском тылу. Жаль только, что с ростом боевой численности отряда значительно увеличивался и общий обоз беженцев, защита которого, конечно, усложняла маневренные способности отряда.
В центре главных сил ехал наш признанный командир Гребенников. Здесь же скакал и я, до зубов вооруженный - карабином, шашкой и двумя бутылочными гранатами; по-настоящему счастливый, что на коне, что еду в родном строю с красными донскими казаками и нахожусь теперь на переднем крае защиты родной Советской власти. [61]
По расчету предревкома, к моменту выхода из станицы арьергарда, голова колонны обоза малодельцев - а это около двухсот подвод - должна была уже входить в Березовскую.
Ночь и ранние утренние часы, когда мы покидали станицу, прошли без малейших признаков приближения врага. Однако, как только последние всадники арьергарда миновали околицу, словно по заранее условленному сигналу, послышалась редкая беспорядочная стрельба на противоположной - лычакской - окраине, примерно там, где вчера наше охранение отстреливалось от неизвестных налетчиков. Кто-то из казаков даже сказал: «Салютуют, подлюги!»
Были ли эти выстрелы вчерашних белобандитов или действительно «салютовали» притаившиеся до сей поры враги-одностаничники (некоторые из них, кстати, в последний момент успели исчезнуть из нашего поля зрения), оставалось неясным. Во всяком случае, если бы это входили передовые части регулярных деникинских войск, они действовали бы иначе и, видимо, попытались бы организовать преследование.
Дорога на Березовскую сразу же полого спускалась к одноименной речке и затем снова поднималась вверх, скрываясь за перевалом. Слева, рядом с дорогой, до самой соседней станицы тянулась неширокая полоса леса, скрывавшего пойму красавицы Медведицы, дорогой сердцу местных донцов. Справа - открытая степь, прорезанная по ходу движения поперечными, с отлогими склонами балками.
Учитывая особенности местности, Гребенников подал команду перейти на мелкую рысь, чтобы скорее скрыться за косогором, расширить обзор с него и далее - в зависимости от обстановки - или спокойно продолжать движение, или успеть принять боевое построение.
Стрельба продолжалась несколько минут, затем все стихло. Наступившая тишина могла предвещать какой-нибудь неожиданный обходный маневр врага. Отряд ждал и готов был встретить любой поворот событий.
И вот как только мы перевалили за косогор и станица Малодельская начала скрываться из виду, донесся колокольный звон, точно такой, каким обычно созывается народ на площадь. Гребенников немедленно остановил отряд. Послав одного из бойцов назад - на ближайший холм, откуда лучше всего просматривалась местность, - и получив от него сигнальное сообщение, что противника [62] вокруг не видно, он собрал всех казаков и изложил моментально созревший план дальнейших действий.
По мнению предревкома, колокольным звоном собирала оставшихся в станице людей либо вступившая вслед за нашим уходом какая-нибудь незначительная регулярная часть белогвардейцев, либо белобандиты-самсоновцы, которые вместе со станичными изменниками спешили навести в Малодельской свои порядки.
При любых обстоятельствах Гребенников считал необходимым, не останавливая главных сил, которые должны продолжать выполнять первоначальную задачу по прикрытию отступающей колонны, встать самому во главе арьергарда и вернуться в станицу, чтобы произвести разведку боем. Главным было установить силы противника, так быстро появившегося в Малодельской, и возможности его нападения на отступающую колонну.
Если силы противника окажутся малочисленными, ставилась задача их уничтожить, если наоборот - нужно выиграть время для принятия необходимых мер в Березовской. Для соответствующей ориентировки к березовцам был послан нарочный - дядя Леша Долгих. Арьергарду приказано съехать с дороги на ближайшую опушку медведицкого леса, откуда хорошо просматривалась и окружающая местность, и дорога, по которой только что мы ехали, а также северная и восточная окраины нашей станицы.
Тактический замысел операции был очень простой. Отряд возвращался медведицким лесом к окраине станицы, откуда и предстояло совершить смелый налет. Для выявления сил противника, успевшего появиться там, кружным путем высылался дозор из трех всадников, который выполнил бы простой подсчет отступавших на Себряково беляков. Момент начала операции определяло занятие дозором выгодного для наблюдения места, сигналом служил взрыв ручной гранаты. В случае подхода к станице новых значительных сил противника дозору приказывалось немедленно возвращаться обратно, а при необходимости - пробиваться прямо на Березовскую.
* * *
В состав трех всадников дозора Гребенников согласился включить и меня. Отобрали самых молодых, из которых только Вася Дронов, мой одногодок, уже успел повоевать, будучи красноармейцем 200-го полка 23-й дивизии, и теперь, после ранения в руку, отбывал последние дни отпуска. Сам он был из хутора Попова, но все [63] детство провел в Малодельской у родственников и знал всю местную округу до каждой складки, бугорка и межи. Нам очень повезло: Вася оказался замечательным проводником скрытого подхода к любой точке местности. Он и был назначен старшим дозора, как более опытный. Однако Вася отводил себе роль советчика, а фактически старшим оказался я - что ни говори, все же член ревкома!
Крадучись, как завзятые охотники, искусно маневрируя в складках местности, но далеко не отрываясь от станицы, мы быстро приближались к цели. Трудно передать словами до предела обостренные чувства и переживания, испытываемые человеком, впервые попавшим в такую обстановку. В какие-то моменты кажется, что тебя подводит и самый верный друг - конь, выставляя тебя, как каланчу, на показ врагу, и разговор, и даже громкое дыхание, хотя кругом на целые версты нет ни души. Или, наоборот, в мыслях оживают когда-то слышанные байки бывалых бойцов, из которых следовало, что вот-вот мы налетим на засаду притаившегося врага и в неравной схватке его обязательно уничтожим или пленим, показав, на что способен в трудную минуту красный конник.
Солнце уже изрядно припекало, когда мы достигли наконец условленного места. Спешившись, выбрали удобный для наблюдения холмик: отсюда как на ладони и дорога на Михайловну, и окраина станицы, где только вчера была наша линия обороны, а теперь - тыл врага (если он уже в Малодельской). Нас отделяло от въезда в станицу не более 240-300 шагов. Нигде ни души…
Дронов, как и было условлено с Гребенниковым, отойдя от нашего наблюдательного пункта шагов на 50, бросил гранату и сам распластался для безопасности за бугорком. Раздался взрыв, да такой, что казалось, сюда немедленно сбегутся и оставшиеся станичники, и все беляки. Но, что удивительно, ни через минуту, ни через пять и даже ни через десять этот взрыв внимания к нам не привлек. Напугал он разве только нас самих тем, что выдавал наше месторасположение.
В этой обстановке особенно странной казалась не тишина в станице (оставшихся там было мало, а прибывшие белогвардейцы могли принять взрыв за обыкновенную шутку своих же людей), тревожило бездействие отряда Гребенникова. Неужели он изменил решение или, вынужденный отступить, сам был где-нибудь уже около [64] Березовской? Но почему тогда не известили нас? Неужели забыли?…
При таких ситуациях решения принимаются мгновенно: итак, садимся на коней и сами узнаем, что делается в станице. В случае чего уйти к своим всегда сможем.
Сначала едем по околице, затем по улочке, которая должна вывести к площади, кругом ни души. Прижимается к хатам и изгородям Вася Дронов, бывалый боец, хорошо знающий цену неоправданному риску, явно отстает второй дозорный, - по натуре человек вообще осторожный, он едет на несколько шагов сзади. Дронова и никак не хочет подтянуться ближе. Я впереди них на две-три хаты. Чувствую себя напряженно, но почему-то уверенно. Поощряет меня и Гнедок, который без удержу рвется вперед - может быть, потому, что чует свой хозяйский дом. Станица и дальше выглядит словно вымершей.
Еще не добравшись до угла улицы, откуда должна быть видна ревкомовская площадь, я начал прослушивать чей-то громкоголосый баритон. Немного придержав Гнедка, подал знак товарищам подъехать ко мне, но ребята остановились совсем, и я решил скорее добраться до угла и посмотреть, что же делается впереди, словно на этом и кончалась наша разведка и всем надлежало вернуться на наблюдательный пункт.
Высунувшись из-за угловой хаты, я сразу увидел, что около ревкома сгрудились с полсотни станичников, преимущественно женщины, а с крыльца какой-то горлопан в рядовой казачьей форме держал речь и азартно размахивал рукой. Возле него находилось несколько таких же бандюг, позади же толпы сидели верхами еще четыре казака. Сколько я ни старался сосчитать всех этих беляков, их никак не набиралось более десятка. «Оратор», по-видимому, уже окончил речь, так как мне стало видно, как он, присев на корточки, начал о чем-то разговаривать с окружающими.
Если б тогда, как и теперь, по прошествии многих лет, меня спросили, какие чувства побудили меня в этот момент атаковать врага, ответить я наверное бы не смог. Все-таки трое, а вернее, один против десяти…
Помню, как взял гранату, бросил ее для шума в сторону пустой улицы и, выхватив шашку, дал Гнедку шенкеля. С неистовым криком: «Дивизия, за мной!…» - бешеным галопом я мчался к ревкому.
Далее все события происходили с такой быстротой, [65] что трудно даже себе представить. Справа и слева мелькали хаты, а впереди на площади - кипящий муравейник разбегающихся людей. Сзади и спереди выстрелы. Хочется к разгулявшейся в воздухе шашке присоединить и меткий наган, но, когда враг уже близок, шашка лучше. Все внимание - на беляков, которые на крыльце, и на тех, что позади, в седлах. Но первые уже смешались с толпой, а вторые удирают, сбивая с ног местных жителей, по дороге на Березовскую.
Когда я проскакал по площади, она была уже почти пуста. Казачки в паническом ужасе, с громкими криками жались друг к другу у изгородей хат, выходивших на площадь. А некоторые, невзирая на длинные оборчатые юбки, прыгали через изгороди почти как заправские цирковые акробаты. Видимо, этим же путем скрылись и белобандиты. Ну а те, которые улепетывали на лошадях и теперь стали целью моего преследования, вдруг как будто напоролись на непреодолимую преграду, неожиданно и резко свернули влево, в первый же оказавшийся открытым двор, и, перемахнув через плетень, устремились в медведицкий лес.
Забыв обо всем на свете, я кинулся преследовать конных бандитов, но то, что было просто и легко для казака, оказалось непосильным для меня, доморощенного всадника. Разгоряченный до предела Гнедок, видимо, только из-за моей неопытности не взял барьера и резко остановился, чуть не сбросив меня на землю. Вот тут я по-настоящему и оценил урок, который преподал мне недавно конь моего учителя дяди Леши.
Мне ничего больше не оставалось делать, как израсходовать пару патронов на уже скрывшихся в лесу белогвардейцев и пожалеть, что ничего с ними не смог сделать. Их было четверо.
Пока я преследовал беляков, раздались наконец выстрелы и послышалось настоящее, многоголосное «ура» с атамановской окраины станицы. Это были наши, малодельские. Гребенников разделил отряд пополам, чтобы атаковать станицу с двух направлений.
Стоя у злосчастного тына, который преградил мне путь, я немного отдышался, осмыслил случившееся, затем любовно и с благодарностью похлопал взмыленного Гнедка по загривку и поводом повернул его на дорогу.
Именно в этот момент, не замечая меня, мимо промчались с шашками наголо казаки-одностаничники. На площади сгрудилась вся наша конная группа, за исключением [66] нескольких всадников, в том числе и Васи Дронова, которые поскакали искать бросивших своих лошадей белых. Небольшая группа казаков была послана на окраину станицы в дозор.
К станичной площади со всех сторон стали подходить пережившие панику малодельцы. Вот показался и дом ревкома, на крыльце которого сидел Гребенников и о чем-то распрашивал двух малодельских стариков, которые не уезжали с нами.
Я подъезжал к ревкому неторопливо, с чувством некоторой досады: упустил случай отличиться - белобандиты скрылись безнаказанно в лесу. Необычным было только то, что одностаничники как-то уж очень подчеркнуто освобождали мне путь к ревкому и по-доброму, тепло улыбались, сопровождая репликами:
- Молодец, Коля!
- Молодец, Соколов!
- Вот это хлопец!
Увидев меня, Григорий Иванович прервал разговор, встал и не без некоторой торжественности в голосе громко сказал:
- А ну-ка слезай, именинник!
Я соскочил с коня и подошел к Гребенникову.
- Молодец, Николай! Не ожидал от тебя такой прыти. Вон ты, оказывается, какой! - И уже обращаясь ко всем казакам добавил: - Вот вам, товарищи, и комсомол, москали!… Прислали только троих, а сколько дел успели натворить! А? Молодежь нашу узнать нельзя! Эх, если таких молодцов - да с десяточек бы! Всю станицу вывернули бы. - Потом обернулся ко мне: - Спасибо, Николай. Ты нам как родной теперь…
С этими словами предревкома схватил меня за плечи, подтянул к себе и, по-отцовски обняв, поцеловал.
- Ну как? Примем его в казаки? А? - Григорий Иванович обратился снова к станичникам. - И он с нами не пропадет, да и мы с таким тоже, пожалуй, в накладе не останемся!
- Примем!… Хорош!… Годится!… Молодец! - послышалось в ответ.
- И женим на казачке! - крикнул кто-то издалека, вызвав всеобщее оживление.
Гребенников помолчал немного и, как будто вспомнив что-то важное, сказал:
- А знаешь, Николай, ты ведь и собственного коня заработал. Тут нам целый табун достался - пяток неплохих [67] лошадок. Можешь отобрать любую. Или своего оставишь?
Еще и не видя трофейных лошадей, я уже считал своего Гнедка самым лучшим, ведь он теперь стал для меня настоящим другом. Не задумываясь, я ответил:
- Нет, уж лучше Гнедок. Он теперь как родной мне.
Оказывается, убегая в панике, белые оставили на привязи пять хороших, прекрасно экипированных дончаков. Хотя это было и немного, но зато очень кстати: ведь это пятеро новых всадников. В переметных сумках помимо хлеба, сала, нательного белья и винтовочных патронов были найдены и награбленные вещи: женские платки, золотые обручальные кольца, Георгиевские кресты первой и второй степени. В одной из сумок обнаружили даже золотой портсигар с какой-то надписью на французском языке.
Как выяснилось, белогвардейцы появились в станице буквально в час нашего отхода - видимо, были хорошо осведомлены, поэтому въехали в Малодельскую без промедления. Их было девять человек - двое раздорских, один из хутора Орловского и еще один из Сухого; остальных старики не опознали. Назвались они представителями свободного Войска Донского - звучало это, конечно, лучше, чем, например, самсоновцы, повстанцы или деникинцы. Прибыли они в станицу якобы предупредить, что, пока будет назначен станичный атаман, все должны сохранять порядок, но главное - если в станице появится кто-либо из красных или кто-нибудь из местных будет вести большевистскую агитацию, необходимо немедленно сообщать в Михайловку. За помощь красным, сочувствие им или иные действия против свободного Войска Донского любого ожидает виселица или расстрел. Особенно это относилось к малодельцам, сергиевцам, березовцам, которые по заявлению беляков прославились своим сочувствием большевикам.
Пожалуй, самым главным для нас явились сведения о том, что вслед за Михайловкой части деникинской армии взяли Филоновскую и подошли уже к Урюпинску и Поворино. Они совпадали с уже имевшимися у нас данными и подтверждали, что основные направления движения белой армии прошли мимо наших станиц, а это, в свою очередь, давало основание предполагать, что едва ли нас будут преследовать по пятам регулярные части деникинцев, не предвиделось и наличия в округе крупных сил самсоновских повстанцев. [68]
Впоследствии я поинтересовался, почему же Гребенников не начал атаки тотчас после взрыва гранаты, как было условлено. Оказалось, все перепутали якобы мы, сами исполнители сигнала. Григорий Иванович убеждал, что по его указанию атака должна была начаться после броска второй гранаты. Совершенно случайно оно так и получилось, но… взрыв гранаты произошел уже в самой станице и совсем по другому поводу. И случилось все так, как якобы было задумано. Второй взрыв уж наверняка привлек бы к нам внимание белогвардцейцев, и победа могла достаться малодельцам не такой простой ценой.
Итак, мы снова уходили из ставшей мне родной станицы. На этот раз я оставлял ее уже на очень долгое время. Снова я побываю в Малодельской только через 23 года, в лихую годину Сталинградской битвы…
До Березовской я ехал рядом с Гребенниковым во главе отряда. Все считали меня именинником, поэтому Гребенников сам указал мне это место в строю. Подумать только: верхом, да еще во главе казачьего отряда! Быть впереди отряда было для меня большой честью, но вместе с тем я чувствовал себя довольно напряженно. Может быть, в это время никто и не обращал на меня внимания, но мне казалось, что десятки казачьих глаз смотрели только на меня и критически оценивали и мою посадку в седле, и умение ездить на боевом коне, особенно когда наступал черед езды на рысях.
Тот, кто когда-либо ездил верхом, знает, как тяжело и утомительно отрабатывать посадку в седле. Я изо всех сил старался не ударить в грязь лицом и держался по всем положенным правилам. Мне казалось, что сам Гребенников, видя, как я стараюсь и устаю держаться, стоя на стременах, нарочно удлинял сроки езды на рысях. Я не раз подумал, насколько все-таки было легче одному скакать галопом по станице - пусть даже навстречу врагу, нежели теперь выдерживать испытание на бывалого кавалериста.
Пока мы добирались до Березовской, я не только сдавал экзамен по верховой езде - предмету гордости дяди Леши, - но осваивал на ходу и другую науку. Начиная с первой команды - на построение, - поданной Гребенниковым у ревкома, я всю дорогу повторял про себя и другие его команды, которые он отдавал отряду по тому или иному случаю - страстно хотелось научиться командному языку. [69]
В Березовскую мы въехали уже вечером. Нас ждали с нетерпением и свои, малодельцы, и березовцы. Из-за нашей чрезмерной задержки в станице распространился слух, что наш отряд напоролся на сильную засаду деникинцев, которые, заманив нас в Малодельскую, всех до одного уничтожили. Согласно этой версии, взятого в плен Гребенникова повесили на крыльце ревкома, а меня зарубили у церкви, куда я якобы кинулся, чтобы там скрыться.
Опасаясь налета деникинцев на Березовскую, решили выставить на ее окраине довольно сильное охранение, наготове была и усиленная разведывательная группа, которой вот-вот предстояло направиться в сторону Малодельской. Если б не посланный Гребенниковым вперед специальный нарочный, не исключено, что выставленное на окраине охранение, подпустив поближе, угостило бы нас градом пуль.
Станица Березовская оказалась буквально запруженной людьми, подводами и оседланными лошадями. Откуда взялось столько! Помимо малодельцев и березовцев здесь находилось много людей из приписанных хуторов. Только здесь я и увидел, как много собирается нас, красных, и какую силу мы можем представлять для противника во время похода по его тылам.
А время в Березовской не теряли даром. К нашему приезду была уже закончена вся организационная работа по формированию части. Малодельцы в этом отряде представляли малодельскую сотню. Наш объединенный боевой отряд, получив название Первого отряда Северного Дона, пробиваясь в сторону Балашова, должен был на каком-то рубеже соединиться с частями отступающей Красной Армии. Все казаки отряда высказали решимость в случае невозможности соединения с Красной Армией перейти к партизанским действиям в тылу врага. Многие из них уже имели опыт таких действий на Дону в восемнадцатом году, находясь в отрядах Миронова, Сиверса, Киквидзе.
В формировании нашего объединенного отряда большую активность проявил председатель Березовского станичного ревкома коммунист Лавягин, который и должен был возглавить наш поход. Судьба этого замечательного человека, как мне известно из рассказов, сложилась трагически.
Выяснив обстановку в Малодельской и будучи уверенным, что непосредственной угрозы нападения на Березовскую [70] в ближайшие несколько часов не предвидится, Лавягин решил перед походом съездить в соседний хутор - попрощаться с матерью и родственниками. Однако он не вернулся ни вечером, ни на следующее утро. Кто-то даже пустил слух о его измене.
Только на третий день, уже в пути, мы узнали, что случилось с Лавягиным. В доме матери его связали собственные родственники и на следующий день после нашего ухода из Березовской привезли в станицу. Вместе с занявшими ее белобандитами они учинили над казаком-коммунистом жестокую расправу: Лавягин был повешен у ревкома. Это известие буквально потрясло всех - первая наша, причем ничем не оправданная потеря. Всем отступающим стало еще более ясно, что возврата к старому нет, что только победа и полный разгром белогвардейцев вернут казакам мирную трудовую жизнь.
Рано утром 22 июня мы оставили Березовскую. Предстояло пробиваться к Елани, в Саратовскую губернию, на соединение с частями Красной Армии, - трудный, полный неожиданностей путь.
Я снова ехал впереди, но теперь уже впереди всего объединенного отряда красных станиц - Первого отряда Северного Дона, состоявшего после присоединения сергиевцев пока из трех, а после Даниловки - из четырех казачьих сотен. Это уже была сила!
Собрание командиров сотен, на которое пригласили и актив старейших казаков, по предложению Гребенникова избрало меня политическим руководителем отряда, В представлении казаков название политрук звучало лучше, чем комиссар.
На этом собрании, где утверждались и некоторые командиры, когда встал вопрос обо мне, один из стариков неожиданно спросил:
- Мало что храбрый, мало что хорош и как свой вроде, а вот накосить травы своему коню сможет?
- Сможет, - смело заявил Гребенников и предупредил меня: - Так что, Николай, не подведи. У нас, казаков, чтобы быть своим и пользоваться настоящим авторитетом, такое может оказаться важным делом. Если не умеешь - подучись, а потом при случае на виду у всех покажи свою хватку.
К счастью, к этому времени я уже умел и косить, и жать. Пригодились наши комсомольские выезды из Владимира на помощь деревне в восемнадцатом году. Совет Гребенникова я все же исполнил и, видимо, не напрасно. [71]
А вот об обязанностях военного комиссара части мне в это время не было ничего известно. Никаких директив по этому вопросу не поступало, и рассказать о них мне было некому. Поэтому свои функции я определил сам, по собственному усмотрению. Сводились они в моем представлении к следующим основным положениям: быть всегда среди людей и укреплять в них непоколебимую веру в торжество Советской власти, силу ее армии; защищать интересы казаков, всесторонне помогать командирам во всех их делах, и особенно в бою; не боясь пули, сабли и даже смерти, быть всегда впереди, там, где всего тяжелее и всего опаснее.
До соединения с частями Красной Армии, которое произошло в районе Елани через восемь дней после нашего выступления из Малодельской, отряд проделал стодвадцативерстный путь по тылам деникинской армии.
Утром 29 июня мы настигли на запыленных стенных просторах поток отступавших с боями красных арьергардов и вышли в район Краишево, Журавка, чтобы уже вместе следовать на Елань, где регулярные части Краевой Армии переформировывались и организовали оборону против наседавших деникинцев.
Мы вливались в знаменитую на Северном Дону, бывшую мироновскую, 23-ю стрелковую дивизию, в составе которой к этому времени подавляющее большинство красноармейцев и командиров были донскими казаками, в том числе и тех станиц, где формировался наш отряд.
Мне было приказано явиться в Елани к начальнику политотдела 23-й стрелковой дивизии. «Неужели придется оставить малодельцев и получить повое комсомольское направление - куда-нибудь в сдвинувшуюся к северу прифронтовую полосу?» - с тревогой подумал я и на окраине Елани отделился от своего отряда с твердым намерением остаться рядовым кавалеристом в той части, куда направятся пополнением наши малодельские.
В этот момент во главе отряда ехала именно наша сотня. Приободренные тем, что теперь они - уже подразделение регулярной Красной Армии, малодельцы пели какую-то лихую казацкую песню. И кто бы мог подумать, запевку вел «для особо важных поручений» вестовой - мой дорогой дядя Леша!
Прощаясь с ним, на всякий случай я сказал:
- Еще раз спасибо тебе великое за все.
- Тебе спасибо. Мне за что? Смотри только береги нашего Гнедка, он счастливый!… [72]
Комиссар полка
Вот и Елань. Поскольку здесь находился штаб дивизии, хотелось думать, что это по крайней мере небольшой благоустроенный городишко, но оказалось - бедноватая деревня.
Чем ближе я подходил к месту встречи с новым начальством, тем больше волновался, тем больше не давал мне покоя вопрос - куда дальше?
Штаб 23- й дивизии нашел на улице Заполянской, в доме Бедринцевых. Все уже было подготовлено к передислокации на другое место, а сюда прибывал штаб 1-й бригады этой же дивизии, которой предстояло организовать непосредственную оборону Еланя.
Политотдел дивизии находился здесь же, по соседству со штабом, но начальник политотдела комиссар Суглицкий задержался у начдива, и я ждал его на улице.
Почти через четверть часа со стороны штаба показалась высокая, стройная фигура Суглицкого. Шел он неторопливо, с непокрытой головой, одет был в походную, хорошо пригнанную летнюю форму, со старомодными брюками, подпоясан простым красноармейским ремнем. На вид комиссару было около тридцати; приветливые голубые глаза, какая-то особая, чуть размашистая походка. Мне показалось, что человек этот открытый, простой, доступный. И первое впечатление меня не обмануло.
Суглицкий потом рассказывал мне, что ему бросилась в глаза моя по-мальчишески воинственная внешность: не по росту длинная, чуть ли не волочащаяся по земле шашка, на поясе две гранаты и кобура нагана, на седле скатка подаренной Мелеховым казачьей куртки, а по бокам - чем-то набитые про запас переметные сумки.
- Вы не ко мне, молодой человек? - с любопытством спросил Суглицкий.
- Да, - ответил я, вытянувшись.
- Откуда?
- Из Первого отряда Северного Дона. ЦК комсомола [73] командировал нас… - начал было объяснять я, но Суглицкий сразу же прервал:
- А! Так это вы, значит, и есть Соколенок?
- Так точно, - ответил я, вспомнив, как этим именем меня впервые окрестили в семнадцатом году, чтобы не путать с отцом.
- Слышал, слышал. Кое-что уже рассказал о вас председатель вашего ревкома. Вы, кажется, не только по виду - по-настоящему боевой! Давайте-ка расскажите коротенько о себе. Кто ваши родители? Что вы делали до фронта? Давно ли комсомолец?…
Биография моя была слишком мала, чтобы долго на ней останавливаться. Наскоро покончив с этим, я воспользовался случаем, чтобы высказать и свои сокровенные чаяния. Я очень просил оставить меня бойцом фронта и не разлучать с конем. Суглицкий слушал не перебивая. Чувствовалось, что он меня изучает. Потом неожиданно спросил:
- Куда же мне вас девать, Соколеночек? По должности, на которую вас выбрали казаки, по вашему задору - хоть в комиссары ставь, а вот по партийному стажу… Да, ума не приложу. Жаль еще, что вы не из рабочих, да и вид-то у вас уж очень юный. Ну да что-нибудь придумаем. Пойдемте к начдиву, познакомлю вас с ним, там и решим.
Начдива мы застали вместе с начальником штаба.
- Извините. Мы к вам на одну минутку, - прервал их разговор Суглицкий. - Хочу представить товарища Соколенка, о котором рассказывал нам малодельский председатель ревкома.
- Помню, помню. Таким его примерно и представлял. Что же, молодых у Миронова немало было. Воевали неплохо, - сказал начдив.
- Я знаю, вы молодых любите, Александр Григорьевич. Хочу назначить его к Голенкову. Придется, конечно, с армией иметь разговор. Будут шуметь. Скажут - молод. Но, думаю, уговорю. Лично я верю - Соколенок оправдает себя.
- Надо полагать, - соглашаясь, подтвердил начдив. Выйдя на улицу, Суглицкий взял меня за плечо:
- Ну вот и все. Поздравляю. А теперь пройдите ко мне - дам несколько самых необходимых советов.
Мы снова оказались в доме Суглицкого.
- Очень жаль, что нет времени поподробнее обо всем поговорить. Вы назначаетесь на очень ответственный [74] и почетный пост комиссара 199-го полка 1-й бригады нашей дивизии.
Это был очень хороший боевой полк. Хотя и меньше других - ему досталось при отступлении, - поэтому требовалось срочно приводить там все в порядок.
- Главное сейчас - поддержать дух и заставить верить людей в нашу неминуемую победу. Слово комиссара, представителя партии в армии, - сильное оружие, - напутствовал меня Суглицкий. - Не допускайте, чтобы мусолили вопрос, почему отступаем, да кто виноват. На то и война. В этом отношении защищайте своих командиров. Отступление было лучшей их проверкой. Красноармейцы сами видели, как их командиры дерутся за Советскую власть. А с болтунами, паникерами, смутьянами, провокаторами, дезертирами не церемоньтесь! В бою будьте храбрым, но не безрассудным. Случается, что нужно и жертвовать собой, но такая жертва должна обойтись противнику во сто раз дороже…
Суглицкий помолчал, улыбнулся чему-то своему и продолжил:
- Теперь о командире - товарище Голенкове. Это один из лучших наших командиров полков. Он сам казак, из офицеров старой армии, но нами проверенный. Мы ему доверяем. Волевой, строгий, справедливый, с большим самообладанием. Красноармейцы его любят и за ним - хоть в огонь! В дела командира, за исключением особых, чрезвычайных случаев, а их, надеюсь, не будет, не вмешивайтесь, но будьте, по возможности, всегда рядом с ним и сами учитесь искусству воевать. Нужно вести дело так, чтобы он видел в вас друга и помощника.
В полку есть коммунисты. Они всегда были и будут лучшими, бесстрашными бойцами революции. Умейте их беречь. Вот, пожалуй, и все. Чего недосказал - разберетесь сами. Жизнь подскажет. Вопросы какие-нибудь есть?
- Есть, - вздохнув, сказал я. - Как быть с отрядом? Там меня ждут, наверное.
- По всей вероятности, он будет расформирован и усилит первую бригаду, а значит, и ваш полк. Своих еще встретите.
- Когда я должен явиться к Голенкову?
- Чем скорее, тем лучше. Полк к вечеру будет в Елани. Сейчас он в пути, где-нибудь по дороге с Тростянки. [75]
- А как насчет документов, чтобы там меня признали?
- Это необязательно. Принимать дела не у кого, полк без комиссара. А Голенкову передайте от меня привет и скажите, что назначаетесь комиссаром полка.
Итак, я отправился к новому месту службы.
* * *
Непередаваемо ощущение - двигаться в одиночку против потока отступающей массы людей, заполненных ранеными обозов, верениц крестьянских подвод. Я старался держаться так, будто выполняю особое поручение. Останавливаясь у отдельно следующих групп красноармейцев или одиночек-кавалеристов, настойчиво расспрашивал, не бойцы ли они 199-го полка и не попадался ли он им в пути. Одни говорили, что полк еще сзади, другие иронически отвечали: мол, спохватился - 199-го только пятки сверкают где-то за Еланью. Проехав около десяти - двенадцати верст, примерно на полпути к Тростянке, я наконец услышал в ответ от чинно восседавшего на вороном коне командира:
- Это и есть сто девяносто девятый.
И каково же было мое удивление, когда я узнал, что командир полка Голенков совсем недавно проследовал здесь на Елань и что я с ним просто разминулся. Оказалось, что даже видел его. Голенков ехал на тяжелой пролетке, запряженной тремя лошадьми, с привязанным сзади, между колес, сундуком. Эту тройку я заметил всего минут пять назад, когда она на рысях катила прямо по полю, параллельно дороге с наветренной стороны, сопровождаемая почти полусотней казаков. Я тогда подумал, что едет, наверное, какое-то большое начальство, и меня как-то покоробило присутствие в пролетке женщины. Я не знал, конечно, что рядом с Голенковым сидела его жена - казачка, которая, как и тысячи других, вынуждена была бросить свой родной дом на Дону.
Оставалось совсем немного до Елани, когда я нагнал наконец лихую тропку. Голенков был закутан в какой-то весьма запыленный плащ, из-под которого высовывалась очень сильно изогнутая сабля, отделанная серебром. В его мужественном, с резкими крупными чертами лице, в сильном холодном взгляде и неподдельном спокойствии чувствовалось дыхание воли, твердость и уверенность в успехе доверенного ему дела. По виду этого человека никак нельзя было сказать, что он отступает. [76]
Заметив, что я поравнялся с ним, чтобы, как показалось, что-то передать, Голенков похлопал по спине сидевшего на козлах казака и подал ему сигнал перевести лошадей на тихий шаг.
Я представился. Еле заметно повернув голову в мою сторону, Голенков спросил:
- Вы давно из штаба дивизии? - И получилось это у него так обыденно, будто мы были давнишними друзьями.
- Часа полтора.
- Где нашли его?
- В Елани.
Услыхав это, комполка несколько оживился:
- А разве они еще там?
- Теперь не знаю, но думаю, что там. Когда я был с товарищем Суглицким у начдива, слышал, как он дал распоряжение двигаться дальше и добавил, что сам с начальником штаба и Суглицким останется пока в Елани и подождет приезда Федорова и Львова.
Первый, я уже знал, был командир 1-й бригады, в состав которой входил наш полк; второй мне был неизвестен, но потом я выяснил, что это командир 2-й бригады нашей же дивизии.
- Хорошо. Раз так, надо поторопиться, чтобы застать их в Елани. С вами мы еще наговоримся, а теперь не отставайте. - С этими словами Голенков приказал возничему ехать быстрее.
Я присоединился к группе, которая следовала позади командирской пролетки Голенкова. Это оказалась конная разведывательная команда.
В составе ее - храбрейшие казаки-фронтовики под командованием Масленникова. Я чувствовал себя чуть ли не на седьмом небе: это уже был по-настоящему мой полк и вот я ехал во главе его кавгруппы…
На самой окраине Елани нас встретил комендант полка. Голенков снял свой до крайности запыленный плащ, тщательно протер лицо полотенцем и пересел на верховую лошадь. Всем его сопровождавшим было приказано следовать на отведенные квартиры.
Вскоре мы с Голенковым были у начдива. Кроме его самого здесь находились Суглицкий, помначдив Блинов, начальник штаба дивизии Руднев, командир нашей 1-й бригады Федоров, два командира полка 2-й бригады и несколько других командиров, которых я еще не знал. Все они плотным кольцом окружали стол и изучали [77] карту, по которой начдив давал предварительные указания о позициях, разграничительных линиях, местах резервов.
Суглицкий первым заметил наше появление еще в дверях. Поздоровавшись с Голенковым, он полушепотом сказал:
- Вот вас и поздравить можно с новым комиссаром. Любите его. Этот боевой комсомолец с медведицкими прибыл.
Командир скупо улыбнулся:
- Нам боевые всегда нужны. А медведицких кому отдали?
- Кому же, как не вашему Федорову! Казаков из этих мест у вас больше всех. Со своими вместе и драться лучше. - С этими словами Суглицкий взял под руку Голенкова и, указывая на группу командиров, добавил: - Ну, давайте к карте, дела там и вас касаются. Вам Елань-то защищать…
Вскоре я был уже в штабе полка, где нашел адъютанта Шубина и ожидавших здесь Голенкова начальника связи полка Масленникова (однофамильца начальника конной разведки), командира полковой артиллерийской батареи Фомина, а также двух дежурных связистов, уже хозяйничавших с полевыми телефонами. Посредине просторной комнаты стоял обставленный скамьями большой канцелярский стол, на котором была разложена помеченная разноцветными карандашами карта-десятиверстка с красными и синими стрелками, указывавшими движение наших и вражеских войск…
Старый кавалерист Голенков с явным пренебрежением относился ко всему, что было связано с канцелярией и писаниной. Поэтому штаб его полка всегда находился в полковом тылу, в расположении обоза второго разряда. При себе он держал только адъютанта и писаря. Всю необходимую документацию оформлял нехотя и, как правило, задним числом. Словом, в дивизии Голенков был известен как командир, у которого весь штаб в полевой сумке.
Предпочитая личное общение с полковыми командирами, он, как правило, вызывал их к себе или отправлялся к ним сам. В бою Голенков неослабно следил за развивающимися событиями и, если того требовала обстановка, корректировал принятые им решения или исправлял ошибки подчиненных личным своим вмешательством. Однако подобное вмешательство происходило [78] только в самом крайнем, критическом случае. Голенков выдвигал на должность и уважал в основном тех командиров, которые в бою были стойкими и всегда рассчитывали только на собственные силы.
В боевой обстановке не раз случалось, что командир дрогнувшего под натиском врага участка присылал на командный пункт нарочного или появлялся лично с паническим докладом, что у него «все гибнет». Но и в такие моменты обладавший железным хладнокровием и невозмутимостью Голенков мог заявить: «Исправляйте положение сами. Там, где обстановка вам кажется лучше, она вот-вот может измениться и стать критической - тогда все пропало». И с этой точки зрения его предвидения нередко оказывались верными. Я неоднократно был свидетелем того, как командир какого-либо участка был совершенно уверен в своем успехе, а на его направление Голенков подтягивал резерв полка, и вскоре оно действительно становилось решающим. Голенков очень хорошо чувствовал пульс боя, замечательно разгадывал замысел врага. Следует отметить, что к использованию резерва полка, своей конной группы, которую называли не иначе как «чертова сотня», он прибегал только в самых исключительных случаях.
Однако, пожалуй, самое ценное в этом незаурядном командире гражданской войны было то, что в минуты особой опасности или напряжения он бесстрашно бросался в атаку со своей конной группой и личным участием в рубке врага восстанавливал положение, возвращая подчиненным самообладание и твердость. И происходило это всегда с одним неизменным боевым кличем: «За мной, за Советскую власть!»
Я понимал, что такому командиру нужен и комиссар, который не уступает по храбрости, который в тяжелые моменты может наравне с ним делить ответственность за судьбу полка.
Бесстрашного Голенкова уважали и любили командиры частей. Все знали, что в трудную минуту, не дожидаясь указаний сверху, Голенков примчится им на выручку, и поможет, и отбросит врага. Это он делал по отношению к своим подразделениям.
Голенков казался очень самоуверенным человеком, но это не снижало его веры в бойца как решающую силу войны. Он часто говорил: «Если я среди красноармейцев, мне ничего не страшно, с ними я выйду из любого положения». [79]
Бойцы же знали его как молчаливого, необщительного и очень строгого командира. В свободное от боев и походов время комполка почти никогда не бывал среди них, но красноармейцы обязательно ждали и дневного и ночного его объезда, когда находились в окопах, на сторожевых заставах, постах и наблюдательных пунктах. Только здесь он мог позволить себе накоротке, задушевно поговорить с бойцами, без намека при этом на какое-либо панибратство, заискивание или дешевый авторитет. Именно за это и любили красноармейцы своего командира полка, безгранично веря в него. Лихое «с нашим командиром не пропадешь» можно было часто слышать от красноармейцев и на привале, и перед самым боем.
Я подробно остановился на характеристике Голенкова потому, что он представлял особый тип той части командиров гражданской войны, которые пришли к нам из офицерского состава царской армии и связали свою судьбу с Советской властью. Офицером казачьих войск Голенков возвратился с фронта на Дон вместе с революционно настроенными казаками и сразу же включился в борьбу с белогвардейщиной, которую возглавлял генерал Краснов, поднявшей в 1918 году мятеж против Советской власти.
Наш комполка был беспартийным, но это не мешало ему честнейшим образом служить народу, Советской власти. На вопрос, почему он не вступает в члены партии, Голенков отвечал:
- Пока заслуг мало - будет похоже, что примазываюсь. Войну выиграем, тогда видно будет. А пока, случись что, веревку для меня подберут не тоньше, чем для идейного.
Нужно отметить, что среди казачьих офицеров, перешедших на сторону революции и ставших командирами частей, встречались и такие, которые, признавая за партией руководящую и организующую роль в армии, вместе с тем критически относились к необходимости существования в армии должности комиссара, усматривая в этом обидный для себя контроль.
Голенков не разделял такого мнения. Он уважал работу комиссара, видел в нем большую помощь и опору и не прочь был переложить на него ряд своих административных обязанностей, от которых, как он считал, тяжелели его руки. В частности, он целиком полагался на своего комиссара в вопросах воспитания бойцов, [80] очень ценил усилия в деле насаждения и поддержания крепкой революционной дисциплины. Ему нравилась повышенная активность комиссара в хозяйственных делах полка, разбирательстве всевозможных жалоб на них.
Голенков охотно обучал меня командным навыкам, доверял даже руководство боевыми действиями подразделений на отдельных участках полка, когда обстановка осложнялась или становилась напряженной. Эта учеба потом себя оправдала полностью.
Адъютант командира полка Губин тоже был беспартийный и тоже выходец из офицерской среды. По внешнему облику - рослый, крепкого телосложения, совсем беловолосый, с крупными выцветшими бровями и с приплюснутым носом молодец лет около двадцати пяти. По характеру своему он был очень предприимчивым человеком, о которых говорят: «Этот нигде не пропадет».
Февральскую революцию он встретил пехотным прапорщиком, в дни правления Керенского принимает активное участие в формировании одного из женских батальонов бочкаревок. Однако впоследствии начал принимать активное участие в революционных солдатских комитетах. На посту адъютанта командира полка (должность эта вполне устраивала Губина) он умел служить исполнительно и четко, но обставлял свою службу так, чтобы она никогда не переходила рубежа дальнобойности вражеской пули и снаряда. Далеко в огонь войны предпочитал не лезть, считая, что «погибнуть - дело не хитрое, лучше сохранить себя для грядущих поколений». Командир полка знал слабость своего адъютанта и, придерживаясь взгляда, что пуле больше трус по вкусу, никогда его с собой в атаку не брал.
* * *
Но вернемся в июнь 1919 года, в первый день моего пребывания в 199-м полку.
Когда Голенков вошел в штаб, все вызванные им командиры были уже на месте. Настроение командира полка было несколько приподнятое, и чувствовалось, что он уже окончательно сбросил с себя усталость тяжелого дня отступления. Поздоровавшись со всеми отрывистым, едва заметным кивком и приветственным жестом руки, Голенков представил меня.
- Товарищи, вы, наверное, уже познакомились, но я еще раз хочу представить: вот наш новый комиссар. Прошу любить и жаловать. К тому же он наш, медведицкий. [81] - И, обратившись непосредственно ко мне, комполка продолжил: - Вы прибыли к нам очень вовремя. Надо приводить все в порядок - да и обратно на Дон. Отступать дальше некуда. Народ у нас хороший, боевой, закаленный, и ваших казаков много. А вы из какой станицы?
Голенков говорил со мной, как с коренным станичником, и, видимо, считал, что имеет дело с самым настоящим казаком. Я решил не скрывать, что «казак» я только по стечению обстоятельств, и полушутливо ответил:
- Как только нашью себе лампасы, обязательно буду говорить, что я из станицы Малодельской, а пока что владимирский комсомолец, или, как у вас говорится, казак из Рязанской губернии. - Все расхохотались, чувствовалось, что ответ мой пришелся по душе. - По мобилизации ЦК комсомола я работал членом ревкома в Малодельской, с малодельцами и отступал, а вот теперь попал к вам.
Стоявший рядом со мной командир конной разведки Масленников, с которым я уже успел познакомиться и о многом поговорить, сказал:
- Товарищ Голенков, час назад часть малодельцев и березовцев прибыла ко мне пополнением. Они кое-что рассказали и о боевых делах нашего комиссара. Лампасы можно нашивать без опаски.
- Уже прибыли? А сколько? - заинтересовался Голенков.
- Пока тридцать один человек. У них там безлошадных много. Будут лошади, целый полчишко сколотить можно. Прибывшие докладывают, что сегодня и остальные к нам присоединятся.
Вот так просто, без всяких торжественных церемоний, 29 июня 1919 года я был назначен и вступил в должность комиссара 199-го полка 1-й бригады 23-й дивизии 9-й армии Южного фронта.
Мне в определенном отношении сразу же повезло. Вызов в штаб командиров подразделений, постановка перед каждым боевой задачи да и доклады с мест позволили мне, как говорится, в один заход войти в курс боевой обстановки по крайней мере в масштабе нашей бригады и познакомиться сразу со всем командным составом. Голенков очень подробно расспрашивал о численности подразделений по состоянию на 29 июня, о количестве убывших людей, о потерях конного состава, вооружения [82] и материальной части за все время отступления, о настроениях и жалобах красноармейцев. Сведения, тщательно записываемые адъютантом, должны были этой же ночью отправиться донесением комбригу. И признаюсь, самое большое впечатление из всего выслушанного произвела на меня фактическая численность боевого состава полка. Она представлялась мне величиной не в одну тысячу человек, в действительности же, пока не поступило пополнение, оказалась равной немногим более трехсот штыков и полсотни сабель. Кстати, у соседних полков количество людей было еще меньшим. Таким образом сказалось отступление.
Небольшой численный состав полка, с одной стороны, огорчал меня, с другой - придавал уверенности, что с поставленными передо мной должностными задачами, я могу вполне справиться, И еще задолго до того, как товарищи начали расходиться, я сговорился с Масленниковым ехать вместе на ночь, в его подразделение. Это устраивало меня во многих отношениях. Конница располагалась по соседству со штабом и выполняла пока роль личного резерва командира полка. Я же, не теряя дорогого времени, реально начинал непосредственное знакомство с бойцами. Кроме того, Масленников обещал выделить мне и хорошего ординарца, будущего моего боевого спутника и друга, который поможет и в уходе за конем.
Голенков отнесся к моей поездке в отряд Масленникова благожелательно. Он только очень сожалел, что за текущими делами не успел как следует поговорить со мной лично, чтобы хотя бы коротко узнать мою биографию и рассказать об истории полка, его командирах и общем состоянии дел на текущий день - после большого отступления.
Итак, совсем поздно вечером мне удалось все же побывать среди красноармейцев. За недолгую дорогу Масленников успел рассказать кое-что о боевой жизни своей команды, о ее людях и, главное, об особенностях целевого использования отряда разведки, которое было здесь совершенно другим по сравнению с полками стрелковых дивизий на других фронтах.
Наша 23- я дивизия была сформирована на базе отряда Миронова и других казачьих партизанских групп, действовавших на Дону в восемнадцатом году, Хотя она и значилась стрелковой, преимущественно казачий состав ее всегда толкал командование полков -конечно, не без [83] молчаливого согласия командования бригады и дивизии, - в обход существовавших штатов, увеличивать у себя количество конницы. Если бы было достаточно лошадей, можно не сомневаться, что Голенков не замедлил бы довести боевой состав своей так называемой конной разведки до половинной численности всего полка. Я уже говорил, что командир видел в ней не узко разведывательную тактическую единицу, а прежде всего свою ударную конную группу, с которой он бросался в атаку на противника, особенно когда полку угрожала большая опасность.
Знакомство с казаками Масленникова проходило совсем не так, как мне представлялось. Люди были разбросаны по отдельным дворам Елани, поэтому объезжая их по очереди, мне пришлось повторять одно и то же несколько раз. Приученные войной не спать по ночам и пользуясь теплотой июньской ночи, все красноармейцы находились во дворах, около своих коней и в большинстве случаев отдыхали на ароматной, только что накошенной траве. В основном бойцы обсуждали происшедшие за день события или занимались личными делами, приводя в порядок свое обмундирование, снаряжение. И только в одном дворе было до тесноты многолюдно и шумно - здесь разместились почему-то все вместе прибывшие на пополнение полка наши малодельцы, березовцы и сергиевцы. И земляки атаковали их расспросами о доме, о житье-бытье в станицах и хуторах. Когда мы появлялись там, вновь прибывшие совестили какого-то казака из хутора Сенного: мать убивается о нем дома, чуть ли не поминает за упокой, а он себе и в ус не дует - никаких вестей о себе не подает!…
Таких казаков было немало. Дома ждали хоть короткой весточки их матери, жены, невесты, дети, а им словно и дела нет до этого. Кстати, здесь же два разведчика полка узнали, что жены их тоже отступали с нашим отрядом и теперь находятся в полковом обозе второго разряда. С разрешения Масленникова казаки тотчас же отправились к обозу.
В этот вечер Масленников всюду начинал с представления меня как нового комиссара полка. Почти все уже видели меня еще днем по дороге на Елань, но никто и не подумал тогда, что это - их новый полковой комиссар. Теперь же они отметили не без удовольствия, что, несмотря на ночь, комиссар приехал к ним, конникам, первым. [84]
При каждой встрече мне пришлось отвечать на одни и те же обязательные вопросы: сколько лет и из какой я станицы. В одном месте ответил, как всегда, в шутку: из рязанской. Тут же последовало с обостренным любопытством:
- А какого она округа? Что-то не слышал такую.
- Есть и такая, - ответил я. - Как не слышали! Немногим больше полутора сотен верст от Москвы. Знаете, откуда махорка к нам поступает?
- А… Которых косопузыми зовут! У нас фуражир Петр Болотников оттуда был.
- Да, тот самый, но я только на одну половину косопузый, на вторую - с владимирскими богомазами сроднился. По отцу из косопузых, по матери - от богомазов. Теперь, породнившись с казаками, думаю, с вашего разрешения, заселить где-нибудь на Медведице новую станицу и назвать ее или рязанско-суздальской, или владимирско-касимовской.
Чубатые, потемневшие от загара и ветра лица говорили о воле и мужестве этих людей, о непреклонности бороться до победного конца. Подавляющее большинство были настоящими патриотами своей команды, полка, дивизии. Если судьба отбрасывала их в сторону от товарищей по полку, они всегда искали и обязательно находили возможность возвратиться в свою часть. И ждали их здесь, и встречали как дорогих, родных людей. Даже в своей же бригаде или дивизии их нельзя было переманить в другую часть, пусть та и представлялась им в более заманчивом положении. К примеру, самые боевые разведчики команды Масленникова никогда не изъявляли желания перейти в блиновскую конную бригаду нашей же дивизии, где служба для истинного кавалериста могла показаться более выигрышной, действительно боевой и где простору для казачьей души было хоть отбавляй.
Первая же встреча с бойцами показала, что все они безгранично верили в своих командиров, с любовью рассказывая о них всякие боевые и занимательные истории. И безусловным авторитетом для них являлся, конечно, сам командир полка Голенков.
Однако кое-что меня и озадачивало. Как комиссар, я решил взять на учет партийцев и комсомольцев, а их-то, за исключением самого командира конной разведки Масленникова, не оказалось.
- Среди казаков партийных мало, их больше в пехоте, [85] - высказался один мигулинский казак. - У нас был такой, из иногородних, да после ранения пока что-то не вернулся. Нам, казакам, как-то не до того. Да и заслуг и грамотности у нас еще мало, чтоб в большевики влазить. А что касается ответственности, то, попадись к белякам, с нами расправятся, как с идейными, без скидки.
В этих рассуждениях слышалась точно такая же нотка, которая была свойственна и самому командиру полка Голенкову. Мысли командира незримыми путями передавались его бойцам.
С комсомольцами дело обстояло не лучше.
- Какие среди нас комсомольцы? Как видите сами, у нас все уже вышли из этого возраста! - так отвечал за всех своих совсем еще молодой казачина. По всему было видно, что в его представлении комсомольцами могли считаться только юноши допризывного возраста.
Стало совсем светло, когда мы расставались с последней группой, где разговор получился особенно долгим. Это были казаки, только что поступившие к Масленникову на пополнение из нашего отряда.
В это время совершенно неожиданно во двор въехала на добром дончаке смуглая стройная девушка в белом с красным крестом платке и санитарной сумкой на плече. Удалой вид, правильная и завидно красивая посадка на коне, подвешенная с левой стороны седла казачья шашка - все говорило о том, что это не просто сестра милосердия, но и боец-кавалерист. Оказывается, еще часа три назад ее вызвали сюда помочь одному из малодельцев, у которого начались такие боли в животе, что хоть ложись и умирай.
Узнав, что больному уже намного лучше и в помощи он не нуждается, девушка со словами: «Тогда прощевайте, у меня еще других больных много» - повернула коня и на рыси выехала со двора.
Масленников успел рассказать мне об этой необыкновенной медсестре очень немногое:
- Вот вам и наша комсомолка. Она казачка, любимица и гордость всего полка. Одна у нас беда с ней - все мы в нее влюблены, а она даже холостых не признает. Жалеет только одних раненых, да и то пока перевязывает…
Впрочем, на другой день комсомольцы нашлись и среди конной разведки Масленникова, и в пехоте. Но только двое оказались старожилами полка, со служебным стажем немногим более двух месяцев. Все же остальные, [86] подобно мне, прибыли на Дон по первой комсомольской мобилизации и теперь, после отступления, влились пополнением в наш полк. Почти все они, минуя политотдел дивизии - чтобы не быть посланными куда-нибудь на тыловую работу, - являлись прямо в подразделения полка и просили о зачислении добровольцами в ряды Красной Армии. Среди них мне было особенно приятно встретить краснощекого, коренастого саратовца Сашу Агапова, с которым я познакомился еще в Козлове, куда мы, владимирцы и тридцать саратовских комсомольцев, прибыли одновременно по мобилизации. До этого Саша Агапов был секретарем комсомольской ячейки в Саратове. Здесь же, на Дону, он, как и мы, владимирцы, был направлен на работу в хутор Секачи, что в тридцати верстах северо-западнее станицы Малодельской.
На мое предложение возглавить в полку комсомольскую работу Саша Агапов охотно согласился. Мы решили начать с небольшого - взять на учет всех комсомольцев, включая и тыловиков, с тем чтобы в последующем перераспределить их равномерно по всем подразделениям полка и, организовав там ячейки, начать вовлекать в комсомол наиболее боевую и преданную делу партии молодежь. Нужно отметить, что и Суглицкий еще при первой нашей встрече сказал, что он ожидает комсомольское пополнение, и обещал усилить им наш полк.
Объехав за два дня почти все полковые подразделения и воспользовавшись тем, что на фронте спокойно, я решил добраться и до полкового обоза второго разряда, располагавшегося примерно в пятнадцати верстах, в деревне Водопьяново, северо-восточнее саратовской Елани. Эта поездка входила в план моего ознакомления с полком, и Голенков ее одобрил. Командир рассматривал тыл части не только как снабжающий орган, но и как боевую организацию, которая в условиях гражданской войны иногда даже первой подвергалась ударам со стороны прорвавшихся конных групп противника. Кроме того, там же обычно располагался и штаб полка, а также санитарные учреждения, в которых скапливалось изрядное количество легкораненых красноармейцев. Для меня было очень важным, пока не начались бои, не только ознакомиться с этой организацией и ее людьми, но и на место разобраться с жалобами на наших хозяйственников, которые уже передали мне красноармейцы-фронтовики.
А жалобы эти были немногочисленны. В красноармейце гражданской войны всегда поражала исключительная [87] нетребовательность и терпимость к слову «нет». Если ему говорили, что чего-либо нет и только потому, что именно этого нет или не хватает в республике, значит, «на нет и суда нет». Мы все глубоко верили, что, когда победим, у республики будет всего вдоволь. Конечно, случалось и иначе, то есть когда чего-либо необходимого не хватало по чьему-то разгильдяйству или нераспорядительности.
С этим я и собрался ехать к своим тыловикам, в полковые обозы первого и второго разряда, надеясь как можно раньше вернуться в Елань. Присутствовала, признаюсь, и скрытая цель - повидать там влившихся в полк малодельцев и представиться им в роли комиссара.
Я уже был на коне, когда выбежавший из штаба связист доложил, что звонили из дивизии и передали: если на фронте ничего непредвиденного не произойдет, то Суглицкий ждет меня в политотделе во второй половине дня, и чтобы, я захватил с собой какой-нибудь документ, подтверждающий мой возраст. Этот неожиданный вызов в политотдел меня радовал, так как уже было о чем доложить. Однако зачем потребовалось официальное подтверждение моего возраста? Что касается документа, то он всегда был при мне - это церковная метрика, где значилось, от кого и когда я родился, кто крестил. Датой рождения там значилось 6(19) ноября 1900 года. Значит, всего через пять месяцев должно исполниться уже целых девятнадцать годков…
А дела и настроения в обозе оказались далеко не радужными и совсем не такими, как я представил их себе под впечатлением первого знакомства с бойцами и командирами передней линии.
Здесь, в тылу, жаловались и на скудость питания, которое получали, кстати, регулярно, и на качество белого хлеба, о котором в центральных губерниях страны в то время только вспоминали, и на обмундирование, и на недостаток мыла. Как частенько бывает в боевых условиях с такими горе-тыловиками, жалобы свои для вящей убедительности они подкрепляли плаксиво-удручающим: «Чем так жить, лучше пойти на передовую».
Многое из того, на что жаловались тыловики, зависело, конечно, от них же самих и при первом разбирательстве на месте оказывалось несостоятельным. Что же касается готовности сменить тыл на передовую, то по возвращении в Елань я сделал все возможное, чтобы помочь им в этом, так как люди на фронте были очень нужны. [88] На другой же день Голенков охотно подписал приказ о переводе из тыла в батальоны одиннадцати таких охотников, которых я успел записать.
Нужно сказать, что после такого оперативного мероприятия тыл стал сразу работать более четко, и можно было надеяться, что он окажется достаточно стойким при внезапном налете противника.
Ну а перед тем как расстаться с тылами, я заглянул и к своим малодельцам, порядочное количество которых оказалось в нашем обозе второго разряда. Вот где встретили меня по-дружески, с неподдельной искренностью! Несмотря на то что наши станичники являлись беженцами и испытали горечь отступления, выглядели они все геройски, не высказав ни одной жалобы ни на невзгоды судьбы, ни на материальную нужду. А главное - все верили в скорую победу Красной Армии и возвращение в родную станицу.
Особенно трогательной и памятной была моя встреча с казачкой Мелеховой. И без того слабоватая на слезы, добродушная хозяйка моя разревелась так, что хоть кричи караул. И плакала она не только от радости нашего свидания, но, главное, как оказалось, оттого, что не уберегла мою домашнюю дорожную корзинку, охрану которой возвела до степени чуть ли не государственной важности. Сама-то корзинка осталась цела, а вот содержимое ее изъяли подчистую и, словно на смех, снова повесили замок и заперли его. Осталась в ней только одна простая чайная ложка. Как это бывает в таких случаях, с желанием найти что-либо еще я стал шарить по дну корзинки и вдруг нащупал какую-то дощечку. Она лежала под постеленной на дне газетой, в правом углу, как бы притаившись, прячась от любопытных глаз. Когда я ее извлек и перевернул, то, ошеломленный увиденным, чуть не шарахнулся в сторону. У меня в руках был маленький образок тезоименного мне святого Николая чудотворца - тот самый образок, которым перед отъездом из дома моя мать пыталась перекрестить меня на дорогу.
Вот почему, оказывается, она так упорно настаивала взять корзинку, а не солдатский мешок, где такой образок был бы сразу обнаружен. А здесь закрепила под газеткой ко дну - и концы в воду. Ну удружила!…
Случись такое теперь - любой из нас улыбнулся бы и мысленно перелетел бы к родной матери. Но в то время такая находка, да еще в собственной корзинке комсомольца (уж не говоря, что комиссара), была равносильна [89] удару по голове обухом, если не больше - предательством делу революции!
Ведь тогда мы, комсомольцы, не только начисто отвергали всякие образы святых угодников, но избегали в своих разговорах и выступлениях даже терминологии, хотя бы отдаленно напоминающей о них. Если, например, употреблялись слова «таким образом», то обязательно находился приятель, который немедленно замечал: «Что ты забыл в этих образах?…» А тут в собственной корзинке - и самая настоящая икона!
От такой находки я просто растерялся. Я, правда, не горевал о потере своего нехитрого имущества, разве только недоумевал, как же могло случиться, что и на фронте оказались жулики? Воровство представлялось мне старорежимным злом, безусловно, мирного времени. Больше в тот момент я думал о том, как хорошо и счастливо случилось, что никто не видел злосчастной иконки, и проворно упрятал ее в карман, чтобы выбросить где-нибудь в поле.
На прощание мы с Мелеховой крепко расцеловались. Старая казачка просила об одном - не забывать их дом в Малодельской и навсегда считать ее второй матерью. Каково же было мое удивление, когда, уже в седле повернувшись к ней, чтобы помахать рукой, я увидел, как и она с не высохшими от слез глазами еле заметным движением руки крестила меня…
* * *
Шел только третий день, как я был назначен комиссаром полка. Закончив ознакомление с тыловыми учреждениями, помню, возвращался в Елань, сделав немалый зигзаг, чтобы заехать и в политотдел дивизии. Вполне удовлетворенный, я мог уже о многом доложить и одновременно внести ряд полезных предложений по повышению боеспособности полка.
Суглицкий встретил меня так, будто я находился под его началом продолжительное время. Он уже знал, что с утра я был в полковом обозе, и даже похвалил за это, подчеркнув, что наши комиссары делают ошибку, мало уделяя внимания этой капризной организации. Начподив подробно расспрашивал о том, где я уже успел побывать, с кем познакомиться, каково было мое первое впечатление о людях полка и его командирах, о настроениях и моральном состоянии красноармейцев.
На все его вопросы, как мне казалось, я отвечал бойко, [90] без запинки. Не забыл напомнить и о некоторых жалобах бойцов. Судя по всему, Суглицкий был осведомлен о положении в полку достаточно хорошо и без моих откровений.
А в конце нашей беседы, будто между прочим, сказал:
- А знаете, Соколенок, мне за вас пришлось целое сражение выдержать. Полностью, правда, его еще не выиграл: Реввоенсовет армии из-за вашего возраста никак вот не может согласиться с назначением на полк.
Почувствовав, что я изрядно смутился, начподив нагнулся через стол и, похлопав меня по плечу, поспешил добавить:
- Но ничего, не волнуйтесь. Где же усатых, с подпольным стажем набраться?! А я и вообще за молодых. В них перцу больше. Как вы думаете, а?
Шутливый и ласковый тон, с каким Суглицкий все это говорил, а также замечание о молодых давали мне повод несколько успокоиться. Однако что можно было ответить?
- Я вас, товарищ Суглицкий, не подведу, - только и сказал я, глядя ему прямо в глаза.
Начподив на этом прервал меня:
- Вы, Соколенок, только не волнуйтесь. Я почему-то уверен в вас. Есть в вас что-то такое, что мне нравится. И боевой вы к тому же… А кстати, захватили вы с собой что-нибудь вроде паспорта или удостоверения какого-нибудь с годом рождения?
Давно готовый к такому вопросу, я смело ответил:
- У меня ничего нет, кроме ревкомовского удостоверения и комсомольского билета, но в них год рождения не указан.
- На нет и суда нет. А сколько же вам точно лет?
- Скоро исполнится двадцать, - слукавил я и подумал: «Ничего себе скоро - через полтора года!»
- Ну так я примерно и считал. Двадцать так двадцать. В двадцать лет и я был совсем взрослым человеком и даже наработаться успел досыта и с тюрьмой познакомиться…
Время шло к концу дня. Зная, что мне предстоит еще неблизкая дорога до Елани, Суглицкий сам начал быстро заканчивать наш разговор и попросил сейчас же обязательно зайти в соседний дом к его помощнику, чтобы с ним познакомиться и, главное, заполнить пока хотя бы в одном экземпляре анкету, необходимую для моего личного дела. [91]
Это была первая анкета, которую я заполнял с чувством особой ответственности и даже волнения. Ведь это теперь настоящий паспорт - и на всю жизнь.
В графе «год рождения» я уверенно выписал: 1899. С той поры последний год прошлого столетия навсегда стал законным началом моей биографии. В графе, членом какой партии состою или состоял и с какого времени, я впервые старательно, почти каллиграфически вывел: «РКП(б) - с 1919 года». Как бы компенсируя недостаток партийного стажа, я счел необходимым именно в этой графе приписать еще одну строчку: «РКСМ - с начала организации».
Перед самым моим отъездом из дивизии Суглицкий предупредил, что сегодня ночью надо держать ухо востро. Терса занята белыми, причем чуть ли не казачьей бригадой. Со всех участков фронта докладывали, что противник непрерывно подтягивает свежие силы и, видимо, готовится продолжить наступление и отбросить нас дальше на север. Однако наши войска вели подготовку к контратакам: полки уже получили пополнение, в частности в этот день утром, пока я разъезжал по тылам, прибыли новички и к нам. Хорошо, что их появление на передовой ознаменовалось в этот день и короткой артиллерийской перестрелкой. Это очень неплохое начало для ввода в строй вновь прибывших. Предстояли жаркие встречные бои…
3 июля на фронте нашей бригады началось наконец то, чего ожидали со дня на день. На соседнем, справа, тростянском направлении, где действовал 200-й полк, с раннего утра появились наступающие цепи белых и пошла интенсивная ружейная и артиллерийская перестрелка. Не доводя дело до штыковой атаки, к полудню стороны сблизились до дистанции действительного ружейного огня. Хотя на нашем, терсинском, направлении противник никакой активности с утра и не проявлял, полк все же был приведен в полную боевую готовность и занял выгодные позиции в одной-полутора верстах от южной окраины Елани между дорогами, шедшими на Терсу и Бузулук.
По оценке Голенкова, на соседнем участке враг предпринимал лишь демонстративные отвлекающие действия и готовил основной удар по Елани на участке нашего полка, выводящем его кратчайшим путем к железной дорого, соединяющей нас с Царицынским фронтом. Командир полка считал, что в этот день все закончится лишь [92] разведкой белыми наших сил. Решительных действий Голенков ожидал на следующий или в ближайшие дни. Исходя из этих предположений, он явно негодовал на командира соседнего полка: для чего тот ввел в действие свою батарею и чрезмерно расходует снаряды и патроны, выдавая свои возможности, дислокацию?
- Что смотрит там комбриг? Дальше беляки все равно не полезут, а он вперегонки с ними патроны транжирит! - возмущался Голенков, глядя в бинокль с колокольни еланской церкви, куда мы вместе с ним поднялись около двенадцати часов.
Наш основной командный пункт размещался недалеко от часовни по дороге на Терсу. Командир полка явно скучал, время от времени лениво поднося к своим глазам полевой бинокль. Несмотря на нестерпимо палящие лучи июльского солнца, я решил остаться с ним и ловил буквально каждое слово Голенкова, чтобы и здесь учиться командирскому мастерству. Через каких-нибудь полчаса противник открыл редкую беспорядочную стрельбу и по расположению нашего полка.
Это была моя первая вылазка на передовую в строю регулярной Красной Армии, которая после своего отступления с Дона была готова дать отпор противнику, собиравшемуся продолжать наступление на север. Это было время второго похода Антанты, когда главные ее силы - деникинская армия - развертывали наступление на Москву. Наши левофланговые дивизии Южного фронта прикрывали пензенско-саратовское направление, куда рвались белогвардейцы, еще надеясь подоспеть на выручку Колчаку, уже потерпевшему серьезное поражение.
Следуя жестким указаниям своего командира - патроны зря не расходовать и врага подпускать на дистанцию действительного огня нагана, чтобы расстреливать его в упор (а этим славился голенковский полк), - наша сторона не сделала ни одного выстрела.
И вдруг что-то непонятное сильно обожгло нижнюю часть моего подбородка - я даже подумал, что это пчела. Но оказалось - шальная пуля. Она процарапала до кости нижнюю часть подбородка, к счастью не раздробив его.
При перевязке Голенков сказал:
- Хорошо хоть так. А то, глядишь, опять нового комиссара ожидай. Нет хуже, когда люди часто меняются. А вообще-то, это примета хорошая. Раз первая целилась и не попала, значит, и другим пути не будет. Так было и у меня: в четырнадцатом году пуля прямо в кокарду угодила. [93] А вот смотри: и до революции дожил, и воюю еще. Так что, товарищ комиссар, поработаем еще вместе, повоюем.
Тем временем события развивались своим чередом. Около двух часов пополудни на поле, справа от Терсинской дороги, появились одна за другой две цепи противника и, достигнув рубежа на полпути до Елани, залегли. После небольшой паузы они снова начали свое осторожное продвижение, но уже перебежками, сопровождая его отрывочной ружейной стрельбой и редким огнем артиллерийских орудий по окраине Елани, примерно по линии расположения наших окопов.
Противник явно провоцировал нас на ответные активные действия, вероятнее всего намереваясь прощупать расположение и силу нашей обороны. Белые, конечно, знали, что Елань для них может оказаться твердым орешком, так как она была прочно прикрыта хорошо известной им 23-й дивизией.
- Поздновато, поздновато вас в поле выгнали! - пробурчал Голенков, смотря на наступающие цепи. Потом, обращаясь к командиру первого батальона, находившемуся вместе с нами, добавил: - Но смотреть надо в оба и нервы свои приберегать. Ни одного выстрела, пока не подойдут на бросок гранаты. А там - полный огонь и ура! Особенно должны быть готовы пулеметы. Проверьте еще раз. Стукнуть так, чтобы искры из глаз посыпались!…
Около четырех часов, когда до наших позиций оставалось не более одной-полутора верст, противник открыл организованный и довольно плотный ружейный огонь, поддерживаемый более активным артиллерийским обстрелом окраины Елани. Однако вопреки ожидавшемуся переходу в наступление, непонятная огневая вспышка оказалась кратковременной: минут через десять стрельба прекратилась вовсе, а залегшие цепи остались на месте до конца дня. Правда, еще продолжали свой неторопливый разговор несколько трехдюймовок, да несколько снарядов разорвалось недалеко от нашего КП.
- Мне думается, что их наблюдатель слишком хорошо устроился на терсинской церкви. Не попробовать ли, не теряя много снарядов, попросить его оттуда, снять поэкономнее? - спросил Голенков.
Командир полковой батареи Фомин, бывалый артиллерист, наводчик еще в старой армии, до этого явно скучавший без дела, не раздумывая долго, ответил: [94]
- Если разрешите, пойду тряхну стариной - попробую сам.
Получив одобрение Голенкова, Фомин ушел. Полковая батарея в составе четырех орудий стояла на позициях совсем недалеко от командного пункта, на дороге из Елани в Терсу, непосредственно за ветряком. Минут через двадцать раздался совсем близкий орудийный выстрел.
- Ай да молодец! Вот это Фомин! Вот как надо воевать! - закричал Голенков, не отрываясь от бинокля. - Смотрите, смотрите, как угодил: с одного залпа - и прямо по колокольной площадке. Вот это фейерверк!
И действительно, даже невооруженным глазом было видно, как образовалось пыльное облачко вокруг колокольного проема, смотревшего в нашу сторону.
Повеселевший Голенков, будто что-то вспомнив, а скорее всего, не желая уступать подчиненному в искусстве стрельбы, поспешно подошел к тачанке, взял винтовку, лихо ее подбросил и, взведя курок и установив прицел на нужную отметку, обратился ко мне:
- Видите, комиссар, вон там, прямо у поворота дороги, бугорок? Приглядитесь-ка, голова торчит. Ну вот, видите? Возьмите мой бинокль! - и, убедившись, что я уже нашел эту маячившую голову, добавил: - Так вот смотрите, как нас в старорежимной стрелять учили.
С этими словами он залег на траве прямо у заднего колеса тачанки, еще раз подправил прицельную рамку и после небольшой паузы сделал выстрел.
Вооружившись биноклем, я отчетливо видел, как белогвардеец взмахнул рукой и тотчас скрылся за бугорком. Несколько позже мы видели, как один из соседей по цепи оттаскивал подбитого беляка назад к Терсе, в лощинку.
Довольный результатом своей стрельбы, Голенков сказал уже всем присутствующим:
- Вот так нас учили раньше стрелять. А наши ребята должны пулять еще лучше, чтоб каждый патрон был к делу, не жечь их впустую…
Это были единственные ответные выстрелы нашего полка за весь день 3 июля. Кстати, после фоминского выстрела из пушки артиллерия противника вскоре замолчала.
Конные заставы, выдвинутые к темноте на линию, где почти всю вторую половину дня залегали цепи противника, доложили, что белогвардейцы отошли в Терсу, на [95] окраине которой было выставлено сторожевое охранение. Голенков считал, что на следующий день со стороны противника следовало ждать более решительных действий - попытки выбить нас из Елани. Не исключал Голенков и предрассветный налет конницы противника на Елань, о чем и предупредил всех командиров подразделении.
После недолгого ужина и обмена впечатлениями о прошедшем дне Голенкова и меня вызвали в штаб бригады. Комбриг Федоров сообщил предварительное приказание начдива: нашей 1-й бригаде на рассвете 4 июля перейти в наступление и выбить белых из Терсы, с последующим овладением Журавкой и Краишевым. Непосредственный захват села Терсы ставился задачей нашему, 199-му полку. По уточненным данным, Терса была занята казачьей бригадой генерала Чернушкина - в составе 800-1000 сабель.
И вот с раннего утра 4 июля по всему десятиверстному фронту бригады завязалась интенсивная ружейно-пулеметная перестрелка, поддерживаемая с обеих сторон артиллерией. Поначалу казалось, что пехота нашего полка, к полудню приблизившаяся к окраине Терсы на расстояние около одной версты, вот-вот сделает рывок и ворвется в село. Но сделать этого не удалось. Сильнейший огонь противника, скрытно и удобно расположившего свои позиции по околице, укладывал наших пехотинцев на землю. Появились убитые, раненые.
В условиях гражданской войны решающую роль в таких ситуациях часто играл ввод в действие конницы, и она была наготове как у нас, так и у белых, но в сложившейся обстановке применение ее было затруднено. На относительно ровной и открытой местности залегали плотные цепи пехоты, хорошо прикрытые пулеметами.
Попытка противника во второй половине дня ввести свою конницу - до 500 сабель - окончилась для него полным провалом. Пытался задействовать свою «чертову сотню» и Голенков, но плотный фронтальный и фланговый пулеметный заслон сорвал замысел командира полка, В этой атаке я получил настоящее боевое крещение.
Поставленная полку задача была перенесена без каких-либо изменений на 5 июля. Однако и на этот раз развернувшиеся события не привели к каким-либо результатам.
К вечеру 5 июля обе стороны отошли на свои исходные рубежи, и активные боевые действия с обеих сторон, кроме разведывательных, были прекращены. [96]
Поздно ночью все командиры и комиссары бригад, полков и артиллерийских частей были вызваны к начдиву, который подвел итоги и поставил задачи на 7 июля.
7 июля, то есть послезавтра, начдив приказал комбригу Федорову предпринять еще одну попытку овладеть Терсой. В помощь нашему полку он рекомендовал нацелить 200-й полк. Если будет туговато, начдив обещал ввести в действие и конницу дивизии. Сам же с утра он решил находиться на командном пункте соседнего 200-го полка, с которого хорошо просматривались тростянское направление и все подступы к Терсе.
В ночь на 7 июля, перед тем как полк занял исходные рубежи для наступления, я предложил провести глубокую разведку сил и расположения противника в Терсе. Пробраться к ее северо-западным окраинам можно было по берегу протекающей мимо них одноименной реки. Голенков одобрил мою инициативу.
К цели предполагалось подъехать, двигаясь скрытно от самой Елани по извилистому руслу реки, берега которой изобиловали перелесками, кустарниковыми зарослями. 4 июля, в первый день боя за Терсу, мы с Голенковым промчались к этой приречной окраине во главе своей «чертовой сотни», надеясь с ходу овладеть селом. Атака нам тогда не удалась, а место это я запомнил хорошо.
В разведку были отобраны пять добровольцев, молодых казаков из той же конной команды Масленникова. Кроме меня настоятельное желание участвовать в этой разведывательной операции изъявил и комендант штаба нашей бригады - самый старший из нас, 29-летний казак из хутора Безымянка Иван Прокофьевич Михин. Этот человек, которого я считаю своим боевым побратимом, достоин значительно большего количества строк, чем я могу посвятить ему.
Когда началась гражданская война, старший брат Михина подался к белым, а Иван связал свою жизнь с Красной Армией, пройдя с нею весь путь до полной победы над врагами на Дону, Кубани и в Крыму. Белые хуторяне приговорили его к смерти и чуть было не привели этот приговор в исполнение, схватив Ивана Михайловича в родных местах во время разведки. Но он бежал и чудом спасся от настигавшей погони. За мужество и отвагу при выполнении боевого задания казак был награжден орденом Красного Знамени, который из-за досадной описки в фамилии наградной грамоты (вместо Михина [97] значился Михеев) нашел своего владельца только через много лет, накануне его восьмидесятилетия.
* * *
…Темной ночью семь всадников отделились от еланской придорожной часовенки, неподалеку от которой все эти дни находился командный пункт полка, и спустились в долину реки Терса.
У последней, перед самым селом, излучины реки, подходящей почти вплотную и к его окраине, и к дороге из Елани, мы ясно расслышали впереди негромкий мужской разговор, а следом за ним и всплески воды. Конечно, это могли быть только белые. Расстояние между окраинами этих селений невелико, как говорят, рукой подать - не более каких-нибудь четырех верст, а если по руслу реки пройти, едва до шести дотянет. Продолжаем двигаться вперед.
Когда подъехали поближе, голоса притихли, на другой стороне узкой реки в предрассветной дымке вырисовывались силуэты двух всадников, поивших своих коней. Нас было семь, их - двое.
- Станичники, вы чьи? - спросил их Михин.
- А вы чьи?
- Мы-то дома, значит, здешние.
- Ну вот и мы такие же.
- Что же здесь болтаетесь без дела?
- Тоже как и вы, наверное.
- Мы-то с задания, а вы, похоже, на рыбалку?
- Ну и мы на своем задании значимся.
- Тогда бывайте. Если что поймаете, на уху не забудьте пригласить, - закончил Михин, и мы двинулись дальше.
Казалось странным: мы въехали уже на северо-восточную окраину села, а кроме этих двух случайных вояк, и то на противоположной стороне реки, так никого и не встретили. Можно было предполагать, что охранение противника сдвинуто от дороги в поле, поскольку она и так хорошо отовсюду просматривалась. Долину же реки, видимо, забыли. А по ней можно было скрытно ввести в тыл сонной Терсы хоть целую конную бригаду!
Стало рассветать, когда мы проехали уже более половины всей приречной окраины, по-прежнему пустынной. Дворы здесь в большинстве своем были пусты, изредка только просматривались отдельные подводы да на привязях верховые кони. [98]
Предстояло приступать к разведке сил противника в самой опасной зоне: в центре села и на противоположной северо-западной окраине, на которую наш полк пытался безуспешно наступать в предыдущие дни. На ходу решили ехать до центра, затем обратными переулками снова вернуться к реке, вплавь перейти ее и пробираться противоположным заросшим берегом к своим.
Въехав в первый же переулок, мы сразу заметили, что, по мере продвижения в глубь села, во дворах увеличивалось количество и подвод, и распряженных рабочих и расседланных верховых лошадей. Около них кое-где слонялись рано поднявшиеся люди. Не обращая на нас внимания, навстречу прошли, о чем-то рассуждая, два пожилых казака при шашках и нагайках. Наметанный глаз Михина распознал в них фуражиров.
Уже совсем рассвело, когда мы миновали последнюю избу переулка и перед нами открылась просторная дорога, ведущая прямо к церкви. До нее было около версты. Вдали, у самой церкви, подвод и лошадей было настолько много, что прохода даже не просматривалось. Все напоминало просыпающийся муравейник. Но главного, что нам хотелось обнаружить, а именно специальных скоплений верховых лошадей и коноводов, видно не было.
Глядя, как на глазах просыпается село, откровенно говоря, нам становилось не по себе. Создавалось впечатление, что именно в этой - западной - части села сосредоточены главные строевые силы белогвардейцев, которые явно тяготели к дороге на Вязниковскую и далее на Тростянку. В глубине второго переулка мы заметили несколько подвод с деревянными снарядными ящиками, указывавшими на то, что где-то недалеко располагались и позиции вражеской артиллерии.
- Ну, ребята, пора домой. Надо и совесть знать, - предложил Михин. - Теперь только надо смотреть в оба. Жаль, что нас маловато, а то бы…
Михина прервал внезапный оглушительный орудийный выстрел, раздавшийся рядом, в глубине того переулка, где мы заметили на подводах снарядные ящики. По-видимому, таким образом у белогвардейцев, расположенных в Терсе, объявлялась боевая тревога, так как продолжения артиллерийской стрельбы не последовало, а все население пришло разом в невероятное смятение. Даже тот переулок, по которому мы так мирно въезжали в село и который казался нам совсем малолюдным, настолько [99] закишел народом, что мы решили было сменить маршрут своего отхода из села.
Кроме того, следом за этим единственным орудийным выстрелом послышались и одиночные ружейные где-то за церковью, с северной окраины Терсы. Похоже, что стреляло боевое охранение противника по появившимся цепям нашего полка.
Человеку в возбужденном состоянии и в обычное-то время самые обыденные явления жизни могут представляться в каком-то особом, чрезвычайном свете. Как выглядел критический момент моих личных переживаний и моего перехода из одного внутреннего психологического состояния в другое, я, конечно, не смог бы ответить ни тогда, сразу по возвращении в полк, ни тем более позже, по прошествии десятков лет.
Один из участников нашей разведывательной группы, к счастью оставшихся живыми, докладывал командиру полка внешнюю сторону начала этой «операции» по изгнанию из Терсы белых приблизительно так: «Мы уже подъехали к крайней избе переулка, который на рысях должны были проскочить, чтобы снова оказаться на окраине Терсы, как комиссар неожиданно для всех вздыбил своего коня и, резко повернув к центру села, выхватил шашку и во все горло закричал: «За мной… ура-а!…» Михин, державшийся с ним рядом, почти тотчас же выстрелил из нагана в сторону первого же скопления подвод и, сменив револьвер на шашку, с тем же «ура-а» кинулся вслед за комиссаром. За ним последовали и мы, все остальные».
Так было положено начало панике в Терсе.
Лично мне вся эта обстановка чем-то напоминала налет на Малодельскую, с той лишь разницей, что здесь мы имели дело не с единицами, а с сотнями белогвардейцев. Успех, сопутствовавший смелости там, вселял веру в удачу и теперь. И неудержимым галопом, сопровождаемым несмолкаемым боевым «ура», мы понеслись в самое пекло белогвардейской суматохи - к терсинской церкви.
Паника, вызванная нами в одном месте, подобно взрывной волне, начала распространяться во все стороны села с далеко опережающей нашу лихость скоростью, разрушая на своем пути и дисциплину, и воинскую организованность, и порядок, и боевой дух, и самообладание белых…
Да, паника в Терсе, как я вспоминаю, была действительно [100] ужасной. Люди, которые тотчас после объявленной тревоги суетились около выстроившихся вдоль дорог подвод, вдруг пришли в бездумное состояние и с полудикими криками, давя друг друга, начали разбегаться куда попало. Одни кидались под полузапряженные подводы, другие прыгали через изгороди во дворы, третьи кинулись бежать в нашем же направлении к центру, к пресловутой церкви, или прямо в противоположную сторону. Поравнявшись с одной такой группой беглецов, среди сплошного шума и ошалелых криков, я отчетливо услышал сзади возглас: «А-ах!…» - и почти одновременно с ним металлический лязг клинка. Инстинктивно повернув голову, заметил, как валился наземь зарубленный Михиным беляк.
В разных местах у скопления подвод то и дело мелькали клинки шашек. Непонятное скоро прояснилось. Это предприимчивые безлошадные казаки в обстановке сплошного хаоса рубили постромки и без промедления уносились на рабочих лошадях от злополучного центра села.
Через загроможденную брошенными повозками и лошадьми церковную площадь мы проскакали, когда она уже полностью опустела.
Миновав центральную часть села, мы вскоре оказались на противоположной окраине - перед нами открылась просторная степь. С севера она примыкала к занятой нашими войсками Елани, в западном направлении уходила далеко за горизонт. Именно в этой стороне степь и была буквально усеяна суматошно убегающими белогвардейцами, которых то и дело обгоняли более проворные - всадники.
Со стороны Елани, как бы обозначая границу ее земельных угодий, пунктирными линиями залегли в цепях красноармейцы нашего 199-го и соседнего 200-го полков, готовые сделать последний рывок и занять Терсу. Мне, проскочившему Терсу насквозь, тогда показалось странным, почему же цепи наших бойцов лежат на месте и не пытаются использовать благоприятную обстановку для захвата села, за которое два битых дня шла такая ожесточенная схватка!
Как выяснилось потом, наш полк, подведя свои цепи на дистанцию до полутора-двух верст до Терсы, был уже готов продолжать наступление, но вдруг после того единственного орудийного выстрела стал свидетелем совершенно непонятного: в самой Терсе послышалась [101] пальба, поднялась суматоха, появились бегущие из села люди, а затем неожиданно началось массовое отступление пеших и конных белогвардейцев и их артиллерии по Вязниковской дороге на Тростянку. Этот факт был замечен одновременно на командных пунктах начдива и нашего комбрига Федорова, который находился вместе с командиром полка Голенковым.
Командование дивизии происходящее в Терсе приняло за боевые действия пока неизвестно откуда появившейся нашей красной конницы. Чтобы не ударить по своим, комбриг и приказал нашему полку продолжать наступление - овладеть Терсой, но до прояснения обстановки огня не открывать. После взятия Терсы полку приказывалось захватить Журавку и Краишево. Соседняя бригада получила предписание начать наступление на тростянском направлении.
Когда дивизия начала общее наступление, а наш 199-й полк двинулся вперед, чтобы овладеть Терсой, а точнее, подбирать там оставленные врагом трофеи, - нашей разведгруппы в селе уже не было. Лично я, в это время никем из своих однополчан не узнанный, затерявшийся в пестрой массе беглецов, разбросанных по полю, очумело несся на своем полузапаленном Гнедке и, до хрипоты крича «ура», продолжал преследовать врага и рубить шашкой беляков, что попадались под руку.
Здраво- то рассуждая, конечно, давно пора было уже повернуть к своим да и закончить терсинский рейд. Однако этого я не сделал, за что только случайно не поплатился жизнью.
Преследуя противника, я приметил впереди довольно большую группу беглецов и на этот раз, впервые вспомнив об осторожности, решил врезаться в нее не в одиночку, а вместе со своими товарищами по рейду. На полном галопе начал придерживать разгоряченного Гнедка, чтобы дать возможность следовавшим за мной разведчикам подтянуться - по резвости-то моему Гнедку не было равных. И когда по топоту лошадей понял, что несущаяся сзади группа вот-вот поравняется со мной, я обернулся и вопросительно закричал:
- Смотри, это наши?
- Сволочь! На тебе - «ваши»! - В этот момент последовал тяжелый удар по левому плечу.
Повисшая рука выпустила повод, освобожденный Гнедок сделал отчаянный рывок вперед. Обернувшись, [102] я успел разглядеть дочерна загорелую, от ярости искривленную скуластую физиономию белогвардейского офицера с занесенной для повторного удара шашкой, Глаза его, мне показалось, налились кровью. За ним, как бы обтекая меня полукругом, неистово размахивая шашками и крича что-то невнятное, во весь опор неслись еще десятка полтора белых офицеров и казаков. Моих товарищей по налету сзади не было…
Как потом выяснилось, проскочив со мной Терсу, они нашли более благоразумным продолжать путь по прямой - на соединение с наступающими на село красными полками. Я же, преследуя врага, оказался сам в качестве преследуемого. Не успев опомниться от первого удара, я получил второй - на этот раз сзади по лошади. Дрогнул корпус моего Гнедка, мне даже показалось, что у него на какое-то мгновение начали подкашиваться задние ноги. Но конь неожиданно сделал еще рывок и, предоставленный собственной воле - в это время я перехватывал повод в правую руку, чтобы держать его вместе с шашкой, - начал спрямлять путь в сторону наших цепей, расстояние до которых казалось не больше версты.
Шли напряженнейшие секунды скачки, когда разрыв между мной и ближайшим преследователем то возрастал до двух-трех корпусов лошади, то снова сокращался на полконя. И так несколько раз, пока наконец беляки резко не остановились, и, послав мне вдогонку серию револьверных выстрелов, не повернули назад. Далее все происходило уже совсем просто. От ближайшей цепи наших войск отделились два всадника и на полном галопе - с шашками наголо! - кинулись на меня, чтобы, по-видимому, взять в плен как заблудившегося или сдающегося белогвардейца. Это оказались комбат нашего полка со своим ординарцем.
Вот тут мои силы окончательно иссякли, и комбат даже предложил мне пересесть к нему на коня. Окровавленная левая рука висела плетью: оказалось, надрублена ключица. Сняв фуражку, я разглядел и то, что шашка врага, как бритвой, рассекла заднюю часть тульи и околыш, почти насквозь процарапав острым концом и внутреннюю сторону клеенки, облегающей голову. Жизнь, кажется, действительно висела на волоске.
В очень тяжелом состоянии оказался мой верный Гнедок. Запаленный и взмыленный, он имел огромный, в четыре пальца глубиной, разруб крупа. Обильная кровяная [103] пена шапкой накрывала страшную рану, широкой полосой растекалась по всей ноге.
По дороге к своим наступающим цепям комбат успел рассказать мне, что о нашей «разведке» в Терсе уже все знали из сообщения Михина, доложившего командиру подробности. Я значился как погибший. Комбат также сообщил, что с четверть часа назад левофланговый, первый батальон во главе с самим Голенковым уже ворвался в Терсу и вот-вот должен появиться на противоположной окраине села, наступая на Журавку.
О том, что я жив, кроме второго батальона, в расположении которого я появился и где меня сразу окружили красноармейцы и сняли с коня, пока никто еще не знал. И даже примчавшийся от начдива вестовой передал его приказание немедленно доставить взятого в плен беляка, то есть меня, на наблюдательный пункт у Елани.
На наблюдательном пункте начдива, куда я был торжественно доставлен на батальонной пулеметной тачанке вместе с привязанным к ней моим Гнедком, помимо начдива Голикова находились начальник штаба дивизии Руднев, помначдив - он же командир кавбригады - Блинов, Суглицкий и командир нашей 1-й бригады Федоров. Все они уже знали о случившемся от вернувшегося вестового и поэтому тотчас обступила меня и наперебой, кто как мог, начали без всяких расспросов поздравлять и чествовать. Не обошлось, конечно, без традиционных казачьих поцелуев и объятий, от каждого из которых по всему телу растекалась боль. В такой обстановке, понятно, запомнить все, что было сказано по моему адресу по поводу налета на Терсу, было, конечно, невозможно. Однако слова самого начдива остались в памяти на всю жизнь.
- Молодец, Соколенок! - воскликнул он. - Это у вас вышло просто здорово, по-нашему, по-казацки! Как плечо? Может быть, и без госпиталя обойдемся?
- Все в порядке, товарищ начдив, - ответил я. - Больновато, конечно, но в госпиталь не пойду. Сейчас некогда. Перевяжут как следует - и на коня. Не знаю вот, смогу ли теперь вскочить в седло…
- Это-то сможете. Только коняшку надо подобрать, чтобы ноги были покороче, да и поспокойнее! - шутливо бросил начдив и, обращаясь к комбригу Федорову, добавил: - Надо послать кого-нибудь к Голенкову и сообщить, что его комиссар жив и вместе с нами. А то, [104] гляди, еще и комиссара разыскивает, чтобы похоронить по-человечески.
Последним ко мне подошел Суглицкий, заявив всем, что пора меня отправить на перевязку. До этого он стоял в стороне и с нескрываемым удовлетворением наблюдал за шумной процедурой поздравлений.
- Все хорошо, Соколенок, что хорошо кончается. Победителей не судят, - не без упрека сказал тогда Суглицкий, - Но мне кажется, комиссару в разведку ходить необязательно, для этого есть в полку замечательные разведчики. Если же пошел, то не надо было переходить границы поставленной задачи: Терсу взяли бы и без тебя. Погиб один рядовой разведчик - для нас несчастье, погиб комиссар - обезглавлена целая воинская часть… Ну а в общем, молодец! Поздравляю тебя и я. Показал всем, что и комиссары могут быть лихими казаками. Это тоже важно.
На мое предложение после перевязки поскорее отправиться в Терсу, чтобы там присоединиться к командиру полка Голенкову, Суглицкий ответил:
- На сегодня, я думаю, хватит. Лучше, если все будет хорошо, вечерком побывать среди своих красноармейцев. У них, наверное, немало к тебе вопросов…
Исключительно дружески и тепло встретили меня в нашей полковой конно-разведывательной команде, где было много малодельцев. Не обошлось и без праздничного стола. Далеко за полночь командир полка Голенков устроил хороший ужин, а утром мне привели замечательного буланого коня, захваченного вместе с другими трофеями в Терсе. В придачу к коню получил я новенький английский френч и брюки галифе, к сожалению не подошедшие мне по росту.
После долгого, понятного только кавалеристу-фронтовику расставания Гнедок был отправлен в обоз второго разряда на попечение заботливых Мелеховых, Нового коня, на первый взгляд мало чем уступавшего Гнедку, назвали Буланым.
Но самое неожиданное для меня случилось к концу второго дня. Специально прибывший в штаб полка Суглицкий торжественно объявил, что командование дивизии по согласованию вопроса с Реввоенсоветом армии представило меня и Михина к награждению боевым орденом Красного Знамени.
Сухие строки реляции, доносившие командованию 9-й Кубанской армии о боевых действиях дивизии за 7 июля [105] девятнадцатого года, сообщали: «…комиссар 199-го полка Соколов Николай Александрович вместе с комендантом 1-й бригады 23-й стрелковой дивизии Михиным Иваном Прокофьевичем и пятью всадниками в бою у села Терса, оставив свои цепи далеко позади себя, ворвались в названное село и, произведя среди находившихся там белых казаков панику, обратили их в бегство, благодаря чему село было занято без потерь с нашей стороны и взяты пленные…»
По словам Суглицкого, все пять других наших казаков-разведчиков, которые участвовали в налете на Терсу, будут награждены командованием дивизии ценными подарками.
Между тем второй поход Антанты против Советской России, главная роль в котором отводилась Добровольческой армии генерала Деникина, набирал силу. Хорошо вооруженная и экипированная империалистами деникинская армия, стремительно продвигаясь на север, захватила обширные территории и важнейшие экономические районы молодого Советского государства. В руках деникинцев оказалась почти вся Украина, они заняли Воронеж, Орел и, продвигаясь на Москву, подошли к Туле.
Именно в эти тяжелые дни набатом прозвучало написанное Владимиром Ильичом Лениным историческое обращение Центрального Комитета партии ко всем коммунистам, ко всему народу, в котором говорилось: «Товарищи! Наступил один из самых критических, по всей вероятности, даже самый критический момент социалистической революции…» В эти дни ни у кого из нас, фронтовиков, не было ни минуты сомнения в том, что мы победим. [106]
Среди мамонтовцев
Взятие Терсы для нашей дивизии имело двоякое значение. С одной стороны, снималась угроза перекрытия белыми у Елани железнодорожного пути на Камышин, с другой - и это с моральной точки зрения было особенно важно, - дивизия могла прочно оседлать Еланский рубеж, ликвидируя последствия большого отступления с Дона. Несмотря на то что на центральном направлении Южного фронта белогвардейцы рвались к Москве, настроения и помыслы всего личного состава дивизий нашей 9-й армии уже устремились в сторону возвращения на Дон.
Почти весь июль на фронте шли встречные, ничем особо не примечательные бои, перегруппировки войск. И именно в эти июльские дни я по-настоящему начинал осваивать свои комиссарские функции, находя в этом новом для меня деле поддержку немногочисленных, но активных большевиков и комсомольцев полка и, конечно, постоянно обращаясь за советами к своему наставнику - начподиву Суглицкому.
Но вдруг непредвиденная беда - сразило тифом. Потерявшего сознание от подскочившей до сорока градусов температуры, меня, в бреду продолжавшего кого-то рубить и кричать «ура», срочно эвакуировали. После первого приступа я очнулся уже в тифозной палате фронтового Тамбовского военного госпиталя, разместившегося в местном монастыре.
Первое, что я услышал от дежуривших около меня верного ординарца и дежурной сестры, невольно насторожило: состояние мое считалось критическим и одно время оценивалось как безнадежное. Чувствовалось по всему, что доктора опасались последующих второго и третьего приступов, при которых, как говорили, жизнь человека подвергается наибольшей угрозе. Но как бы там ни было, я выжил.
После третьего приступа, протекавшего значительно легче предыдущих, мне было объявили, что деньков через [107] шесть - восемь можно выписываться и что, перед тем как возвратиться в свою часть, я могу получить отпуск по болезни для поездки домой - на целых полмесяца!
Соблазн воспользоваться отпуском и поехать во Владимир, чтобы предстать перед своими земляками, товарищами по комсомолу, в ранге военного комиссара полка казался очень большим. Однако самым заветным моим желанием в то же время было, конечно, желание поскорее вернуться на фронт.
Решению возвратиться из госпиталя прямо в свою часть помог и один сюрприз, который преподнес мне командир полка Голенков. Дней за пять до выписки ко мне пожаловала целая делегация в составе березовского и двух малодельских пожилых казаков, которым было поручено проведать комиссара и поздравить с награждением орденом Красного Знамени. Они привезли с собой короткую записку от командира и в подарок - мешок продовольствия.
Голенков, как всегда, был лаконичен: «Поздравляю с орденом. Скорее выздоравливай. Все ждем твоего возвращения. Отметим как полагается».
В мешке оказалось по полпуда крупчатки и пшена, фунтов 10-12 сала, пять вареных кур. «Сказывают, что в тылу есть нечего, вот и привезли…» - С такими словами передали мне казаки этот драгоценный по тому времени мешок со съестным, от которого к вечеру того же дня не осталось и следа. Но, пожалуй, самым трогательным для меня в этом неожиданном свидании с однополчанами было «поручение», с каким приехал один из казаков:
- По душе ты нам пришелся, Соколенок. Велено сказать тебе, чтобы после войны обязательно возвратился к нам, в Малодельскую. Примем, как своего родного. Хату обществом построим, сад посадим, для начала всякой живностью и хозяйственным имуществом снабдим, а там и добру казачку подберешь - любую, какая приглянется… Только обязательно к нам!…
Конечно, я ни на что не променял бы тогда свою владимирскую землю, но такое признание старых казаков, признание за своего «москаля», «кацапа» было для меня в тот момент очень дорого.
На другой день однополчане уехали. Все мои попытки уговорить госпитальное начальство отпустить меня с ними на фронт успеха не имели. Я остался. Остался, [108] чтобы выдержать еще одно, наверное, самое страшное испытание.
17 августа, когда я уже начал считать дни своего пребывания в госпитале буквально по часам, всех больных и раненых взбудоражил вдруг быстро распространившийся слух, что крупные силы белогвардейской конницы под командованием генерала Мамонтова прорвали наш фронт и стремительно продвигаются в глубь страны, и в частности в направлении Тамбова.
Оторванные от всяких источников реальной информации, не получившие каких-либо разъяснений по этому поводу от госпитальной администрации, которая в этот день, как нарочно, куда-то исчезла, выздоравливающие и самостоятельно передвигающиеся раненые, нарушив внутрибольничную дисциплину, собирались в палатах и планировали действия на случай всевозможных ЧП. Большинство решило оставаться на месте, так как были убеждены, что больных и раненых никто не тронет. Другие придерживались мнения, что в случае нападения белых надо всем разбегаться, пробиваясь, кто как сумеет, в свои части или же по домам: ведь всем выздоравливающим полагался отпуск.
К вечеру, когда каждый уже был готов встретить любую неожиданность своим собственным планом действий, мы немного успокоились. Особенно полегчало на душе, когда в госпиталь явился один из работников губкома партии. Подтвердив сведения о прорыве Мамонтова в тыл нашей армии, он заявил, что непосредственной угрозы Тамбову нет, что гарнизон города имеет достаточно сил, чтобы дать внушительный отпор любому противнику. Он же сообщил, что, по данным, которыми располагает губком, общее направление рейдирующей конницы Мамонтова сдвинуто к западу, примерно на Липецк.
Рано утром 18 августа неспокойный, настороженный сон больных и раненых внезапно прервала доносившаяся откуда-то издалека бравурная казачья песня. Почему в столь ранний час?… Да ведь в Тамбове и казачьих частей нет! Не мамонтовцы ли это, слух о прорыве которых вызвал вчера немалый переполох?… Все в нашей палате, кто был способен самостоятельно передвигаться, бросились к открытым настежь окнам. По нараставшему звучанию песни становилось ясно: казаки двигались явно в сторону госпиталя и вот-вот должны были появиться из соседнего переулка. Так оно и случилось. Через некоторое [109] время в двух кварталах от госпиталя пустынную улицу пересекла кавалерийская сотня.
Я все еще верил, что это наши, красные казаки. Мне казалось, что в Тамбов либо введены, либо следуют через город наши казачьи полки, принадлежавшие новому, формировавшемуся сравнительно недалеко, в Саранске, конному корпусу под командованием Миронова.
Но не успела замолкнуть разбудившая нас казачья песня, как к главному подъезду госпиталя подъехала парная коляска, сопровождаемая двумя всадниками в полной казачьей форме, с погонами.
Ждать непрошеных гостей долго не пришлось. В дверях палаты появился молодой белый офицер в сопровождении казака. Теперь от них зависела судьба любого из нас, мы оказались абсолютно беззащитными. И вдруг наступившая на мгновение в палате мертвая тишина содрогнулась от раздавшихся с разных сторон стонов и протяжных «а-ах», «о-ох»… Создалось впечатление, что в палате лежали люди, которые только что доставлены с поля боя. Так иногда слабые духом надеются вызвать чувства сострадания у противника, которого у классового врага быть не может.
Чуть подавшись вперед, офицер громко рявкнул:
- Жиды и большевики есть?… Если есть - выходи! Хватит, отдохнули!
Не получив ответа, он злобно закричал:
- Оглохли, что ли, су-ки-ны дети! Я спрашиваю, жиды и большевики есть?… А не то сейчас проверю сам! Тогда каждого второго здесь же - на месте!… Слышите?!
Дело принимало худой оборот. Не понравишься чем-нибудь этому головорезу - и поминай как звали.
В нашей палате партийных было только двое: я и еще, помнится, инструктор политотдела 9-й армии. Он был чуть старше меня, а звали его все ласкательно Сашук. Евреев, судя по внешним признакам, среди нас не было. А о том, что я комиссар полка, в палате знали все.
Разрядка наступила неожиданно. Чей-то хриплый голос пробурчал:
- Таких здесь нет. Откуда им? Большевиков вчера выписали, а евреи… На фронте-то их и не бывало! Так что стращать ни к чему…
Офицер, сразу изменив тон, не без иронической усмешки процедил:
- То-то! Так бы и говорили, Сейчас не до вас, [110] большевистские собаки. Но я еще вернусь и проверю каждого. Если соврали - готовься каждый второй… - С этими словами он повернулся к двери и, сопровождаемый молчаливым казаком, вышел из палаты.
После отъезда белогвардейцев раненые, забыв о всех болезнях, метались по всему зданию госпиталя, словно искали выхода из западни.
Все сегодняшние самые неприятные городские новости вскоре рассказал нам госпитальный фельдшер Петрович. По его словам, Тамбов без единого выстрела сдал мамонтовцам перешедший на их сторону со всем штабом командующий гарнизоном. Наше госпитальное начальство вместе с главным врачом сделало то же самое.
По свидетельству Петровича, в городе творилось что-то ужасающее: начались пожары, казаки взламывают и грабят магазины, склады, им помогают уголовники, повсюду стрельба, поддерживаемая взрывами пороховых и артиллерийских складов. Особенно бесчинствовали мамонтовские белобандиты среди еврейского населения, не останавливаясь перед полным уничтожением еврейских семей, включая малолетних и грудных детей. В этих гнуснейших целях использовались специальные части, укомплектованные не то калмыками, не то ингушами. Рыская по городу, те разыскивали места жительства евреев, врывались в их дома и без разбору убивали каждого. Они же свирепствовали и на улицах города, хватая любого заподозренного в принадлежности к еврейской национальности, и здесь же без всякого снисхождения вешали на столбах городского освещения.
В этой тяжелой обстановке я, как член партии и военный комиссар, в любую минуту ожидал рокового исхода и, конечно, не сидел сложа руки. Мой браунинг без кобуры удобно разместился в кармане летних шаровар, незаметных под большого размера больничным халатом. Затем я надежно спрятал самые ценные для меня документы - временное удостоверение о партийности (партбилет я еще не успел получить) и комиссарский мандат. Следом за этим уничтожил истории болезней всех лежавших в нашей палате, без присмотра хранившиеся в одной общей папке в палатной медицинской тумбочке. Это необходимо было сделать потому, что каждая из историй начиналась анкетными данными: фамилия, должность, национальность, партийность…
Большинство выздоравливающих больных и раненых настояло на взломе госпитального оружейного склада. [111]
Вскоре все хранимое там оружие мы раздали «на временное пользование» наиболее здоровым и активным бойцам. Я же решил вместе со всеми оставаться в госпитале и выжидать, как сложится обстановка. Паника в тяжелые минуты не помощник, а лютый враг. В случае же внезапного налета белогвардейцев на госпиталь с целью расправы над красноармейцами необходимо было бежать, перейдя в городе на подпольное положение, или же пробираться к югу навстречу своим. Я твердо верил, что уже в соседних с городом деревнях найду свою родную Советскую власть и буду чувствовать себя в относительной безопасности.
Намеченный мной маршрут бегства из госпиталя пролегал через внутреннюю кладбищенскую территорию, далее - монастырская стена на противоположной от госпиталя стороне, прилегающий к ней большой земельный участок, занятый под картошку. Затем, попав в район одноэтажных домиков городской окраины, я рассчитывал в нем раствориться и найти для себя, еще не выздоровевшего, надежное убежище.
По примеру других, уже побывавших на улицах Тамбова, я и мой сосед по палате Сашук после полудня решили сделать вылазку в город.
Трудно описать словами всю трагедию, которую переживали в эти часы Тамбов и его жители. Даже такое выражение, как «ад кромешный», едва ли может хотя бы приблизительно передать действительное положение вещей в этом городе, отданном на разграбление и поругание озверевшим белоказакам.
Удрученные увиденным, уставшие от ходьбы, осознающие свою беспомощность в чем-либо помочь тамбовчанам, отомстить белогвардейским гадам, мы с Сашуком медленно возвращались назад. Но до госпиталя не дошли: навстречу, как связная, была выслана наша миловидная медсестра Лидуся, которая, как оказалось, поджидала нас целых четыре часа. Осторожным жестом руки Лида показала, чтобы мы повернули обратно, и вскоре, догнав нас, с волнением сообщила, что мое появление в госпитале весьма опасно.
Медсестра рассказала, что часа через полтора-два после нашего ухода в госпиталь нагрянула группа белогвардейцев. Поставив у входов и выходов часовых, они переговорили с администрацией и начали обходить палаты, прямо называя фамилии разыскиваемых ими раненых. В нашей палате назвали именно мою фамилию. [112]
Обычно добрая и обходительная, Лидуся на этот раз показалась очень нервной и даже грубоватой. Заметно дрожащими руками она тянула меня от опасного места, заставляя ускорить ходьбу. После довольно долгого кружного пути по разным притихшим улочкам и переулкам Лида наконец привела меня к своему дому, расположенному почти на окраине города, недалеко от выхода большака на Рассказово. Это был одноэтажный, с двумя отдельными входами провинциальный домишко, стоящий в яблоневом саду.
В этот памятный вечер, как, впрочем, и в дневное время последующих дней, мне было строго-настрого приказано своего места не покидать, соблюдать все правила конспирации и вообще не проявлять никакого любопытства ко всему окружающему.
Так я оказался в подполье - в территориальном плену у мамонтовцев, а фактически «пленником» медицинской сестры тифозного отделения Тамбовского военного госпиталя.
Возвращаясь домой, Лидуся многое рассказывала мне о положении дел и в госпитале, и в самом городе. Тамбов продолжал переживать трагическое состояние. Растерянные жители никак не могли прийти в себя от погромов и жестокостей белобандитов, беспомощно суетились на улицах, с тревогой рассматривая результаты злодеяний. Перед глазами тамбовцев стояли дочиста опустошенные, замусоренные магазины, лавки, склады, аптеки, у которых были выломаны двери и ставни, выбиты окна. В городе продолжались пожары, свирепая охота за большевиками, работниками совдепов, евреями.
Среди других новостей, доставленных Лидусей и ее матерью, были обнадеживающие: мамонтовцы, настигаемые подвижными частями Красной Армии, в ближайшие часы должны были покинуть город. Передовые наши отряды, кажется, уже вступили в город Козлов.
Действительно, рано утром 20 августа тамбовчане проснулись уже в оставленном белоказаками городе. Я вернулся в госпиталь вместе с Лидусей. Наши потери оказались небольшие: один командир батальона и два политработника. Что с ними случилось, благополучно ли они бежали из города, вернулись ли в свои части или были схвачены белогвардейцами и расстреляны - оставалось неизвестным.
Всего сутки я пробыл еще в Тамбовском госпитале. [113]
Хотелось как можно скорее вернуться к своим на фронт, где в открытом бою, как говорится, и смерть красна.
Строго говоря, я не считал, что побывал в плену, все свелось лишь к тому, что я оказался в городе, занятом врагом. По моему глубокому убеждению, в плену и нельзя было оказаться. Каждый из нас, будь то партийный работник или комсомолец, командир или политработник, как, впрочем, и большинство рядовых красноармейцев, накрепко связавших свою судьбу с революцией, жили и боролись под лозунгом «Смерть или победа!». Я твердо знал, что живым, способным стрелять хотя бы с одной рукой, к врагу я не попаду никогда. Неписаный закон тех давних героических лет приказывал нам беречь последнюю пулю или гранату, как самую дорогую, для себя.
Утром 25 августа, не воспользовавшись положенным мне отпуском и даже не дождавшись оформления всех медицинских и проездных документов, необходимых для возвращения в дивизию, я покинул Тамбов. Помог мне военный комендант вокзала, который после всего пережитого мое комиссарское удостоверение посчитал чуть ли не за правительственный мандат и отправил меня на Балашов с железнодорожной ремонтной «летучкой».
Как полагается, были и провожавшие - верный товарищ Сашук Неверов и Лидуся, которая специально для этого отпросилась с работы. С тяжелым сердцем, со слезами провожала меня милая, чудесная спасительница. Все говорило о том, что восемнадцатилетний комиссар Коля Соколов пришелся ей по душе…
До станции Балашов мы добрались только поздним вечером. Какие-то двести верст та «летучка» кое-как одолела за двенадцать часов. По пути я приобщался к железнодорожному ремонтному делу и слышал разного рода слухи и небылицы. Среди них - продвижение мамонтовцев на Москву и восстание корпуса Миронова, на который мы могли якобы натолкнуться в любую минуту. Вполне естественно, что мне в свою очередь пришлось рассказать о разгуле и бесчинствах мамонтовцев в Тамбове. [114]
Правда о Миронове
Что касается восставших мироновцев, по правде говоря, я совершенно не допускал возможности внезапной измены самого Миронова, одного из прославленных руководителей красного казачества на Северном Дону. На долгие годы несправедливо вычеркнутый из истории Отечества, Филипп Кузьмич Миронов оставался и жил в памяти и сердцах людей, трудового казачества Дона, за лучшую долю которых он и отдал свою жизнь…
Не легенды, а быль о казаке Миронове передавалась нам с первых дней прибытия в донские края. Потом-то мы и сами были свидетелями его боевых дел. Перо добросовестного исследователя, надеюсь, еще восстановит малоизвестные страницы былого, истории наших грозных битв за светлое будущее. Мой долг скромнее - рассказать о том, чему свидетелем и очевидцем был сам, что годы спустя - при работе над воспоминаниями - удалось отыскать в архивах.
* * *
Итак, Филипп Кузьмич Миронов родился в 1872 году в станице Усть-Медведицкой. Окончил он Новочеркасское юнкерское военное училище, а затем участвовал в русско-японской войне. Война эта, вскрыв гниль государственного режима, пробудила народ. Старому порядку, несмотря на его судорожные усилия, уже было не спастись от катастрофы - надвигающейся революции. Активное участие в революционном движении русского рабочего класса приняло и трудовое казачество Дона.
Так, в 1906 году казаки сотни 3-го Ермака Тимофеевича полка, расположенной в Вильно, не только отказались от исполнения полицейских функций, но и с оружием в руках поддержали борьбу местного пролетариата. Все казаки были арестованы и отданы под суд. Но подвиг [115] казачества не был забыт. Вскоре с воззванием к казачеству отказаться от участия в подавлении народных волнений выступил полковник Красовский - начальник одного из карательных отрядов. Он писал: «Помните… друзья, что русский солдат - защитник своей родины, а не цепной «барбос», которого спускают без разбора на зверей и на человека, - не бешеная собака, одинаково кусающая как своего, так и чужого. Вам приказывают сечь и расстреливать бедного мужика, которого грабят и угнетают помещики и чиновники. Приказ сечь своих и стрелять по ним за то, что они хотят земли и воли, будь он и самого царя (приказ), - все же его ни в коем случае исполнять не следует».
* * *
Особенно упорной и продолжительной в годы первой русской революции стала борьба устьмедведицких казаков. Поводом к открытому выступлению послужил сход, собранный станичным атаманом 17 мая 1906 года. Сход должен был составить наказ об имущественном и семейном положении казаков, подлежащих призыву в мобилизуемые сводные полки. Задача этих полков состояла в подавлении народных волнений. Вот тогда на сходе и выступил 24-летний подъесаул Филипп Миронов. В своей яркой обличительной речи он осудил царское правительство и его стремление использовать казаков в качестве полицейской силы. Выступление Ф. К. Миронова поддержал дьякон Н. Бурыкин.
За организацию выступления казачества и Миронов, и Бурыкин были арестованы, посажены в местную тюрьму. Когда окружной атаман созвал новый сход и потребовал отмены принятого решения, то в ответ собравшиеся выдвинули требование немедленного освобождения арестованных!
Вышедшие из тюрьмы были встречены восторженно. Их подняли на руки и с пением революционных песен несли до здания станичного правления, около которого состоялся двухтысячный митинг. На нем единогласно было принято решение, призывавшее казаков и иногородних сплотиться и общими усилиями добывать землю и волю.
Малейший повод служил толчком для новых массовых выступлений. Так, 15 января 1907 года в станице Усть-Медведицкой был собран сход для выдвижения выборщика в Государственную думу. После избрания уполномоченного состоялся митинг, на котором с большим [116] вниманием казаки прослушали речь подъесаула Миронова. После этого был зачитан наказ, в котором излагались общероссийские и казачьи требования.
На том митинге решили направить в столицу делегацию, которая должна была лично вручить наказ донским депутатам Государственной думы. В состав делегации вошли Миронов и казак Коновалов.
Поездка, естественно, не дала никаких положительных результатов. Возвратившись из Петербурга, Филипп Миронов на станичном сходе с горечью говорил: «Нет правды на земле. И я готов, старики, хоть сейчас снять мундир офицера и ордена, лишь бы верой и правдой служить народу». Эти слова проникнуты не только горечью от сознания политического бесправия народных масс, но и верой в народ, готовностью отдать жизнь за его свободу и счастье. И когда история поставила перед казачеством вопрос: «С кем и куда идти?», Миронов, не задумываясь, перешел на сторону народа и отдал ему свои недюжинные способности организатора и бойца.
Действия Миронова вызвали к нему враждебное отношение со стороны начальства. Военный министр писал наказному атаману, что обер-офицер Миронов своими действиями оказывает отрицательное влияние на нижние чины, и предлагал представить материалы на его увольнение со службы. Уволенный, Миронов остался без средств к существованию. Так царское правительство расправилось с одним из героев русско-японской войны, который за участие в военных действиях и проявление мужества был удостоен 4 орденов. Лишь под давлением общественности ему была предоставлена работа в земельном отделе управления Войска Донского, а затем должность рыбного смотрителя Донского водного хозяйства.
В первую мировую войну Филипп Кузьмич Миронов вновь призывается в армию. За умелое руководство кавалерийскими подразделениями и личную храбрость в боях он получил несколько боевых орденов, чин войскового старшины (подполковника) и был назначен помощником командира 32-го Донского казачьего полка 3-й Донской казачьей дивизии. Получив известие о свержении царя Николая II, Ф. К. Миронов по своей инициативе объехал полки дивизии и договорился о проведении митинга, а затем потребовал от командира дивизии князя Долгорукого провести парад, посвященный этому знаменательному событию. Под звуки «Марсельезы» [117] казаки дивизии отпраздновали день победы народа над прогнившим режимом царской России.
Участники митинга потребовали выборности командного состава, удаления из армии контрреволюционных элементов. Тогда войсковой старшина Ф. К. Миронов был избран командиром 32-го Донского казачьего полка и вопреки приказу командира дивизии увел своих казаков на поддержку Советской власти в город Александровск (ныне Запорожье).
В 1918 году в слободе Михайловка Миронова ввели в состав ревкома Усть-Медведицкого округа в качестве заведующего военным отделом. И казаки 32-го Донского казачьего полка стали революционным ядром многих станичных и хуторских Советов округа. В станице Платовской и близлежащих хуторах организаторами Советов стали С. М. Буденный и О. И. Городовиков. Трудящиеся крестьяне и казаки приветствовали установление Советской власти на Дону.
Это особенно следует подчеркнуть, так как атаман донского правительства Каледин, получив первые сообщения о восстании в Петрограде, тут же разослал во все концы телеграммы - и Временному правительству, и в ставку главковерха, и Совету Союза казачьих войск, и общефронтовому казачьему съезду в Киеве, атаманам всех казачьих войск и казачьим частям, заявляя, что войсковое правительство считает «захват власти большевиками преступным и совершенно недопустимым». Каледин сообщал, что войсковое правительство ввиду чрезвычайных обстоятельств «приняло на себя всю полноту исполнительной государственной власти в Донской области», и не сомневался, что все казачьи войска объединятся «в деле спасения России».
Таким образом, еще в начале ноября 1917 года в Новочеркасске царские генералы при поддержке Каледина приступили к формированию из офицеров и юнкеров так называемой Добровольческой армии. А 7 декабря к призывам донского правительства в Петрограде присоединился Совет Союза казачьих войск и принял следующую резолюцию: «Казачество издавна представляет демократическую земельную общину, где проведено полное народовластие. Казачество не делится на классы угнетателей и угнетенных. В казачестве вся земля с ее недрами принадлежит всему войску, как целому. Установившийся казачий общественно-экономический быт с его идеями подлинного демократизма не должен возбуждать агрессивных [118] действий со стороны центральной государственной власти, кому бы она ни принадлежала, хотя бы как ныне, представителям большевизма. Казачество, направившее всю свою энергию в данное время на устроение краевых дел, не питает намерений вторгаться в область борьбы за государственную власть и никаких шагов вив своих областей в этом направлении не делает…»
В той же резолюции Совет Союза казачьих войск заявил, что «казачество ничего для себя не ищет и ничего себе не требует вне пределов своих областей; но в то же время, руководствуясь демократическими началами самоопределения народностей, оно не потерпит на своей территории иной власти, кроме народной, образуемой свободным соглашением местных народностей без всякого внешнего и постороннего давления…».
Но казачьи части, возвращавшиеся с фронта, несли в станицы правду о Советской власти, ее декретах. И на станичных сходах нередко принимались наказы делегатам войскового круга следующего содержания: «Выразить недоверие и презрение атаману Каледину за преступный заговор и явное сопротивление народной власти».
Однако, используя военно-сословную организацию казачества, патриархальный устрой хозяйства и быта казаков, атаманско-кулацкой верхушке на Дону удалось все-таки вовлечь большую часть трудового казачества в свои ряды. Так, в июне 1918 года Донская армия Краснова насчитывала 27 тысяч пехотинцев и 30 тысяч конных, а в отрядах Красной Армии, сражавшихся на севере и северо-востоке Донской области, осталось всего-то около 6 тысяч бойцов. Сторожа своих куреней, большая часть трудового казачества перешла на сторону контрреволюции.
Для работы среди красновцев на Южный фронт направились сотни агитаторов. В одном из воззваний Казачьего отдела ВЦИК говорилось: «Трудовое казачество, бросай ряды Краснова, атамана хищного. Становись в наши ряды… Все, кто любит свободу, с нами, за нас…»
* * *
С наступлением белоказачьих войск на станицы и хутора Усть-Медведицкого округа Ф. К. Миронов возглавил отряд Красной гвардии, созданный из крестьян и казачьей бедноты. Позже на базе этого отряда развертывается 23-я дивизия Красной Армии, командовать которой так же стал Филипп Кузьмич Миронов. [119]
Желая отметить блестящие боевые заслуги и умелое руководство войсками объединенной группы (в нее входили 16-я и 23-я дивизии), «благодаря чему 9-й армией достигнуты решительные победы над красновскими бандами, - указывалось в письме командующего этой армией от 23 марта 1919 года, - Реввоенсовет-9 постановил наградить Миронова в знак благодарности золотыми часами с цепочкой». Награждают его и орденом Красного Знамени и… переводят на запад, в Белорусско-Литовскую армию. Как раз в то время, когда наступал Деникин, когда Миронов всего нужней был на Дону…
Тут надо заметить об ошибках, допущенных в работе с казачеством. Не учитывая начавшегося перелома в настроении середняцкого казачества, многие ревкомы и армейские трибуналы принялись за репрессивные меры. При этом тяжкие нарушения революционной законности совершили неопытные работники, а то и откровенно чуждые Советской власти элементы, пробравшиеся в местные партийные и советские органы, например, в Хоперском, Вешенском, Морозовском да и в ряде других округов. Дело дошло до того, что казакам запрещалось носить лампасы, само слово «казак» изгонялось из обращения. Несомненно, это озлобляло людей, отталкивало казаков от Советской власти.
10- 12 марта 1919 года в верхнедонских станицах вспыхнули мятежи. Поводом выступления против ревкомов было недовольство казаков реквизицией хлеба и лошадей. Мятеж охватил район с населением 300 тысяч человек, число участвовавших в нем в мае 1919 года доходило до 40 тысяч.
Собравшийся под руководством В. И. Ленина 16 марта 1919 года Пленум ЦК РКП (б), обсудив положение в освобожденных районах Донской области, отметил, что трудовое казачество северных округов «может содействовать нам». ЦК партии указал донским работникам, что необходимо прекратить массовые репрессии, проводившиеся в некоторых районах против казачества, и не препятствовать его расслоению.
Решающее значение для установления правильных взаимоотношений с середняком, в том числе и с трудовым казачеством, имел VIII съезд РКП (б), проходивший с 18 по 23 марта 1919 года. Съезд осудил имевшиеся в практике некоторых местных органов ошибки в крестьянском вопросе и провозгласил курс на достижение соглашения и установление прочного союза рабочего [120] класса со средними слоями деревни при опоре на бедноту для беспощадной борьбы с кулачеством.
Отменялись приказы о конфискации у казачьего населения повозок с лошадьми, фуража и седел. Реввоенсовет потребовал строжайше преследовать самовольные реквизиции, беспощадно карать всех должностных лиц, виновных в злоупотреблениях.
Однако отдельные руководители Донбюро и образовавшегося в мае 1919 года областного ревкома по-прежнему допускали ошибки по отношению к казачеству. Столкнувшись с отчаянным сопротивлением кулацких верхов, за которыми шла часть обманутого трудового казачества, они стали настаивать на проведении «расказачивания», то есть на немедленной насильственной ломке всего хозяйственного и бытового уклада жизни казаков.
Против установки на «расказачивание» выступили многие местные партийные и советские работники, командиры и комиссары армий Южного фронта. Резко критиковал руководителей Донбюро за неправильные действия, подрывающие доверие казаков к Советской власти, и начдив 23-й дивизии Ф. К. Миронов.
Придавая большое значение укреплению позиций диктатуры пролетариата на Дону и в других казачьих районах, В. И. Ленин лично занялся рассмотрением вопроса о положении, создавшемся там. Он телеграфировал Реввоенсовету Южного фронта: «Обращаем внимание на необходимость быть особенно осторожными в ломке таких бытовых мелочей, совершенно не имеющих значения в общей политике и вместе с тем раздражающих население». Заведующий политотделом РВС Южного фронта В. Трифонов в ответной телеграмме от 5 июля 1919 года заверил В. И. Ленина: «Нами принимаются меры к упорядочению и урегулированию местной жизни». Однако довести до сведения местных работников указание В. И. Ленина уже было невозможно. Силы южной контрреволюции, руководимые империалистами Антанты, перешли в наступление на Маныче и Северском Донце. Красная Армия отступала из пределов Донской области…
Учитывая большую популярность Ф. К. Миронова среди казачества, 17 июня 1919 года его возвращают с Западного фронта, назначают членом Казачьего отдела ВЦИК и командиром Особого Донского экспедиционного корпуса (с июля - Донского казачьего кавалерийского [121] корпуса) Южного фронта, формирующегося в Саранске.
Формирование это по ряду причин затягивалось. Филипп Кузьмич, человек, храбрый, решительный, но вспыльчивый порой несдержанный, требует пополнения корпуса, отправки его на фронт. Он вступает в конфликт с партийно-политическими органами корпуса. Это настораживает ответственных работников. Здесь следует заметить одну существенную деталь: РВС Южного фронта на формирование корпуса направил группу политработников, которые в свое время, будучи членами ревкомов в северных округах Донской области, участвовали в том так называемом «расказачивании». К таким политработникам казаки, призванные из северных округов, естественно, сохраняли недоверие. Тогда политотдел Донского корпуса высказался даже за прекращение формирования корпуса.
Ф. К. Миронов 16 августа обратился за помощью в Казачий отдел ВЦИК. Ждал ответа - не дождался и через неделю, 24 августа, принимает решение выступить на фронт - вопреки запрету Реввоенсовета Республики - с недоформированным корпусом. Это произошло в двадцатых числах августа, о чем я и услышал по пути на Балашов, чудом уцелев тогда, оказавшись среди мамонтовцев.
За день до выступления из Саранска на фронт Миронов отправил в штаб 9-й армии телеграмму, которой объяснял свой поступок: «Прошу передать Южному фронту, что я, видя гибель революции и открытый саботаж с формированием корпуса, не могу дальше находиться в бездействии, зная из полученных с фронта писем, что он меня ждет, выступаю с имеющимися у меня силами на жестокую борьбу с Деникиным и буржуазией».
А дальше дело выглядело так. Реввоенсовет Южного фронта обвинил Миронова в мятеже, 13 сентября части Донского корпуса были окружены конницей С. М. Буденного и в районе станицы Старо-Анкенской разоружены. Приказ о сдаче оружия бойцы корпуса выполнили без сопротивления, большинство из них влились в ряды буденновского корпуса, а так же в части 9-й армии. А Миронов и десять его ближайших помощников были привлечены к суду военного трибунала и приговорены к расстрелу.
Когда мы узнали об этом, искренне недоумевали: до сих пор обвиняли людей, бегущих с фронта, а тут получилось, [122] что обвиняли тех, кто рвался на фронт!… Однако на следующий же день после приговора, принимая во внимание большие заслуги Миронова перед русской революцией, Президиум ВЦИК помиловал его…
* * *
Об этом мне станет известно чуточку позже. А пока что мы только добрались до Балашова, на станции которого творилось что-то невообразимое. Вокзальные помещения, станционные платформы и прилегающие площади здесь донельзя были забиты народом. Красноармейцы и беженцы с боем захватывали места на крышах, в тамбурах, на подножках и просто на буферах товарных вагонов, изредка отходивших от станции поездов в любом из четырех направлений - на Тамбов, Пензу, Елань и Поворино.
Счастье улыбнулось мне и здесь. В сутолоке и неразберихе я промаялся всего лишь одну ночь. Утром же мне удалось уговорить начальника проходящего санитарного поезда взять меня с собой на Елань. Это была уже поездка с комфортом. Начальник поезда оказался земляком - из Иванова - и, кроме того, относившимся к комиссарам с особым уважением и почтением. Может быть, повлияло и то, что ивановца очень интересовали подробности пребывания мамонтовцев в Тамбове. Он рассказывал, что на одной из станций его поезд чуть не попал к ним в руки.
Только к концу дня 26 августа наш санпоезд добрался до станции Елань-Камышинская. Ночевал я в эту ночь уже в самой Елани, в знакомом мне доме Дурдуковых на Самарской улице, где располагался при моем вступлении в должность комиссара штаб моего 199-го полка и откуда в ночь на 7 июля с группой однополчан отправлялся я в ночную разведку села Терса. Все-то здесь теперь казалось таким близким!…
К моменту моего возвращения в Елань 23-я дивизия, с тяжелыми боями наступая в юго-западном направлении, дралась уже на донской земле, причем совсем рядом со станицей Малодельской. Мне предстояло срочно догонять дивизию, войти в боевой строй после ранения и вместе с однополчанами продолжать громить деникинцев, очищая от них родной мне теперь тихий Дон…
Дальше судьба моя сделает неожиданный поворот: решением Реввоенсовета Кавказского фронта меня посылают учиться - в Академию Генерального штаба. По [123] правде говоря, такое решение меня никак не устраивало. И, затаив мысль, что из Москвы будет легче получить направление на любой фронт, я расстался с уже бездействовавшим после ликвидации Деникина Кавказским фронтом.
Однако закончу свой рассказ о Филиппе Кузьмиче Миронове, с именем которого была связана и моя боевая судьба - одного из комиссаров мироновской дивизии.
Политбюро ЦК РКП(б) 26 октября 1919 года, рассматривая вопрос об использовании Миронова, рекомендовало его на работу в Донисполком. В январе 1920 года Филипп Кузьмич вступил в ряды Коммунистической партии. До осени заведовал казак земельным отделом при исполнительном комитете. А с сентября - снова в атаках, снова на боевом коне!
Учитывая богатый опыт командования крупными соединениями, знание сильных и слабых сторон в использовании кавалерии, Реввоенсовет Республики назначает Ф. К. Миронова командующим 2-й Конной армией. Созданная в составе Южного фронта, конармия Миронова блестяще провела операции по разгрому последнего ставленника Антанты - барона Врангеля.
Когда врангелевские войска, форсировав Днепр, вторглись на Правобережную Украину, непосредственное руководство операцией по ликвидации их командующий Южным фронтом М. В. Фрунзе возложил на Ф. К. Миронова. «2-я Конная армия, - телеграфировал командующий фронтом, - должна выполнить свою задачу до конца, хотя бы ценою самопожертвования…»
Член Революционного военного совета фронта С. И. Гусев 18 ноября 1920 года, выступая на V конференции Коммунистической партии Украины, рассказывал, как действовали мироновцы: «2-я армия билась под Никополем 25 октября так храбро, что Врангель предполагал, что имеет дело с Первой Конной армией. Он выставил против предполагаемой Первой Конной армии свои лучшие дивизии марковцев, корниловцев и дроздовцев и часть донской кавалерии… 30 и 31 октября Врангель отдал приказ, чтобы разбить Вторую Конную армию. Перед ним раньше была армия слабо вооруженная, слабо руководимая, недостаточно спаянная, и он ее бил шутя, играючи. Теперь же перед ним стояла грозная стена. Он этого в первый момент не понял, не угадал, поэтому он проявил то величайшее, неслыханное в истории [124] нахальство… Он счел возможным отдавать приказы, чтобы разбить Вторую Конную армию. Мы смеялись над этим приказом».
В архивах сохранилось личное послание барона Врангеля Ф. К. Миронову, в котором белогвардейский главком предлагал перейти всей армией на его сторону. «В случае Вашего согласия прошу направить Вашу армию в район Херсона, Николаева, разгромить части 6-й советской армии и войти в непосредственную связь с русской армией», - писал Врангель в своем послании, которое было запечатано в буханку хлеба и доставлено Миронову попавшим в плен к белым конармейцем.
Филипп Кузьмич достойно ответил барону. И под Никополем, и в Перекопско-Чонгарской операции, и под Джанкоем конармия Миронова бесстрашно сражалась против белых, разбив лучшие части Врангеля - кавкорпус Барбаровича.
За личную храбрость, проявленную в боях, умелое управление войсками командарм Ф. К. Миронов был награжден высшей боевой наградой - Почетным революционным оружием - шашкой с позолоченным эфесом и наложенным на него орденом Красного Знамени, а затем еще - орденом Красного Знамени. В декабре 1920 года 2-ю Конную армию переформировали во 2-й Конный корпус, а ее командующего перевели в распоряжение Главкома - инспектором кавалерии.
* * *
С осени того же года, как я уже писал, меня направили на учебу в Москву. И вот как-то зимой узнаю страшную весть: Миронов, бывший командир моей родной 23-й дивизии, арестован якобы за участие в контрреволюционном заговоре и расстрелян…
Потребуются долгие годы, чтобы вернуть народу светлое имя героя гражданской войны Филиппа Кузьмича Миронова - имя солдата революции, которого мы все любили… [125]
С напутствием Ленина
Ну а моим фронтовым настроениям осуществиться, стать реальностью было уже не суждено. Обстановка, царившая в академии{1}, размещавшейся тогда на Воздвиженке в особняке бывшего аристократического охотничьего клуба, сознание того, что это высшее военное учебное заведение создано по личной инициативе Ленина, который придает ему большое государственное значение, заставили пересмотреть свои взгляды на учебу и, как говорится, засучив рукава сесть за парту. Окончательно утвердил мое решение состоявшийся через несколько дней после моего приезда в Москву III съезд комсомола и речь на нем Владимира Ильича Ленина.
Мне посчастливилось быть делегатом исторического съезда в числе армейских комсомольцев. Предсъездовские же дни я провел на Садово-Кудринской, в 3-м Доме Советов, куда со всех концов страны собирались комсомольские посланцы.
Армейцев наша молодежь всегда принимает с любовью, и здесь, на съезде, мы ходили окруженные всеобщим вниманием. Старые друзья и новые знакомые, еще не побывавшие в армии, живо интересовались положением на фронте, работой в боевых частях и, конечно, героическими делами комсомольцев. Надо сознаться, когда речь заходила о мужестве и отваге комсомола на фронте, я чувствовал себя особенно уверенным, так как с гражданской войны вернулся комиссаром, дважды награжденным орденом Красного Знамени, именным холодным и огнестрельным оружием. На съезде комсомола нас, заслуженных орденоносцев, было не больше десятка.
Трудно передать чувства, охватившие всех делегатов, [126] когда стало известно, что на съезде обещал выступить сам Владимир Ильич. Ведь почти никто из нас никогда не видел и не слышал Ильича, а ведь именно Ленин, его имя, образ вдохновляли каждого.
И вот точно в установленное время Владимир Ильич появился на сцене. Поднялся невообразимый шум, гром аплодисментов. Во всю мощь мы скандировали: «Ленин, Ленин, Ленин…» Казалось, что овации вождю не будет конца…
По мере того как Владимиру Ильичу становилось ясно, что бурю ликования остановить не так просто, его добрая ответная улыбка начала пропадать. Он жестами стал призывать делегатов успокоиться, а потом вынул из кармана жилета часы и не без строгости показал на циферблат, как бы говоря, что время ограничено и его ждет еще государственная работа.
К своим карманным часам, как к действенному и испытанному средству, Владимир Ильич, как оратор, обращался частенько. Кстати сказать, я неоднократно слушал выступления Ленина и помню, что всем им предшествовали бурные неуемные аплодисменты.
В предсъездовские дни и часы мы, делегаты, много говорили и спорили о том, к чему будет призывать нас, комсомольцев, Владимир Ильич. Судя по обстановке в стране, большинство ожидало призыва к мобилизации всех нас на борьбу с врагами Советского государства.
И вот Ленин говорит, а скорее ведет, задушевную беседу с большой аудиторией комсомолии, которой суждено служить резервом партии, ее помощником во всех ее малых и больших делах.
Что же произвело на меня наибольшее впечатление в речи Владимира Ильича на III съезде комсомола? Пожалуй, что Ленин ни слова не проронил о сложности сегодняшней обстановки, о войне. Как будто она уже кончилась и нам предстояло в срочном порядке перестраиваться на решение задачи мирного строительства - готовить и воспитывать для этого соответствующие кадры, в первую очередь из молодежи.
После речи и ответов Владимира Ильича на многочисленные записки делегатов все, кто был в зале, вскочили со своих мест и ринулись в фойе, через которое он должен был пройти. Толпа делегатов уже успела окружить его, образовав плотное кольцо. Я, естественно, бросился туда же, но опоздал: пробиться к Ленину было невозможно. Тогда я пустился на хитрость. Нагнувшись, [127] будто обронил какую-то вещь, встал на колени и, шаря рукой по полу, начал на четвереньках пробираться к центру круга.
Хитрость удалась. Преодолев барьер из ног, я поднялся, как из-под земли, впереди самых первых и оказался сзади Владимира Ильича, за его левым плечом. Не скрою, за такое нахальство я получил несколько увесистых ударов от товарищей, но что они могли значить, когда я уже стоял совсем-совсем рядом с любимым вождем!…
Трудно сейчас сказать, что привлекло внимание Владимира Ильича, но меня он все-таки заметил и не без отеческого лукавства в голосе спросил:
- А вы что делаете теперь, товарищ… военный?
От волнения я не сразу даже сообразил, что вопрос относится ко мне. Но, тут же собравшись с духом, выпалил:
- Я приехал учиться в Академию Генерального штаба!…
Товарищи потом рассказывали, и не без порицания, что слова «Генерального штаба» я произнес слишком уж громко, с каким-то непростительным мальчишеским апломбом.
Владимир Ильич, не ожидая, пока я еще что-либо скажу, чуть-чуть коснувшись рукой моего плеча, одобрительно произнес:
- Учитесь, учитесь, молодой человек. Это сейчас необходимо…
С этими словами Ленин дал знак ребятам пропустить его к выходу.
* * *
Так с напутствием вождя революции - учиться, обращенным к комсомольцам с трибуны съезда, начал я осваиваться в старинном особняке на Воздвиженке, куда всего три-четыре года назад съезжалась старорежимная аристократия, чтобы просидеть ночь за картами или весело провести время. А теперь в одной из дальних комнат первого этажа, оборудованной под кабинет, командированных в академию принимал с целью знакомства первый ее начальник, бывший царский генерал, Снесарев. Поодаль от него сидел комиссар академии, ивановский большевик, Степан Назаров.
Близкое личное знакомство с Назаровым по родной 9-й армии, где он, как комиссар штаба армии, неоднократно [128] беседовал со мной, помогая комиссарскому становлению недавнего комсомольца, значительно облегчили беседу с начальником академии. Так, почти на все казусные вопросы, в основном связанные с моим возрастом и скоротечной военной карьерой, Назаров отвечал сам или разъяснял мои не очень-то внятные ответы.
В конце собеседования Снесарев, не без некоторого даже расположения ко мне, спросил:
- А как у вас обстоит дело со знанием уставов, особенно полевого? В ладах ли вы с русской историей?
Недолго думая, я рапортовал:
- Полевой устав знаю хорошо. На фронте с ним никогда не расставался. И с другими уставами знаком, но только со старыми. С нашими, новыми познакомиться еще не успел: на фронте их не было. - И прибавил уже потише: - Вот только с историей, боюсь, не справлюсь…
- Трудновато будет учиться, молодой человек. У вас ведь никакой военной подготовки. А впрочем, вы не один такой. Желаю успеха!…
При поступлении в академию будущие слушатели формально должны были пройти через приемно-экзаменационную комиссию, целиком состоявшую из бывших царских генералов. Надо сказать, «допрашивали» они с пристрастием. Я, к счастью, ее миновал, занятый в это время предсъездовскими комсомольскими делами. По-видимому, тот же Назаров сумел устроить дело так, что меня от вступительных «экзаменов» освободили.
А генеральская экзаменационная комиссия почему-то больше всего интересовалась ушедшими в прошлое царями да царицами, которых многие из нас с детства знали только по именам да по прозвищам, но отнюдь не по их «деяниям». Кроме того, следует учесть, что в первые годы революции, даже само слово «царь» вызывало в каждом из нас ненависть и презрение, начисто исключавшее всякую возможность признания за этим понятием вообще чего-либо положительного в истории России.
О некоторых ответах абитуриентов на «экзаменах» еще долгое время ходили прямо-таки анекдоты среди слушателей академии. Так, моего однокурсника Павла Дыбенко спросили:
- А слышали ли вы что-нибудь о беглом боярине князе Андрее Курбском и его переписке с Иваном Грозным? [129]
Дыбенко отрицательно покачал головой и без колебаний доложил:
- Такого не знаю и не хочу знать. Вот если б о революции спросили - тогда б я рассказал со всеми подробностями…
Комкора Шмидта члены комиссии попросили рассказать все, что он знает о периоде царствования императрицы Екатерины II и войнах, которые она вела. Шмидт в своем ответе был еще короче:
- Первый раз слышу, чтобы цари, да еще бабы, вели войны… Знаю, что Екатерина была подлюга порядочная и в политике, и по части мужиков, а вот подробности не слышал. А я в то время еще не родился.
- А что вы можете рассказать о крестьянской войне, которой руководил Емельян Пугачев? - спросил комкора профессор Свечин.
- Вот я и говорю, подлюга эта Екатерина, порядочная, по ее же приказу казнили Пугачева!…
Комиссар Назаров, присутствовавший при экзаменационных собеседованиях Дыбенко и Шмидта, на другой же день вел с обоими «народовольцами» разъяснительно-увещевательный разговор. Сделали свои выводы и члены комиссии: подобные вопросы на исторические темы нам больше не задавали.
Среди моих однокашников по курсу оказались такие замечательные личности - руководители гражданской войны, как герой «Железного потока» Епифанов, начальник его штаба Ковалев, преемник легендарного Чапая начдив Иван Кутяков, начдив «Железной дивизии» Гай, прославленные буденновцы - начальник полевого штаба армии Степан Зотов, комбриг Иван Тюленев, бывший кандидат эсеров на пост военного министра, впоследствии прочно вошедший в партию большевиков Юрий Саблин, бывший комбриг 2-го красноармейского полка, участвовавшего в разгроме немцев под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года, Александр Черепанов, видные военачальники поляки Сверчевский, Коханский, известные болгарские революционеры Христо Боднев (участник Октябрьской революции в Петрограде), Баян Былгаринов и многие другие.
Не знаю, в какой должности прибыл в академию левый эсер, затем ярый троцкист Блюмкин, но мы все знали, что 6 июля 1918 года именно он убил первого германского посла в Москве графа Мирбаха, чем и «увековечил» свое имя. [130]
Таков был состав слушателей академии на третьем году революции. И пока еще - ни одного советского преподавателя по военным дисциплинам. Они, обогащенные опытом гражданской войны, воспитанные большевистской партией, должны были появиться из нашей среды, вырасти среди нас. И действительно, с нами учились такие в будущем известные военные теоретики, как Триандофилов и Иссерсон (оперативное искусство), Красильников (стратегия), Меликов (история гражданской войны), Каменовский (тыл).
Первыми же нашими учителями были известнейшие царские генералы и полковники, главным образом профессора бывшей Николаевской академии генерального штаба: В. Ф. Новицкий (брат его Ф. Ф. Новицкий, тоже генерал, был начальником штаба у М. В. Фрунзе на Туркестанском фронте), Зайончковский преподавал стратегию и оперативное искусство, А. А. Свечин - историю военного искусства, Морозов, бывший командующий армией у Деникина, - тактику, К. И. Величко - инженерное дело (он - строитель ряда русских крепостей), Голубев - артиллерию, Яцук - авиацию, Готовский - кавалерию, Доливо-Добровольский - военно-морское дело, Н. А. Сулеман и Загю - тыл и военные коммуникации.
Были у нас, конечно, и «свои» - убежденные коммунисты, люди с революционным прошлым, но они вели предметы социально-экономического цикла: по истории партии - Горев, по политической экономике - Богданов и Трахтенберг, по философии - Топорков, по материализму и эмпириокритицизму - Павлович. Факультативно большинство слушателей курса с удовольствием посещали занятия по классической риторике (ораторскому искусству) и декламации.
Кстати, о декламации. На одном из вечеров-концертов, устроенном академией в феврале двадцать первого года, на котором выступали известные в то время артисты Степанова, Пирогов и Максакова (все из Большого театра) и некоторые другие знаменитости, мне довелось декламировать какую-то уже забытую оду и «Левый марш» Маяковского. Владимир Владимирович сам присутствовал на этом вечере как гость и чтец своих произведений. После исполнения «Левого марша» Маяковский подошел ко мне и, поздравив с успехом, во всеуслышание заявил: «Ну, просто здорово. Так, пожалуй, не прочту и я сам…»
Несмотря на то что большинство слушателей академии [131] были участниками Октябрьских боев, активными борцами за становление Советской власти, взаимоотношения наши с преподавателями - представителями свергнутого режима - были, как правило, корректными, выдержанными и даже доброжелательными. Это, конечно, не исключало отдельных вспышек «противоречий» с обеих сторон.
Пожалуй, наиболее интересные и часто забавные стычки происходили на лекциях или практических групповых занятиях, особенно между теми слушателями и преподавателями, которые побывали на фронтах гражданской войны я совсем недавно встречались друг с другом как прямые противники. В этом отношении больше всех доставалось тактику, бывшему генералу Морозову. Раздраконит он, бывало, какой-нибудь классический пример успеха в бою, а ему в ответ тотчас несутся наши собственные соображения - из опыта только что минувших боевых действий, показывающие, как в аналогичных же случаях противник садился в лужу и терпел сокрушительное поражение.
Лично у меня произошел прелюбопытнейший разговор с бывшим генералом Сланцевым (так в тексте, видимо Слащевым), когда он сделал свой первый доклад в академии после его перехода на сторону Советской власти. Я ему напомнил эпизод, как он с превосходящими силами был наголову разгромлен нашей бригадой в селе Михайловка, южнее Александровска (ныне Запорожье), да еще и привел случай своего спасения от его конницы в Пришибском сабашнике. Немало удивленный такой встречей, генерал пробормотал: «Интересно…»
* * *
Вспоминая далекие, но всегда дорогие и близкие сердцу дни, проведенные в Академии Генерального штаба двадцатых годов, не могу не сказать хотя бы несколько слов о нашем быте.
Жили мы тогда очень и очень скромно. Основными исходными продуктами питания, из которых наши мастера кулинарии виртуозно готовили разнообразные блюда, были чечевица, перловка, иногда - пшено, картофель и капуста, вместо мяса - сырая и вареная селедка, вобла да еще соленая селедка. И все это с редким добавлением небольшого количества подсолнечного или льняного масла. На обед в пайках полагался, конечно, и хлеб, но только черный и с большим процентом различных [132] суррогатов, в первую очередь - жмыха. В пайках иногда бывали небольшое количество сахара и несколько пачек махорки «вырви глаз».
В условиях полуголодного существования особенным весельем запомнились дни, когда слушатели академии получали откуда-нибудь с фронта или из войск гостинцы. Помню, как из армии Буденного пришел вагон яблок, а поздней осенью двадцать первого года - вагон квашеной капусты. В обоих случаях нормы общественного распределения были одинаковыми: холостякам - по ведру, семейным - по два.
Не избалованные фруктами, мы, холостяки, щедро раздаривали яблоки своим знакомым и сотрудникам академии, зато «деликатесной» капустой наслаждались досыта только с особо избранными. У меня таковой избранницей оказалась моя будущая жена. Я не раз вспоминал, как сидели мы, свесив ноги на окне холодной комнаты, и с необычайным удовольствием черпали из ведра эту капусту. К концу визита невесты капусты в ведре оставалось все меньше.
Не лучше обстояло дело и с денежным довольствием. Деньги падали в цене с такой катастрофической скоростью, что получаемого миллионными знаками жалованья, именно жалованья, а не заработной платы, хватало иногда лишь на то, чтобы расплатиться только за махорку «вырви глаз», которую удавалось выпросить в долг у доброго приветливого старика гардеробщика в академии.
Еще хуже обстояло дело с обеспечением нашего жилья топливом. В неотапливаемых комнатах стояли небольшие железные печурки - «буржуйки» с выкинутыми наружу через форточки окон вытяжными трубами. Ложишься, бывало, спать - от «буржуйки» тепло, встаешь - температура в комнате та же, что и на улице. В зимнее время эта печурка придвигалась непосредственно к кровати с таким расчетом, чтобы утром, высунув из-под одеяла руки, разжечь ее сразу же заранее приготовленной щепой. Начнет «буржуйка» давать тепло, значит, можно вставать и одеваться, да и то не отходя от нее слишком-то далеко.
Заготовкой топлива занимались, конечно, сами. Вместе с другими москвичами по вечерам исследовали заснеженные московские проулки-закоулки и доламывали еще уцелевшие остатки деревянных заборов. Если кому-либо удавалось раздобыть немного каменного угля, того считали просто счастливцем. [133]
Да, суровая, но хорошая была эта школа жизни. Она выработала у поколения, которому выпала честь совершить и защищать революцию, способность не бояться никаких трудностей, быть нетребовательными в своих житейских потребностях, уметь ценить не материальные, а духовные запросы.
Несмотря на предупреждение начальника академии, что учиться мне будет трудновато, по правде говоря, такого ощущения я не испытал. С началом учебного года быстро освоился в окружающей обстановке, вошел в общий ритм занятий и продвигался в науках наравне с остальными своими однокурсниками. Если что-либо и накладывало некоторые ограничения на мое воображение на первых порах, то это, пожалуй, непривычная масштабность рассматриваемых вопросов, почти на каждом шагу затрагивающих критические оценки деятельности генеральных штабов воюющих сторон и проведенных ими главнейших операций в первую мировую войну. Все это были проблемы, о которых я не имел никакого представления, так как моя практическая деятельность на фронтах гражданской войны не выходила за рамки полка и бригады.
Значительно легче мне было разбираться в вопросах тактики. Слишком теоретизированные занятия по этой дисциплине частенько не совпадали с практическими боевыми делами из опыта гражданской войны. На лекциях и особенно на практических занятиях нередко возникали горячие дискуссии и споры, в которых нашим руководителям, представителям старой классической школы, приходилось непросто. Обучая нас, им приходилось и самим многое узнавать у своих учеников. Так что в стенах нашей академии шла непримиримая борьба между представителями старой школы, тяготеющей к позиционным формам ведения войны, и новой, сторонники которой предпочитали опытом проверенный, безудержный стратегический и тактический маневр.
Горячая жажда знаний (учиться так учиться!) подтолкнула многих из нас на параллельное изучение других предметов - дополнительно к академическому курсу. Часть слушателей, ставших впоследствии видными военными работниками органов юстиции, оформилась студентами юридического факультета Московского университета, другие же решили совмещать учебу на основном курсе с восточным факультетом академии, который в то время был теснейшим образом связан с Московским [134] институтом востоковедения (бывший Лазаревский институт).
Я лично попробовал объять необъятное и добился зачисления как слушателем восточного факультета, так и студентом университета. Однако к середине первого же года обучения юридический факультет пришлось оставить. Высвободившееся время показалось мне просто безграничным - оно было весьма благоразумно распределено между двумя факультетами, размещавшимися в одном здании.
На восточном факультете я выбрал класс арабского и турецкого языков, продолжая при этом изучать и английский, который в академии для меня был основным. С особой признательностью и благодарностью вспоминаю своих учителей, и в первую очередь известнейших арабистов - старого профессора Аттая (по происхождению араба) и тогда еще молодого, но очень взыскательного Игнатия Юлиановича Крачковского (впоследствии академика), а также преподавателей английского языка супругов Вайнелович. Вся моя последующая жизнь и деятельность сложились так, что я не мог использовать знания восточных языков, зато английский язык мне очень пригодился и сослужил большую службу во время моей продолжительной работы за рубежом. Полученные в академии знания по английскому позволили избежать услуг переводчиков, что было тогда немаловажно.
…Итак, сложная и непривычная иероглифическая письменность и гортанная фонетика не помешали мне довольно успешно овладеть восточными языками. Уже к концу первого года обучения я мог читать на память арабские стихи и рассказывать любимые профессором Аттаем арабские анекдоты. В знак признания успехов в овладении преподаваемым им предметом Аттая подарил мне свой учебник с автографом.
Счастливейший двадцатый! Такое время в жизни случается, наверное, только один раз… В двадцатом году я был выдвинут партией на должность комиссара отдельной бригады и вторично награжден орденом Красного Знамени. В этом году мне, уже зачисленному в Академию Генерального штаба, было доверено представлять армейский комсомол на его III съезде. Наконец, в конце года, в середине декабря, комиссар академии, вызвав к себе Дыбенко, Ковалева и меня, объявил, что завтра утром мы должны явиться к Владимиру Ильичу в Кремль, и добавил, что Владимир Ильич, по-видимому, [135] будет интересоваться учебными делами в академии, тем, как мы, красные командиры, усваиваем курс. Старшим делегации назначили Дыбенко.
В точно назначенное время, минута в минуту, перед нами открыли дверь, и мы вошли в кабинет Ленина.
Владимир Ильич, оставив свой рабочий стол, встретил нас почти у самого входа в кабинет. С чуть сдержанной, но исключительно теплой, располагающей улыбкой Ленин по очереди поприветствовал нас:
- Здравствуйте, здравствуйте, товарищи военные. Очень рад вас видеть. Рассаживайтесь, пожалуйста, поудобнее и будьте как дома.
В кабинете мы застали высокого, статного, по виду средних лет, товарища, который в момент нашего появления стоял у стола и внимательно нас оглядел. Раньше я его никогда не видел, но лицо этого человека было очень знакомо по фотографиям. Изрядно взволнованный встречей с Владимиром Ильичем, я даже и не поинтересовался, кто же был этот молчаливый свидетель нашей беседы с вождем. Значительно позже узнал в нем Подвойского.
Воспроизвести дословно все детали разговора с Владимиром Ильичем просто невозможно. Однако характер и содержание состоявшегося разговора, как и сам образ Ленина в рабочей обстановке, врезались в память со многими подробностями.
Владимир Ильич интересовался нашими успехами в академии, подчеркнув, что мы, сами командиры и руководители армии, уже должны учить нашу молодежь военному делу, передавая ей и свое умение, и свой опыт. Ленин спросил также, всему ли нас учат целенаправленно, то есть так, чтобы наши командиры стали по-настоящему грамотными военачальниками.
На вопросы Владимира Ильича отвечал Павел Дыбенко. Примерное содержание было таково: учеба проходит нормально, особых трудностей в усвоении преподаваемых предметов нет. Недостаток - почти все военные дисциплины в основе своей базируются на опыте первой мировой войны и объясняются с позиций дореволюционной «классической» школы. Но что поделаешь, если наш опыт - опыт гражданской войны еще никем не обобщен…
- А что же с них спросить-то, Владимир Ильич, - с некоторой иронией заметил Дыбенко. - Что знают, то и дают. [136]
На этом Владимир Ильич прервал Дыбенко:
- Вот, вот, это уже и интересно. А как дают? Все ли отдают, что знают? Ведь можно передавать свои знания по-разному: хорошо или плохо; добро, от души, или сдержанно, выдавливая из себя. Так как же все-таки дают?
Дыбенко не задумываясь тут же ответил:
- Я считаю, Владимир Ильич, что в этом отношении все в порядке. Работают добросовестно.
- А как ваше мнение, товарищи?-Владимир Ильич обратился уже к нам.
- Это верно, Владимир Ильич, - ответил Стецкий.
- А каковы у вас, красных командиров, больших начальников, отношения с вашими преподавателями, бывшими царскими генералами?
- Здесь тоже все в порядке. Нам с ними делить-то нечего. Друг другу улыбаемся, но в гости не ходим. Живем, друг друга не обижаем.
- Вот это очень, очень важно. Нужно иметь в виду, что многие офицеры и генералы царской России порвали со своим прошлым навсегда и, перейдя на нашу сторону, добросовестно нам помогают громить врага, и уже вместе с нами отвечают за судьбу революции, - добавил Владимир Ильич.
В заключение беседы Ленин поблагодарил нас, передал привет товарищам по академии и пожелал успеха в учебе.
Прощаясь, уже на ходу он спросил меня:
- Мы, кажется, где-то встречались с вами, молодой человек?
Я напомнил Ленину III съезд комсомола.
Беседа с Владимиром Ильичем продолжалась не более 10-15 минут, однако запала в сердце каждого из нас на долгие годы.
* * *
Наступил 1921 год, первый год мирного строительства молодого Советского государства. После напряженной учебы я решил воспользоваться отпуском и провести его во Владимире, среди близких и товарищей по школе и комсомолу. От Москвы до Владимира вроде рукой подать, а вот попасть туда никак не удавалось.
Не смог уехать в родной Владимир я и на этот раз.
В начале лета меня вызвали к Главкому Вооруженных Сил Республики, Сергею, Сергеевичу Каменеву. [137]
Прежде чем попасть к нему на прием, я побывал у начальника оперативного управления полевого штаба Реввоенсовета Республики Б. М. Шапошникова. Состоялось мое первое знакомство с выдающимся военным специалистом, который, как и Главком С. С. Каменев, занимая ответственный военный пост в старой армии, перешел на сторону революции и отдавал теперь все свои силы и знания делу укрепления Красной Армии.
Цель вызова была неизвестна, и я, блуждая в догадках, склонен был думать, что меня предполагают командировать в Тамбовскую губернию на ликвидацию кулацко-эсеровского мятежа. К этому времени мятеж принял уже довольно угрожающий размах, и туда направлялись значительные силы, в том числе некоторые слушатели нашей академии.
Высокий, статный, Шапошников подошел ко мне и, сдержанно улыбаясь, приветливо протянул руку. Впоследствии Борис Михайлович рассказывал, что ожидал увидеть здоровенного детину с задорными дерзкими глазами, этакой разухабистой казачьей походкой и лихим чубом. Но… несколько ошибся.
Не теряя времени, Шапошников позвонил Каменеву:
- Сергей Сергеевич? У меня Соколенок. Когда разрешите зайти?…
В кабинете Главкома из-за огромного письменного стола поднялся нам навстречу плечистый пожилой человек с добрыми черными глазами, большими пушистыми усами, которые мне невольно напомнили отца.
- Так вот вы какой, Соколенок! Слышал, слышал о вас…
После короткой паузы, не без лукавинки в голосе, но с явной симпатией, Главком, бывший полковник старой царской армии, неожиданно спросил:
- Товарищ Соколенок, скажите, а вам красноармейцы подчиняются?
- Меня красноармейцы всегда любили, а раз любят - подчиняются и пойдут вместе в огонь и в воду… - ответил я не без гордости, хотел еще что-то добавить, но Главком прервал:
- Ну и хорошо, - и обратился к Шапошникову: - Борис Михайлович, вы ознакомили товарища Соколенка с обстановкой?
- Еще нет.
- Я попрошу вас сейчас же сделать это и снова зайти ко мне… Да, чуть не забыл… - С этими словами [138] Главком взял со стола какой-то фотоснимок и передал его мне: - Посмотрите. Кого-нибудь знаете из стоящих на снимке?
У меня в руках оказалась одна из двух моих групповых фотографий гражданской войны, где я был снят вместе с другими командирами и комиссарами частей нашей 1-й бригады. Снимок относился к осени 1919 года. Мы тогда стояли на Дону в одной из станиц, где размещался штаб бригады.
- Это командиры и комиссары частей нашей бригады двадцать третьей дивизии, - доложил я Главкому.
- Вы помните их фамилии? Можете назвать?
Я начал перечислять стоявших фронтом своих боевых товарищей:
- Это командир артиллерийского дивизиона бригады Фомин, рядом с ним комиссар Артамонов. Вот это командиры полков Жильцов, Попов, Вакулин, это…
Главком, не дослушав, прервал меня и повторил Шапошникову:
- Так вот, Борис Михайлович, ознакомьте товарища Соколенка с обстановкой - и ко мне.
В комнате, в которую мы вошли, на двух стенах были развешаны большие полотнища десятиверстных карт. В разных местах их торчали булавки с разноцветными бумажными флажками, от которых отходили большие и малые стрелы.
Шапошников подвел меня к одной из карт, взглянув на которую я сразу понял, по какому поводу меня вызвали к Главкому.
Большая синяя стрела своими широкими лопастями у основания упиралась где-то в районе Арчеда и Березовского хутора станиц Донской области. Захватив своими «лапами» и дорогую для меня Малодельскую, она проходила через Камышин и, развернувшись по кривой на север, своим острием вонзалась в саратовское Заволжье в районе Красного Кута, с общим направлением движения на Ершов и Николаевск (ныне Пугачев).
Изредка разбросанные параллельно большой синей стреле маленькие красные эллипсоиды с крохотными стрелочками обозначали выдвинутые против противника наши части, пытавшиеся приостановить его движение. Красные кружки, которыми были обведены попутные и дальние от стрелы населенные пункты, указывали на наличие там не очень сильных гарнизонов. Как потом выяснилось, [139] это были части особого назначения (ЧОН), состоящие в основном из местных коммунистов.
Вдоль большой синей стрелы по обеим ее сторонам стояли знакомые мне фамилии - Вакулин, Попов, а в скобках за фамилиями значился состав их «вооруженных сил» - 500 (1000) сабель.
Борис Михайлович в общих чертах рассказал о начале мятежа, поднятого этими двумя казаками, бывшими командирами Красной Армии, о расправах над коммунистами и советскими работниками, которые те учиняют на пути своего продвижения, о тактике, применяемой при встрече с регулярными частями Красной Армии.
По мнению Бориса Михайловича, Вакулин и Попов, не найдя поддержки среди красного донского казачества, после отхода из Камышина и вступления на просторы заволжских степей (в это время в ряде районов здесь активизировались кулацкие элементы, орудовало значительное количество мелких разрозненных банд) могут пробиться кружным путем на соединение с антоновцами.
Вторичное посещение Главкома носило совсем иной характер. Уточнив, достаточно ли я разобрался в обстановке, сложившейся в Заволжье в связи с появлением там отрядов Вакулина и Попова, Каменев спросил:
- Если бы вас направили на ликвидацию банд в качестве руководителя, какие бы силы вам понадобились для этого? Какими методами, по вашему мнению, должна быть выполнена эта задача?
Такой постановки вопроса от Главкома я никак не ожидал. Однако справиться с поставленной задачей теоретически мог немедленно и достаточно квалифицированно. Ведь совсем недавно я закончил статью именно по этой теме: «Бандитизм, его тактика и методы борьбы». В статье, которая уже была подготовлена для печати, на основании собственного опыта борьбы с бандами Махно и Хмары на Украине, осуществлявшейся нашей бригадой летом двадцатого года во время переброски ее с Кавказского на Юго-Западный фронт в состав 14-й армии, а также обобщения других имевшихся материалов раскрывались основные аспекты сегодняшнего вопроса. В общем, можно сказать, повезло.
Мои главные мысли и предположения, высказанные тогда Главкому, сводились к следующему: бандитизм, действовавший в районах, где активно орудовали кулацкие и антисоветские элементы, очень хорошо обеспечен необходимыми разведывательными данными. Поэтому в [140] редких случаях банды можно застать врасплох. Средством противодействия, на мой взгляд, могла стать умело поставленная служба дезинформации противника с применением демонстративно ложного передвижения войск. Оставляя в качестве приманки незначительные подразделения в пунктах, в которых враг особенно заинтересован, последующими внезапными боевыми действиями основных сил можно было добиться решающих успехов. Таким образом удалось разгромить банду Маруси на Украине летом двадцатого года. Те же методы впоследствии решили судьбу банды Вакулина, при ликвидации которой отличилась горсточка героев - пугачевских чоновцев.
Довольно часто бандиты становились неуловимыми благодаря исключительно высокой скорости передвижений. Они обновляли свой обессиленный конский состав за счет лошадей, отобранных у местного населения. Для нас был закон - уставные нормы и забота о местном населении; для бандитов - подчинение всего реальной необходимости. Я предложил организовать подвижные «летучие отряды», которые при преследовании бандитов в определенных случаях тоже могли бы обновлять свой конский состав за счет лошадей местного населения (в порядке временной мобилизации).
Для борьбы с бандами Вакулина и Попова я считал нужным сформировать аналогичный «летучий отряд», усиленный двумя пулеметами на тачанках - на каждый эскадрон и роту - и одной трехорудийной батареей. Последняя, как я выразился, «для представительности», чтобы иногда можно было «попугать вакулинцев».
Главком внимательно, не прерывая, выслушал мои соображения и, подтвердив в основном их правильность и даже некоторое совпадение с его собственными, обратился к Шапошникову:
- Я думаю, товарищ Соколенок справится с задачей, и мы не сделаем ошибки, если назначим его командующим войсками заволжских степей по ликвидации банд Вакулина и Попова. А впрочем, - он повернулся ко мне, - зачем вам такой громкий титул? Чувствуйте себя командующим, а назовем поскромнее, как вы сами подсказали - начальником «летучего отряда». А вот прав дадим побольше - скажем, предоставим вам во временное оперативное подчинение действующие и расположенные в районе боевых действий регулярные части. При необходимости можете связываться непосредственно со мной. Ваша оперативная подчиненность - командующему [141] Приволжским военным округом товарищу Краевичу. Далее Главком снова продолжил разговор с Борисом Михайловичем.
- Скорее всего, надо дать возможность товарищу Соколенку самому подобрать себе из слушателей академии нескольких помощников, - заметил он. - Выехать всем к месту назначения необходимо не позднее послезавтра. Как видите, времени на оформление мало.
- Все будет сделано, - ответил Борис Михайлович. - Я бы только предложил в качестве начальника штаба товарищу Соколенку Триандафилова.
На этом разговор закончился. А через два дня оперативно сколоченное командование отряда выехало в Нижнее Поволжье. Со мной были Триандафилов, однокурсник Семенов и бывший однополчанин - адъютант Губан.
В сегодняшнем учебном процессе нашу командировку в Заволжье окрестили бы, возможно, «летней производственной практикой» или «третьим трудовым семестром». Я же просто назову ее активным участием в «малой войне» с бандитизмом, которая во многих отношениях была не менее тяжелой и жестокой, чем большая.
По сути, здесь нет открыто противостоящего врага, с точно очерченными линиями его расположения и передовых позиций, с которых ведется планомерный огонь с последующим переходом в атаку, в наступление. В этой «малой войне» не исключены даже случаи, когда некоторая часть противника может оказаться временно «рассредоточенной» среди местного населения, которое терроризируют антисоветские и кулацкие элементы. В этой войне не найдется ни единого дня, именуемого в обычных военных сводках спокойными словами «без перемен» - здесь все находится в беспрерывном движении. Для бандитов остановка и передышка - смерть. Непрерывно преследуемые, они мечутся и ищут возможности для контрударов, внезапных налетов там, где мы, по их предположениям, можем оказаться слабыми или потерявшими бдительность.
Само наименование отряда, «летучий», как нельзя лучше отражает характер и методы борьбы с бандитизмом. Движение, движение, движение!… А за ним - калейдоскоп боевых эпизодов, жесточайшие схватки с бандитскими шайками, калейдоскоп сменяемых друг друга районов и городов, неожиданные встречи с фронтовыми [142] друзьями и даже многократное переименование собственной должности.
За пять месяцев я сменил свой «титул» несколько раз: начальник «летучего отряда», начальник сводной группы войск Низовья Волги, начальник сводной группы войск Заволжского военного округа, командующий войсками Балаковского района, командующий войсками Пугачевского района. За это время перед глазами не единожды промелькнули доселе незнакомые мне волжские города: Камышин, Саратов, Покровск, Вильск, Балаково, Хвалынск, Самара, неоглядные просторы заволжских степей…
Я не буду описывать здесь ход борьбы с бандитизмом, охватившим летом двадцать первого года обширные просторы многострадального Заволжья. Уместно лишь подчеркнуть, что тактика борьбы с бандитскими отрядами и предложенная организация наших войск, о которых я докладывал Главкому Каменеву, целиком себя оправдали. Банды Вакулина и Попова были разгромлены, и сами они погибли, не сумев скрыться.
В сентябре я вместе с товарищами по командировке покинул Саратов. Нам представилась возможность совершить обратный путь не по железной дороге, а по Волге, через Нижний Новгород, на находившемся в нашем распоряжении пароходе «Роза Люксембург» (бывшего Волжского пароходства «Меркурий»). Перед самым отходом к нам на пристань неожиданно приехал командующий Заволжским военным округом Краевич. Поздравив всех с успешным завершением операции по уничтожению белоказачьих банд, в самом конце разговора он обратился лично ко мне:
- Спасибо, товарищ Соколенок, вашей работой у нас здесь я доволен, о чем уже доложил Главкому.
С летней командировки на борьбу с бандитизмом произошел и мой переход с военно-политической, комиссарской работы на командную. Вот когда я оценил по-настоящему уроки, которые мне преподали первые мои учителя - командир полка Голенков, комбриг Федоров, начподив Суглицкий.
Среди больших и малых событий, которыми был ознаменован новый учебный год, одно - особенное - оставило неизгладимый след на всю жизнь. Огромную радость доставила мне возможность еще раз увидеть и услышать Ленина, выступавшего 7 ноября с речью перед рабочими, красноармейцами и молодежью Хамовнического района [143] по случаю четвертой годовщины Октябрьской революции.
Речь эта, чуждая какой-либо торжественности, как всегда яркая и глубокая по содержанию, задушевно простая по изложению, подытожила наши успехи в борьбе с открытыми врагами молодого Советского государства и прозвучала призывом к мобилизации всех сил народа на преодоление послевоенных хозяйственных трудностей.
Запомнилась мне и проходившая в этом же году чистка рядов партии. Особенно отличались в те дни выходцы из других партий, примазавшиеся к революции попутчики из меньшевиков, владеющие незаурядным ораторским мастерством, а также хорошо поднаторевшие в теории. С этой точки зрения особенно усердствовал небезызвестный эсер, а впоследствии активный троцкист Блюмкин, а также меньшевик Рабинович. Они так дерзко и изощренно оперировали по памяти длиннющими цитатами из трудов Маркса и Энгельса, что мы просто диву давались. Так бы на деле воевали за Советскую власть!…
Летом 1922 года совершенно неожиданно было объявлено решение специальной комиссии Реввоенсовета Республики, согласно которому я вместе с другими слушателями академии, прежде чем продолжать обучение на последнем курсе, откомандировывался в войска сроком на один год для прохождения стажировки в рядах армии мирного времени. Чем было вызвано такое решение - нам осталось неизвестным. Во всяком случае направление меня на должность начальника штаба частей особого назначения (ЧОН) Тульской, а через месяц - командующим ЧОН Владимирской губернии никак нельвя было назвать ни стажировкой, ни приобщением к опыту послевоенной работы в строевых частях.
Но прежде чем все это произошло, армейская судьба свела меня с одним из замечательных полководцев России, одним из очень немногих, кто в годы первой мировой войны смог убедительно подтвердить смелость и точность русской стратегической мысли и умение воплотить ее в реальной действительности.
Меня назначили членом комиссии по проверке коневодства в Петроградском военном округе, которую возглавлял почти легендарный тогда русский генерал Брусилов, только что назначенный Главным военным инспектором. Вторым членом комиссии был специалист в области коневодства (к сожалению, фамилию его память (не сохранила). Человек средних лет, грузин по национальности, [144] он отличался подчеркнуто аристократической осанкой, изысканными манерами.
Поездка с Брусиловым в Петроград осталась у меня в памяти еще и потому, что многое, с чем я тогда встретился, было, как принято говорить, впервые в жизни.
Впервые в жизни я ехал вместе с известнейшим боевым генералом царской армии, безоговорочно перешедшим на сторону Советской власти, и мог запросто разговаривать с ним на все интересующие, в частности военные, темы.
Впервые в жизни я увидел колыбель Октябрьской революции - Петроград, сумел побывать в Смольном, во дворце Кшесинской, у Финского вокзала - местах, связанных с именем Ленина, осмотрел, правда бегло, Эрмитаж.
Хотя моя фронтовая жизнь проходила среди донского и кубанского казачества и считал я себя вполне посвященным во все тайны и тонкости кавалерии, но здесь, работая в комиссии, впервые услышал я действительно высококвалифицированную оценку пород верховых лошадей, побывал с Брусиловым в конюшнях и на смотре-скачках на Петроградском ипподроме.
* * *
Пятую годовщину Октябрьской революции я встречал среди тульских рабочих, но проработал там недолго. Еще до наступления зимних холодов пришло новое назначение - командующим частями особого назначения в родном Владимире. В течение зимы я исколесил вдоль и поперек всю губернию. Среди уездов, которые по состоянию ЧОНовской работы числились тогда на хорошем счету, были такие, где наиболее активно работали партийные организации, или такие, которые подверглись нелегким испытаниям, связанным с разного рода антисоветскими выступлениями и мятежами.
Как бы завершением моей почти годичной работы в родном городе явился состоявшийся по случаю годовщины учреждения ЧОНа на соборной площади Владимира большой смотр - парад этих частей. На нем присутствовало все партийное и советское руководство губернии, а я выступал в роли командующего парадом, и губком партии доверил мне обратиться к землякам с праздничной речью.
К осени, вполне удовлетворенный работой в родной губернии, я уже собрался было подать рапорт командующему [145] округом с ходатайством о направлении меня для продолжения учебы в Академии Генерального штаба. Однако все произошло не так, как планировалось. Во Владимир неожиданно приехал хорошо знакомый мне товарищ Берг - заместитель комиссара Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского. Он-то и повернул мою судьбу, предложив перейти в авиацию и продолжить образование на инженерном факультете академии.
Командующий округом в моем ходатайстве о переводе отказал, мотивируя это нецелесообразностью, даже легкомыслием - как можно выбросить на ветер два года обучения в Академии Генерального штаба! Помня благосклонное ко мне отношение, я решился побывать у Бориса Михайловича Шапошникова, а вместе с ним уже и у Главкома, который без особых колебаний благословил мой переход в академию Жуковского.
- Будь я молод, как вы, может быть, поступил так же. Авиацию ожидает большое будущее, - сказал Главком на прощание.
Так в 1923 году я навсегда сменил красные петлицы на голубые. [146]
«Жуковка»
Меня приняли в военно-воздушную академию по указанию Главкома без вступительных экзаменов, очевидно доверившись моей легкомысленно заполненной анкете, где в графе «образование» было написано: «Владимирские подготовительные курсы при бывшем реальном училище». Таковые я действительно в восемнадцатом году старательно посещал, но окончить их за один год, конечно, не мог - в моем «багаже» было всего-навсего городское высшее начальное училище, то есть 7 - 8 классов.
И вот начались занятия. Мои товарищи по курсу приступили к высшей математике, я же пока зазубривал материал наизусть, просиживая ночи напролет, и с азов вникал в алгебру, геометрию и тригонометрию.
Помню, в начале декабря профессор Привалов, читавший нам курс дифференциального исчисления, вызвал меня решать какое-то довольно сложное и длинное - во всю доску - уравнение. Я, к счастью, знал его наизусть и довольно бойко, без запинки «начертал» что требовалось. Но тут профессор с присущим ему спокойствием стер с доски примерно треть уравнения и, заключив часть его в скобки, подставил множителем какую-то тригонометрическую функцию.
- Ну а как теперь будет?
Я, конечно, сник. Такие премудрости были мне еще не по плечу.
Привалов начал было помогать:
- Пишите за мной.
И я принялся писать на доске то, что он не без раздражения отрывисто и с заметными паузами стал мне диктовать.
- Синус квадрат альфа… плюс… косинус квадрат альфа… равно… чему?
К этому времени благодаря самоподготовке я уже значительно преуспел в разделах элементарной математики и, конечно, знал, что мне предложено простейшее [147] тригонометрическое тождество, но, не будучи абсолютно уверенным, так растерялся, что решил промолчать.
- Скажите, Соколенок, а вы тригонометрию когда-нибудь изучали? - спросил Привалов.
- Нет. Но я ее уже прошел самостоятельно, - честно отрапортовал я.
- Оно и видно. Как же вас приняли? Вы не сможете здесь учиться. - Сделав небольшую паузу, он добавил: - Что же мне с вами делать?
- Учить! - ничуть не смущаясь, ответил я.
- Так ведь здесь не девятилетка, не рабфак. В академию приходят уже со средним образованием. Здесь без математики и делать нечего. - Немного помолчав, Привалов заключил: - Ну вот что, Соколенок! Садитесь на свое место. Я ставить вам ничего не буду. Неудобно. Ведь у вас вон какие регалии. - Профессор показал на мои ордена. - А то недалеко и до греха, чего доброго, еще в контрреволюции уличат! Давайте договоримся так. До пасхи, до апреля месяца, я вас вызывать не буду. Если к этому сроку вы подготовитесь, мы встретимся, и будете мне сдавать экзамены по математике. Впрочем, не по всей - только по тригонометрии. Сдадите - допущу к экзаменам по нашему курсу. Согласны?
- Согласен, - ответил я.
- Справитесь?
- Раз надо, значит, должен справиться.
- Ну давайте попробуйте!
И я попробовал.
Весной, в оговоренное время, я сдал Привалову экзамен по обещанной тригонометрии, а через девять дней вместе со всем курсом - по всей пройденной нами за год «дифференциалке».
- Молодец. Будь моя власть, я бы вам еще орден добавил, - после общего экзамена, встретив меня в круглом зале Петровского замка, с улыбкой заметил Привалов.
Много лет спустя, когда я уже стал начальником академии, любимый профессор нередко приходил в гости, и мы не раз вспоминали «дела давно минувших дней».
Мне припоминается еще один экзамен - по очень сложной и трудно усваиваемой науке - гидродинамике. Достаточно сказать, что толстенный учебник Саткевича, по которому мы изучали этот курс, от начала до конца был заполнен бесконечными - на многие страницы - формулами, между которыми словно для отдыха глаз [148] следовали примерно такие лаконичные фразы: «отсюда следует», «если все это упростить», «введя в это выражение дополнительную величину, получим…».
Читал нам этот курс и принимал по нему экзамен очень популярный среди слушателей профессор Борис Михайлович Земский. Как-то на одной из своих лекций после вывода довольно сложного уравнения, обращаясь к слушателям, Борис Михайлович спросил:
- Ну как? Все понятно?… - И не получив ответа, в шутливой форме ответил за нас сам: - По правде говоря, и мне не совсем. Но что поделаешь, все равно надо запомнить.
И вот идет экзамен. Сижу я за учительским столом рядом с профессором и, виновато склонив голову над чистой страницей, не знаю даже, с чего и начать вывод предложенного уравнения.
Борис Михайлович терпеливо ждет, и минут через пять тягостной «молчанки» слышу спокойное:
- Ну давай-давай…
А что было давать, когда из головы все вылетело? Снова длительная пауза. Продолжаю сидеть молча и играть карандашом, будто вот-вот найду решение поставленной задачи. Но, увы, в действительности - никакого сдвига.
Через некоторое время слышу снова:
- Ну давай же! Не знаешь, что ли? Довольно! Можешь идти.
В наше время в практике академии оценки, полученные на экзамене, объявлялись слушателям не сразу, О них мы узнавали только утром следующего дня из сведений учебного отдела.
Так было и на этот раз. Перед началом занятий я у доски объявлений. Разыскиваю одну из нижних строк алфавитного списка, читаю и не верю - пятерка! Иду в учебный отдел к Борису Михайловичу выяснять, как это могло случиться.
- Там, по-видимому, какая-то ошибка.
- Какая ошибка? - удивляется он. - Пойдем посмотрим.
У доски объявлений Земский очень серьезно обратился ко мне:
- Так вот же, есть отметка. Разве мало?
Я растерянно молчал, принимая его слова за шутку. Но он добавил:
- Ошибки здесь нет. Сейчас-то, наверное, ответил [149] бы хорошо! А? Можно бы, конечно, для страху и двойку влепить, но зачем? Ведь все равно тебе этой запутанной наукой не придется заниматься…
К четвертому курсу по успеваемости я уже подошел к устойчивому среднему уровню однокурсников и был настолько твердо уверен в благополучном завершении учебы в «Жуковке», что счел возможным закончить и последний, дополнительный курс Академии Генерального штаба, к тому моменту переименованной в Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе. Мое ходатайство было удовлетворено.
В апреле 1928 года, защитив диплом, я окончил Военно-воздушную академию имени Н. Е. Жуковского, и мне было присвоено звание военного инженера-механика Воздушного Флота. Тогда же приказом РВС СССР меня назначили начальником штаба 5-й авиационной эскадрильи, дислоцировавшейся в Смоленске. На место нового назначения я должен был явиться после двухмесячного отпуска к 15 июня 1928 года.
Но до Смоленска мне добраться так и не удалось. Пока я был в отпуске, председатель научно-технического комитета управления ВВС П. С. Дубенский, учитывая мою предыдущую работу в качестве представителя военно-научного общества академии, доложил вопрос о выпускнике Соколове начальнику управления ВВС РККА Петру Ионычу Баранову, и тот согласился назначить меня в свой центральный аппарат на должность постоянного члена научно-технического комитета по секции военного применения авиации.
С той поры при любых назначениях командование ВВС всегда стремилось использовать меня там, где инженерные вопросы наиболее близко соприкасались с областью боевого применения авиации, иными словами - на стыке тактики и техники.
Немного времени понадобилось для того, чтобы работа в научно-техническом комитете ВВС представилась мне исключительно важной и необычайно интересной. Именно здесь разрабатывались и утверждались основные руководящие положения, инструкции по боевому применению и эксплуатации главнейших видов материальной части Военно-Воздушных Сил. Еще более значительную работу проводил НТК в тесном взаимодействии со штабом ВВС в области технической помощи, определявшей основные направления развития опытного самолетостроения и вооружения. Контроль за испытаниями новых образцов [150] и рекомендации о принятии их на вооружение ВВС были возложены также на НТК и взаимодействующий с ним научно-испытательный институт (НИИ ВВС).
В первой самолетной секции, возглавлял которую Сергей Владимирович Ильюшин, в это время работал очень сильный состав постоянных членов НТК, среди них известный впоследствии ученый профессор Б. Т. Горощенко. Во второй секции были сосредоточены не менее крупные специалисты в области вооружения, там работали Агокос и Надашкевич.
Третью секцию, в которую пришел я, возглавлял тогда именитый авиационный генерал Пневский. В составе ее активно сотрудничало целое созвездие замечательных людей, многих из которых можно по праву отнести к основоположникам советской авиационно-тактической школы. Среди них можно назвать товарищей Хрипина, Хорькова, Лапчинского, Бузанова, Канищева, Шабашева.
Одной из наиболее интересных и значительных работ, которой занимался лично я, была разработка типажей и тактико-технических требований, которые должны были быть предъявлены к реализации нашим конструкторам.
Разработка перспективных планов развития опытного самолетостроения и тактико-технических требований к конкретным типам самолетов и их вооружению была только начальной стадией на пути к запуску в серийное производство. На научно-технический комитет возлагалась и задача контроля за ходом реализации этих требований, включая завершающий ее этап - летно-тактические испытания созданных опытных образцов в подведомственном ему научно-испытательном институте.
На пути создания конкретного самолета большое место отводилось «первой примерке», рассмотрению и утверждению пока что его деревянного макета, построенного в натуральную величину и «начиненного» всем положенным или также макетами существующих образцов вооружения и специального оборудования.
Здесь, на макете будущего самолета, оценивалось и отрабатывалось эксплуатационное удобство, рациональность размещения на нем оборудования, расположения и работы летчика, экипажа. Заключения макетной комиссии для конструкторов были обязательными.
Мне довелось быть постоянным председателем макетных комиссий, которые имели дело почти со всеми опытными самолетами первой пятилетки.
Хочу сказать, что именно эта работа, поставившая [151] меня лицом к лицу с нашими ведущими конструкторами и их творческими коллективами, помогла мне избавиться от навязчивого желания обязательно стать строевым командиром и признать в конце концов, что работа на стыке тактики и техники является не менее интересной, нужной и важной.
К этому времени относится мое близкое знакомство и с первыми советскими конструкторами, внесшими решающий вклад в развитие и строительство советской авиации, - А. Н. Туполевым, Н. Н. Поликарповым, В. М. Петляковым, Д. П. Григоровичем, А. А. Архангельским и другими, а также с ведущими учеными и инженерами центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского. В это же время я познакомился и с неизменным летчиком-испытателем туполевских самолетов Михаилом Михайловичем Громовым, человеком редких профессиональных качеств и высокой культуры. Он постоянно присутствовал вместе с А. Н. Туполевым при работе макетной комиссии.
Нельзя пройти мимо двух особо выдающихся личностей, которым в этот ответственный момент развития советской авиации было доверено общее руководство ею. Я имею в виду начальника управления ВВС (в современном выражении - главнокомандующего) Петра Ионыча Баранова и его заместителя (в последующем, с переходом Баранова на пост руководителя авиационной промышленностью, назначенного на его место) Якова Ивановича Алксниса.
С первым я встретился лично, только придя в управление ВВС, со вторым меня связывало близкое знакомство еще со времен Академии имени М. В. Фрунзе.
По моим наблюдениям и впечатлениям, они были совершенно разными людьми по характеру, отношению к окружающим их людям и подчиненным, что ничуть не умоляло значительности каждого.
Петр Ионыч Баранов, за плечами которого были большая и активная революционная школа, опыт гражданской войны, по натуре добрый и доверчивый, всю работу строил на умелом подборе кадров, вере в разум коллектива, равным членом которого он считал и себя. Он был далек от скоропалительных решений, выводов, характеристик.
Петр Ионыч покорял всех работавших и встречавшихся с ним людей, включая ответственных представителей конструкторских коллективов и промышленности, [152] логичностью, убедительностью своих рассуждений и требований. Крепкая дисциплина непосредственно подчиненных ему людей являлась естественным следствием большого уважения и симпатии к своему начальнику, подвести которого каждому казалось непростительным преступлением. Если такое случалось где-либо, нарушитель нес, конечно, всю меру ответственности, но самую большую в первую очередь перед своим собственным коллективом (подумать только, подвел такого начальника!)…
Яков Иванович Алкснис был человеком совсем иного плана. Его заметно отличали суровость и черствость к людям, часто, может быть, даже напускные, нетерпимость к возражениям, которые могли иметь определенную долю обоснованности. Исключительно высокая, пуританская требовательность лично к самому себе и к подчиненным.
Он первым ввел в авиации строго обязательным атрибутом для всех без исключения военнослужащих белый пришивной воротничок. С его приходом кончилось время, когда кто-нибудь мог появиться в управлении или на аэродроме небритым, неряшливо одетым, в неисправном обмундировании, грязном белье. Бывали случаи, когда он сам или его инспектирующие работники сажали выстроенный для осмотра технический состав и механиков прямо на траву аэродрома и проверяли состояние ног, портянок. Алкснис связывал все это - и совершенно справедливо. - с началом начал армейского порядка - воинской дисциплиной. Именно ему принадлежит крылатое выражение: «С самолетом надо обращаться на «вы», которое потом перешло и на другие виды военной техники во всей Красной Армии.
Ярчайшим достоинством этого человека была его удивительная работоспособность. Мы, ближайшие его сотрудники и товарищи, не раз задавались вопросом: остается ли у него время на свою семью, отдых, сон?
Еще в должности заместителя начальника Военно-Воздушных Сил Яков Иванович ускоренным порядком окончил Сталинградскую школу военных летчиков. И с той поры не проходило дня, чтобы он, прежде чем появиться в строго положенное время на работе в управлении, не успевал бы в летние месяцы полетать на Центральном аэродроме или внезапно побывать в одном из авиагарнизонов, «поддать там жару» за обнаруженные на аэродроме или в казармах недостатки и снова вернуться в Москву. [153]
Вспоминая Якова Ивановича, мне хочется рассказать о двух эпизодах из совместной с ним работы, в которых и я лично испытал крутой его, непримиримый нрав.
В один из осенних дней тридцатого года Яков Иванович был довольно поздно предупрежден, что на заседании Реввоенсовета, которое планировалось на следующий день, ему предстоит доложить о состоянии Военно-Воздушных Сил РККА и дать сравнительную оперативно-тактическую оценку наших самолетов в сравнении с самолетами ведущих капиталистических государств.
Рабочее время уже кончилось, и большинство работников управления разошлись, когда Яков Иванович неожиданно вызвал меня и приказал к девяти утра подготовить сводную таблицу тактико-технических данных отечественных (включая опытные) и зарубежных самолетов, которую он должен взять с собой на заседание Реввоенсовета. Я доложил, что сделать это невозможно, и главным образом потому, что в управлении на месте оставался только воздухоплаватель Шабашев. На это Алкснис спокойно заметил:
- Меня это не касается. Выполняйте приказание.
Я было попытался еще раз урезонить начальство, напомнив, что аналогичная, мной же недавно подготовленная сводка у него есть, но… последовало еще более решительное: - Ничего не знаю! В девять утра чтобы все было готово!
Сам Яков Иванович в тот день ушел с работы в час ночи. Около двенадцати он зашел в нашу секцию и, застав меня заваленного грудой материалов, широко улыбнулся и проговорил:
- Давай-давай, отвлекать не буду, до утра еще далеко - море времени!…
К утру сводка, каллиграфически выписанная от руки, была готова. Яков Иванович появился ровно в восемь. В девять, как и было приказано, я вошел в его кабинет и, извинившись, что не успел отпечатать на машинке, положил свое ночное творение на стол.
С серьезным видом пробежав по сухим цифрам сводки, он на минуту задумчиво остановился глазами на какой-то ее строке (я подумал, не перепутал ли что-либо в бессонную ночь?) и протянул сводку мне обратно, не без иронии заметив:
- Возьми и иди работать. Все это я знаю. Думаю, и тебе было полезно проверить свою мобилизационную готовность… [154]
Не менее любопытный случай произошел у меня летом тридцать второго года. Я уже работал в НИИ ВВС. Как-то начальник института Бузанов заболел, и мне пришлось остаться за него в качестве исполняющего обязанности. В очередную субботу, к вечеру, вместе с комиссаром Шимановским, помню, отправились провести воскресенье и, кстати, проверить ход работ на нашем новом, еще только начинавшем свое существование боевом полигоне.
Начальнику полигона Тарану ничего не стоило соблазнить меня, страстного любителя-рыболова, поехать на Клязьму, чтобы с рассветом порыбачить. Отведав как бы взаймы свежей жареной рыбки у местного гостеприимного лесника, мы уже забрасывали вторую тоню, как послышался треск приближающегося мотоцикла. Это оказался неизвестно как разыскавший нас нарочный от Якова Ивановича. Он привез личное приказание Алксниса: явиться на Монинский аэродром точно к шести часам утра. А был уже пятый час. Времени хватало только на то, чтобы выбраться из лесной глуши, забрать на полигоне обмундирование и, облачаясь в него на ходу в машине, опрометью домчаться до аэродрома. Любое опоздание подчиненных у Якова Ивановича вызывало такую ярость, что лучше не попадайся на глаза!
Алкснис был уже на аэродроме и, отправив начальника гарнизона комбрига Маслова на командный пункт, бродил в одиночестве по летному полю. На ходу Маслов успел только сказать мне:
- Чего его принесло в такую рань! Испытание назначено на семь, а он тут как тут - с шести часов. Сам не спит и другим не дает…
На каких именно испытаниях предстояло присутствовать, комбриг Маслов мне ничего не сообщил, по-видимому полагая, что я уже в курсе дела.
Настроение у начальника Военно-Воздушных Сил было преотличное. Как и любого другого летчика, рожденного летать, аэродром его преображал. На мгновение мне показалось, что он ждал меня, чтобы разделить со мной радость утренней поры, простора аэродрома. Довольный, что приказание начальства выполнено с точностью до секунды, ровно в шесть я рапортовал:
- По вашему приказанию прибыл…
- Ну вот и хорошо. Утро-то какое! Для полетов лучшего не придумаешь. Ты знаешь, зачем тебя вызвал?
Я отрицательно покачал головой и приготовился было [155] выслушать Алксниса, как вдруг лицо его приняло строгое выражение и последовал жесткий вопрос:
- Почему небритый?
Я провел рукой по подбородку и довольно смело ответил:
- Еще и суток нет, как брился. Проклятая кожа так раздражительна, что и одного дня не выдерживает. Посмотрите, что делается с шеей. Спасаюсь только тем, что в воскресенье даю и ей отдохнуть.
- Какой может быть отдых! Вы на службе. - И, посмотрев на часы, решительно добавил: - Даю вам двадцать минут - явитесь бритым…
Зная о том, что если уж Яков Иванович перешел на «вы», то хорошего ждать нечего, я все же попытался отговориться тем, что в столь ранний час и побриться негде, но он, даже не повернувшись ко мне, решительно подтвердил:
- Жду через двадцать минут в уставном виде!
Ответ мой тоже прозвучал по уставу:
- Слушаюсь!
Что можно сделать за двадцать минут на летном поле? Однако выход нашелся. В ближайшей казарме (по распорядку подъем только в семь) опешивший от неожиданного появления неизвестного комдива дежурный красноармеец предложил свою безопаску и единственное, со следами ржавчины, лезвие, осколок потускневшего зеркала и кусок простого хозяйственного мыла. Вся операция по бритью была проделана в общей умывальной комнате над лотком соскового рукомойника…
Ровно через двадцать минут, подойдя к Якову Ивановичу с порезанной физиономией, я доложил об исполнении приказания. Яков Иванович, весьма довольный, широко улыбнулся и, положив руку мне на плечо, произнес:
- Вот и замечательно. Я всегда верил, что вы выполните любое задание на «хорошо» и в положенный срок…
В тот памятный день мы присутствовали на очередном испытании «самолета-звена», или, как мы в своем кругу называли, «этажерки» Владимира Сергеевича Вахмистрова. Осуществляя идею авиаматки, талантливый воспитанник «Жуковки» предложил использовать для этих целей тяжелый бомбардировщик ТБ-1, на крыльях которого размещались два истребителя И-4. В последующем развитии этой идеи в качестве самолета-авиаматки использовался уже тяжелый бомбардировщик [156] ТБ-3, а количество истребителей было доведено до пяти (четыре на крыльях, один на подвеске).
Я привел два эпизода из собственных «столкновений» с Яковом Ивановичем Алкснисом, чтобы показать, насколько он был непримиримо требователен и к окружающим его людям, и конечно же к себе самому. В белоснежном подворотничке, чистой форменной одежде, опрятном внешнем виде, выбритом лице он видел начало начал воинского порядка, дисциплины, а отсюда - порядок и четкость в работе. И в этом он, конечно, многое преуспел.
* * *
Перечисляя наиболее примечательные события в период работы в научно-техническом комитете ВВС, нельзя пройти мимо моего участия в качестве вице-командира во Всесоюзном аэросанном пробеге зимой 1929 года.
В этом крупном и со многих точек зрения важном союзном мероприятии, организованном добровольным обществом содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог - Автодором, принимали участие четверо аэросаней: трое - цельнометаллические (конструкции ЦАГИ), созданные под непосредственным руководством Андрея Николаевича Туполева, и деревянные (конструкция НАМИ - научно-автомоторного института), создателем которых был Кузин, хорошо известный в авиации своим автостартером.
Пробег общей протяженностью 3000 километров проходил по маршруту: Москва - Ярославль - Кострома - Кинешма - Мантурово - Вятка - Глазов - Ижевск - Сарапул - Елабуга - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Москва.
В техническом отношении пробег преследовал ряд очень серьезных народно-хозяйственных и военных целей. Одна из них: эксплуатационная проверка аэросаней как нового вида быстроходного (скорость аэросаней достигала 80-100 километров в час) зимнего транспорта, особенно необходимого в северных и восточных районах. Само собой разумеется, аэросани представляли определенную ценность и для нашей армии, в частности для пограничных войск, несущих службу в условиях заснеженной местности.
Аэросанный пробег двадцать девятого года привлек большое внимание самих создателей этого нового вида транспорта, и в первую очередь работников ЦАГИ, являвшихся [157] к этому времени зачинателями отечественного самолетостроения. На аэросанях могли быть проверены некоторые конструктивные решения авиамоторной группы, самолетных лыж, авиационные материалы (дюраль, алюминий). Неудивительно потому, что в пробеге приняли непосредственное участие в качестве рядовых водителей известнейшие впоследствии авиаконструкторы и ученые А. Н. Туполев, А. А. Архангельский, В. М. Петляков, Е. И. Погосский, Б. С. Стечкин и другие.
Не меньшее значение это мероприятие имело и с политической точки зрения. Время его проведения совпало с месяцами непосредственной подготовки к XVI съезду нашей партии, который состоялся в июне - июле тридцатого года. На нас возлагалась задача разъяснения и пропаганды на местах наиболее злободневных вопросов политики партии. Центральная печать, широко оповестив страну о старте аэросанного пробега с Красной площади столицы, присвоила ему почетное наименование предсъездовского эстафетного.
Огромное впечатление на всех участников пробега произвел непосредственный энтузиазм тысяч людей, которые встречали нас по всему пути следования. В городах и населенных пунктах, где планировались остановки, все жители от мала до велика выходили на улицы и площади, чтобы посмотреть на диковинные аэросани и принять участие в коротких, но бурных митингах. Случалось, что заранее высыпавшее на дорогу население того или иного пункта, где остановка вовсе не предусматривалась, густой толпой преграждало путь, заставляя продемонстрировать новую технику и выслушать положенные приветствия и напутственные пожелания. Такая, например, непредвиденная, но особенно радушная и хлебосольная встреча произошла на подходе к Ярославлю у фабричного поселка Красные Ткачи. Здесь вся фабрика во главе с администрацией вышла нам навстречу, обещая не только наверстать потерянное время, но и отработать дополнительный час в пользу Автодора.
Аэросанный пробег был высоко оценен правительством и общественностью страны. Все его участники были отмечены почетными грамотами ВЦИК, которые вручал лично Михаил Иванович Калинин, а также благодарственным приказом Реввоенсовета Республики и ценными подарками Автодора.
Какое неописуемое счастье испытал я тогда вместе со всей семьей и соседями, получив среди других памятных [158] подарков особо ценный - открытый трехламповый радиоприемник: три лампы так и стояли в ряд на его крышке.
В июне 1931 года меня перевели в научно-испытательный институт ВВС РККА на должность помощника начальника института и одновременно начальника отдела боевого применения авиации. По основной должности я обязан был возглавить руководство отделом вооружения и всем комплексом отделов спецслужб, то есть аэронавигации, радио-, электро- и фотооборудования самолетов.
Нужно сказать, что солидный и разносторонний опыт, полученный в научно-техническом комитете, весьма помог мне при организации работы в институте, находившемся, по существу, под эгидой самого комитета. Если в комитете мы определяли, как и в каком направлении будет развиваться наша авиация, главным образом в области самолетостроения и вооружения, в соответствии с существовавшими взглядами на боевое применение авиации, то в институте все это, уже реализованное в опытных образцах, проходило испытание, чтобы получить путевку в большую жизнь.
Рядом со мной в это время работали товарищи, чьи имена, можно сказать, были известны всем авиаторам. Долголетние дружеские чувства к ним, истинное товарищество при совместной работе в ответственный период становления и развития наших Военно-Воздушных Сил я пронес в своем сердце через всю жизнь.
Большую память о себе оставил у меня начальник института Бузанов. Он хорошо знал каждого из своих подчиненных, успешно объединял нас своим добрым, отзывчивым нравом, общительностью, чуткостью, верой в нашу разумную самостоятельность и инициативу. Обладавший незаурядными знаниями, широчайшей эрудицией, Бузанов по праву может быть отнесен к числу первых разработчиков основных принципов использования авиации на войне, среди которых наиболее выдающимися являлись тогда В. В. Хрипин, С. Г. Харьков, А. С. Алгадин, А. Н. Лапчинский, М. П. Строев. И неудивительно, что, когда встал вопрос об организации при Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского нового - оперативного факультета, его первым начальником был назначен Бузанов.
Нужно сказать, что организация оперативного факультета преследовала целью подготовку высшего командного состава быстро развивающихся Военно-Воздушных Сил и поэтому из-за нехватки собственных кадров [159] к его укомплектованию на первых порах было привлечено немало заслуженных и опытных командиров из наземных войск, а также начальников штабов высших авиационных соединений - авиационных бригад. В их число входили и будущие маршалы авиации Г. А. Ворожейкин, Ф. Я. Фалалеев, С. А. Красовский.
Среди летчиков-испытателей, настоящих рыцарей неба, здесь, в институте, я впервые встретил Валерия Чкалова, Петра Стефановского, Адама Залевского. Последний, кстати, значился активнейшим поборником всех новых изобретений, которые главным образом ему поручалось испытывать в воздухе.
Не меньшую память о себе оставила и работавшая в это время в институте плеяда прославленных штурманов, на долю которых выпала честь первыми прокладывать курс советской авиации через просторы суровой таинственной Арктики и к мировым рекордам дальностей полета. Речь идет о родоначальниках отечественной аэронавигации Б. В. Стерлигове, много лет занимавшем потом пост флагман-штурмана Военно-Воздушных Сил Красной Армии, И. Т. Спирине, А. В. Белякове, С. А. Данилине, Г. С. Френкеле. Нельзя не упомянуть и трудившегося вместе с ними талантливого инженера-изобретателя Коваленкова, многое сделавшего в деле радиофикации молодой авиации.
Не описывая всего многообразия работы в научно-исследовательском центре ВВС, я хочу упомянуть, однако, о двух интересных эпизодах, относящихся к тому времени, - двух встречах - с И. В. Сталиным и К. Е. Ворошиловым.
Летом 1931 года, вызвав меня, Петр Ионыч Баранов сообщил, что Центральный аэродром имени М. В. Фрунзе должны посетить руководители партии и правительства и что для них специально организуется демонстрация всех стоящих на вооружении и новых опытных образцов авиационной техники, включая средства механизации аэродромной службы. К сожалению, точную дату правительственного посещения Центрального аэродрома я восстановить не смог, а наши официальные источники об этом факте не упоминают.
П. И. Баранов поручил мне срочно подготовить несколько экземпляров каллиграфически четко оформленных табличек-«миниатюр», характеризующих летно-тактические данные всех подлежащих демонстрации самолетов, которые, по замыслу Петра Ионыча, будут розданы [160] гостям в качестве справочного материала. Я лично должен был находиться все время рядом с начальником управления ВВС, чтобы давать необходимые пояснения.
Через несколько дней предполагаемый смотр военной авиационной техники действительно состоялся. На Центральный аэродром прибыли И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов, С. Орджоникидзе, А. А. Андреев и ряд других руководителей партии и правительства. Здесь их встречали, а затем и сопровождали на аэродроме П. И. Баранов, Я. И. Алкснис, С. Г. Харьков, П. С. Дубенский, Д. И. Бузанов, ответственные работники штаба ВВС. Присутствовали на этом смотре и некоторые наши ведущие авиационные конструкторы.
Сталин во время пребывания на аэродроме, как показалось мне тогда, был в особенно приподнятом настроении и в обращении с сопровождавшими товарищами допускал даже некоторую фамильярность. Таким доступным и разговорчивым Сталина я больше никогда не видел.
При осмотре первого же объекта - это были одноместные самолеты-истребители - стало очевидным, что при таком скоплении народа каждому из гостей разглядеть что-либо детально и тем более посидеть на месте летчика, проверить содержимое кабины своими собственными руками никак не удастся. Тем более что приоритет и право первенства оставалось за главным «хозяином» - Сталиным. Поэтому все присутствовавшие на аэродроме разбились на несколько самостоятельных групп: первым отделился К. Е. Ворошилов и сопровождавшие его военачальники, гидом которых стал Яков Иванович Алкснис. А. А. Андреева и других неизвестных мне гостей повели по аэродрому Хрипин и Бузанов. Со Сталиным и неотлучно находившимся с ним Орджоникидзе остался Петр Ионыч Баранов.
Сталин живо и заинтересованно осматривал каждый из выставленных самолетов, охотно и довольно проворно поднимался по стремянкам к кабинам летчиков и подолгу с пристрастием расспрашивал испытателей или самих конструкторов о летно-тактических и эксплуатационных свойствах боевых машин. По ряду вопросов, которые он пытливо и въедливо задавал, можно было догадаться, что о некоторых еще не устраненных конструктивных недоделках в опытных образцах он был хорошо осведомлен еще раньше, до посещения аэродрома. В этих щекотливых ситуациях, когда не хватало достаточной находчивости [161] у отвечающего летчика-испытателя или самокритичной смелости у конструктора, деликатно и умело разряжал обстановку Баранов. У меня сложилось впечатление, что Сталин относился к Петру Ионычу весьма благосклонно и дружелюбно.
Подготовленные мной таблички о летно-тактических характеристиках самолетов не пригодились. Только один экземпляр из пяти был с благодарностью принят, внимательно просмотрен и поощрительно оценен Ворошиловым. Сталин же, поинтересовавшись ее содержанием, отрицательно покачал головой и лаконически ответил:
- Не надо. Сами летчики лучше всяких бумажек расскажут.
Перед тем как перейти к группе тяжелых многомоторных самолетов, он сделал короткую остановку и в тесном окружении сопровождавших его лиц продолжал уточнять отдельные показатели летных характеристик самолетов, настоятельно выясняя, что же реального и конкретно в какие сроки можно ждать от последующих опытных разработок. Его интересовал больше всего завтрашний день авиации.
- А вот вы ответите на такой вопрос? - обратился он неожиданно ко мне. - Можно ли и на каком именно из наших самолетов, - Сталин показал на группу одномоторных боевых машин, - перелететь из Москвы в Испанию?
«Почему именно в Испанию? Разве мало других, столь же удаленных от Москвы мест на Европейском или соседствующих континентах? Почему, наконец, из Москвы?…» - пронеслось у меня в голове.
- Кстати… - в разговор вмешался Баранов, как будто подзадоривая меня. - Нуте-с! - проронил он любимое междометие, добродушно подмигнул и с некоторым лукавством добавил: - Покажите, чему вас научили в двух академиях. Это по вашей специальности. Нуте-с, долетим или нет?
- Дальность полетов наших даже самых лучших образцов одномоторных самолетов пока не превышает… - начал я, но Сталин тут же перебил:
- Нет уж, отвечайте проще. Перелетим или нет, да или нет?
- Нет, - твердо ответил я.
- Па-чему нет?
- Потому что наши самолеты не рассчитаны на такую дальность - не хватит горючего. [162]
- Па-чему не хватит? Должно хватить! - уже не без иронии продолжал разговор Сталин.
Я уж было собрался отвечать, пытаясь связать мощности современных авиадвигателей и полезные нагрузки самолетов, как Сталин подошел вплотную и, пронизав меня тяжелым острым взглядом - будто я был за всех в ответе, - спросил:
- А какое расстояние от Москвы до Мадрида?
- Наверное, не менее трех тысяч… - Мой ответ прозвучал неуверенно.
- Такие цифры вам надо знать не наверное, а абсолютно точно. Допустим, и все три с половиной. А вот, как же Кост смог перелететь из Парижа чуть ли не в Пекин? Там, наверное, и все десять получатся! Как вы считаете?
Действительно, французский летчик Кост, получив разрешение Советского правительства на рекордный перелет над территорией нашей страны до Иркутска, нарушил взятые обязательства и, не делая посадки в установленном месте, пролетел дальше на Пекин, установив 27 сентября 1929 года мировой рекорд дальности полета.
- Что же, наши самолеты, выходит, хуже? Ну отвечайте без всяких уверток, хуже, что ли?! - упорствовал Сталин.
В этот момент я надеялся только на то, что хоть кто-нибудь из стоящих здесь же конструкторов подаст свой голос. Ведь этот разговор касался прежде всего их. Но они предпочитали молчать.
- Никак не хуже, - ответил я, - но Кост летел не на боевой, а на специально для рекорда предназначенной машине, на которой все, что только возможно, было снято и все сэкономленные веса были отданы для дополнительного горючего.
- Вот так и надо говорить прямо - наши не хуже. Если будет надо, советские летчики полетят еще дальше. А уж в Испанию-то перелетят и ничего не снимая с самолета. Советская авиация все может… Я вижу, вы и воевали неплохо, - показывая на мои ордена, заметил Сталин, - значит, и царских генералов били. А вот теперь сдали позиции, говорите - до Испании не долетим. Если будет надо, и на боевых долетим…
С этими словами Сталин повернулся к Баранову и, толкнув его под локоть, дал понять, что надо идти дальше.
В едва слышном разговоре Сталина с Петром Ионычем [163] я отчетливо различил неоднократное упоминание о злополучном Косте. Он явно не давал покоя Сталину.
Хочется еще раз уточнить, что приведенный разговор происходил летом тридцать первого года, то есть за три года до известного вооруженного восстания испанских рабочих в Астурии и за пять лет до начала героической борьбы испанского народа против фашистских мятежников генерала Франко и итало-германских интервентов, в которой активное участие принимали и советские летчики.
Исключительно эффектным завершением смотра новейшей авиационной техники была демонстрация группы тяжелых многомоторных самолетов, среди которых особое впечатление производил опытный образец туполевского четырехмоторного бомбардировщика АНТ-6 (в военном обозначении ТБ-3) - серебристый красавец, по тем временам гигант. Общий полетный вес этого самолета в перегрузочном варианте - подумать только! - составлял 19 тонн, возможная бомбовая нагрузка - до 4 тони и экипаж - 11 человек. Думаю, будет нелишне напомнить, что лучший разведчик тех же лет, самолет Р-5, в варианте легкого бомбардировщика имел полетный вес около 3 тонн и мог нести на себе бомбовый заряд всего до 500 килограммов.
Когда уже казалось, что все близится к достойному финишу и гостям оставалось лишь пожелать авиаторам дальнейших успехов, Сталин вдруг обратился к Баранову:
- А вы не могли бы распорядиться, чтобы этот самолет, - он указал на опытный ТБ-3, - произвел взлет и посадку? Хочется посмотреть, как он выглядит в воздухе. - И после короткой паузы спросил: - Он готов к полету?
Петр Ионыч знал, что самолет находится на государственных испытаниях в НИИ ВВС и уже сделал несколько успешных полетов. Поэтому убежденный, что все в порядке, нисколько не задумываясь, тотчас же ответил:
- Должен быть готов. Здесь все самолеты готовы к полету…
- Ну вот и хорошо. Посмотрим его и в воздухе. Это очень интересно. - И, обращаясь к Орджоникидзе, Сталин добавил: - Ради этого, думаю, можно немного и задержаться.
С разрешения Сталина Петр Ионыч вместе с работниками [164] НИИ ВВС, инженерами из КБ Туполева поспешил к самолету.
И вот тут-то, под сенью могучих крыльев ТБ-3 - площадь их составляла 230 квадратных метров, - и разыгралась настоящая драма.
Оказалось, Баранова своевременно не поставили в известность, что на самолете в самый последний момент перед демонстрацией авиационной техники были обнаружены какие-то неполадки - кажется, в бензосистеме, - и поэтому он даже не заправлен топливом и к полету не готов. Не оказалось на месте и летчиков, испытывавших самолет. Присутствовали только технический состав экипажа и инженеры, проводившие испытание.
Обстановка сложилась, прямо скажем, критическая. Стал вопрос - как быть?
Далее события развивались скоротечно, словно на пожаре.
Инженер, ведущий испытания, доложил, что, несмотря на некоторые неполадки, самолет может быть поднят в воздух, однако нужно время на незначительную хотя бы дозаправку. Между тем старший авиатехник самолета после проверки остатка бензина в баках заверил, что горючего на полет над аэродромом вполне хватит. На вопрос, кому из летчиков поручить этот полет, начальник НИИ ВВС Бузанов предложил, сам же разыскал и привел Валерия Чкалова, который взял с собой на всякий случай и своего друга летчика Анисимова.
Перед тем как Чкалов поднял в воздух тяжелую машину, между ним и Барановым произошел следующий короткий разговор:
- Здравствуйте, товарищ Чкалов! Нуте-с, как вы, справитесь с полетом на этом самолете?
- Раз надо, значит, справлюсь. Для этого мы и летчики.
- А кого вы вторым предлагаете?
Чкалов показал рукой на Анисимова.
- Вот и хорошо. Давайте только поскорее. Произведите взлет, круг над аэродромом и посадку. И это все, - распорядился начальник ВВС.
- Слушаюсь.
С этим «слушаюсь» Валерий Чкалов и Анисимов в развалку двинулись к самолету. Я видел, как Валерий вытащил из кармана брюк летные очки, которые оказались с ним, по-видимому, по привычке, и… полет состоялся.
…Самолет- гигант под оглушительный рев четырех семисотпятидесятисильных [165] моторов, задев всех присутствующих отбрасываемыми струями воздуха и пыли, пробежал очень незначительное расстояние, оторвался от земли и начал подъем. Далее -разворот влево, потом - прямая над Ходынковскими казармами, затем новый разворот над Белорусским вокзалом и на глазах у всех классическая, впритирку, посадка. Да, так мог приземлять самолеты только Чкалов!
После посадки простодушный, со всеми одинаково ровный, ни перед кем не заискивающий Валерий Чкалов подошел к Петру Ионычу Баранову и, забыв, что на голове, кроме откинутых наверх легных очков, не было ни фуражки, ни шлема, вскинул руку под козырек, чтобы отрапортовать о выполнении задания, но Петр Ионыч едва заметным движением головы и глаз показал на рядом стоявшего Сталина.
Однако положенный рапорт так и не состоялся.
- Ну как вам нравится самолет, товарищ Чкалов? - первым заговорил Сталин.
- Хороший самолет, товарищ Сталин. Управляется легко. Непривычно только, что слишком высока кабина летчика - сидишь как на каланче какой. Ноги бы чуть подкоротить!
Сталин громко засмеялся и тут же сказал:
- Вот об этом уж нужно попросить товарища Туполева… А стоит ли? Длинный-то, говорят, и воробушка достает, и в догонку скорее бегает, а если надо, от любого и убежит запросто. - И после небольшой паузы добавил: - Значит, и врагов бить будет лучше. Вы согласны с этим?
- Согласен, товарищ Сталин. Побольше бы таких самолетов нам!
- Будет много. Сколько нужно, столько и будет. Ну что ж, товарищ Чкалов, спасибо, что показали самолет в полете, желаю всем летчикам успеха…
Довольный Сталин и все сопровождавшие его лица покинули Центральный аэродром. Тяжелый бомбардировщик ТБ-3 и ряд других опытных образцов самолетов получили в этот день одобрение, а значит, и путевку в жизнь.
* * *
В январе 1931 года IX съезд комсомола принял решение о шефстве над Воздушным флотом.
Перейдя в авиацию еще в 1923 году и попав сразу на учебную скамью Академии имени Жуковского, я очень [166] долгое время сокрушался, что, с каждым годом все более приближаясь к авнационно-инженерному образованию, все дальше уходил от заветной мечты - самому управлять самолетом.
И вот, следуя всеобщему порыву летать, осенью тридцать первого года я решился обратиться к Петру Ионычу Баранову и просить у него согласия командировать меня в летную школу, чтобы пройти там ускоренный курс обучения. Мотивировал я свое ходатайство тем, что полноценным авиационным командиром может быть только тот, кто сам летает.
Входил я в кабинет Баранова - тогда на улице Разина, 5 - с волнением, скажу больше, с трепетом. Ожидал или категорического отказа, или в лучшем случае длинного и неприятного разговора, который представлял себе примерно так: «Нуте-с, значит, опять учиться? Неужели двух академий мало? Сколько можно? Подумаю…» Когда же я вышел от него, то от радости не удержался и тут же в приемной отбил короткую, но лихую чечетку.
Сверх всякого ожидания, Петр Ионыч не только не оказал какого-либо противодействия, но даже и похвалил за такое «разумное решение». Вот его последние слова: «В авиации, чтобы быть полноценным командиром, надо обязательно самому летать!…»
Через неделю-другую скорый поезд доставил меня в Севастополь, дальше катером - на Северную сторону, а от нее еще 28 километров до долины реки Кача. Здесь, близ деревни Мамашай, находилась прославленная школа пилотов.
Богат ее послужной список. История школы уходит к дореволюционному 1910 году. Еще задолго до Великого Октября здесь бывали, учились и летали многие известные летчики России, имена которых навечно стали гордостью нашего Отечества. Среди них особое место занимают: один из первых русских летчиков Михаил Никифорович Ефимов; автор «мертвой петли» и первого воздушного тарана Петр Николаевич Нестеров; победитель когда-то неподвластного человеку штопора и герой первой мировой войны Константин Константинович Арцеулов; рекордсмен дальних перелетов Дмитрий Георгиевич Андриади; летчики - герои гражданской войны Василий Федорович Вишняков, Георгий Сапожников. Да разве всех перечислишь!
Достаточно сказать, что в настоящее время, когда [167] курсант приходит в музей боевой славы училища, со стен на него смотрят портреты 230 Героев Советского Союза, из которых одиннадцать удостоены этого высокого звания дважды, а Александр Покрышкин - трижды. Здесь же портреты выпускников - прославленных авиационных военачальников. Среди них маршалы авиации Ф. А. Астахов, К. А. Вершинин, С. Ф. Жаворонков, П. Ф. Жигарев, Н. С. Скрипко, В. А. Судец, Ф. Я. Фалалеев.
С намерением приобрести профессию военного летчика я прибыл на Качу не один. В нашей небольшой «командирской» группе оказались еще трое - Палехин, Межак, Изотов. Все мы уже занимали в авиации высокое служебное положение, имели законченное высшее инженерное образование. Так что наши знания в области конструкции самолетов и двигателей, их технической эксплуатации, равно как и в вопросах боевого применения, значительно превосходили требования школьных программ. Поэтому для нас была разработана специальная программа обучения, которая предусматривала, по существу, только овладение техникой пилотирования самолета и отработку отдельных элементов его боевого применения.
Нужно сказать, что командование школы сделало все, чтобы создать благоприятные условия для нашего успешного овладения специальностью летчика и, главное, чтобы на результаты не повлияли темпы обучения. Мы имели отдельную, независимую от общего расписания группу со своими собственными учебными самолетами У-1 («Авро») и боевым - Р-1. Наша группа была прикомандирована к лучшему отряду школы, возглавлял который блистательный в то время летчик и методист А. И. Кутасин. Не связанные с теоретическими курсами, летали мы почти ежедневно. Норма полетов каждого из нас превышала курсантскую примерно вдвое, и в отдельные дни доходила до шести - восьми вылетов. При такой интенсивности работ весь курс летного обучения можно было бы пройти совсем в короткий срок. Однако руководство школы в некотором отношении умышленно замедляло ход событий. Оно добивалось высокого качества нашей летной выучки, и потому число как провозных, так и самостоятельных полетов у нас было тоже вдвое больше курсантских.
На всю жизнь запомнился мне первый самостоятельный вылет. На аэродроме шли обычные учебные полеты [168] с инструктором. Как бывало не раз, понаблюдать за своими питомцами на наш пятачок (так называли стартовую и посадочную площадку, закрепленную за летно-учебной группой) пожаловал командир отряда Кутасин. На извечный вопрос, когда же нас выпустят самостоятельно, последовал, как всегда, один и тот же ответ: «Куда торопиться? Успеете. Еще налетаетесь…»
* * *
В этот незабываемый день я взлетел с нашим инструктором Савиным и без заметного вмешательства с его стороны выполнил простейшее задание: взлет, полет по кругу, посадку. Не сделав каких-либо замечаний, Савин вылез из самолета и, подойдя к командиру отряда, о чем-то ему доложил. Складывалось впечатление, что лететь со мной вместо инструктора собирается сам Кутасин. И действительно, он подошел к самолету, поднялся на крыло, посмотрел - все ли у меня в порядке в кабине - и вдруг говорит:
- Ну вот, Соколенок, теперь полетишь один. Пора. Помни, сегодня особый день: в Москве открывается Девятый съезд комсомола. Не подкачай!
Несмотря на то что я, как и каждый из нас, уже давным-давно ждал этих замечательных слов - «полетишь один». - они произвели на меня просто ошеломляющее впечатление. Шутка сказать - один, без «дяди», со всей полнотой ответственности за вверенный тебе учебный самолет…
Но вот дан полный газ. Самолет начал разбег. Все внимание взлету. После второго разворота, поняв, что все идет своим чередом, чуточку расслабился и почувствовал такой прилив радости, восторга, что на время забыл обо всем на свете и как ошалелый что было мочи заорал: «Ура-а!» Потом запел первый куплет «Интернационала»: «Вставай, проклятьем заклейменный…» - и закончил все арией из оперы «Кармен»: «Тореадор, смелее в бой…»
Голос мой тонул в реве двигателя. А на подходе к третьему развороту телячьи восторги и совсем поутихли. Начинался самый ответственный этап полета - заход и расчет на посадку и сама посадка. Рабочая напряженность, полная мобилизация внимания с новой силой овладели мной, и я совершил первую самостоятельную посадку, как говорится, притерев самолет точно у посадочного «Т».
Когда я подрулил к нашему пятачку, Кутасин в сопровождении [169] Савина и моих товарищей по группе подошел вплотную к самолету, хотел, видимо, что-то сказать пространное, но раздумал и только спросил:
- Ну как себя чувствуешь, Соколенок?
В ответ я показал большой палец.
- Тогда давай на второй круг!
При первом самостоятельном вылете на боевом и более строгом Р-1 ничего похожего я уже не переживал, если не считать чувства повышенной ответственности и зарождавшейся уверенности, что теперь-то справлюсь и не с такой машиной!
* * *
…И вот скорый поезд увозит меня в Москву. Теперь уже не просто авиационного командира и инженера, а военного летчика с нагрудным знаком воспитанника прославленной Качинской школы пилотов.
Несмотря на то что научно-испытательный институт ВВС, в котором я работал, представлял собой довольно мощный летный центр и был связан с большими интенсивными испытаниями самолетов, их оборудования, мне, в силу своей служебной должности, целиком отдаться летной работе не удалось. Познав просторы пятого океана, я с еще большей, чем раньше, завистью смотрел на наших летчиков-испытателей и, не скрою, иногда очень жалел, что не могу полностью отдать себя этому делу. В то время когда мои сотрудники занимались испытательными полетами, мне приходилось довольствоваться тренировочными, проще сказать, утюжить воздух.
А к концу года я должен был, как вначале показалось, испытать еще более сокрушительный удар судьбы. Приказом Наркома обороны меня назначили старшим руководителем кафедры Военно-воздушной инженерной академии. В моем представлении это назначение еще дальше отделяло меня от летной работы. Однако в действительности совершенно неожиданно все обернулось к лучшему. Учитывая мою общую подготовку и предыдущую работу в научно-испытательном институте, а также страстное желание летать (при первом же представлении начальству я подал рапорт о допуске меня к тренировочным полетам в академической авиабригаде), командование академии сочло возможным назначить меня по совместительству вначале заместителем, а затем и начальником летно-испытательной станции (ЛИС) академии. [170]
Семнадцать месяцев работы в «Жуковке» - с октября тридцать второго по апрель тридцать четвертого, - могу смело сказать, явились самым счастливым, до предела наполненным периодом моей жизни.
…Рабочий день начинался обычно с рассвета с таким расчетом, чтобы успеть налетаться и вовремя явиться на учебные занятия в академию. С приближением лета - по мере увеличения светлого времени суток - соответственно росло и время, отводимое на утренние, а затем и вечерние полеты.
Преподавательскую же работу, хотя она и была для меня совершенно новой областью моей деятельности, я очень быстро освоил и вскоре даже полюбил.
Пожалуй, главной трудностью в преподавании моего предмета - авиационной техники - являлось то, что фундаментальные учебные пособия, которыми пользовались до этого в академии, были рассчитаны на подготовку именно авиационных инженеров. Новые же учебники еще ожидали своих авторов и разработчиков.
Именно в эти годы на командном факультете и оперативных курсах прошли свое обучение и переквалификацию многие в будущем известные советские авиационные военачальники, среди них маршалы авиации: К. А. Вершинин, П. Ф. Жигарев, Ф. А. Астахов, Г. А. Ворожейкин, С. Ф. Жаворонков, С. А. Красовский, С. И. Руденко, В. А. Судец, Ф. Я. Фалалеев, С. А. Худяков.
Летно- испытательная станция академии, которой к моему приходу командовал летчик Н. Б. Фегеваре, имела тогда почти все типы боевых и учебных самолетов, включая тяжелые бомбардировщики и несколько образцов автожиров (вертолетов). Круг вопросов, решавшихся здесь, уже выходил за рамки интересов самой академии. Получая заказы и задания на летные испытания различных объектов от заводов и конструкторских бюро, а также от управления ВВС, летно-испытательная станция (ЛИС) академии начинала трансформироваться в нечто вроде небольшого самостоятельного научно-испытательного центра. В одно из посещений «Жуковки» начальник ВВС Я. И. Алкснис выяснил наши непосредственные возможности и предупредил начальника академии А. И. Тодорского о необходимости испытания в воздухе оборудования, предназначенного для больших высот.
Среди разнообразных объектов, в испытаниях которых я принимал непосредственное участие, основными были предметы, относившиеся к средствам жизнеобеспечения [171] кабины. Летчик, как и весь экипаж самолета, подвергался весьма ощутимому, тяжелому воздействию резко меняющейся с высотой окружающей среды. Поэтому очень большое место в испытаниях занимали различные варианты кислородного обеспечения и высотного обмундирования. Если говорить о последнем, то, как помнится, чего только мы ни перепробовали, чтобы создать удобную для работы, легкую и вместе с тем непробиваемую холодом одежду. В дело были пущены и всевозможные утепленные материалы верха одежды, и известные своими тепловыми качествами меха - от простой овчины до натурального котика и соболя, наконец, электрообогрев. Между прочим, последний не оправдал тогда наших ожиданий: неравномерное нагревание отдельных частей тела при длительных полетах пагубно влияло на общее состояние и работоспособность летчика, а конструктивное несовершенство обогревателей частенько делали их не безопасными. После того как из-за неисправностей электроцепей я три раза горел в воздухе, электрифицированная одежда для пилотов была надолго снята даже с рассмотрения.
Некоторые из предложенных мной тогда средств жизнеобеспечения летчиков при полетах в герметизированных кабинах ждали своего часа очень долго - целые десятилетия.
Однако самое главное направление моей работы в ЛИСе над проблемами освоения больших высот оказалось связанным с психофизиологической лабораторией ВВС (ПФЛ), которой руководил тогда страстный энтузиаст этой области Добротворский. Изучению влияния на психофизиологическое состояние, нервную систему и работоспособность летчика в условиях низких температур и падающих с высотой атмосферного и парциального давления кислорода, определению рабочего потолка человека в воздухе без применения искусственных средств его повышения я отдал много труда, сил и энергии. Именно эта работа навела меня на мысль предпринять высотный перелет по маршруту Москва - Севастополь - Москва, в котором по тщательно разработанной лабораторией программе летчик мог быть проверен на психофизиологическую прочность.
Высотному перелету, который проходил 17-18 августа 1933 года и в котором вместе со мною участвовал адъюнкт академии С. С. Зазымов, занявший место второго пилота, предшествовала большая подготовительная [172] работа в лаборатории, на аэродроме, в тренировочных полетах. При подготовке в ход была пущена и камера пониженного давления (барокамера), где я просиживал часами и добирался при наличии кислородного прибора и без него до высот, значительно превышающих потолок современных боевых самолетов; испытал проверку организма и методом ререспирации (повторения дыхания одним и тем же воздухом), что и говорить, помучили меня врачи всевозможными исследованиями крови, проверками при различных ситуациях состояния сердечнососудистой системы, не избежал и самых разнообразных тестов на память, внимание, быстроту реакции.
Весь перелет был рассчитан на многочасовое пребывание человека на пятикилометровой высоте без применения кислородного питания (на борту самолета был кислородный прибор у второго пилота, но он служил лишь страховочным средством). Кстати, эта высота была в те годы предельным потолком всех состоявших на вооружении армии самолетов-разведчиков, легких и тяжелых бомбардировщиков.
Много, конечно, хлопот техническому составу станции доставила подготовка к этому перелету и самолета, который летел в предельно перегрузочном варианте (с дополнительными емкостями горючего) и на котором к тому же предстояло проверить работу на максимальной для него высоте, а также дать эксплуатационную оценку ряду новых приборов и объектов оборудования и снаряжения, ранее проходивших испытания в ЛИСе.
И вот перелет состоялся.
В печати под заголовками «Москва - Севастополь - Москва на высоте 5000 метров» появилась следующая информация:
«Старший руководитель кафедры воздушной техники Военно-воздушной академии тов. Соколов-Соколенок Н. А. совместно с адъюнктом академии тов. Зазымовым выполнили сложный, ответственный и трудный научно-испытательный и научно-исследовательский перелет.
Вылетев из Москвы 17 августа, экипаж в тот же день прибыл в Севастополь, пройдя маршрут 1300 км на высоте от 5000 до 5700 метров. Из Севастополя тов. Соколов-Соколенок вылетел 18 августа и в тот же день, в 17 ч. 15 мин., произвел посадку на Московском центральном аэродроме. Обратный перелет также был совершен почти на всем маршруте на высоте более чем 5000 метров. [173]
Тов. Соколов-Соколенок в продолжение 11 ч. 30 мин. находился на предельной высоте, более 5000 метров, без кислородного прибора и управлял самолетом. На обратном пути из Севастополя второй пилот т. Зазымов потерял сознание, поэтому пришлось пробивать облака и снижаться в нормальный слой, где т. Зазымов пришел в себя.
Перелет был выполнен при большой облачности на всем маршруте. Никакими ориентирами пользоваться было нельзя. Летели исключительно по приборам - за облаками.
Основной целью перелета было выявление психофизиологического состояния организма летчика при выполнении перелета на больших высотах, возможности пребывания экипажа на обусловленных высотах без кислородных приборов и влияния атмосферных условий на исполнение летных обязанностей.
Перелет т. Соколова-Соколенка дал весьма ценный материал, который будет использован для дальнейших разработок вопроса о высотных перелетах и определения всех элементов «рабочего потолка» как летчика, так и машины (мотора)…»
Нет нужды перечислять все полученные в этом перелете данные. Частично они были освещены тогда в сентябрьском номере журнала «Вестник Воздушного Флота». В сокращенном варианте там были изложены вопросы о симптомах высотной болезни, некоторых физиологических ощущениях летчика при длительном пребывании его в «голодной» кислородом зоне, управляемости самолета на его рабочем потолке, об одежде и питании в полете.
После очень короткого отпускного перерыва, продолжая, как и ранее, преподавательскую и летно-испытательную работу в ЛИСе, я начал подготовку к следующей большой вылазке на «потолок». С разрешения начальника ВВС на лето тридцать четвертого года был запланирован новый более сложный перелет, причем место второго пилота должен был занять представитель медицины. Один из вариантов такого перелета намечался как европейский - на предельных дальностях самолета с посадками в столицах ряда государств. Одновременно мне предстояло освоить новейший истребитель и готовиться к покорению рекорда высоты. Яков Иванович Алкснис рассчитывал в этом году получить от наших [174] конструкторов специально для этих целей созданный высотный самолет.
В порядке тренировки и испытания ряда объектов как-то в воскресный день я предпринял очередной перелет на предельную для самолета Р-5 высоту и дальность. Место второго пилота занял воспитанник академии А. А. Лапин. И вот летим по маршруту Тула - Рязань - Муром - Иваново - Калинин - Москва.
…Все шло хорошо. Через зеркальце летчика для осмотра задней полусферы я слежу за Лапиным - он не перестает показывать мне большой палец: мол, и без всякой тренировки на кислородное голодание чувствует себя превосходно. Я охотно отвечаю ему тем же. Но по опыту полетов я уже знал, что высотная болезнь может наступить незаметно и ее жертва будет чувствовать себя так же хорошо и блаженно, как замерзающий в снегах на грани своей гибели.
Какое- то непередаваемое, особое чувство удовлетворения навалилось на меня на подступах к Меленкам и далее к Мурому, когда под крылом самолета поползли сплошные и необозримые лесные массивы родной Владимирщины.
Теперь уже я показал Лапину большой палец. И вдруг в тот самый момент, когда опустившаяся рука взялась за ручку управления, прямо перед кабиной вырвалась струя пара и стекло козырька кабины обдало водой. Что случилось, я сразу не понял, но потом догадался, что из радиатора выбросило всю жидкость, значит, из строя выбыла система охлаждения двигателя. Чтобы он не сгорел, пришлось немедленно выключить зажигание и перейти на планирующий полет.
Когда мы снизились до высоты трех тысяч метров, вдали появился задымленный Муром и четко очерченные границы лесов. На высоте двух тысяч стало очевидным, что до открытых площадок вокруг города мы не дотянем и придется садиться с парашютированием на деревья. Не дотягивали мы всего-навсего километров двадцать. С высоты тысячи метров в лесном массиве уже можно было разглядеть малюсенькие прогалины, среди них мы выбрали небольшую лесную поляну и пошли на посадку. По размерам для нормальной посадки поляна была явно мала, однако другого выбора нам не оставалось.
Последняя неприятная неожиданность, подстерегавшая нас, обнаружилась уже при заходе на посадку: вся поляна была усыпана кочками… [175]
Дальше все произошло так, как и предполагалось. Расчет - как по заказу. Подход к самой границе поляны впритирку к макушкам невысокого сосняка. Чуть заметное скольжение - и самолет на пробеге. В какой-то момент показалось, что в конце концов врежемся в лес. К счастью, поляна имела подъем в сторону пробега, и самолет вовремя остановился - до ближайших деревьев оставалось каких-нибудь полтора-два метра.
Часы показывали 11 часов 28 минут.
Молча освободившись от ремней и парашютов, мы вылезли из самолета. Как это ни покажется страдным, но в первую минуту я подумал не о самолете, который, уткнувшись носом в лес, ожидал осмотра да техпомощи, не о неудаче предпринятого перелета. Я почему-то чувствовал себя страшно виноватым перед своим «пассажиром» Лапиным, который буквально напросился в этот перелет и вот теперь должен был делить со мной такую неприятность! Но Лапин выглядел ничуть не обескураженным и бодро сказал:
- Ничего. Это ведь не по земле шлепать. Могло кончиться хуже. А это что!… Смотри, что делается: сюда только за земляникой летать.
- Что будем делать? - спросил я.
- По грибы пойдем, может, какой боровик задержался. Времени теперь хватит на все. Пока нас разыщут…
Времени действительно было много, но, конечно, не для того, чтобы сидеть сложа руки.
Дело оставалось за небольшим: как дать знать о себе? Никакими средствами связи мы не располагали, оставалось только одно - кому-то из нас идти на розыски ближайшего населенного пункта. Однако нам повезло: около часа дня на опушке поляны появились двое парнишек из какой-то недалекой лесной деревеньки. Поэтому прежде всего мы уточнили координаты нашего вынужденного приземления. Сели, оказалось, в 10-12 километрах от города Меленки, который с воздуха и не заметили. По нашей просьбе один из ребят вызвался быстренько сбегать в город и сообщить о нашей беде в уездный отдел ЧК. По опыту я знал, что это самое надежное, расторопное, до мелочей предусмотрительное, обеспеченное хорошей связью учреждение. И кроме того, сообщения из Москвы о нашем исчезновении чекистам станут известными в первую очередь. [176]
Не прошло и трех часов, как послышался шум грузовой автомашины и на опушке поляны появилось семь чекистов.
А не более как через час мы уже сидели в кабинете председателя Меленковской уездной ЧК, а еще через полтора - в аналогичном кабинете в Муроме. Муромчанин уговорил меленковца передать ему «дорогих гостей», мотивируя это тем, что через него нам будет легче и проще связаться с Москвой и техпомощь из столицы не минует Мурома, стоящего на железной дороге.
На следующий день с ранним московским поездом в Муром прибыли два техника и моторист летно-испытательной станции. А в тринадцать часов мы уже стартовали с меленковской полянки. Колеса машины зловеще чиркнули по верхушкам малорослых деревьев, и, как только это неприятное ощущение пропало, я тотчас показал большой палец, давая знать Лапину, что самое трудное позади. Привязавшись к полотну Казанской железной дороги и снова уйдя на предельную для самолета высоту, мы взяли курс на Москву…
* * *
Ранней весной 1934 года я приступил к регулярным летным и лабораторным тренировкам, готовясь к новому штурму высоты.
И вдруг случилось такое, чего я никак не мог ожидать.
В середине марта позвонил член Военного совета ВВС Б. У. Троялкер и в необыкновенно любезной форме пригласил меня срочно к нему «подъехать, чтобы переговорить по очень важному делу». Приближался я к улице Разина с двумя противоречивыми догадками: или стал уже конкретно вопрос о предстоящем перелете, и тогда это просто здорово, или, судя по тону короткого разговора, мне уготовано какое-то новое назначение, и, как говорят, тут ничего не поделаешь.
Вышло последнее. Троялкер сообщил - как обухом по голове: «Вопрос со всеми инстанциями уже согласован, все пути к изменению решения отрезаны…» Меня назначали начальником инженерного отдела и вице-президентом Амторга в США. Конечно, это было любопытно, ново, даже заманчиво (нечего греха таить, и я иногда завидовал тем, исключительно немногим, кто в те давние времена получал возможность повидать далекий, но чужой нам Новый свет). Но… значит, прощай, [177] академия, прощай, моя летная жизнь и вечно манящая стихия пятого океана…
Высшей наградой и добрым напутствием в будущее остался для меня последний приказ по академии от 1 апреля 1934 года, который гласил:
«Начальник летно-испытательной станции т. Соколов-Соколенок Н. А. переходит на другую ответственную работу вне академии…
Будучи преподавателем и старшим руководителем кафедры Комфака и оперкурсов, т. Соколов-Соколенок Н. А. внес много нового в содержание предметов воздушной техники, и в частности в области оперативно-технических расчетов операции, где он положил основные начала этим расчетам…
За 8 месяцев командования ЛИСом тов. Соколов-Соколенок провел в труднейших условиях большую научно-исследовательскую и испытательную работу для академии и по специальным заданиям Управления ВВС РККА (испытание самолетов, приборов, средств механизации, средств эксплуатации). Летно-испытательная станция заняла ведущее место в борьбе за освоение больших высот (научно-исследовательский рекордный перелет т. Соколова-Соколенка Москва - Севастополь - Москва).
Тов. Соколов-Соколенок за время пребывания в академии осуществлял на деле лозунг партии «Большевики должны овладеть техникой!» до конца и до мелочи…
Начальник академии А. Тодорский».
В этот прощальный день я совершил свой последний полет на Центральном аэродроме. [178]
Слово об авторе этой книги
Кончина генерал-лейтенанта авиации Николая Александровича Соколова-Соколенка не дала ему возможности завершить свои воспоминания. Сохранились отдельные записи, публикации в периодической печати, архивные материалы, за которыми раскрывается судьба, полная удивительных свершений.
В 1934 году Николай Александрович был направлен в командировку в Америку. Там он закупает самолеты, моторы, оборудование для авиационных заводов, знакомится с ведущими авиационными фирмами, известными конструкторами, организовывает встречи с ними наших авиаспециалистов.
В те годы формировались и укреплялись конструкторские коллективы, слава о которых гремит и по сей день. Не только современными, но и весьма различными по назначению были самолеты туполевского КБ, в начале существовавшего в качестве филиала ЦАГИ.
В сентябре 1934 года весь мир узнал о выдающемся беспосадочном полете на одномоторном самолете АНТ-25, созданном конструкторским бюро. Пробыв в воздухе 75 часов, машина пролетела тогда 12411 километров. Советскими летчиками был установлен абсолютный мировой рекорд дальности беспосадочного полета по замкнутому маршруту. Так что имя А. Н. Туполева уже хорошо знали ведущие авиационные фирмы за рубежом, и сотрудник нашего торгового представительства в Америке Н. А. Соколов-Соколенок с гордостью представлял советского авиаконструктора американским коллегам и владельцам авиационных фирм.
Николай Александрович обеспечивал перелет С. А. Леваневского из Америки в СССР. Опытный летчик Сигизмунд Леваневский много летал в Арктике, со знанием дела говорил о перспективах Северного морского пути, Сибири. Это он со штурманом В. И. Левченко отыскал однажды в снегах Севера пропавшего американского [179] пилота Джеймса Маттерна, а в марте 1934 года принял участие в спасении челюскинцев и одним из первых удостоился звания Героя Советского Союза.
В 1930 году летчик М. М. Громов поднял и опробовал в воздухе четырехмоторный бомбардировщик АНТ-6 (ТБ-3) с весом более 16 тонн. Испытания показали, что самолет обладает хорошими летно-техническими данными. В 1932 году он был принят к серийному производству и стал самым мощным боевым самолетом в мире. На улучшенных модификациях этой машины летчик А. Б. Юмашев установил пять международных рекордов подъема на высоту с грузом в 5, 10 и 12 тысяч килограммов. В 1933-1934 годах на самолетах АНТ-6 с двигателями М-34Р наши летчики совершили три больших международных перелета - в Варшаву, Париж и Рим.
С принятием на вооружение этих боевых машин начали формироваться бригады тяжелобомбардировочной авиации. Уже в годы первой пятилетки вместо смешанных авиационных бригад, состоявших из различных родов авиации, формировались однородные - бомбардировочные, штурмовые, истребительные. А в 1936 году начали создаваться авиационные армии резерва Главного Командования. АОН - авиация особого назначения. По сути, это было первоначальное объединение стратегической авиации, назначение которой предполагалось для нанесения мощных бомбовых ударов по объектам в тылу противника.
Во главе авиации особого назначения поначалу стоял комкор В. В. Хрипин. В свое время он изучал авиационное дело в Италии, Франции, Англии. Смело выдвигая принципиально новые предложения в теории боевого применения авиации, Василий Владимирович широко и всесторонне проверял их на многочисленных летно-тактических учениях и маневрах. Сменил его на этом посту Герой Советского Союза комбриг В. С. Хользунов. Новый командующий АОН был значительно моложе своего предшественника, но с опытом боевой работы в Испании. С комбригом Хользуновым и пришлось работать Соколову-Соколенку в АОН, куда он был назначен после командировки в Америку на должность начальника штаба.
Несколько месяцев работы Николая Александровича в штабе АОН на всю жизнь оставили у него хорошее воспоминание о дружном и спаянном коллективе. Позже он писал об этом периоде: «Не считая большой повседневной [180] работы, из заметных событий, которые я успел пережить за это время, были два: проведенная мной штабная игра, в ходе которой отрабатывались вопросы нанесения массированных ударов авиации по объектам в тылу противника, и участие нашего авиационного объединения в Первомайском параде тридцать восьмого года.
Последний прошел настолько успешно и внушительно, что многие из сотрудников нашего штаба были отмечены особой благодарностью партийных и советских руководителей страны. В этом успехе мы были обязаны в первую очередь штурманам Б. В. Стерлигову и А. В. Белякову. Их скрупулезно точные штурманские расчеты на встречу в воздухе слетавшихся к Москве крупных авиасоединений из дальних ее гарнизонов и на построение из них единой боевой колонны для пролета в точно установленное время над Красной площадью в своем исполнении оказались безукоризненными. Под стать штурманской поработала, конечно, и вся система инженерно-технической службы во главе с ее главным инженером Ф. Шульговским».
Летом того же, тридцать восьмого года, вспоминает Николай Александрович, в момент, когда казалось, что я находился в стадии становления как штабной работник, и когда на дальних подступах снова замерещились надежды на возможный переход на самостоятельную командную стезю, в этом мне обещал помочь и командующий АОН В. С. Хользунов, совершенно неожиданно пришел приказ о назначении меня начальником Первого Ленинградского военно-авиационного технического училища имени К. Е. Ворошилова…
Это было одно из старейших авиационных учебных заведений нашей страны. На заре становления школы ее самыми первыми учителями и наставниками оказались многие виднейшие ученые, имена которых золотыми буквами вписаны в историю развития отечественной и советской авиации. Среди них отец русской авиации Николай Егорович Жуковский, который принимал непосредственное участие при составлении учебных планов и программ школы и руководил практическими занятиями по аэродинамике, его сподвижники и ученики - будущие академики Е. А. Чудаков, Б. Н. Юрьев, генеральный конструктор В. Я. Климов, профессора В. П. Ветчинкин, И. И. Сидорин, А. М. Черемухин, А. П. Величковский, Н. А. Рынин, А. И. Журавченко, А. А. Саткевич, и многие другие. [181]
Тысячи авиационных специалистов прошли свое обучение в стенах этого училища. Многие из них позже занимали руководящие должности в Военно-Воздушных Силах, Гражданской авиации и авиационной промышленности.
В конце 1939 года техническое училище имени К. Е. Ворошилова было переименовано в Ленинградские авиационно-технические курсы усовершенствования ВВС. Основным контингентом учебного заведения становится опытный технический состав, поступающий на переподготовку и усовершенствование знаний. Новые задачи, новые заботы - и руководство курсов, преподаватели разрабатывают новые учебные и методические пособия, обновляют материальную часть, классное оборудование для подготовки специалистов авиационных частей.
Изменения в кузнице авиационно-технических кадров совпадают по времени с советско-финской войной. Боевые действия, конечно, не могли не оказаться серьезной проверкой всего того, чему учили будущих инженеров и техников ВВС. Большая группа инструкторов и преподавателей училища была направлена на стажировку в строевые части, участвовавшие в боевых операциях. Получаемый ими материал без промедления анализировался и в обобщенном виде получал свое отражение в учебном процессе, а в дальнейшем был широко распространен и среди других авиационно-технических учебных заведений.
В те дни по согласованию с командованием ВВС округа, не прекращая плановых занятий, училище создает ремонтно-техническую бригаду, две ремонтно-полевые бригады и большую группу по сборке новых самолетов, прибывающих с заводов на фронт. За четыре месяца их силами были собраны и выпущены в воздух 172 боевых самолета, отремонтировано в полевых условиях и эвакуировано с мест вынужденных посадок несколько десятков бомбардировщиков и истребителей.
Работать приходилось в условиях на редкость суровой зимы, когда показания термометра опускались значительно ниже сорокаградусной отметки. Нередки были случаи, когда, не проехав и половины расстояния, люди были вынуждены сменять открытые грузовые машины на подводы, чтобы затем, бросив и их, пробираться до места назначения по пояс в снегу да еще нести на себе или тащить волоком тяжелую ношу - инструмент, ремонтные приспособления. Часто самолет, приземлившийся где-нибудь на лесном озере или болоте, находили в полупогруженном [182] состоянии, окруженным большими ледовыми трещинами, и, чтобы спасти и восстановить его, люди с риском для жизни работали по нескольку суток не смыкая глаз.
За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом доблесть и мужество 36 человек из состава Ленинградского авиационно-технического училища (курсов) были награждены орденами и медалями. Начальник училища Н. А. Соколов-Соколенок и комиссар П. И. Духновский - орденом Красной Звезды.
Бурное развитие авиации, расширение решаемых ею на войне задач требовали значительной перестройки системы подготовки командных кадров. Возросшие требования к этой подготовке выходили за рамки материальных возможностей, которыми располагала до этого единая Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского. Поэтому было принято решение выделить из ее состава оперативный, командный, штурманский и заочный факультеты и курсы усовершенствования начальствующего состава и на базе одного из авиационных гарнизонов образовать новую самостоятельную Военную академию командного и штурманского состава ВВС (ныне Военно-воздушная академия имени Ю. А. Гагарина).
А «Жуковка» на пороге своего двадцатилетнего юбилея возвращалась к исходным рубежам как инженерное учебное заведение, имея в своем составе три факультета: инженерный, авиационного вооружения и электроспецоборудования. Начальником Военно-воздушной инженерной академии был назначен Н. А. Соколов-Соколенок.
Не узнал Николай Александрович в древнем Петровском дворце прежней «Жуковки» - разве только старые стены остались без заметных перемен. Новые аудитории, классы, учебные лаборатории, мастерские - на каждом шагу он замечал что-то новое. И неудивительно, за пятилетку (1934-1939) наши Военно-Воздушные Силы увеличились в личном составе на 138 процентов, больше чем в два раза вырос самолетный парк. Новые боевые машины, новое оружие, совершенствующееся навигационное оборудование требовали прочных знаний, специалистов высокой квалификации. И Военно-воздушная инженерная академия имени профессора Н. Е. Жуковского, являясь в то время единственным в стране высшим авиационным учебным заведением, готовила для Военно-Воздушных [183] Сил высокообразованных инженеров-механиков, конструкторов и инженеров-эксплуатационников.
«…Как на тяжелое испытание, шел я на первое для себя заседание Ученого Совета, где должен был представлен взыскательным ученым мужам как начальник академии, а по положению оформлен и председателем самого Совета, - вспоминает Николай Александрович. - На повестке дня стоял единственный вопрос - защита кандидатской диссертации одного из преподавателей академии. Председательствовал по моей просьбе начальник кафедры аэродинамики академик Борис Николаевич Юрьев, который впоследствии был назначен моим заместителем по научной и учебной работе.
Первой встречей с Ученым Советом остался довольный. Большинство его членов представляли старейший инженерный факультет и общеакадемические кафедры, и меня все хорошо знали, как знал всех и я. Представителями новых факультетов - авиационного вооружения и электроспецоборудования - были преимущественно молодые ученые - многие из них были воспитанники нашей же академии. Так что одни встретили меня как своего ученика (как знать, может быть даже гордились этим), другие, совсем близкие мне по возрасту и жизненному пути, хотели видеть в моем лице своего товарища и не скрывали удовлетворения от того, что начальником академии к ним пришел не кто-то со стороны, а тоже выпускник «Жуковки», инженер по профессии: стало быть, есть основания надеяться на более полное понимание специфики их работы и нужд.
Этим доверием руководящего профессорско-преподавательского состава я бесконечно дорожил, и первейшей задачей, которую поставил перед собой, вступив в командование академией, считал не только всяческое сохранение, но по возможности и расширение золотого фонда науки, которым «Жуковка» в то время располагала».
В то время в академии преподавали виднейшие ученые страны - академики И. И. Артоболевский, Н. Г. Бруевич, В. С. Кулебакин, Б. Н. Юрьев, профессора В. В. Уваров, И. И. Привалов, В. С. Пышнов, Б. Т. Горощенко, В. В. Голубев и многие другие. Доверие руководить таким коллективом Николай Александрович высоко ценил. Еще теснее стало содружество инженерной академии с научно-исследовательскими институтами, конструкторскими бюро. Объединенными усилиями ученых разрабатывались методики испытаний [184] самолетов, преподаватели и слушатели академии принимали участие в испытании авиационных двигателей, искали новые аэродинамические формы боевых машин.
Приближалась война… Советское правительство принимало меры, чтобы оттянуть ее начало, в то же время стремилось как можно быстрее оснастить наши Военно-Воздушные Силы новыми самолетами.
С 1 января 1939 года по 22 июня 1941 года строевые части получили от промышленности 17 745 боевых самолетов, в том числе 3719 новых типов. Конструкторские бюро и группы, возглавляемые талантливыми авиационными конструкторами А. Н. Туполевым, С. В. Ильюшиным, Н. Н. Поликарповым, А. И. Микояном, С. А. Лавочкиным, А. С. Яковлевым, В. М. Петляковым, молодыми инженерами В. П. Горбуновым, М. И. Гудковым, М. М. Пашининым, В. П. Яценко и другими, разрабатывают и создают более совершенные самолеты-истребители Як-1, МиГ-3, пикирующий бомбардировщик Пе-2, штурмовик Ил-2, другие самолеты, вооружение и скорость которых значительно увеличились по сравнению с боевыми машинами прежних конструкций. Перевооружение Военно-Воздушных Сил намечалось завершить в основном во втором полугодии 1941 года и частично в начале 1942 года.
В феврале 1941 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР утвердили дополнительный план строительства 190 новых аэродромов в западных районах страны. 10 апреля 1941 года было принято правительственное постановление и о реорганизации системы авиационного тыла.
Но времени ни на перевооружение авиации новой боевой техникой (в авиачастях западных приграничных округов новых самолетов к началу войны было лишь 19 процентов), ни на строительство многих аэродромов не хватило. Вероломное нападение фашистской Германии не позволило претворить в жизнь разработанную программу.
В летне- осенней оборонительной кампании сорок первого года обстановка на фронте быстро менялась, гитлеровские войска вклинивались в нашу оборону и нарушали систему обеспечения войск, подвоза, эвакуации. В этот напряженный, критический период Коммунистическая партия и Советское правительство в целях улучшения тылового обеспечения войск фронтов и новых формирований Ставки Верховного Главнокомандования принимают [185] меры по усилению и коренной перестройке Тыла Советской Армии.
В директиве от 20 июля 1941 года нарком обороны СССР и Главное политическое управление РККА потребовали от военных советов, политорганов, военных комиссаров «взять под неослабный контроль работу тыла снизу доверху (штабы, связь, склады, органы снабжения, обозы и т. д.), проникать во все «закоулки», добиться образцовой работы тыла по полному и своевременному обеспечению фронта всем необходимым». Печать, радио стали широко освещать работу Тыла Советской Армии, разъяснять его решающую роль во всестороннем обеспечении боевых действий войск. «Работники тыла всегда должны чувствовать себя на передовой линии, - говорилось в газете «Красная звезда». - Тот, кто самоотверженно работает в тыловых органах, всего себя, без остатка, отдает порученному делу, тот подлинный герой Отечественной войны».
* * *
19 августа 1941 года приказом НКО СССР была учреждена должность начальника тыла ВВС. На эту должность был назначен генерал Н. А. Соколов-Соколенок. В его ведении находились управления устройства тыла, аэродромного строительства, интендантское и отдел снабжения горючим. Создание центрального органа авиационного тыла сыграло положительную роль в дальнейшем укреплении и совершенствовании общей системы тылового обеспечения авиачастей и соединений.
Дело в том, что существовавшая перед войной структура тыловых органов авиационного обслуживания, подчиненных авиачастям и составлявших с ними одно целое, не удовлетворяла возросших маневренных возможностей фронтовой авиации, не обеспечивала быстрого перебазирования на новые аэродромы. В самый канун войны была предложена более гибкая и оправданная структура тыловых органов: авиабазы и входившие в них батальоны аэродромного обслуживания располагались в определенных районах, где принимали авиационные части, которые бы вели боевые действия в данном районе. Это была хорошая идея: отпадала необходимость в громоздком наземном эшелоне обслуживания, самолеты прилетали, по сути, на все готовое.
Однако к началу войны задуманную реорганизацию полностью провести не удалось. Батальоны аэродромного [186] обслуживания в массе своей были не укомплектованы людьми и техникой. Назначавшиеся в них командиры частенько не обладали достаточным опытом.
В исключительно сложной обстановке уже боевых действий в короткие сроки необходимо было произвести отмобилизование, завершить переформирование существующих и развертывание новых частей авиационного тыла; эвакуировать склады и другие объекты, находившиеся под угрозой захвата противником. И все это требовалось выполнять одновременно с обеспечением напряженной боевой работы авиационных частей, которые с первых часов войны вступили в ожесточенную схватку с фашистской авиацией, наносили удары с воздуха по войскам противника.
Трудности в работе авиационного тыла были вызваны еще и тем, что в период эвакуации из приграничных военных округов полностью не удалось вывезти материальные и технические средства, необходимые для создания новых баз снабжения и ремонта. И все-таки авиационный тыл сумел перестроить свою работу и в последующем успешно обеспечивал боевые действия авиационных частей.
«Нельзя не сказать о том, - вспоминал Николай Александрович, - что во всех успехах в работе тыла ВВС мы были не в малой степени обязаны той всесторонней повседневной помощи, которую оказывали нашим тыловым органам заместитель наркома обороны СССР - начальник Главного управления Тыла Красной Армии Андрей Васильевич Хрулев, начальник его штаба М. П. Миловский, а также начальники фронтовых тылов генералы В. Н. Курдюмов, В. К. Мордвинов, М. С. Хозин, М. А. Рейтер, И. Г. Советников, И. К. Смирнов.
Лично мне очень помогало в работе и то обстоятельство, что почти со всеми начальниками центральных управлений и служб тыла, как и с большинством заместителей командующих войсками фронтов, я был знаком задолго до войны, а с А. В. Хрулевым был связан дружбой еще с двадцатых годов. Принципиально требовательный к себе и другим, в делах не признававший ни с кем ни родства, ни приятельства, Андрей Васильевич мог действенно и оперативно помочь в любом начинании, если оно оказывалось государственно оправданным и полезным…»
Уже к сентябрю 1941 года авиационный тыл в своей основе был сформирован. Его организация была [187] значительно улучшена. Основной тыловой частью стал батальон аэродромного обслуживания, который предназначался для обслуживания одного-двух авиационных полков. Была упразднена как излишнее промежуточное звено авиационная база. Шесть - восемь таких батальонов составляли соединение авиационного тыла (район авиационного базирования), на аэродромах которого базировались и обеспечивались несколько авиационных дивизий.
Кроме того, в состав районов авиационного базирования входили инженерно-аэродромный и автотранспортный батальоны, головной авиационный и полевой военно-хозяйственный склады, минно-сапсрная служба и служба противовоздушной обороны. Надо сказать, что к концу войны районы авиационного базирования превратились в мощные подвижные авиационно-тыловые соединения, способные организовать бесперебойное тыловое обеспечение боевых действий авиасоединений, маневр авиации.
Образцы героизма и ратного труда с первых же дней войны показывали воины авиационного тыла. Они делали все от них зависящее для поддержания высокой боеспособности частей.
Особенно напряженной была работа авиационного тыла в битве под Москвой. Трудности в обеспечении фронтов боевой техникой, боеприпасами, обмундированием, снаряжением были вызваны низким выпуском в стране военной продукции. Так, на фронтовых и армейских складах Западного фронта имелось всего по 0,2-0,3 боекомплекта основных видов боеприпасов. А с наступлением памятной суровой зимы сорок первого года материально-техническая обеспеченность войск еще более понизилась. Не хватало автомобильного транспорта, с огромным напряжением работали железные дороги, были введены лимиты расхода боеприпасов, позже - горючего…
Именно в эти дни энергичные меры по материально-техническому обеспечению частей принимают управления тыла Военно-Воздушных Сил. Новая структура авиационного тыла позволила улучшить планирование, организацию тылового обеспечения боевых действий авиации. К концу октября ударные гитлеровские группировки в полосе Западного фронта были остановлены. И надо сказать, повышению активности нашей авиации в этот период существенно способствовало перебазирование авиационных [188] частей на аэродромы Московского военного округа, где уже хорошо было налажено их материально-техническое обеспечение. Немцы несли потери в воздушных боях, резко снизилась активность авиации противника.
Однако общее превосходство в силах и боевых средствах было еще на стороне врага. С севера и юга немцы основными силами группы армий «Центр» готовились нанести на Москву охватывающие удары танковыми группировками. Поддерживать их должны были 950 самолетов 2-го воздушного флота. Учитывая эти обстоятельства, Ставка ВГК сосредоточила в центре, севернее и южнее столицы крупные стратегические резервы. На основании специальных указаний Ставки командование ВВС Красной Армии разработало мероприятия по подготовке тыла к обеспечению авиации фронтов.
К началу контрнаступления вдоль линии фронта на удалении 15-30 километров были организованы аэродромы засад для истребителей, аэродромы подскока для штурмовиков. Экипажи, которым предстояло вести боевые действия с этих аэродромов, обеспечивались специальными комендатурами, выделенными из состава батальонов аэродромного обслуживания. В них создавались запасы материальных средств на 2-3 полковых вылета. Тщательное и всестороннее планирование тылового обеспечения способствовало успешной и бесперебойной боевой работе нашей авиации в дни контрнаступления под Москвой. В течение 33 дней в сложных погодных условиях наган летчики совершили около 16 тысяч боевых самолетовылетов.
Командующий Западным фронтом Г. К. Жуков в воспоминаниях о действиях авиации в ходе наступления писал: «Летчики действовали самоотверженно и умело. Благодаря общим усилиям фронтовой, дальней авиации а авиации ПВО у врага впервые с начала Отечественной войны была вырвана инициатива в воздухе. Авиация систематически поддерживала наши наземные войска, наносила удары по артиллерийским позициям, танковым частям, командным пунктам. Когда же немецко-фашистские армии начали отход, наши самолеты беспрерывно штурмовали и бомбили отходящие колонны войск. В результате все дороги на запад были забиты брошенной гитлеровцами боевой техникой и автомашинами». Понятно, что успешные боевые действия нашей авиации были бы невозможны без их всестороннего тылового обеспечения. [189]
Так, зимой 1941/42 года части 6-го и 96-го районов авиационного базирования обеспечивали напряженные боевые действия частей в условиях блокады Ленинграда. Наряду с обеспечением боевых действий авиации они активно помогали и населению осажденного города преодолевать трудности блокады.
Из состава частей 6-го и 96-го районов авиационного базирования более 1000 машин работало на ледовой трассе через Ладожское озеро, доставляя ленинградцам и авиационным частям необходимые материальные средства. Нелегкой была работа водителей на ледовой трассе, но ни интенсивные удары авиации противника, ни пронзительные ветры и снежные бураны, ни тридцати-, сорокаградусные морозы и бессонные ночи не могли сорвать перевозку значительного количества продовольственных грузов и эвакуированного населения через Ладогу. Самоотверженная работа на ледовой трассе - это яркий пример героического труда личного состава частей авиационного тыла в годы Великой Отечественной войны. Работа этих соединений авиационного тыла была высоко оценена партией и правительством. 96-й район авиационного базирования, начальником которого был полковник М. А. Гуркин, награжден орденом Красного Знамени, а 6-й район аэродромного базирования под командованием полковника С. Н. Игнатьева - орденом Красной Звезды.
Напряженной была работа авиационного тыла в летне-осенней кампании 1942 года на сталинградском направлении, где развернулись ожесточенные оборонительные сражения наших войск с превосходящими силами противника.
Гитлеровский план «молниеносной войны» был сорван. В течение первого периода войны части Красной Армии нанесли огромный урон немецко-фашистским захватчикам, ликвидировали преимущества противника, вытекающие из внезапного нападения, - то есть были созданы благоприятные условия для перехода в решительное наступление. Для авиационного тыла это был период становления, развития и совершенствования способов тылового обеспечения войск в различной оперативно-стратегической обстановке, в трудных условиях перевода народного хозяйства на военные рельсы.
В этой суровой боевой обстановке росли и талантливые организаторы тыла ВВС. Первыми, кому пришлось создавать и укреплять новую систему тыла, были [190] генералы Н. А. Соколов-Соколенок, М. П. Константинов, Ф. И. Жаров, Л. Г. Руденко, Н. М. Степанов, А. И. Мезинов, С. Н. Гнипенко, И. И. Семенов, полковник Г. И. Мордовкин и другие.
В ходе боевых действий непрерывно развивалась теория авиационного тыла, готовились кадры. К концу 1942 года Николай Александрович вернулся в Военно-воздушную инженерную академию имени проф. Н. Е. Жуковского, где и руководил подготовкой кадров для фронта.
После Великой Отечественной войны генерал-лейтенант авиации Н. А. Соколов-Соколенок возглавил кафедру авиационной техники Военной академии Генерального штаба.
В 1958 году Николай Александрович по болезни был уволен в запас.
А. Гусев
Примечания
{1}Академия Генерального штаба позже была переименована в Военную академию им. М. В. Фрунзе.
This file was created
with BookDesigner program
bookdesigner@the-ebook.org
24.09.2015
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



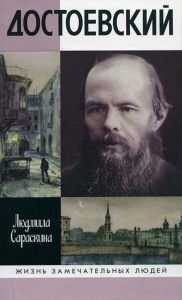
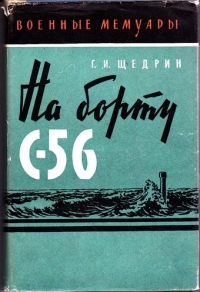
Комментарии к книге «По путевке комсомольской», Николай Александрович Соколов-Соколёнок
Всего 0 комментариев