Белла Ахмадулина Миг бытия
Фотографии разного времени
Бесхитростное это название предполагает некоторую вялую длительность. Возможный читатель и созерцатель и вовсе бы заскучал, если бы узнал, что человек, написавший эти слова, сидит, пригорюнившись, на кухне, опершись лбом о привычную конструкцию локтя и ладони, и озирает прожитую жизнь, полностью уместившуюся во вторую половину двадцатого века. Человек этот — я, но я смотрю на него вчуже, как на неподвижную фигуру любителя подлёдного лова где-нибудь на Финском заливе, — как знаком мне этот белёсый пейзаж с вкрапленным в него силуэтом терпеливого рыбака. Но моя-то рука какой ищет добычи в неподатливой лунке лба? Картина становится унылой, но часы показывают полночь, это всегда волнует, к тому же — кончается год, иссякает столетье. Всё это впрямую касается моей жизни, её значения и отведённого ей срока, к чему она не может быть равнодушна: художественно жаль, что какое-то главное, последнее, ослепительное знание останется лишь её сведением, не подлежащим огласке. Размышлениями такого рода можно увеличить ночную кухню до торжественного возвышения, удобного для обзора.
Да было ль это обозримое время — разным, отличным от вообще времени, всегда имеющего драматический сюжет? В памятные нам и незапамятные времена человечество длило свой род, истребляло его, создавало шедевры, как бы должные искупить великие кровопролития и мелкие козни. Все современники своих дней вправе считать их наиболее знаменательными и жестокими, жизнь — драгоценной, смерть — непоправимой, других дней у них не было. И мы таковы же. Эта простые рассуждения слишком громоздки для кухни, попробую обойтись её мелкими, для меня удовлетворительными, историческими обстоятельствами.
(В своевольных скобках замечу, что имею пристальное и нежное пристрастие к фотографиям давно прошедшего времени: конца прошлого и начала этого века в России. Волнуют и возбуждают воображение лица и облики на чудом уцелевших старинных снимках: дамы и господа, торговцы, разносчики, мальчишка, обернувшийся на диковинку аппарата, собаки с ярким предзнающим взором. Или вот, жильцы при переезде обронили или выбросили изображение девочки в кисейном платье, с влажными ландышами в руках, — живо, доверчиво смотрит она в окуляр и в счастье будущего времени, которое, скорее всего, окажется ужасным. На всех этих потускневших картонах, помеченных вензелем, присутствие рока кажется очевидным и заглавным, уже готовым гибельно застать врасплох их беззащитность.)
Одной из важных примет начала шестидесятых годов считаются выступления поэтов, привлекавшие неисчислимое множество публики, многие люди и теперь по ним скучают, я — нет. Лишь последующие замкнутые уединения были для меня трудно-отрадны и плодотворны. Не общее — таинственное, пространное, непроглядно-бледное — лицо зала, а чудные, доверчивые, как у той девочки с ландышами, лица остались мне на память о том времени, смысл, вкратце, сводится к тому, чтобы провиниться перед ними как можно меньше.
Мастерская Бориса Мессерера, объединяющая сводами многие действующие лица, сама как бы является действующим лицом: её благодатное пространство имеет независимую одухотворённую плоть, весьма важную для меня, да и для значительной части художественной Москвы. Я всегда благодарю её стены и населяющие её предметы, побуждающие к дружеству и чистым помыслам.
В этих стенах, при множестве любящих и печальных участников, в декабре 1980 года, происходили проводы Владимира Войновича, покидавшего Москву против его непреклонной воли. На следующий день нам предстояло прощаться на аэродроме. Когда ночью он и Ирина уходили от нас, я, с вершины нашего этажа, бросила на них охапку цветов: «Войнович! Твой путь уже осыпан розами, то ли будет!» Осведомители, зябнувшие внизу, не раз смогут убедиться, что я не зря бросала слова на ветер: например, вскоре, когда Войновичу будут вручать премию «Триумф», при моём триумфальном ликовании.
1980 год был щедр на бедствия и утраты. Шла война в Афганистане. Её тень и поныне живо стоит меж нами и светом небосвода. Другие войны продолжаются и затеваются ей вослед. Недавно услышала я, что некая учёная мысль подсчитала: в истории человечества было несколько десятилетий, когда оно не воевало меж собою, с собою. Возможно ли? где, когда, с кем это было? Думать об этом — всё равно, что смотреть, как я сейчас смотрю, на поздравительную рождественскую открытку: маленький островерхий городок, осыпанный тёплым праздничным снегом. Чтобы стало совсем хорошо, нарисованы дополнительные снежинки, падающие на крыши, мансарды, на шпиль церкви с крестом, опекающий беспечную округу, ёлки на улицах и балконах, быстрых прохожих с подарочными свёртками, разноцветные капюшоны детей. Затесаться бы на мгновение в картинку из серии: «For the well-being of the world’s children». «Для всемирного благоденствия детей»? — звучит трезвее, недоступней, возвращает на место, на кухню, где не я гощу в милом рисунке, а он во мне, в крае глаза. Мы с Борисом и наяву видели подобные городки, но тоже не выходило затесаться в них, как в открытку.
В январе 1980 года, после долгого перерыва (перед очень долгим перерывом), мне негласно позволили выступать в провинции — уловками доброжелательных и небескорыстных умельцев. До этого любые заработки были возбранены всем участникам альманаха «МетрОполь» — дорогим для меня завсегдатаям мастерской, души и этого альбома. Я оказалась в Алма-Ате, в Алма-Аты, как говорят в Алма-Аты. Там я впервые увидела цинковые гробы, война вплотную подступала к сердцу. Однажды я выступала перед приветливой воинской частью, все мне рассеянно улыбались, никто меня не слушал: офицеры были серьёзны и напряжены, солдаты — отчаянно возбуждены и веселы. Я спросила светлого синеглазого мальчика: откуда родом? «Новгородские мы, — ответил он смеясь, — два месяца осталось служить». Воротничок его был расстёгнут, бляха ремня сбилась на худенькое бедро. Он радостно прошептал мне в ухо: «Нам всем вина дали — вдосталь, ночью куда-то переводят, но говорить об этом нельзя, не велено». Я обняла его, слёзы крупно лились, падали на его разгорячённое лицо. (Нечаянно покосилась на чужеземную картинку, на снежинки, тающие на румянцах детей.) Шёл снег, снежки летали, кто-то начал и бросил строить снежную бабу. Мальчик утешал меня, с удивлением, но уже и с тайной тревогой: «Что это вы, не надо, это — долг, это — за родину». — «Новгород твоя родина, дай-то Бог тебе её увидеть». Меня окликнули — мягко, без осуждения, — я вернулась в помещение. Солдатам приказали снять шапки и шинели, было мрачно холодно, все они тяжело кашляли, заглушая ладонями рты и бронхи. Я тоже сняла шапку и пальто, мелким и жалким помнится мне этот жест единения с теми, кого впрямую из своих разомкнутых рук отпускала я на погибель. Много позже, в Ферапонтово, я и Борис видели похороны вологодского мальчика Жени. Мать его, беспамятно стоя над непроницаемым, одетым в кумач, гробом, издавала недрами муки ровный непрестанный звук крика. Её одёрнули: «Мамаша, обождите убиваться, военком будет говорить». Мать умолкла. Военком с хладнокровным пафосом говорил о покойном, что он — герой и погиб за родину. «Вон она — Женькина родина», — сказал подвыпивший мужичок, указав рукавом на кротко мерцающее озеро, на малую деревеньку на берегу, скорбные это и дивные места. «Тише ты», — цыкнула на мужика жена, опасливо поглядывая на нас, чужаков, и на милицию, во множестве надзирающую за бедной церемонией. Через год я с трудом нашла на окраине кладбища заросший безымянный холмик, видно, и жизнь матери иссякла вместе с жизнью сына, некому было присмотреть за могилкой.
Тогда — из лютого горя зимы состоял воздух Алма-Аты, и особенные нежность и близость съеднняли меня со слушателями. Во время одного выступления во всей округе погас свет и так и не возжёгся. Никогда мне не приходилось читать так долго — в совершенной темноте и тишине, в совершенной любви и благодарности к человечеству, чьё присутствие предполагалось в непроглядном зале и повсюду. Зал помещался на третьем этаже. По истечении третьего часа все мы, оберегая друг друга, спустились по лестницам, никто никого не толкнул, на вешалке ничто не пропало. Когда мы вышли в снег улицы, огромная луна, словно преднамеренно, появилась из туч, и мы наконец увидели друг друга. Все лица показались мне прекрасны. Луне принадлежит этот несуществующий снимок, но и зрению моему ярко откликается, если позвать и прикрыть глаза. Он — из лучших в обширной и беспорядочной коллекции.
Мы с Борисом каждый день говорили по телефону. Осторожными иносказаниями он, с жалостью ко мне, оповещал меня о новых бедствиях. Сведения о них с опозданием достигали Алма-Аты. Сахаров был выслан в Горький. Ещё одну, последнюю, весть Борис не мог выговорить. Я вылетела в Москву. Умер Станислав Нейгауз, Стасик. Его хрупкость, словно призывающая страдание, всегда держала меня в напряжении — не только в консерватории, когда, потупившись сединами и всем стройным силуэтом, шёл по сцене к роялю, будто одолевая уязвимой прозрачной плотью невидимые, ранящие препоны и заросли воздуха, и потом, сквозь те же сопротивляющиеся острия, возносил и задерживал руки над клавишами, над мучительным началом звука. Не только в консерватории — всегда, как в консерватории, при частых встречах с ним и в его отсутствие, тревога стояла в нервах, обращённых к нему. Чуждые мне знатоки считали его способ исполнения не мощным, не победоносным, мне только это и надобно было. Я воспринимала его не исполнителем, а изъявителем музыки, схожим с ней и равным ей. Он целомудренно знал тайну и не приглашал в неё стороннее любопытство. И вот теперь окончательный смысл этой тревоги, этой музыки — сбылся.
В том же январе мне не надолго, но до полного счастливого вздоха, полегчало, когда я, как умела, вступилась за Сахарова и сразу же — за Копелева, и за себя, конечно, за омрачённую, но не покинувшую меня совесть.
Весною стало ясно, что вынужденный отъезд Аксёнова и Майи — предрешён, мы почти не расставались, на это и ушла весна, даже черёмухи не помню. Аксёновы уехали в начале июня, мы думали, что прощаемся навсегда, оказалось — на семь лет.
25 июля умер Высоцкий, его смерть стала явной и непоправимой убылью общей и моей жизни.
Умер Тышлер. Я люблю театрики, кораблики, ярмарки на головах его персонажей. Шутя я говорила Александру Григорьевичу, что сама из них и держу на голове некое зыбкое построение, прорастание измышлений. Я покачивала, потряхивала головой — не было у неё вдохновений и завихрений.
Предотъездные обстоятельства Войновичей были крайне напряжены и опасны.
29 декабря умерла Надежда Яковлевна Мандельштам. Я описывала её похороны в письме к Аксёнову: стройная скорбная процессия двигалась по Ново-Кунцевскому кладбищу, со свечами и песнопениями. Когда гроб опускали в могилу, в ясном зимнем (второго января) небе грянул гром.
Борис, он был болен, и я вдвоём в мастерской не встречали новый, 1981, год, но некоторые утешители, во главе с Татьяной Лавровой, нас неожиданно проведали.
Георгий Владимов подлежал мрачному преследованию, на него было заведено дело, шло следствие. Мы постоянно навещали его и Наталью, иногда возвращались последним поездом метро, в пустом вагоне соглядатаи откровенно садились вплотную рядом, это почему-то смешило. Подслушивающие и подсматривающие устройства исправно трудились. В уме как-то смеркалось, но его здравость упасла неусыпная сосредоточенная мысль о Владимовых, о попытке им помочь. («Нижайше, как подобает просителю, прошу Вас…» — писала я Ю. В. Андропову.)
В феврале мы были свидетелями на свадьбе Евгения Попова и Светланы Васильевой, эта радость длится и теперь нашими дружбой и соседством.
Потом я уехала в Тарусу — и медленно очнулась душа, дивясь белому свету, белому снегу. Помню, как наш, тогда молодой, пудель был потрясён, впервые увидев лошадь: любимый и воспетый белый конь. Мальчик выступил из конюшни. Пёс пал на передние лапы перед величием незнаемого явления, конь же явно усмехался, но не стал шутить и нагонять пущего страху, чудная была картина. Так и я, словно в первый раз, смотрела на Оку подо льдом, на поля, окаймлённые лесом, и пространство милостиво взирало на меня — прощая и спасая для жизни.
Многие лица в собрании фотографий — знамениты, знаменательны, ненаглядно блистательны, не однажды воспеты и сами прекрасно пишут, им не нужны мои пояснения и признания. Многие — случайно не участвуют, Александр Кушнер, например. А ведь он когда-то приобрёл фотоаппарат, и мы целый месяц прилежно снимались в Пицунде на фоне моря, пальм и гипсовых ваз и изваяний. Замечательно и таинственно из этого ничего не получилось. Пришлось нам подарить ему на день рождения плюшевый альбом и вложить в него наши моментальные фото. А море, пальмы и другие красоты Боря пририсовал.
Но вот Булат Окуджава (он строг и не позволит лишних объяснений). Андрей Битов (он драгоценен и скромно это знает). Фазиль Искандер (он и сам всё знает). Веничка Ерофеев. Сергей Параджанов. Юрий Любимов. Давид Самойлов. Отар Иоселиани. Михаил Жванецкий. Андрей Тарковский. Марлен Хуциев. Чабуа Амирэджиби. Участники «МетрОполя».
Одно перечисление имён составляет роман, он в начале, но и в разгаре, писать его легко и увлекательно. Но та ночь кончилась. Тот год кончился. Эта ночь кончается: шесть часов утра.
Упомянутые или помнимые, близкие или незнакомые, многие и разные люди составили, упрочили и сохранили содержание моей жизни. Это они украсили и оправдали своим участием разное время общего времени, незаметно ставшего эпохой. Послушаюсь Булата, сосредоточусь на мá-леньком, как его оркестрик, посвящении любви и признательности и пошлю его в их сторону, во все их стороны.
19971
Робкий путь к Набокову
В седьмом часу утра рука торжественно содеяла заглавие, возглавие страницы, и надолго остановилась, как если бы двух построенных слов было достаточно для заданного здания, для удовлетворительного итога, для важного события. Плотник, возведший стропила поверх ещё незримой опоры, опередил тяжеловесные усилия каменщика, но тот зряче бодрствовал, корпел, ворочал и складывал свои каменья, его усталость шумела пульсами в темени и висках, опасными спектрами окружая свет лампы и зажигалки.
Меж тем, день в окне заметно крепчал, преуспевал в тончайших переменах цвета. Я неприязненно глядела на неподвижную правую руку, признавая за ней некоторые достоинства: она тяжелей и ухватистей левой сподвижницы, удобна для дружеского пожатия, уклюжа в потчевании гостей, грубо не родственна виноградным дамским пальчикам, водитель её явно не белоручка, но зачем нерадивым неслухом возлежит на белой бумаге, обязанная быть её ретивым послушником? Рука, как умела, тоже взирала на меня с укоризной: она-то знает, у какого вождя-тугодума она на посылках, вот подпирает и потирает главу, уже пекущуюся о завтраке для главы семейства, о собаке, скромно указующей носом на заветную дверь прогулки. (Анастасия Цветаева: «Не только Собаку пишу с большой буквы, но всю СОБАКУ пишу большими буквами». Анастасия Ивановна малым детям и всем животным говорила: «Вы», и за всех нас поровну молилась и сейчас, наверное, молится.)
Меж прогулкой и завтраком — несколько слов о СОБАКЕ, недавно, не задорого, выкупленной мной из рук, вернее, из-за пазухи невзгоды, не оглянувшейся на них при переходе в мои руки и за пазуху. Коричневая такса, напрямик втеснившаяся в наше родство, не случайна в произвольном повествовании. Эта порода была почитаема в семье Набоковых. Сначала — неженки, лелеемые беспечным великодушием изначальных «Других берегов», вместе с людьми вперяющие пристальный взгляд в объектив фотоаппарата, словно пред-зная, что, утвердившись на кружевном колене, позируют истории навсегда, напоследок, и потом, в хладном сиротстве Берлина, — уже единственная драгоценность прекрасной матери Набокова, нищая «эмигрантская» СОБАКА, разделившая с хозяевами величественную трагическую судьбу. Не этот ли взгляд воскрес и очнулся за продажным воротом бедственной шубейки и выбрал меня для созерцания, сумею ли защитить его от непреклонного окуляра, неспроста запечатлевающего хрупкое мгновение?
Пусть и рука свободно погуляет без поводка — усмехнувшись, я расстегнула пуговицу рукава, и благодарно вздохнули рёбра, встряхнулся загривок, чьи нюх и слух выбирают кружной, окольный путь для изъявления прямого помысла.
Привиделись мне или очевидно не однажды посещали меня тайные приветы земного и надземного Монтрё, они кажутся мне большею явью, чем явь двух моих посещений этих мест — при жизни их повелителя и обитателя и восемь лет спустя.
Последний раз это было недавней весной на берегу Финского залива, отороченного мощными торосами льда, воздвигнутыми их слабеющей Королевой. Сиял, по лучезарному старому стилю, День рождения Владимира Владимировича Набокова и, по развязному новому стилю, — мой, заведомо подражательный и влюблённый, десятый день апреля. Ровно напротив ярко виднелся Андреевский собор Кронштадта, слева подразумевался блистающий купол Исаакия, в угол правого глаза вступал не столько Зеленогорск, сколько Териоки, снимок начала века, изображающий властно сосредоточенного, рассеянно нарядного господина — старшего Владимира Набокова. Но вся сила радостно раненного зрения была посвящена чудесной вести, поздравительному сокровищу: БАБОЧКЕ, безбоязненно порхающей во льдах, в обманном зное полдневного зенита. Её пресветлый образ вчерне хранится в сусеках ума — не в хлороформе, а в живительной сфере, питающей и пестующей её воскрешение. Тогда же попарное множество лебедей опустилось на освобожденные воды залива, и только один — или одна — гордо и горестно претерпевал отдельность от стаи. Стало избыточно больно видеть всё это, и я пошла назад, к Дому композиторов, законно населяющих обитель моего временного, частого и любимого постоя. По дороге, на взгорке, где уже возжелтела торопливая мать-мачеха, я нашла голубого батиста, с обводью синей каймы, платок, помеченный вензелем латинского «эн». За обедом никто не признался в пропаже, и я присвоила и храню нездешнюю находку как знак прощения и поощрения.
По мере иссякающего дня рука отбыла повинности житья-бытья и на ночь глядя вернулась к бумаге. Жаль и пора покинуть на время просторное, суверенное именье ночи. В окне и на циферблате — седьмой час утра. Препоручу-ка день спозаранок проснувшемуся лифту, сошлю себя на краткий курорт кровати.
Из дневного отчуждения косилась я на выжидательно отверстую страницу: куда-то заведёт, заманит путника её пространный объём, оснащённый воспитующим стопором скорому ходу? Так, однажды, задолго до апрельской БАБОЧКИ, шла я зимним днём по ещё невредимому льду упомянутого залива, получилось: неизвестно где и куда. Возросший непроницаемый туман сразу же сокрыл берег и дом с башней — его островерхая, воспетая кровля умещается под кровлей заглавия, дом приходится ровесником и мимолётным свидетелем счастливому детству. Того, о ком пишу. Я плутала в млечной материи прочного воздуха, может быть, уже в угодьях Млечного пути, чрезмерных и возбранных, — я чураюсь отважной вхожести в превыспренние небеса. Возвышающее удушье постыдного страха овладело мной, но я спасительно наткнулась на подвижника подлёдного лова. Здраво румяный среди сплошной белизны, он добродушно указал мне идти по его следам, ещё заметным меж его лункой и берегом.
Суровая ночная лампа притягательна для мотыльков измышлений и воспоминаний, в их крылатой толчее участвуют и подлинные соименники, виденные мной на изысканной выставке в американском университете с привходной мемориальной доской в честь диковинного энтомолога и писателя. Изумрудно-изумляющие, мрачно-оранжевые, цвета солнца и солнечного затмения, бессмертно мёртвые тела царственных насекомых оживлялись соответствующими текстами Набокова, равными одушевлённым самоцветам природы. Устройство его фразы подобно ненасытной, прихотливо длительной охоте рампетки за вожделенной добычей, но вот пал безошибочный хищный сачок, сбылась драгоценная поимка точки.
Разминувшись со следами рыболова, уже по своим следам — ловца знаемой, неопределённо возвещённой цели, продвигаюсь я к совсем другим берегам, к давнему былому времени. Радуясь достали новой ночи и свежей бумаги, я врасплох застаю себя в Брюсселе, где много лет назад оказалась вместе с группой туристов, уже подписав некоторые беззащитно-защитительные письма, по недосмотру адресатов или под испытующим присмотром. Все мои спутники были симпатичные, знакомые мне люди, и даже нестрогий наш пастырь имел трогательный изъян в зловещем амплуа: он то и дело утешал себя припасом отечественного хмеля, примиряющего с чуждой цветущей действительностью. За нашей любознательной вереницей, в осторожном отдалении, постоянно следовала изящная печальная дама, несомненно и, с расплывчатой точки зрения бдительного опекуна, нежелательно русская, но с французской фамилией мужа. Она останавливала на мне выборочно пристальный взор и, улучив момент, робко пригласила к обеду. За мной непозволительно заехал не учёный конспирации любезный бельгийский муж. По дороге он бурно грассировал, втолковывая стоеросовому собеседнику, что весьма наслышан о поэте, чьи сочинения в переводе не оправдывают юношеского прозвища «Француз», но, не правда ли, есть и другое: «Ле Крике», «Сверчок», а также он читал великий роман «Война и мир», отчасти превосходно написанный по-французски.
Дом, помещённый в несильном чуженебном закате, был увит смуглым, с бледно-розовыми соцветьями, плющом, лёгкое вино розовело в хрустальных гранях, розы цвели в палисаднике и на столе с прозрачно-розовыми свечами. Какая-то тайна содержалась в незрело ущербном, неполно алом цвете — ей предстояло грянуть и разрешиться. Радушному бельгийцу вскоре прискучила чужеродная речь, он откланялся и прошумел куда-то прытким автомобилем. Как ни странно, нам предстояло ещё раз увидеться впоследствии, и он преподнёс мне бутоньерку с прелестной орхидеей.
Не тогда, а время спустя, когда окреп запретный пунктир нежной прерывистой связи меж нами, я догадалась и узнала, что изящная печальная дама была поэтесса Алла Сергеевна Головина, некогда известная и даже знаменитая в литературных кругах, сначала упомянутая Цветаевой в письмах к Анне Тесковой просто как некая дама с пудреницей, а потом ставшая её другом и конфидентом. Тот блёкло-розовый вечер разразился-таки ослепительной вспышкой. Хозяйка дома вышла в другую комнату и вернулась с папкой потускневших бумаг, исписанных страстными красными чернилами: это были рукописи Марины Цветаевой, стихотворения и письма. Я невменяемо уставилась на зарево, возалевшее предо мной, не умея понять, что Алла Сергеевна просит меня содействовать возвращению этого единственного почерка на родину, где ему и ныне нет и не будет упокоения. Я в ужасе отреклась от непомерного предложения: «Что Вы! Это отберут на границе! Это канет бесследно! Это надобно прочно хранить и предусмотреть незыблемое безопасное хранилище». — «Что же станется со всем этим? — грустно сказала Алла Сергеевна. (Я не знаю, что сталось: обмениваясь краткими редкими приветами, мы навсегда разминулись с Аллой Головиной, когда она, наконец, сумела приехать в Москву.) — Вот, познакомьтесь с моим наследником». В столовую вошёл полнокровно пригожий мальчик, благовоспитанно скрывающий силу и нетерпёж озорства. «Ваня, — сказала ему мать, — скажи нашей гостье что-нибудь по-русски», — на что Ваня приветливо отозвался: «Бонжур, мадам». Потрясённый тем, что, на родном ему языке, я с трудом считаю до десяти, он дружелюбно принял меня в слабоумные одногодки, деликатно показал мне не более десяти своих ранних рисунков, доступных моему отсталому разумению, и удалился для решения многосложных задач.
— А Вы, — неуверенно, боясь задеть меня, спросила Алла Сергеевна, — знаете ли Вы Набокова, о Набокове? Ведь он, кажется, запрещён в России?
Этот экзамен дался мне несколько легче: я уже имела начальные основания стать пронзённой бабочкой в коллекции обожающих жертв и гордо сносить избранническую участь. За это, перед прощанием, Алла Сергеевна подарила мне дорогую для неё «Весну в Фиальте», прежде я не читала этой книги, не держала её в руках, пограничный досмотр мной не интересовался, и долго светила мне эта запретная фиалковая «Весна» в суровых сумерках московских зим.
Всегда была у меня кровная неотъемлемая вотчина родной словесности, обороняющая от окрестной причинённой чужбины попранных земли и речи. Этого самовластного невредимого мира, возглавленного лицейским вольнодумным «Французом» и всем, что вослед ему, предостаточно для надобного счастья. Были со мной Лесков, Платонов, огромно был Бунин — сначала голубым двухтомником, поразившим молодое невежество, потом девятитомным изданием с опальным последним томом — скорбным предотъездным подарком Георгия Владимова. Подарил он мне и БАБОЧКУ — застеклённое в старину изображение красавицы, исполненное выпуклыми блёстками во весь её крупный и стройный рост. Насильная географическая разлука с Владимовыми — одно из самых безутешных переживаний. «Целую Вас — через сотни разъединяющих вёрст!» (Цветаева).
И после девятого тома увеличивался, прибывал утаённый Бунин, возвращая отъятую подлинность места урождения. Каждый день проходила я по Поварской мимо дома Муромцевых, многоопытного в «Окаянных днях»; Борисоглебский, Скатертный, Мерзляковский переулки опровергали косноязычную беспризорность. Присваиваемая родина, до вмешательства Набокова, была выжидающе неполна, как розовый, рапидный, глициниевый вечер до вторгшейся «Весны в Фиальте». Годы спустя, горестно и ревниво ликуя, незваным татарином вкушала я обед автора «Других берегов» с Нобелевским лауреатом тридцать третьего года. Набегом и покражей личного соучастия я взяла себе любезное противоборство двух кувертов, двух розно-породистых лиц, ироническую неприязнь первого к «водочке» и «селёдочке», вопросительную безответную благосклонность второго, тогда — далеко первого и старшего. Вот — давно лежит передо мной не расшифрованный номерок с вешалки какой-то пирушки или велеречивого сборища, прижившийся к подножию лампы, а я, сквозь овальную пластмассу, вижу сигарный дым парижского ресторана, позолоченного швейцара, бесконечность шарфа, петлисто текущего из рукава Бунинского пальто, и меня вовлёкшую в эпическую метафорическую путаницу. Впрочем, не уверена, что в том заведении выдавали подобную арифметику в обмен на шубы и трости, на пальто и шарф, но здешняя усталая гардеробщица наверняка кручинилась о пропаже.
Не в ту ли пору чтения, впервые став лишним сотрапезником описанного обеда, придумала я мелочь поговорка из великих людей уютного гарнитура не составишь.
Новёхонькая полночь явилась и миновала — самое время оказаться в Париже шестьдесят пятого, по-моему, года. Ни за что не быть бы мне там, если бы не настойчивое поручительство Твардовского, всегда милостивого ко мне. Его спрашивали о «Новом мире», Суркова — об арестованных Синявском и Даниэле, меня — о московской погоде и о Булате Окуджаве, Вознесенского окружал яркий успех. Я подружилась с Юрием Анненковым, легко принимала раздражительный гнев Эльзы Триоле, дома угощавшей поэтов салатом, однажды в «Куполе» — полудюжиной устриц, порочно виновных в том, что «свежо и остро пахли морем». Твардовский автора строк отстранённо почитал, но источником морского запаха, бледнея, брезговал и даже видеть его гнушался.
В этом месте и времени витиеватого сюжета накрепко появляются русские Маша и Витя, родившиеся не в России, всеми силами и молитвами сердца любящие Россию, вскормившие своих детей русским языком, моих — швейцарским детским питанием. Они специально приехали на объявленные литературные чтения, но опасались вредительно ранить приезжую отечественную боязливость. Прибыли они на автомобиле из Цюриха, где Маша преподаёт в университете российскую словесность, а Витя служит в известной электронной фирме, чьи сувенирные, шикарно-новогодние календари я неизменно получаю в течение переменчивого времени, большего трёх десятилетий, — не считая других даров и гостинцев и постоянной душевной заботы, охранительной и заметной. Маша и Витя украдкой пригласили меня в укромное монмартрское кафе. Нежно-аляповатая церковь Сокровенного Святого Сердца сверкала белизной, туристы сновали, художники рисовали, прелестницы уминали мороженое и каштаны, дюжие пышно-шевелюрные шевалье сопровождали или жадным поедом зрачков и очков озирали их высокие ноги, Синявский и Даниэль обретались — сказано где, Горбаневская ещё не выходила с детьми к Лобному месту, я потягивала алое вино. Поговорив о погоде и о Булате, я внимала доверительным и странным речам. Маша и Витя жарко признались, что почитают своим долгом разделять судьбу России, а не Швейцарии, не в альпийских лугах, а в перелесках или даже в тайге. Я почла своим долгом заметить, что нахожу их благородное стремление неразумным и безумным, хотя бы в отношении их урождённо-швейцарских детей. Недрами глубокой боли они вопросили: «А как же все остальные? Как же Вы?» — на что я загадочно ответствовала, что это — совсем другое дело, не предпринятый, а предначертанный удел. Но я звала их приехать в Москву, уверяя, что в Сибирь их не пустят. Так они и поступали не однажды, особенные препоны и неприятности, подчас унизительные, сопутствовали дорогой Машиной маме Татьяне Сергеевне, ныне покойной московской уроженке.
В первый свой приезд Маша сказала мне, что в пустынном кафе с клетчатыми скатертями на них более убедительно, чем моя откровенность, подействовал некий, не виданный ими прежде, нервный тик я часто оглядывалась через плечо на отсутствующего соглядатая и слушателя.
Маша желала усыновить, больше — удочерить одинокого русского ребёнка, маленькие её сыновья теперь почтенные семейные люди, говорящие с родителями на их и моём языке, с прочим населением мира — на свойственных ему языках. Исполнение Машиной грёзы, возможно, было бы спасительно для сироты, но непозволительно.
В монмартрском кафе я спросила Машу и Витю о Набокове, удивив их силой не любознательного, а любящего чувства и тем, что я не знаю его адреса; Монтрё, отель «Монтрё-Палас», где живёт он замкнуто и плодотворно. Позднее, в год его семидесятилетия, слагалось и бродило в моей душе туманное письмо к Набокову, так и не обращённое в письмена. Нашлись бы способы их отправить, да и отважная Маша рискованно взялась бы мне содействовать, чего бы я не допустила. Но — пора не пришла.
Если бы и сейчас оглядывалась я через плечо на стороннего чужака, он вправе был бы спросить: а причём здесь всё это? не слишком ли витийствуют мои ночи? не чрезмерен ли круг гостящих в уме персонажей? Но я не приглашала его привередничать, моя ночь (новая) — моя свобода, пусть говорит память, подпирает лоб рука, изымая из него упорный диктант. Всё помещается в путанице Бунинского шарфа: Набоков и мы, Маша и её несбывшаяся дочь, может быть, и ныне хлебающая горюшко или, наоборот, обретшая маловероятное благоденствие.
Ночь кажется особенно тихой, в горние выси вознесённой. Днём на лестнице шумно трудится ремонт, заядлая дрель победительно вершит своё насущное авторство. Сегодня, уже вчера, шла я по тёплой, словно нездешней, осени к близкому физкультурному учреждению, куда я не по чину наведываюсь в промежутках меж ночными сидениями.
Влюблённый мальчик начертал мелом на пришкольном асфальте: «МАША!» Кто-то другой, более восклицательно, вывел поверх первой надписи: «ТАМАРА!!!» и увенчал имя пририсованной короной. Я воздержалась от шулерской литературщины, оставив ту «Машеньку», бывшую Тамарой, в цветных стёклах усадьбы Рукавишниковых, в полях и аллеях, в разлучающем холоде Петербурга и неизвестно где.
Все прохожие представлялись мне выпукло-яркими прообразами, уготованными для грядущих воспеваний, позирующими вымыслу обликом и судьбой. По дороге к «спортивному комплексу» встретилась мне прелестная, взросло и лукаво ясноглазая девочка-подросток, в тёплых шортах и сапожках. К моему смущению, она доверчиво попросила у меня огня для сигареты. Жалея прозрачные лёгкие, я протянула ей зажигалку, оторопело заметив, что расхожий предмет, для трезвой насмешки над мелочными совпадениями или во славу девочки, имеет название: «Лолита». На теннисных кортах и в бассейне порхало и плескалось целое скопище эльфов-Лолит — не опустела ли на миг обложка романа с мыкающимся внутри Гум Гумычем?
Наступивший после снотворного перерыва день — рассеянней и тесней ночного дозора, ничего, скоро заступать. И во дне продолжаю я извилистый окольный путь к Женевскому озеру, чиня себе препятствия, удлиняя зигзаги, словно страшась желанной призывной цели, оберегая её от огласки, но напрямик, наотмашь, в неё не попадёшь. Снова поглядываю я в швейцарскую сторону Маши, испытанного ниспосланного проводника. Её европейская сдержанность дисциплинированно облекает укрощённую бурю энергий, но христианка Маша никак не может быть тихим омутом с теми, кто в нём обычно водятся. Даже её визиты в Россию многозначительным намёком соответствовали опасному маршруту героя «Подвига», исполняли его волю.
В декабре 1976 года я и Борис Мессерер оказались в сияющем пред-Рождественском Париже по приглашению Марины Влади и Владимира Высоцкого. Если бы не влиятельное великодушие Марины, не видать бы нам чужого праздника. Мы были частные, условно свободные, лица, но советское посольство не оставляло нас небрежной мрачной заботой. Когда мы в первый раз явились в него по недоброжелательному приглашению, сразу погасло недавнее Рождество. Автоматическая входная дверь автоматически не открылась, одолев её вручную, мы столкнулись с угрюмым маститым привратником. Искоса оглядев нас прозорливыми желваками щеки, он прикрикнул на нас с вышки пограничного стула: «Кто такие, куда идёте, закройте за собой дверь!» Растлившись в парижском воздухе, я с неожиданной злобой ответила: «Моя фамилия вам ничего не скажет, но потрудитесь встать и закрыть за мной дверь». Видимо, это произвело некоторое загадочное впечатление, потому что впоследствии он нехотя закрывал дверь, то ли думая: а чёрт их знает, кто они такие, или попросту оберегая себя от докучной парижской прохлады. Проходя по брусчатому двору старинного осквернённого особняка. Борис обмолвился, что растрата оборонительного чувства на нижние чины излишня. Надо сказать, что, по мере возвышения чинов, примечательная привычка смотреть куда-то мимо глаз возрастала: советник по культуре владел ею в совершенстве. Незлопамятно подтверждаю, что ему удалось быть затмевающим соперником Эйфелевой башни и замков на Луаре. Беседа с ним не имела другого культурного значения, кроме настоятельного предостережения от встреч со знакомыми, от знакомств, от общения с русскими и французами, особенно со славистами, от всех здешних жителей, имеющих неодолимую склонность провоцировать простоватых соотечественников. С рабской тоской я молча думала: кто же будет заниматься этим вздором в подаренном ненадолго городе, если не вы и ваши приспешники?
Покинув отечественную территорию, мы зашли в кафе, где балетно-изящный официант провокационно подал нам по рюмке литературно близкого кальвадоса, который мы уже повадились свойски называть «кальва».
Всё же Париж расточительно брал и отдавал своё. Стояла нежная влажная зима, не вредящая уличной разновидности бальзаминов, цветущих в горшках отечества под прозвищем «Ванька-мокрый», по утрам из всех пригласительных дверей пахло кофе и круассанами, мы неизбежно встречались со старыми и новыми знакомыми, с русскими и французами, особенно со славистами, тщательно упасавшими нас от провокаций, понятно чьих. Редкие мои выступления посещали поддельно художественные или интеллектуальные лица, при появлении которых публика умолкала или оживлённо интересовалась влиянием Марселя Пруста на русские умы. На одном чтении Гладилин в первом ряду громко уронил магнитофон и послал мне дружескую, испуганно-извиняющуюся гримасу, на что я ободряюще сказала: «Толя, не валяй дурака». Возле места, где мы жили, между бульваром Распай и Монпарнасом, сострадая, наблюдали мы разрозненные шествия слепых, постукивающих тростью по мокрому асфальту, сначала принимаемые мною за таинственный знак, понукающий глядеть, вглядываться, разглядывать и наслаждаться этим даром, оказалось, что неподалёку помещалась школа для людей, поражённых слепотою. Мы виновато смотрели во все глаза. Но главное счастье обитало вместе с нами в маленькой Марининой квартире на рю Руссле: можно было неспешно и ограждённо жить внутри отверстого Парижа, дарительной властью Марины вызволившего нас на время, но и навсегда, из объятий Китайской или Берлинской стены. Маринины волосы особенно золотились, когда редко и прекрасно приезжал Володя. Однажды она и меня превратила в блондинку, я с отчуждением спрашивала своё новое, омытое Парижем, лицо: а помнит ли оно, откуда оно и куда, но ему напоминали. Как-то мы заблудились рядом с «Гранд-Опера», и Володя задумчиво сказал мне: «Знаешь, в одном я тебя превзошёл». Я удивилась: «Что ты! Ты — во всём меня превзошёл». — «Да нет, я ориентируюсь ещё хуже, чем ты». И теперь я не знаю: так ли это?
Маша часто звонила нам из волнующей швейцарской близи.
И вот, осмысленным приступом одной целой ночи, я, без черновика и второго экземпляра, написала письмо Набокову и поздним утром опустила его в почтовый ящик, дивясь простоте этого жеста. Теперь оно незначительно принадлежит архивам Набокова и, вскоре продиктованное по памяти, — коллекции Ренэ Герра.
Нынешней глубокой ночью, двадцать лет спустя, я могу лишь приблизительно точно восстановить отправленный из Парижа текст, точнее, конспект его, но смысл послания жив и свеж во мне, усиленный и удостоверенный истекшим временем. Эта ночь оказалась много трудней и короче той.
Дневная репродукция вкратце такова. Я писала Набокову, что несмелая весть затеяна вдалеке и давно, но всегда действовала в содержании моей жизни. Что меня не страшила, а искушала возможность перлюстрации: де, пусть некто знает, что всё подлежит их рассмотрению, но не всё — усмотрению, но в этом случае письмо разминулось бы с получателем или поставило бы его в затруднительное положение иносказательного ответа или не-ответа. Что я прихожусь ему таким читателем, как описано в «Других берегах» кружение лепестка черешни, точно-впопад съединяющегося с отражением лепестка в тёмной воде канала, настигающего свою двуединую цельность. И совсем не одна я не слабоумно живу в России, которую ему не удалось покинуть: почитателей у него больше, чем лепестков у черешни, воды у канала, но всё же он величественно вернётся на родину не вымышленным Никербокером, а Набоковым во всей красе. (Мне доводилось в воду смотреть: когда-то давно я ответила директору издательства на упрёки в моём пристрастии к Бродскому, мешающем, вместе с другими ошибками, изданию моей книги: «О чём вы хлопочете? Бродский получит Нобелевскую премию, этого мне достанет для успеха».) Я подробно описывала, как я, Борис Мессерер и его кузен Азарик Плисецкий пришли в дом Набоковых на Большой Морской в Петербурге, тоща — на улице Герцена в Ленинграде. Злобная бабка — таких сподручно брать в понятые — преградила нам путь. Я не обратила на неё внимания. За препятствием бабки, внизу, некогда жил припеваючи швейцар Устин — но и меха подаваючи, и двери открываючи, что было скушнее господских благодеяний. Это он услужливо преподнёс восторжествовавшим грабителям открыто потаённую шкатулку, чьим волшебно переливчатым содержимым тешила молодая мать Набокова хворобы маленького сына. В новой, посмертной для Устина, но не иссякающей жизни, повышенный в звании, он вполне может служить синекуре посольской охраны. Сейчас снизу несло сильным запахом плохой еды. Витраж, судя по надписи в углу, собранный рижским мастером, кротко мерцал, как и в былые дни, но причинял печаль. Я говорила, что юн там стояла мраморная безрукая Венера, а под ней — малахитовая ваза для визитных карточек. Бабка, всполошившись, побежала за начальником ничтожного учреждения. Вышел от всего уставший начальник. За эти слова, в немыслимом, невозможном будущем, похвалит меня Набоков. Потом я узнаю, что сестра его Елена Владимировна прежде нас посетила этот дом, но бабка её не пустила: «Куда идёте, нельзя!» — «Я жила в этом доме…» — «В какой комнате?» — «Во всех…» — «Идите-ка отсюда, не морочьте голову!» Уставший от всего начальник устало оглядел нас: «Чего вы хотите?» — «Позвольте оглядеть дом. Мы — безвредные люди». И он позволил. Дом был изувечен, измучен, нарушен, но не убит, и, казалось, тоже узнал нас и осенил признательной взаимностью. К тому времени сохранились столовая, отделанная дубом, где и обитал уставший начальник, имевший столовую в бывшем Устиновом жилище, на втором этаже — комната с эркером, где родился Набоков.
Письмо вспоминается ощупи более объёмистым, чем уму, думаю, в нём содержались и другие доказательства того, что лепесток настиг своё отражение и с ним неразлучен.
Разговаривая с Машей по телефону о возможной поездке в Швейцарию, я не думала о Монтрё: Набоков был повсеместен, моя подпись под письмом это заверяла, мне полегчало.
В Париже мы много читали, но для присущей нам сообщительности времени щедро хватало. Мы подружились с Наталией Ивановной Столяровой, гостившей у Иды Шагал. Рождённая в Ницце Муза блестяще несчастного Бориса Поплавского в молодости стремилась в Россию, где и провела в лагерях лучшую пору жизни. Теперь она с молодым смехом почитывала газетные программы вечерних увеселений, подчас фривольных, и мы частенько посещали их вместе со Степаном Татищевым. На одном из них, куда мы по ошибке затесались, женщин, кроме нас с Наталией Ивановной, не было, на нас поглядывали, и Степан Николаевич тайком шепнул ей, с чудной парижской усмешечкой: «Мадам, я скажу папа, куда вы меня заманили».
Степан Татищев, родившийся во Франции, много сделал для русской литературы, и для нас — по доброте и весёлости сердца. Он давно умер в День четырнадцатого июля, как если бы для совершенной свободы не выпало ему соответствующего русского числа, а стройная его жизнь была прочно зависима от России. Где-то ждёт своего часа бутон моего черновика, воспевшего розовые соцветья хрупко-мощной магнолии во дворе его дома в пригороде Фонтанэ-о-Роз. Как-то вечером Степан дал нам, на одну ночь прочтения, неотчётливую машинопись повести «Москва-Петушки», сказав, что весьма взволнован текстом, но не грамотен в некоторых деталях и пока не написал рецензию, которую срочно должен сдать в издательство. Утром я возбуждённо выпалила: «Автор — гений!» Так я и Борис впервые и навсегда встретились с Веничкой Ерофеевым и потом (сначала Борис) вступили с ним в крайнюю неразрывную дружбу.
Меж тем консульство легко дозволило нашу поездку в Швейцарию и Италию — при условии точного соблюдения всех иностранных формальностей, придирчивых к нам и педантичных, отечественная виза имела полугодовую длительность. Из всего этого я сделала свои неопределённые, очень пригодившиеся нам выводы.
В Женеву отправилась с нами и Наталия Ивановна. На перроне нас встречала Маша с друзьями. Завидев их, Наталия Ивановна встрепенулась: «Это не опасно для вас? Вы хорошо знаете этих людей?» Я радостно утвердила: «О да!» Устроились в гостинице, заказали ужин. Вдруг Борис спросил Машу: «Монтрё — далеко отсюда?» Маша ответила: «Это близко. Но ещё есть и телефон». Я испугалась до бледности, но Маша, поощряемая Борисом, сразу позвонила Елене Владимировне Набоковой (в замужестве Сикорской). Та откликнулась близким обнимающим голосом: «Брат получил Ваше письмо и ответил Вам. Он будет рад Вас видеть. Сейчас я съединю Вас с ним». Мы не знали, что в наше отсутствие консьержка Марининого дома взяла из рук почтальона автограф Набокова, хранимый нами. Бывало, прятали его от каких-нибудь устинов, но они, открытым способом, не пожаловали. Телефон сработал мгновенно и невероятно, но я успела расплакаться, как плакса. Я не посягала видеть Набокова. Трижды терпела я бедствие обожания: при встрече с Пастернаком, с Ахматовой, и вот теперь, с небывалой силой. ГОЛОС — вступил в слух, заполнил соседние с ним области, не оставив нм ничего лишнего другого: «Вам будет ли удобно и угодно посетить нас завтра в четыре часа пополудни?» Замаранная слезами, я бесслёзно ответила: «Да, благодарю Вас. Мы всенепременно будем».
Утро помню так: Женевское озеро, завтрак вблизи блистающей воды, среди ранне-мартовских и вечно цветущих растений, ободряющую ласку Елены Владимировны, её вопрос, должно быть, имеющий в виду отвлечь меня от переживания: «Как по-русски называется рыба „соль“?» — «Не знаю. У русских, наверное, нет такой рыбы. Соль есть».
Елена Владимировна простилась с нами до новой встречи. Мы помчались. Маша предупредила меня, что на дороге, около Веве, нас поджидает англичанин, местный профессор русской литературы, любитель кошек, мне, почитателю кошек, желающий их показать. Есть у него и собаки. Симпатичный профессор, действительно, радушно ждал нас на обочине. По моему лицу, ставшему бледным компасом, он определил: «В Монтрё? А в паб успеем заглянуть?» Кошек и собак мы не увидели, в паб заглянули, процессия увеличилась.
Следующую часть воспоминаний, в россказнях моих, я называла: цветочная паника в Монтрё. Некоторые улицы маленького города были закрыты для автомобилей, мы спешили, я хотела купить цветы для Веры Евсеевны Набоковой. Мы с Машей посыпались вниз по старой покатой мостовой. До четырёх часов оставалось мало времени, наши спутники волновались. Наконец, мы влетели в цветочный магазин, а их вокруг было множество.
Уклюжая, европейски воспитанная Маша при входе толкнула прислугу, нёсшую кружку пива для величавой хозяйки магазина, восседающей на плюшевом троне. Кружка упала и покатилась, угощая пол, игриво попрыгивая в раздолье собственного хмеля. Цветущая хозяйка разглядывала невидаль нашего вторжения с праздничным интересом. Мы пререкались на языке непостижимого царства: «Маша, пожалуйста, я сама куплю несколько роз». — «Нет, я куплю несколько роз, а вы преподнесёте».
Интерес хозяйки к нашей диковинке радостно расцветал. Я заметила: «Маша, по-моему, вам следует перейти на французский, нас не совсем понимают». Маша, помедлив меньше минуты, заговорила по-французски: «Мадам, я заплачу за кружку и за пиво. У вас есть розы?» Царственная хозяйка ответила: «Мадам, пивная — рядом, там достаточно пива и кружек, они не входят в ваш счёт. Это — цветочный магазин. Розы — перед вами, извольте выбрать». Маша заплатила за розы. Мы побежали вверх к отелю «Монтрё-Палас» и точно успели, хоть Маша, розы и я чуть не задохнулись.
На трудные подступы к цели и многие помехи ушли не письменные ночь, день, ночь. Движение, опережающее свои следы на бумаге, всё же продолжалось. Натруженный исток глаз опять снабжает их маленькими северными сияниями, предостерегающе добавленными к свету лампы, к огоньку зажигалки.
…Без пяти минут четыре мы с Машей, запыхавшись, присоединились к спутникам при входе в отель. Услужающий почтительно предупредил, что нас ожидают наверху, в «Зеленом холле». Поднялись Маша, Борис и я.
«Зелёный холл» был зелен. Перед тем как, с боязливым затруднением, вернуться в него сейчас, ноябрьской московской ночью, я, на пред-предыдущей странице, прилежно зачеркнула пустозначные эпитеты, отнесённые к голосу, услышанному в телефоне, и не нашла других. Этот голос пригласил Машу остаться: «Вы не хотите побыть вместе с нами? Я не смогу долго беседовать: неловко признаваться, но я всё хворал и теперь не совсем здоров». Благородная Маша отказалась, ничего не взяв себе из целиком оставленного нам события. Был почат март 1977 года. Правдивая оговорка имела, наверное, и другой, робко защитительный, смысл: званые пришельцы, хоть и умеющие писать складно-бессвязные письма, всё же явились из новородной, терзающей, неведомой стороны. Пожалуй, наши вид и повадка опровергали ее предполагаемые новые правила, могли разочаровывать или обнадёживать. Сначала я различала только сплошную зелень, оцепенев на её дне подводным тритоном.
Прелестная, хрупкая, исполненная остро грациозной и ревнивой женственности, Вера Евсеевна распорядилась приютить цветы и опустить прозрачные зелёные шторы. Стало ещё зеленее.
Голос осведомился: «Что вы желаете выпить?» Подали джин-тоник, и спасибо ему.
Меня поразило лицо Набокова, столь не похожее на все знаменитые фотографии и описания. В продолжении беседы, далеко вышедшей за пределы обещанного срока, Лицо нисколько не имело оборонительной надменности, запрета вольничать, видя, что такой угрозы никак не может быть.
Я выговорила: «Владимир Владимирович, поверьте, я не хотела видеть Вас». Он мягко и ласково усмехнулся — ведь и он не искал этой встречи, это моя судьба сильно играла мной на шахматной доске Лужина. Осмелев, я искренне и печально призналась: «Вдобавок ко всему, Вы ненаглядно хороши собой». Опять милостиво, смущённо улыбнувшись, он ответил: «Вот если бы лет двадцать назад, или даже десять…» я сказала: «Когда я писала Вам, я не имела самолюбивых художественных намерений, просто я хотела оповестить Вас о том, что Вы влиятельно обитаете в России, то ли ещё будет — вопреки всему». Набоков возразил: «Вам не удалось отсутствие художественных намерений. Особенно: этот, от всего уставший, начальник». Я бы не удивилась, если бы впоследствии Набоков или Вера Евсеевна мельком вернулись к этой встрече, исправив щедрую ошибку великодушной поблажки, отступление от устоев отдельности, недоступности, но было — так, как говорю, непоправимым грехом сочла бы я малое прегрешение пред Набоковым. Он доверчиво спросил: «А в библиотеке — можно взять мои книги?» Горек и безвыходен был наш ответ. Вера Евсеевна застенчиво продолжила: «Американцы говорили, что забрасывали Володины книги на родину — через Аляску». Набоков снова улыбнулся: «Вот и читают их там белые медведи». Он спросил: «Вы вправду находите мой русский язык хорошим?» Я: «Лучше не бывает». Он: «А я думал, что это замороженная земляника». Вера Евсеевна иронически вмешалась: «Сейчас она заплачет». Я твёрдо супротивно отозвалась: «Я не заплачу».
Набоков много и вопросительно говорил о русской эмигрантской литературе, очень хвалил Сашу Соколова. Его отзыв был уже известен мне по обложке «Школы для дураков», я снова с ним восторженно согласилась. Когда недавно Саша Соколов получал в Москве Пушкинскую премию Германии, я возрадовалась, подтвердив слова Набокова, которые я не только читала, но и слышала от него самого. Он задумчиво остановился на фразе из романа Владимира Максимова, одобрив её музыкальность: «Ещё не вечер», что она означает? Потом, в Москве, всезнающий Семён Израилевич Липкин удивился: неужели Набоков мог быть озадачен библейской фразой? В Тенишевском училище не навязчиво преподавали Закон Божий, но, вероятно, имелись в виду слова не из Священного Писания, а из романа. Перед прощанием я объяснила, что они не сознательно грубо бытуют в просторечии, например: я вижу, что гостеприимный хозяин утомлён ещё не прошедшим недугом, но не захочу уходить, как недуг, и кощунственно промолвлю эти слова, что, разумеется, невозможно.
Я пристально любовалась лицом Набокова, и впрямь, ненаглядно красивым, несдержанно и открыто добрым, очевидно посвящённым месту земли, из которого мы небывало свалились. Но и он пристально смотрел на нас: неужто вживе есть Россия, где он влиятельно обитает, и кто-то явно уцелел в ней для исполнения этого влияния?
Незадолго до ухода я спросила: «Владимир Владимирович, Вы не охладели к Америке, не разлюбили её?» Он горячо уверил нас: «О нет, нимало, напротив. Просто здесь — спокойнее, уединённей. Почему вы спросили?» — «У нас есть тщательно оформленное приглашение Калифорнийского университета UCLA (Ю СИ ЭЛ ЭЙ), но нет и, наверное, не будет советского разрешения». С неимоверной живостью современной отечественной интонации он испуганно осведомился: «Что они вам за это сделают?» — «Да навряд ли что-нибудь слишком новое и ужасное». Набоков внимательно, даже торжественно, произнёс: «Благословляю вас лететь в Америку». Мы, склонив головы, крепко усвоили это благословение.
Вот что ещё говорит память утренней ночи. Набоков сожалел, что его английские сочинения закрыты для нас, полагался на будущие переводы. Да, его самородный, невиданный-неслыханный язык не по уму и всеведущим словарям, но впору влюблённому проницательному предчувствию. Он сказал также, что в жару болезни сочинил роман по-английски: «Осталось положить его на бумагу». Откровенно печалился, что его не посетил очень ожидаемый Солженицын: «Наверное, я кажусь ему слишком словесным, беспечно аполитичным?» — мы утешительно искали другую причину. Вера Евсеевна с грустью призналась, что муж её болезненно ощущает не изъявленную впрямую неприязнь Надежды Яковлевны Мандельштам. Я опровергала это с пылким преувеличением, соразмерно которому, в дальнейшем, Н. Я. круто переменила свои чувства — конечно, по собственному усмотрению, но мы потакали. (Надежда Яковлевна зорко прислушивалась к Борису, со мной любила смеяться, шаля остроязычием: я внимала и подыгрывала, но без вялости.)
Ещё вспомнилось: Владимир Владимирович, как бы извиняясь перед нами, обмолвился, что никогда не бывал в Москве, — но имя и образ его волновали. Меня задело и растрогало, что ему, по его словам, мечталось побывать в Грузии (Борису кажется: вообще на Кавказе): там, по его подсчётам, должна водиться Бабочка, которую он нигде ни разу не встречал. (Встречала ли я? Водится ли теперь?)
Внезапно — для обомлевших нас, выдыхом пожизненной тайны лёгких, Набоков беззащитно, почти искательно (или мы так услышали) проговорил: «Может быть… мне не следовало уезжать из России? Или — следовало вернуться?» Я ужаснулась: «Что Вы говорите?! Никто никогда бы не прочитал Ваших книг, потому что — Вы бы их не написали».
Мы простились — словно вплавь выбираясь из обволакивающей и разъединяющей путаницы туманно-зелёных колеблющихся струений.
После непредвиденно долгого ожидания наши сподвижники встретили нас внизу с молчаливым уважительным состраданием.
Перед расставанием, у подножия не достигнутой Кошачьей и Собачьей вершины, очаровательный английский профессор русской литературы продлил мимолётность многоизвестного Веве: «Полагаю, теперь-то у нас достаточно времени вкратце за-бе-жать в паб? (на побывку в паб-овку)».
В Женеве мы ещё раз увидели Елену Владимировну. Она радостно сообщила, что говорила с братом по телефону и услышала удовлетворительный отзыв о нашем визите.
Далее — мы погостили у Маши и Вити возле Цюриха, принимая безмерную ласку Татьяны Сергеевны и милых её внуков, поднимались на автомобиле в Альпы, где нарядные, румяные лыжники другого человечества сновали вверх и вниз на фуникулёрах и беспечных крыльях. Среди весёлой и степенной толчеи мы, как захребетный горб, бережно несли свою не завистливую и независимую инопородность. Грустно и заботливо провожаемые Машей и Витей, мы на поезде уехали в Италию, в дарованные красоты Милана, Рима и Венеции. Монтрё — не проходило, сопутствовало и длилось, неисчислимо возвышая нас над ровней всемирного туризма. Встречали мы и сплочённые стаи соотечественников, многие нас подчёркнуто чурались, несмотря на посылаемые мной приниженные родственные взгляды. Борис во взглядах не участвовал, но как раз про меня кто-то из них потом рассказывал, что я заносчиво или злокозненно сторонилась сограждан и льнула к подозрительным заграничным персонажам. И то сказать: диковато неслась по Риму, словно взяв разгон со славной «Башни» Серебряного века, чужеродная крылатка Димитрия Вячеславовича Иванова, и мы за ней — почему-то мимо тратторий в «Русскую чайную». И устроительница нашего итальянского путешествия красавица. Июля заметно выделялась надменностью взора и оперения.
В Милане, в доме итальянки Марии, встречали мы день рождения Бориса. Картинно черноокая и чернокудрая Мария и гости в вечерних нарядах, не видевшие нас всю свою жизнь, теперь не могли на нас наглядеться и нарадоваться. Сорок четыре свечи сияли на просторном, сложно-архитектурном торте, осыпавшие его съедобные бриллианты увлекли моё слабоумное воображение. Приветы, подарки, заздравные тосты в честь нас и нашей далёкой родины так и сыпались на нас. Удивительно было думать, что в это время кто-то корпит и хлопочет, радея о разлуке людей, о причинении им вреда и желательной погибели.
В Париж мы вернулись самолётом в день моего выступления в театре Пьера Кардена. В метро мы видели маленькие афиши с моим мрачным лицом, не завлекательным для возможной публики. Кроме Марины, вспомогательно восклицавшей «Браво!», кроме прекрасной и печальной, ныне покойной, её сестры Тани — Одиль Версуа, участвовавшей в исполнении переводов, кроме многих друзей, в зале открыто и отчуждённо присутствовали сотрудники посольства. По окончании вечера, нелюдимо и условно пригубив поданное шампанское, как всегда, отводя неуловимые глаза, они угрюмо поздравили меня с выступлением и тут же попеняли мне за чтение в Сорбонне, в Институте восточных языков. Я попыталась робко оправдаться: «Но там изучают русскую словесность». — «Они и Солженицына изучают», — был зловещий ответ. Я невнятно вякнула, что началу всякого мнения должно предшествовать изучение. Меня снова, уже с упором и грозной укоризной, предостерегли от «врагов», употребив именно это слово. Притихшее множество «врагов», заметно украшенное Шемякиным, стояло с бокалами в отдалении. По неясному упоминанию о театрах и балете я могла ясно понять, что они знают о наших встречах с Барышниковым, прилетавшим из Нью-Йорка по своим делам и успевшим изящно и великодушно нас приветить. Но, во-главных, они объявили мне, что в понедельник в девять часов утра я должна увидеться с посольским советником по культуре, и сразу ушли. Все повеселели и гурьбой направились домой к Тане — в изумительный, одухотворённый историей и Таней, особняк, бывший когда-то посольской резиденцией России.
В автомобиле я расплакалась на «вражеском» плече погрустневшего Степана Татищева.
Была пятница. Взамен субботы и воскресенья наступило длительное тягостное ничто, Париж утратил цвет, погас, как свеча, задутая мощным тёмным дыханием.
В понедельник, удручённо переждав малое время в знакомом привале кафе, без пяти минут девять, мы опять свиделись с властолюбивым привратником. На этот раз дверь он открыл и закрыл, но, для разнообразия, поначалу не желал пропустить Бориса. Имеющие скромный опыт борьбы с бабкой в доме Набоковых на Большой Морской и самим властолюбцем, мы вошли. Столь близкие и одинокие в покинувшем нас Париже, мы стояли на брусчатой мостовой двора. В десять минут десятого врата отворились, и в чёрном «мерседесе», в чёрном костюме, в непроницаемых чёрных очках, вальяжным парадом въехал советник, более сказочный и значительный, чем в «Щелкунчике». Я, в неожиданное соблюдение отечественных правил, не преминула посетовать на гордого привратника, выскочившего кланяться и кивать в нашу сторону. Хозяин кабинета, по обыкновению, выбрал целью зрения не собеседника, а нечто другое — вверху и сбоку. Для приветственного вступления он, без лишнего опрометчивого одобрения, сдержанно похвалил меня за — пока — известное ему отсутствие грубых провокаций. С подлинным оживлением поинтересовался: правда ли, что мы видели Шагала? Кажется, посольство имело к Шагалу неподдельный, подобострастный и, наверное, наивно хитроумный своекорыстный интерес. Мы действительно, по наущению и протекции Иды, продвигаясь вдоль Луары к югу Франции, видели Шагала в его доме, мастерской и музее близ Ниццы. Это посещение столь важно и великозначно, для Бориса во-первых, что я не стану его мимоходом касаться, как не коснулась пышных ранимых мимоз возле и вокруг дома Шагала, позолотивших пыльцой наши ноздри и лица. Но одним лишь целомудренным умолчанием не решусь обойтись.
В ту пору Марк Захарович работал над крупными, заказанными ему, витражами. Пока мы ожидали его, Валентина Григорьевна наставительно предупредила нас, что мы не должны говорить с её мужем ни о чём печальном, тяжелом, Боже упаси о смерти его знакомых. К тому времени умерли столь многие, в тихой бедности умер Артур Владимирович Фонвизин, но, и утаив всё это, мало имели мы весёленьких сведений. Шагал появился — лёгкий, свежий и светлый, как мимозовая весна за всеми окнами, огорчать его даже малой непогодой было бы грубо и неуместно. Он несколько раз возвращался к работе и вновь приходил. Видя нашу робость, он пошутил: «В сущности, я всё тот же — бедный еврей из Витебска, а вот Валентина Григорьевна — не мне чета, она происходит из великой фамилии киевских сахарозаводчиков Бродских». Время от времени из художественных кулис выглядывала строгая красивая дама и весело озирала докуку нашей помехи. Марк Захарович попросил меня прочитать что-нибудь. Среди нескольких стихотворений я прочла посвящение Осипу Мандельштаму — осторожно покосившись на Валентину Григорьевну. Шагал сказал, что помнит Мандельштама по восемнадцатому году в Киеве, и, подражательно, закинул вдохновенную голову. Он сказал: «Вы хорошо пишете. Вот описали бы мою жизнь: вы бы сидели, я бы рассказывал». Прельстительную картину этого несостоявшегося сидения, вблизи дивных, известных нам, картин на стенах, описываю долгим любящим вздохом. (Впоследствии я удивилась, узнав от художника Анатолия Юрьевича Никича, что пришлась-таки вниманию мастера примеченной им деталью. Он указал на стул: «Вот здесь сидела Ахмадулина и читала стихотворение о Мандельштаме».)
Марк Захарович повёл нас к своим витражам, они сильно светились в оконных просветах тёмного помещения. С лестницы, как с таинственных высот, привычных для его персонажей, он ребячливо поглядывал на нас и, специальной (фаской, прописывал и дописывал на стекле сложную логику узоров…
Я подтвердила: «Мы были у Шагала» — и добавила: «Видели мы также, в Швейцарии, Набокова». Советник напряжённо подумал и сказал после паузы: «Не знаю».
Затем, уже определённо глядя в сторону запретного континента, он строго осведомился: что за слухи ходят о нашем намерении отправиться в Америку? Он мог иметь в виду «Голос Америки», с ведома нашего и Марины оповестившего о почётном Университетском и Академическом приглашении, нами принятом. Опять с искренней живостью он захотел знать: если бы это вдруг стало возможным, как мы собираемся там жить? на какие деньги и какое время? Это было очень интересно только в смысле нашей наглости, про остальное было понятно, что бабушка надвое сказала и не то ещё скажет. Я объяснила, что у нас есть контракт, условия которого вполне обеспечивают трёхмесячное пребывание в США. Терять мне было нечего, и я не скрыла, что до Америки мы намерены побывать в Англии, на фестивале в Кембридже, где мы единственные представители России, и было бы невежливо отказаться. Тут советник сурово спохватился: «Ну, насчёт Англии мы ещё посмотрим, а на Америку обождите замахиваться, надо обсудить с Москвой». — «А когда вы обсудите?» — «Не знаю, это быстро не делается. Позвоните мне через неделю-другую». — «Всё-таки когда?» — «Я сказал». На этой твёрдой точке мы распрощались и больше не встретились. Мы позвонили через неделю, потом через другую. Высокопоставленный абонент нелюбезно и раздражённо отвечал, что Москва и он ещё не решили. По истечении двух недель, впервые вкушая поступок отчаянного и опасного веселья, я сказала брошенной в посольстве трубке: «Адьё, месье». (Так Твардовский, напевая «Баргузина», останавливался, высоко воздымая многозначительный указующий перст, «волю почуя!»)
В тот же день мы вылетели в Лондон вместе с Наталией Ивановной Столяровой. Мы подбивали её пуститься во все тяжкие — в Америку, обещая дружбу и поддержку, но, не вняв урождённо грассирующему гневу и воспитанному английскому произношению бывшей зэка Наталии Ивановны, непреклонные британско-американские чиновники виз ей вежливо не дали. Наши документы и билеты пунктуально лежали в Американском посольстве Великобритании.
В Кембридже я читала стихи, сопровождаемые красивыми, точь-в-точь непохожими на суть переводами. Но суть была в том, что я воочию видела, как лепесток черешни точно попадает в своё отражение.
Мы могли проведать комнату, где студентом жил Владимир Набоков, и своеобычные угодья его профессора, но, иносказательно выражаясь, остереглись развязно уподобиться давнему застенчивому гостю и, уже в третий раз, ступить неосторожной ногой в помещённый на полу чайный сервиз.
В Лондоне, в пабе, куда, говорят, захаживал Диккенс, как бы с ним и со всемирно сущими друзьями мы отметили моё сорокалетие.
Простор близлежащей белой бумаги можно было бы посвятить чудесам Америки и чуду всемогущей Москвы, вдруг ослабевшей и, после скрытого от нас умственного труда, разрешившей продление наших советских виз. Сотрудники консульства в Сан-Франциско, в охранительном присутствии двух элегантных дам-профессоров славистики, вернули нам взятые для изучения дерзко растолстевшие паспорта, наш напряжённый интерес к ним их забавлял: за последствия самовольного странствия отвечала Москва. Дамам, с проницательным ироничным радушием, предложили армянского коньяка, меня попросили поделиться впечатлениями, откровенно благоприятными.
В отличие от любимого мной «Эмпайр стэйт билдинга», нью-йоркский консул, или заместитель его, недоброжелательно не скрывал, что наше посещение уже излишне, но наша поутихшая удаль уже репетировала возвращение. На стене висел рекламный плакат: притворно гостеприимный и великолепный Калининский проспект, сосед нашей Поварской. Не глядевшее на меня лицо всё же спросило: «Чему это вы улыбаетесь?» — «Да вот думаю: пора мне занять моё место в очереди в Новоарбатском гастрономе». Так оно вскоре и вышло.
В Париже бледный молодой человек, должный поставить последнюю отметку в наших паспортах, взирал на меня с явным ужасом и затаённым справедливым укором. С искренним сочувствием я сказала ему: «Мы вас специально не предупредили, опасаясь неприятностей для вас. Мне очень жаль, если мы вам чем-нибудь повредили. Но вы же не виноваты, вы ничего не знали. От начальства мы не таились, оно знало». Молодой человек подвижнически прошептал: «Оно — откажется. Вы лучше о себе подумайте».
Всё это и многое другое давно миновало.
Светало, темнело, скоро опять рассветёт. Мы с Собакой выходили в яркое совершенное полнолуние. Луна, недавно бывшая вспомогательным месяцем, как ей и подобает, преуспела много больше, чем я.
В конце прошлого года Борис и я оказались в Женеве — участниками равно глубокомысленного и бессмысленного конгресса. Азарик Плисецкий, с которым навещали мы дом Набокова, работает в Швейцарии у Мориса Бежара. Мы увидели замечательную, тревожащую балетную постановку «Короля Лира». Пугающе одинокий, поверженный, безутешный старый Король и был сам Бежар. (То-то бы осерчал Толстой.)
Вместе с Азариком, в его машине, медленно пронеслись мы мимо Лозанны, мимо Веве, где добрый английский профессор уже не мог ожидать нас на дороге и заманивать в паб.
Мы поднялись на кладбище Монтрё и долго недвижно стояли возле мраморных могильных плит Владимира Владимировича и Веры Евсеевны Набоковых.
Внизу ярко, по-зимнему серьёзно, мерцало Женевское озеро, цветные автомобили мчались во Францию, в Италию, в Германию — кто куда хочет. Справа, в невидимой прибрежной глубине, помещался замок «Шильонского узника». Пространная лучезарная округа, ограниченная уже заснеженными горами, отрицала свою тайную связь с Петербургом, станцией «Сиверская», с Вырой, Рождественом, солнце уходило в обратную им сторону.
Наверное, нет лучшего места для упокоения, чем это утешное, торжественное, неоспоримое кладбище. Но нам, остро сведённым тесным сиротским братством, невольно и несправедливо подумалось: «Почему? За что?»
На обратном пути мы помедлили возле отеля «Монтрё-Палас». Праздничная чуждая сутолока не иссякла: швейцары и грумы распахивали дверцы лимузинов, отводили их на место, уносили багаж, на мгновение открывали зонты над нарядными посетителями, дамы, ступая на ковёр, придерживали шляпы и шлейфы. Нам отель показался необитаемо пустынным, громоздко ненужным.
Тогда, в 1977 году, наше путешествие вызвало нескончаемые расспросы, толки и пересуды. Все наши впечатления превысила и на долгое время остановила весть о смерти Владимира Владимировича Набокова, настигшая и постигшая нас вскоре после возвращения. Пределы этой разрушительной вести и сейчас трудно преступить.
Дом на Большой Морской давно опекаем, жива спасённая Выра, книги Набокова можно взять на прилавке и в библиотеке, но, напоследок согбенно склоняясь над многодневными и многонощными страницами, я помышляю о чём-то большем и высшем, имеющем быть и длиться. Так или иначе, всё это соотнесено с названием вольного изложения значительной части моей жизни.
1996О Марине Цветаевой
Выступление в Литературном музее
Перед тем как будет то, что будет, чему должно быть, я должна сказать несколько слов, естественно, вежливой и пылкой благодарности некоторым людям.
Во-первых, я благодарю сотрудников и стены Литературного музея, что они позволили нам собраться здесь вместе по столь высокому поводу.
Я почтительно и нежно благодарю прекрасную Анастасию Ивановну Цветаеву, которая превозмогла некоторую усталость, некоторую временную, как мы уверены, хрупкость самочувствия и вот — здесь, передо мной, и возвышает наш вечер уже до каких-то надзвёздных вершин.
Несравненный Павел Григорьевич, Павлик для Марины Ивановны и для всех нас, спасибо вам всегда и сегодня.
Я особенно благодарю Владимира Брониславовича Сосинского (не вижу его в зале, надеюсь, что он здесь), благодарю за всё — за долгий опыт жизни, за то, что не только мне помог он в сегодняшний вечер, любезно предоставив многие материалы и документы, принадлежащие ему и его семье, а также благодарю его за то, что он и близкие ему люди помогали Марине Ивановне Цветаевой тогда, когда она в этом особенно нуждалась.
С особенным чувством хочу упомянуть Льва Абрамовича Мнухина, нашего молодого современника, замечательного подвижника благородного книжного и человеческого дела, который собрал драгоценную коллекцию рукописей, книг, вещей Марины Ивановны Цветаевой, собрал, разумеется, не для себя, а для всех нас, для тех, кто будет после нас. Я ему также обязана многими сведениями, многими документами, многими бумагами, которые он мне доверительно открыл.
И в завершение моего краткого вступления я от всей души благодарю вас всех, кто пожаловал сегодня сюда не из-за меня, а из-за того, что причина нам сегодня собраться столь долгожданна и столь возвышает и терзает наше сердце.
Я сказала: перед тем, что будет. А что, собственно, будет? Я и сама не вполне знаю. Некогда Марина Цветаева написала Анне Ахматовой: «Буду читать о Вас — первый раз в жизни, питаю отвращение к докладам, но не могу уступить этой чести никому. Впрочем, всё, что я имею сказать, — осанна!»[1] Доклад, который имеется в виду, не состоялся. Я имею в виду тоже сказать: осанна! — и думаю, что доклад, который я имею в виду, — не состоится.
Доклад… не только по старинной своей сути бюрократической, но и по устройству слова, по устройству названия, должен был быть чужд Марине Ивановне Цветаевой. Мы все знаем её хваткость к корню, её цепкость к середине, к сути слова. Это у других людей приставка — просто так, приставленное нечто. У Марины Ивановны Цветаевой приставка — всегда ставка на то, в чём триумф слова. То есть, как, например:
Рас-стояние… Нас рас-ставили, рас-садили, Чтобы тихо себя вели По двум разным концам земли.[2]Или «до»: до-мой (в огнь-синь), до-жизни, до-детства. И «до» как высочайшая и первая нота среди столь ведомой Марине Ивановне гаммы.
В этом смысле до-клад — это что? Преддверье клада. И вот как изложена тема моего сегодняшнего, не знаю, как, — сообщения, вот к чему она сводится: к кладу именно, не к тому, что до, а к кладу. Я приглашаю вас к созерцанию клада, к пересыпанию из ладони в ладонь его драгоценных россыпей. Потому что речь идет о чём? О нашем несметном национальном богатстве, о нашем достоянии, которого хватит нам и всем, кто будет после нас. Мы будем одарять друг друга сегодня тем, что было и есть несравненный дар Цветаевой. Потому что дар в понимании Цветаевой и в понимании всех, кто понимает, — это как дар оттуда, свыше, предположим ей или мне, — и дар сюда. Дар и дар, то есть одарение других[3]. Вот об этом как бы и пойдёт речь.
Сказано в программе вечера, в билете: поэт о поэте. Я скажу иначе: поэт о ПОЭТЕ. Это очень важное соотношение для меня звуковое. Видите ли, соотношение моего имени, кровного имени, с именем Цветаевой и с именем Ахматовой если и было для меня честью, то причиняло мне много страданий. Я утверждаю моё право на трезвость к себе в присутствии имени, в присутствии имён Анны Ахматовой и Марины Цветаевой.
Почему я вообще соединила эти имена? Не я — новая наша жизнь, быт, обмолвки… Многие люди, особенно начальственные лица, обращаются ко мне: Белла Ахматовна. То есть оговорка. На самом деле так проще, так как-то ближе. Я как бы отмежёвываюсь. Я делаю это не в свою пользу, а в пользу этих высочайших имён.
Право на трезвость… У меня где-то написано:
Но, видно, впрямь велик и невредим рассудок мой в безумье этих бдений, коль возбужденье, жаркое, как гений, он всё ж не счёл достоинством своим.Рас-судок… Опять-таки слово, не применительное к Марине Ивановне, к её грамматике. Сказано ею про кого-то: «Её, как меня, нельзя судить, — ничего не останется»[4]. А мы и не станем судить, не станем рассуждать — станем любоваться. В одном письме она пишет некоторому человеку, своему знакомому, который, видимо, её не понимает. И она не приглашает его понимать, она сразу говорит ему: Рассуждать обо мне невозможно. Вам только надо поверить мне на слово, что я — чудо, принять или отвергнуть[5]. И надо иметь много доблести, чтобы сказать о себе так.
Хорошо. Сошлёмся на слово «мозг», потому что это слово приемлемо Цветаевой. Она не однажды упоминает это слово и это состояние, это качество своего организма. Вот пишет: мозг, о чьём спасении никто никогда не хлопочет, видимо, в отличие от души, — не дог ли ведает им?[6] Дог будем читать как чёрт, как ту милую нечистую силу, которую Марина Ивановна соотносила с собакой.
Так вот, я всё это склоняю к некоторой чрезмерной осмысленности того, что я иногда говорю и пишу о Цветаевой. Мешающая мне промозглость, смысл, взымающий мзду с вольного пения души, — вот что пагубно отличало меня от чудно поющего горла Цветаевой.
Все мы помним роковое лето таинственного указания «поэзия должна быть глуповата» и никогда не узнаем, что это значит. Но за это — право «ногу ножкой называть», данное лишь одному человеку.
Так, страдая от желанной, но недостижимой для меня роли, любезно предлагаемой мне добрыми мечтающими почитателями, я скорбно и нескладно сумничала про себя и про Цветаеву:
Молчали той, зато хвалима эта. И то сказать — иные времена: не вняли крику, но целуют эхо, к ней опоздав, благословив меня. Зато, её любившие, брезгливы ко мне чернила, и тетрадь гола. Рак на безрыбье или на безглыбье пригорок — вот вам рыба и гора. Людской хвале внимая, разум слепнет. Пред той потупясь, коротаю дни и слышу вдруг не осуждай за лепет живых людей — ты хуже, чем они. Коль нужно им, возглыбься над низиной из бедных бед, а рыбья немота не есть ли крик, неслышимый, но зримый, оранжево запёкшийся у рта.Всё это я привожу лишь для надобности моего сюжета, а цену себе вообще я знаю. Начало моего сюжета относится к вычислению соотношения: она и я. Всё это склоняется лишь к уточнению скромности моей роли в том, что сегодня происходит.
Не её превосходство в этом соотношении терзает и мучит меня. Потому что, по Цветаевой, любить человека или лучшего из людей, как она полагает, любить поэта — это как? Это — распростёртость ниц, это — простёртость рук снизу вверх, это — жертвовать собой и обожать другого. И так следует поступать. Я поступала так и, обращаясь к, может быть, лучшему, может быть, к равному, может быть, не к лучшему, может быть, не к равному, говорила… там… что-то в его пользу. Мне сказали: зачем? Я сказала: имею право и возможность расточать. Я не оскудею.
Так вот, мучась несовершенством, несовершенством моего дара, о чём говорить в предисловии мне необходимо, прозирая ночную тьму, прожигая взором потолок, сквозь потолок, сквозь всё, что над потолком, в самую-самую вершину небес, туда, куда устремляет каждую ночь всякий человек взор — всякий человек, который, разумеется, имеет совесть, — вот глядя туда, я говорила: Прости, не знаю, кто там — ангелы или природа, спасение или напасть, кто Ты ни есть — Твоя свобода, Твоя торжественная власть… Так вот то, что есть возбудитель нашей совести, к этому обращаясь, я говорила: Прости мне! Прости суету, праздность, жестокосердие, скудость души моей — но дай мне ВСЁ!
И какой же ответ? А предупреждаю тех, кто не верит, что ответ, ответ доносится. Ответ такой. Сначала как бы вопрос, а за что? за что человеку даётся то ВСЁ, что было у Цветаевой?
Спросим у Цветаевой. Она скажет, при этом скажет задолго до её крайней крайности, задолго до смертного часа: Ни с кем. Одна. Всю жизнь. Без книг. Без читателей. Без друзей. Без круга. Без среды. Без всякой защиты. Без всякой причастности. Без всякой жалости. Хуже, чем собака. А зато… А зато — ВСЁ![7] Прибавим ко всему, что перечислено, то, что мы знаем о конце её дней, и мы поймём, какою ценою человеку дается ВСЁ.
Рассудим так. Поэт, как ни один другой человек на свете, может быть, любит жизнь, имеет особенные причины. Ну, во-первых, один из поэтов сказал: сестра моя — жизнь. На что Цветаева не замедлила восхищённо отозваться: Каков! По-человечески так не говорят![8] Так каковы же эти поэты, которые жизнь могут назвать своею сестрой? И что же делает она специально для них?
Жизнь благосклонна к поэтам совсем в другом смысле, чем к людям-непоэтам, словно она знает краткость отпущенных им, возможную краткость отпущенных им дней, возможное сиротство их детей, все терзания, которые могут выпасть им на долю. И за это она так сверкает, сияет, пахнет, одаряет, принимает перед ними позу такой красоты, которую никто другой не может увидеть. И вот эту-то жизнь, столь драгоценную, столь поэту заметную и столь им любимую, по какому-то тайному уговору с чем-то, что выше нас, по какому-то честному слову полагается, то есть полагается быть готовым в какой-то момент отдать её как бы за других. Очень может быть, что не взыщут, что она останется с нами до глубокой старости, и блаженство нам тоща. Но может быть, что взыщут. Во всяком случае поэт, который просит для себя всего, должен быть к этому готов, Цветаева всегда была к этому готова. За это так много дано. Вот это, то, что мы говорим условно, то есть называем высшей милостью, или Божьей милостью, — страшно подумать, какая это немилость всех других обстоятельств. Тот, кто готов подставить свой лоб под осенённость этой милостью, должен быть готов к немилости всего остального.
Так вот, это всё относится к моим мучениям соотносить себя и её. Но осознать свою усечённость в сравнении с чьей-то завершённостью, совершенной замкнутостью круга — это уже попытка совести, способ совести, которого на худой конец достаточно.
Опять: она и я:
Растает снег. Я в зоопарк схожу. С почтением и холодком по коже увижу льва и: — Это лев! — скажу. Словечко и предметище не схожи. А той со львами только веселей! Ей незачем заискивать при встрече всем, о которых вымолвит: Се лев. Какая львиность норова и речи! Я целовала крутолобье волн, просила море: Притворись водою! Страшусь тебя, словно изгнали вон в зыбь вечности с невнятною звездою. Та любит твердь за тернии пути, пыланью брызг предпочитает пыльность и скажет: Прочь! Мне надобно пройти. И вот проходит — море расступилось.Кое-что объясняю в этом стихотворении. Лев — почему? Ну, во-первых, нежная домашняя игра Цветаевых-Эфрон, подробности, которые не обязательно знать. Во всяком случае знаю у Ариадны Сергеевны Эфрон записано ещё в детском дневнике: «Се лев, а не собака», — и все в это играют, и все поэтому почему-то ликуют. А что значит «Се лев, а не собака»? Мы знаем, и Анастасия Ивановна знает, что же для Цветаевых — собака. Собака — божество. Всю жизнь так было. Анастасия Ивановна сказала мне третьего дня: «Собаку пишу не с большой буквы, а вообще большими буквами». Каково! А почему? К этому ещё вернёмся. Но вот воспоминания молодой знакомой Марины Ивановны парижского времени. Уже хорошего мало, и голод, и всё. Эта знакомая завела большую собаку. Приходит Марина Ивановна, становится на колени, падает ниц перед своим божеством и, заглядывая в большую, а вдруг опасную, но, разумеется, не опасную пасть, говорит; «Божество моё, сокровище моё», — а в руках держит пакет обрезков. Знакомая пишет: всегда большой. Что значит — во время бедности, а пакет для собаки большой. Так вот: собака — божество, перед которым надо падать ниц, но лев — ровня, которого можно потрепать по загривку. И этот лев, который так таинственно приснился однажды Марине Ивановне (я не нашла сегодня, когда искала, описания точного этого сна, но помню, что снился лев), и она так это попросила: подвинься, дескать, и он подвинулся — она прошла[9]. Лев как символ чего-то чудного. Вот, например, тарелка, упоминаемая и Ариадной Сергеевной Эфрон, и самой Мариной Ивановной Цветаевой, — тарелка с изображением льва. (Мне, кстати, подарили такую. И там — лев.) Она видит в этом милое и любезное ей сходство с Максимилианом Волошиным. То есть что она в этом читает? Гриву, доброту, обширность лица, безмерность характера. И что ещё? Все помним: часто, не однажды, Марина Ивановна говорил кого люблю на белом свете… Вот кого не люблю, все знают — только вредителей духа, только обывателей. Остальных — любит. Но кого превыше всего? Высочайших аристократов и простых-простых людей, и наверное простых людей более всего. И вот лев. Не есть ли он символ как бы? Царственность, но какая? Не царствовать и бездельничать, а царственность, добывшая красоту непрестанным рабочим трудом мышц.
Да, кстати о снах Марины Ивановны, описанных ею не однажды. Они все замечательны, наводят на многие размышления. И опять поражаешься её не-отдыху никогда. У неё есть такая оговорка: Рабочий после завода идёт в кабак и — прав. Я — вечный завод без кабака[10]. Вечный труд, без забытья, без отдыха, даже без сна, потому что терпеть такие сновидения — это значит творить, никогда не отступиться от единственного дела на белом свете.
Хорошо, со львом разобрались. А море? (Это всё к тому стихотворению.) А море? Что же море? У Марины Ивановны Цветаевой с морем всегда какие-то пререкания, всегда какие-то к морю с её стороны придирки. Попробуем разобраться, что это значит. Обожает строчку «Прощай, свободная стихия!». Или любит у Пастернака: «Приедается всё. Лишь тебе не дано примелькаться». Это любит, но это значит, что она любит образ. Кстати, по её собственному утверждению, она не знает разницы в драгоценности между вещью и образом, между предметом и словом, и сама говорит: Я никаких умерших поэтов не знала, для меня умерший поэт — всегда живая, нуждающаяся в защите личность[11]. Предмет и слово в её исполнении почти всегда совпадают. Так вот. Это море она любит как слово, как образ, но пререкается со стихией. Не однажды об этом читаю: то купается в море, плавает в море, но пишет как бы вокруг да около: Не могу пробиться к сути. Это она-то, которая даже про любовь сказала: Никогда не хотела на грудь, всегда хотела в грудь, всегда хотела внутрь[12]. Ну, не всякий ещё (мы потом об этом поговорим), не всякий ещё на это согласится, и море, тем более, не соглашалось. Нет, оно если берёт, то навсегда. Марина Ивановна боялась этого. И уже в печальное время последних её двух лет где-то записала, уже думая о том, о чём не хочется говорить сегодня: И заведомая враждебность воды, заведомое неприятие воды как последнего, последнего прибежища[13]. Так вот, мы все знаем, что Марина Ивановна любила ходить. Входило это в завод её организма. Ходила. Уж и есть-то, казалось бы, нечего, а она всё пишет в Берлин куда-нибудь: Туфли, туфли, туфли! Но какие, не на каблучке же, а такие, в которых ходить, пешеходничать. Любила пространство. Преодолевала его и разумом, и впрямую — ходьбой. Сердилась на море, что занимает то место, которое нужно ей для ходьбы. Пастернаку написала, что опять оно вот тут, не даёт где ходить. И вдруг пишет: Оно ко мне подлизывается[14], — с торжеством! Каково! Какой апломб! Но имеет право. Что же это есть? Не есть ли это ревность и соперничество двух стихий? Сошлёмся на воспоминание Бунина о том, что сказал Чехов о Толстом. Зачарованный, вернулся из Гаспры, кажется, и говорит: Да нас-то он всех любит, мы-то ему что, а вот Шекспир уже его раздражает[15]. То есть нашёл себе, кто по росту, и пререкается. Не есть ли и это, не есть ли и это величие двух, двух равновеликих действующих в пространстве, в мироздании сил?
Всё так, про море как бы договорились. Море при этом. А вот при чём же, при чём же здесь я? Начнём с несходства во многом, даже не говорю сейчас, не сравниваю равноценность, там, дарований — это исключаем. Просто даже способ быть, писать. Марина Ивановна, во всём исходя из Пушкина, вела нас к иному слову, то есть куда-то туда, как полагалось по времени. Я же теперь полагаю, что приходится вести немножко туда, к былой речи, то есть проделать как бы весь этот путь сначала в одну сторону; потом в другую и искать утешение в нравственности и в гармонии нашего всегда сохранного и старого, в том числе, русского языка. Обратно к истокам.
Совершенная противоположность пред-предрождения. Никакого сходства ни в родителях, ни в обстоятельствах. Совершенно две разные России, совершенно разные деторождения. Больше этого. В том году, в котором я родилась, дочь и муж Марины Ивановны Цветаевой прибывают в Россию из Франции. И я, неизвестно откуда, тоже прибываю впервые. Два года спустя, в 1939 году, прибывает и Марина Ивановна. Я, как вспоминают у меня в семье, вижу вот такой вот цветочек и впервые говорю внятно: «Я такого не видала никогда». Что же это значит? Я вижу ослепительное пространство, полное цветами, желтизною, красотою и зеленью. В этом пространстве всё смерклось для Марины Ивановны. В августе 1941 года Марина Ивановна в Елабуге, я — в Москве, в кори. Помню мальчика, от которого заразилась корью, и даже как бы этот жест мне запомнился как величественный: никто с ним не играл, нельзя было брать заразного мальчика за руку, взяла — и взяла из его ладони его болезнь, захворала. Потом, в эвакуации, всё думаю теперь, в тот день, когда не стало Марины Ивановны, что изменилось в малом ребёнке, обречённом потом всю жизнь её помнить? Про это не говорим. Вспоминаю фантастическое невежество моей юности, мой мозг, заросший такими сорняками, о которых даже не хочется сейчас вспоминать. Почему именно это тёмное сознание, эта духота спёртого, неразвитого юношеского ума, почему именно это стало прибежищем на многие годы для Марины Ивановны, для её слова или для её тени? Почему именно в этот бурьян души вселилась? Может быть, издалека присматривалась и выбирала себе место, где быть. Помните, в детстве когда-то, всегда хотела где-то жить, например, в фонаре? Говорила, что хочу жить в фонаре. Ещё вспоминаю такую грустную, грустную и прелестную историю, связанную с семьёй Цветаевых, то есть не вполне с семьёй, но с Иловайскими, короче говоря. Вы помните, может быть, были девочка и мальчик, Надя и Серёжа, и больны чахоткой, и умер сначала прелестный мальчик, полном умерла чудная девочка и была спящей царевной в гробу. Умерла 20-ти лет, Надя Иловайская. Анастасия Ивановна и Марина Ивановна тогда были в Швейцарии, сколько я помню, в пансионе. Марина Ивановна пишет, что когда она получила от отца сообщение о смерти Нади Иловайской, это так поразило её, и она долгое время с ней играла в какую-то безвыходную гибельную игру: то поднималась в дортуар, где вдруг ожидала её увидеть, то, наоборот, от неё куда-то уходила… И сама же пишет: «Зачем! зачем так преследовала она меня? неужели дальновидно рассчитывала быть мною воспетой?»[16] И вот это помещение Марины Ивановны тут во всех людях — просто каждому надо по-своему об этом сказать — но вот, я говорю о себе — помещение Цветаевой вдруг во мне, вместо всего: вместо дома в Трёхпрудном переулке, вместо даже могилы с мраморным надгробием, как полагается у приличных людей, стало быть во мне и в вас — вот единственное известное прибежище. Эта осознанность её присутствия всегда была во мне и всегда меня страшно терзала, но, впрочем, и обязывала, даже как бы заставляла собой отчасти дорожить, пока не буду уверена, что где-то ещё, где-то ещё воочью существует. Помните, Марина Ивановна в тех случаях, когда люди помогали ей (а к нашему счастью, люди помогали ей, в человечестве такие люди были, и они иногда предоставляли ей комнату, чтобы жить, и вообще место, где бы жить), она, наверное, как написано и как мы все можем предположить, не была лёгкий жилец и как бы теснила хозяев из их законного жилища. И вот опять-таки, в продолжение того, что сказала, хочу прочесть, как томила, как перенасыщала меня и как тяжело было…
Морская — так иди в свои моря! Оставь меня, скитайся вольной птицей! Умри во мне, как в мире умерла, темно и тесно быть в твоей темнице. Мне негде быть, хоть всё это моё. Я узнаю твою неблагосклонность к тому, что спёрто, замкнуто, мало. Ты — рвущийся из тесной кожи лотос. Ступай в моря! Но коль уйдёшь с земли, я без тебя не уцелею. Разве как чешуя, в которой нет змеи, лишь стройный воздух, длящийся в пространстве.Но чтобы уточнить всё это и лишить это некоторого поэтического преувеличения, хочу сказать, что я так же точно, как вы, как всякий из нас, я — лишь длительность жизни, неизбывность нашего отечества, продолжение его истории. Просто один из тех, к кому прямее, чем к своим современникам, обращалась Марина Цветаева и даже в юности, когда говорила, что «моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черёд»[17]. Так и случилось, только другое дело, что вина, производимые ею, всегда были совершенно зрелые. Дозревать до этих вин по мере жизни оставалось нам, человечеству.
Я очень ценю взор Марины Ивановны Цветаевой (о котором мы ещё поговорим просто как о физическом взоре на вас или мимо вас), вообще превозмогающий её знаменитую близорукость, её всевидящий дальновидный взор туда, в грядущее, то есть приблизительно в наше время. Всегда знала, всегда знала, что люди не разминутся с ней, и я думаю, что это будет всегда счастливым утешением для нас, когда мы будем думать про Цветаеву. Всегда твердила одно: знаю, знаю, как буду нужна, как оценят! Пишет: Я всё всегда знала отродясь. Пишет в одном письме: Я и теперь знаю, как буду любима через сто лет[18]. Это написано всего лишь сорок с чем-то лет назад, что будет через сто лет. И ещё одно: И, может быть, будет человек, может быть, поэт, может быть, женщина, который поймёт, который отзовётся, который послужит посредником между одним человеком и другим. И главное в нашем собрании — ответить ей теперь, через то время, которое она когда-то превозмогла вот этим своим дальновидным обращением и уже давно ждёт ответа. Главное в нашем собрании — удостоверить это «да», сказать: «Да! Так оно всё по Вами писанному и вышло! Не разминулись. Безмерно и всенародно любима».
Очевидность Марины Ивановны, очевидность её присутствия в пространстве, в её стране для меня не менее реальна, чем, например, звонок маленькой девочки по телефону. Пишет стихи. И говорит: — Ну, Вы, наверное, не обратили на мой конверт внимания. — А как, простите, Ваша фамилия? — Чудный детский голос: — Цветаева. Совпадение всего лишь. Дай Бог, чтобы стихи были хорошие, но растрогана была, и воздух, наверное, был растроган, сквозь который донеслось это вдруг повторённое имя.
Хорошо, а почему именно Марина Ивановна Цветаева? Почему именно она, её судьба и почему её имя, почему это вынуждает нас к особенному стеснению сердца и особенной спёртости воздуха в горле? Мы, человечество, сызмальства закинувшие голову под звездопад шедевров; мы, русские, уже почти двести лет как с Пушкиным и со всем пушкинским; мы, трагические баловни двадцатого века, получившие от него такой опыт, который, может быть, и понукает нас к изумительному искусству, — почему мы, имеющие столько прекрасных поэтов, почему особенной мукой сердца мы устремляемся в сторону Цветаевой? Что в ней, при нашем богатстве, что в ней из ряду вон, из ряду равных ей, что? Может быть, и наверное, особенные обстоятельства её жизни и смерти, чрезмерные даже для поэта, даже для русского поэта. Да, может быть и это, но это для детской, простоватой стороны нашей сущности. Для той именно детско-житейской стороны, с которой мы не прощаем современникам Пушкина, что именно он был ранен железом в живот, в жизнь, в низ живота, как пишет Цветаева. И ведь как бы ни говорили, есть некоторая двоюродность, пока мы совсем не повзрослеем, есть некоторая двоюродность, в отношении, например, к Тютчеву. И, может быть, вот эта наша детская насупленность к нему, которую нужно преодолеть специальным просветлением мозга, может быть, она связана именно с тем, что он не был, не был же убит на дуэли. И только сосредоточившись на ясном разуме, мы вспомним о его страдании другого свойства. Вспомним, как Тургенев увидел его в парижском кафе и не вынес этого зрелища, потому что, как пишет Тургенев, и рубашка его стала мокра от слёз. Или как он шёл и у него замирали ноги, и в муке, значение которой мы ещё не знаем, он, там, говорил это своё знаменитое «Ангел мой, ты видишь ли меня?». Не говоря уже о старике, который покинул Ясную Поляну и нёсся по мирозданию — сам был соперник мироздания — нёсся куда-то неизвестно куда, всё такой же, каким он когда-то шёл с Буниным по Девичьему полю и говорил после смерти маленького Ванички: Смерти нету! Смерти нету! А смерть меж тем была, а разгадки ей, разгадки ей до последней минуты так и не было.
Да. Особенные обстоятельства жизни и смерти, которые мы все знаем и которых мы никогда не забудем. Судьбы страшнее Марины Цветаевой я не знаю[19], — сказала та, сказал тот человек, чью осведомлённость в страдании мы, как говорится, на сегодняшний день вынуждены считать исчерпывающей. И всё-таки страдание и гибель — это лишь часть, часть судьбы Цветаевой. Это не всё о её судьбе. Судьба Цветаевой совершенна дважды: безукоризненное исполнение жизненной трагедии и безукоризненное воплощение каждого мига этой трагедии, воплощение в то, что стало блаженством для нас. И в этом смысле нам остаётся считать судьбу Цветаевой счастливейшей в истории нашей словесности, потому что редко кому дано так воплотить всё, что даровано в идеале человечеству, а в нашем случае ей одной — Марине Цветаевой. Ещё учтём, что она была не нам чета. Она была вождь своей судьбы, и воинство её ума и духа следовало за этим вождём.
Чтобы отвлечься от Елабуги, хочу сказать, что некоторые люди — здесь ли у нас, во Франции ли — как-то словно извинялись и передо мной, и в моём лице перед кем-то другим, что, вот, в своё время они не сумели помочь Цветаевой ну хотя бы малой человеческой помощью, и вот, дескать теперь эта тень всегда лежит на их душе. Я слушала это со скукой особенно в некоторых случаях. Я думала: «Э, мадам, это мания величия с Вашей стороны. Вы полагаете, что Вы, Вы можете помочь Марине Цветаевой?!» Эта старая дама[20] жива до сих пор. Она со мной говорила об этом недавно. Я слушала её с состраданием, когда она сострадала судьбе Цветаевой. Нет, ей об этом жалеть не приходится. Хотя… И потом Марина Ивановна сама никогда не склоняла нас к злопамятству и упрёку. Упрёк — не цветаевский способ соотноситься с собеседником. Она сказала: Не бойся, что из могилы я поднимусь, грозя! Я слишком сама любила смеяться, когда нельзя![21]
Но всё-таки соблазн упрекать кого-то велик. И вот у меня есть совершенно вне гармонии написанный упрёк. Получилось так в Доме творчества все обедают, а я читала письма к Тесковой:
А вы, пожиратели жира, под чайною розой десерта сосущие сласть углевода, не бойтесь голодной Марины! Марина за вас отслужила труд бедности и милосердья. Поэтому — есть и свободна! А вас — иль нет, иль незримы!Но всё-таки, опять говорю, что не дано было, не дано… И я ещё и искренне никого не виню. Потому что если мы представим себе то время и всё, что с нами тоща происходило… В общем, как-то недостает совести упрекать едва выживших людей в том, что они не помогли другому человеку. Но вот то, что смерть Марины Ивановны была её собственный великий поступок, — это всё-таки я в последний раз отмечаю. Написала так:
Нам грех отпущен, ибо здесь другой убийца лишний. Он лишь вздор, лишь мошка. Такое горло лишь такой рукой пресечь возможно.Но отвлечёмся от житья-бытья и от смерти, входящей в житьё-бытьё, потому что житьё-бытьё не было, не было стихией Цветаевой. Она не любила быт, который, правда, всю жизнь ей пришлось укрощать и так и не удалось с ним совладать. Но тем не менее душа её парила. Вот она пишет: Боюсь, что беда, судьба — во мне. Я ничего по-настоящему, до конца, то есть без конца, не люблю, не умею любить, кроме своей души, то есть тоски, расплёсканной и расхлёстанной по всему миру и за его пределы. Мне во всём, в каждом человеке и чувстве — тесно, как во всякой комнате, будь то нора или дворец. Я не могу жить, то есть длить, не умею жить в днях, каждый день, всегда живу вне себя. Эта болезнь неизлечима и зовётся — душа[22].
Вот это то главное преувеличение, с которым во вселенной выступает Цветаева. Ду-ша. У всех вдох приблизительно равен выдоху, то есть вдыхаем больше, чем выдыхаем, потому что что-то остаётся на пользу организма. У Цветаевой — не то. Берёт меньше, чем отдаёт. Осыпает больше, чем берёт для себя. Возвращает с избытком, касается ли это просто доброты или касается это предмета и его воплощения в слове. Видит, например, просто рояль, а возвращает нам какое-то чудо из чудес, громоздкость, которой достанет всему литературоведению на долгие годы.
Подходим как бы к главному, для меня во всяком стае, чрезмерность того, что Цветаева называет душой, и её несовместимость с, её невместимость в. Её слова:
Что же мне делать, слепцу и пасынку, В мире, где каждый и отч и зряч… Что же мне делать, певцу и первенцу, В мире, где наичернейший — сер! Где вдохновенье хранят, как в термосе! С этой безмерностью В мире мер?![23]Чрезмерность для мира мер, может быть, и есть наш путь к разгадке таинственного дара Цветаевой и также к попытке разгадать её трагическую судьбу. Эту чрезмерность, эту непомерность, эту громоздкость и — даже нет такого величественного суффикса, чтобы определить то, как представляю я себе, — вот эту, что я назвала, кунсткамерность дара («кунсткамерное чудо головы» — я написала), то есть эту вот именно из ряда вон, неприемлемость для простого житейского понимания, то есть приблизительно так, как Цветаева в детстве слышала и видела слово «гиппопотам». То есть она думала: вот похоже на рояль, то есть гип-по-по, а ещё хвост, потому что это где-то там. То есть такая неумещённость в одном пространстве. И, может быть, вот эта её чрезмерность, она как-то и определяла её литературную и человеческую судьбу. Она сказала про рояль, уже упомянутый мною, что ведь это он так, только вблизи громоздкий, если на него смотреть. Дайте роялю место, где быть, и он станет изящен, совершенно эфемерен[24]. И вот, может быть, только теперь у Цветаевой есть такое место, где ей есть где быть. Она написала: Что до меня, — вернусь в Россию не допущенным «пережитком», а желанным и жданным гостем[25]. Вот, мы свидетели того времени, которое уже длится давно при нас, свидетели того времени, когда она совсем, когда она впопад вернулась в Россию. И здесь ей достанет места, чтобы выглядеть не обременительной, а как раз уместной, как раз точно, как раз без промаха и впопад.
Здесь теперь раздолье, но это теперь уместно. Если соотнести эту огромность с живой человеческой жизнью, то, может быть, вот есть о чём подумать. Я, некогда для себя выясняя, что же, например, Цветаева, что она, например, в соотношении с Ахматовой, когда-то думала, то есть сравниваю лишь просто, как два чуда, на равных, и думала: Ахматова есть воплощённая гармония и, может быть, поэтому как-то небесно прекрасна. Цветаева — больше гармонии, а больше гармонии нельзя быть, это дисгармония, так не должно. И вдруг через много лет в записях Ариадны Сергеевны Эфрон читаю про Цветаеву, про Ахматову: Она гармония — и только[26]. То есть она, значит, сама как бы это знала и имела на это как бы другой взгляд. Но её пример отношения вообще к себе, к своим человеческим способностям… (Анастасия Ивановна, опять я всё про этот рояль и музыку!) И сказано там: Ну да, у меня были недюжинные способности. И вдруг брезгует этим, как какой-то малостью, как бездарностью! Сколько же ей было нужно, если этим погнушалась, как каким-то вздором!
И вот, значит, такая преувеличенность её личности. А личность и есть душа. Сама пишет про себя: У меня душа играет роль тела, то есть что у других тело — у меня душа, то есть диктатор, главное, главное существование. И вот эта преувеличенность её души, может быть, она сказывалась и на её соотношениях не только с житьём-бытьём, но и на отношениях с великими современниками. Чужеземный исследователь говорит про Цветаеву и про Ахматову: Цветаева любила Ахматову так, как Шуман любил Шопена, то есть он восхищался и относился к нему снизу вверх; тот отделывался лишь оговорками[27].
Мы все знаем, как рано, с первой книжки, Цветаева пылко и безгранично полюбила Анну Ахматову. Потом, кажется, в 16-м году был разгар этой любви. И так она всё это любила, воспела, так это и осталось: Анна всея Руси. Потом прошло время, они увиделись, и как бы из этого союза, кроме безмерной печали, ничего не вышло. Я склонна истолковывать и эту одинокость Цветаевой как бы в пользу и Цветаевой, и Ахматовой. Потому что мы не можем предложить людям из ряду вон соотноситься на доступный нам, на человеческий манер.
И, может быть, самое убедительное подтверждение вот этой чрезмерности одарения, когда уже, как Пастернак написал про природу, «ты больше, чем просят, даёшь», может быть, самое горестное подтверждение этому — отношения Цветаевой и Пастернака. То есть все знаем переписку, частично опубликованную, какая это любовь и до чего же это доходит. И уже когда начинаешь читать эти письма, то вдруг понимаешь кто-то один должен устраниться, выдержать такого нельзя, от этого умирают. И Цветаева сама как бы это осознаёт. Она предлагает Пастернаку такую высоту, такую высокопарность общения, такое парение над всем, что выше человеческого здравомыслия, что, действительно, вынести это невозможно. И сама ему пишет в одном письме: Я как-то чувствую, что Вы от этого отстраняетесь, что величина того, что я Вам даю, уже становится для Вас обременительной. И действительно, потом это становится каким-то ликующим и безумным ТЫ, трубящим вообще сквозь, от Франции до России. Потом грядущий сын, почти назначенный к тому, чтобы быть Борисом. И естественно, что один кто-то устраняется. Два, два великих человека не могут петь на одной ноте. И вот и в этом, и в этом её ждёт одиночество, когда она возвращается сюда.
А с Рильке… Все их отношения с Рильке… Может быть, он, он бы, может быть, понял, он же сам, сам написал ей: Вот мы небо, Марина, там, мы море…[28] Но из этого ничего не вышло по чисто таким, трагическим жизненным обстоятельствам.
Вот здесь, может быть, во славу Цветаевой нужно отметить её отношение к Маяковскому, к человеку, к поэту, который как бы не был специально для неё уготован, специально для её любви рождён. Напротив, она — за вечность, а он — за апофеоз, вот, того времени. Кстати, я всему литературоведению предпочитаю её литературоведение, её проникновение в сходство и разницу между Пастернаком и Маяковским, её фантастический анализ Пушкина, например, «Капитанской дочки». И как бы и получается, что и Маяковский как бы остаётся в долгу перед ней. Потому что пока она восхваляла его всё, пока она приветствовала его в Париже в ущерб себе, в ущерб своей эмигрантской репутации, в общем не нашло это никакого отклика в нём.
И вот её соотношение с революцией, вообще с той порою, когда всё это происходило. Опять-таки как-то получается, что всё это в пользу Цветаевой складывается. Вот она пишет, о революции именно, в статье «Поэт и время»: Второе и главное: признай, минуй, отвергни Революцию — всё равно она уже в тебе — и извечно. И извечно стихия, и с русского 18-го, который хочешь не хочешь — был. Всё старое могла оставить Революция в поэте, кроме масштаба и темпа. Ни одного крупного русского поэта современности, у которого после Революции не дрогнул и не вырос голос, — нет[29]. При том это совпадает с вообще присущей ей мятежностью, о которой она пишет просто по ходу своего рассуждения в статье «Пушкин и Пугачёв», то есть восхваляет заведомую готовность человека к мятежу и как бы даже поощряет пребывание в этом состоянии. Кроме того, её любовь к тому, что вот мы называем народом (и на самом деле так оно и есть), то есть это просто её многократные пылкие утверждения: Я вообще люблю простых людей, вообще люблю народ… И желание всё отдать… Сами знаете, где-то упомянуто, ей никогда ничего не было жалко, если думать, что это пошло на пользу другим, — ни денег, разумеется, которыми она никогда не дорожила, а, наоборот, только презирала, ни… ничего, чем она располагала. И вот как бы получается, что не мы, что не мы, послереволюционные люди, что… что не она перед нами — мы перед нею в долгу. Потому что, в конце концов, здесь музей, построенный отцом, нам, народу так называемому, принадлежат две библиотеки цветаевской семьи и вся её жизнь, до последнего её дыхания. Нам остаётся только прибегнуть к здравомыслию и отслужить ей всё это, поставить всё на должные места.
Вообще эта чрезмерность, о которой я говорила, наверно страшно обременяла людей, на которых падала благосклонность Цветаевой. Вот я уже говорила: не на грудь, а в грудь, до — мой в огнь — синь… Тут надо было иметь большую крупность грудной клетки, огромность воображения, чтобы пойти на это и не закапризничать от столь бурного, столь сильного вселения в тебя другого, любящего человека. Вот знаем, что она сотворяла ещё себе человека (те, кто помнят её, говорят об этом), сотворяла себе его, когда любила, по своему усмотрению. И правильно делала, иначе бы ей пришлось обходиться тем, что я назвала «мышиный сброд умишек». Когда любила человека, человека мужского пола, например, то приходилось и додумывать, наверное, дотягивать этот образ несколько до себя. И какие-то разочарования, наверное, и в этом её ждали. И эта чрезмерность, или непомерность, или как ни скажи — это не вмещает. Откуда вообще всё это? И вкратце лишь я берусь проследить истоки, нисколько не склоняясь к литературоведению и никогда не упоминая вообще никаких биографических данных, кроме того, что кажется мне основоположным.
Мать и музыка, пишет Цветаева, отец и Владимирская губерния и всё, что там, всё, что там, — сельские священники, и трудолюбие, и совершенная, совершенная честность к труду и к людям. И получается, что вот такие чудовища, откуда берутся? Мать у них — музыка, отец — просто впрямую отечество. Марина Ивановна как бы не рассуждала о России, как бы не пререкалась с собственным отношением к России. Она была человек русский в величайшем смысле этого слова, хотя бы потому, что это никогда, её великая русская суть никогда не шла в ущерб другому народу. Более того, она единственный, кажется, русский человек, который во всеуслышанье, да ещё когда, уже во время фашизма, говорит о своей любви к Германии. Потому что никогда, никакой мелочности взора, никогда никакой мелочности в отношении со страной или с человеком. Ей говорят; но там Гитлер, вы что, там, не видите? Она говорит: А я и не смотрю: я вижу Рейн и гётевский, гётевский лоб среди тысячелетий[30]. И вот эта её мерка подхода к тому, что происходит во вселенной, выводит её, конечно, из малости нашего житья-бытья.
Я сказала про Германию. Также она любила Чехию, любила всё, что есть в любой стране. И благо — много было ей дано для этого в детстве — совершенная открытость всей культуры для её жизни.
Вот ненависть ко всякому подавлению. Мы говорили о собаках, которые божество. Сюда же, кажется, относятся поэты, негры, евреи, то есть все, которые подлежат гонению, все, которые рискуют быть обиженными человечеством. Мы знаем, как изящно владеет речью Марина Ивановна Цветаева. Из её письма: собрание, там, каких-то младороссов. Выступает человек, говорит про Гитлера и про евреев. Из зала кто-то: «Сам, небось, из жидов». Все молчат. Одна Марина Ивановна, совершенно беззащитная, совершенно покинутая всеми, встаёт и говорит: «Хам-ло!» Зал замирает. Она ещё раз говорит: «Хам-ло!» Тот, по-французски, видимо, говорит, что не понимает. Говорит: Не понимаешь, скотина? Когда человек вместо «еврей» говорит «жид» да при этом, при этом прерывает оратора, он — хамло! И с этим покидает собрание[31].
И так в отношении ко всему. Этот негр, который, собственно, никем Цветаевой не приходился, ну разве что «Хижина дяди Тома» Бичер-Стоу… И всё-таки он, по своему цвету кожи будучи символом какого-то гонения… И, кстати, это я тоже почему-то, просто по своему совпадению случайному с ней, всегда разделяла.
Жест её — защищающий и дарящий — только. Между тем, кто беззащитней, кто слабей её, кажется, был. Между тем, стоит кому-то обидеть Мандельштама (ну так — просто написать какой-то вздор), одна Цветаева пишет статью, которую, разумеется, никто и не печатает. Она всей душой и всей своей бедной силой бросается на защиту того человека, который и здесь уже, в крайние дни своей беззащитности огонь-таки бросался защитить кого-то, например, Хлебникова. Значит, черта поэта — вообще защитить. Ну, например, Пушкина… Пушкина оплакивал весь народ. Но, позвольте, кто один защитил его и заплатил за трагедию своею жизнью? Да, мы знаем, что Мартынов был самолюбив. Но что свело Лермонтова с самолюбивым Мартыновым? Начинается всё с этого, с того, что заступился за другого.
Я не уверена, что каждый из нас, каждый из вас читал всё, что написано Мариной Ивановной и Анастасией Ивановной Цветаевыми о их семье. И я здесь только просто лишний раз с благоговением хочу упомянуть имена великих их родителей, которые содействовали тому, что мы теперь располагаем нашей драгоценностью. Анастасия Ивановна сказала, что Марина Ивановна говорила: Дар… то есть за дар нельзя хвалить, это — от Бога. Разумеется, но и от родителей. И, видимо, вот это: то, что музыка и Германия, то, что Россия и всё, что за этим, видимо, и есть лишний повод вспомнить дом в Трёхпрудном, в котором некогда жили две чудные девочки. И вот я люблю по книге Анастасии Ивановны Цветаевой, а теперь уже как бы по моему собственному житейскому впечатлению, люблю думать, представлять себе, как они шли в морозный день, в платках поверх шапок, люблю думать, как они шли вниз по Тверской на Кузнецкий мост, чтобы купить гравюру или альбом. Чередовались, там, голубые и розовые фонари, и шли два чудных ребёнка, обречённых к столь неимоверному опыту жить, страдать и оставить людям столько всего. Но, тем не менее, это та Москва, к которой я имею ностальгическое как бы чувство, и мы не можем этого забыть, потому что это та Москва, та столица и той нашей родины, которая непременно входит в наше душевное воспитание.
Ещё вот, когда мы говорим об истоках, нельзя не упомянуть — Тарусы. Потому что — Владимирская губерния, да, и Цветаева, кажется, была там, именно тогда, когда Мандельштам у неё гостил, и не была на родине своего отца, если я не ошибаюсь, — но вот то, что мы называем средней полосой, — Таруса. Странное странище странных этих мест… Безусловно, они тоже взлелеяли незыблемо русскую суть Цветаевой. Я там была некоторое время назад и, конечно, не предполагала, что мне придётся огласить то, что я тогда думала там. Но тем не менее я каждой секундой душою моей соотносилась с Анастасией Ивановной, с Мариной Ивановной Цветаевыми.
Все знают знаменитую зелень цветаевских глаз. Написано: зелёный взблеск глаз. Звериная зелёная роскось глаз, тех странных цветаевских глаз, которые как-то умели смотреть, судя по воспоминаниям современников, как-то странно, как бы не на вас, а как бы мимо вас, как-то в обхват вас, как бы в вашу суть и потом ещё улыбались уже тому, что они видят, как бы сами сотворив зрение[32]. И вот там всё так зеленело — зеленела Ока, зеленели деревья, — и а не написала стихотворения, но некоторая строчка запела во мне, и я… она принадлежит всего лишь письму, моему письму к Анастасии Ивановне Цветаевой. Но там я увидела длительность, безмерную длительность цветаевской жизни.
Какая зелень глаз вам свойственна однако! И тьмы подошв такой травы не изомнут. С откоса на Оку вы глянули когда-то — на дне Оки лежит и смотрит изумруд. Какая зелень глаз вам свойственна однако! Давно из-под ресниц обронен изумруд, или у вас — ронять в Оку и в глушь оврага есть что-то зеленей — не знаю, как зовут? Какая зелень глаз вам свойственна однако! Чтобы навек вселить в пространство изумруд, вам стоило взглянуть и отвернуться: надо спешить — уже темно, и ужинать зовут…С замиранием сердца мы с моими спутниками приблизились к тому месту, где некогда стоял знаменитый цветаевский дом. Мы не знали, в каком это месте, никто нам сначала не мог указать, потом — указали. На этом месте ныне танцплощадка. Я опять-таки прочту стихотворение, которое опять выпадает из моих представлений о гармонии, и видимо, в этом — урок, что если хочешь писать хорошо, не надо свирепствовать, исходи из каких-то высших побуждений.
Здесь дом стоял. Столетие назад был день — рояль в гостиной водворили, ввели детей, открыли окна в сад… Здесь ныне люд — ревнитель викторины. Ты победил. Виктория — твоя! Вот здесь был дом, где ныне танцплощадка, площадка-танц иль как её… Видна звезда небес, как бред и опечатка в твоём дикоязычном букваре. Ура, что победил! Недаром злился! И морщу лоб — при этих, в серебре, безумных и недремлющих, из гипса. Прости меня, чудовищный старик! Ты победил. Тебе какое дело, что вижу я, как дом в саду стоит и бренное твоё истлело тело.Я говорила об очевидности бессмертия, о котором много размышляла Марина Ивановна Цветаева. Вот в раннем письме Василию Васильевичу Розанову она пишет, что не верит в Бога и поэтому не верит в загробную жизнь и так пользуется каждой минутой живой, именно сейчас данной жизни[33]. Потом, когда эта данная живая жизнь стала отказывать ей в том благе, на которое имела она право, она сама пишет: Будет суд, перед которым уже я буду не виновата, потому что там будут судить не по платью, не по уменью напоминать всех остальных, а только по тому, что я внутри себя имею[34]. Такое время как бы подошло. И вот ещё где-то пишет в одном письме, Людмиле Евгеньевне Чириковой пишет: Я увидела фонари, там, во время какой-то прогулки с вами, и цепочка фонарей всегда мне напоминала бессмертие[35]. Сегодняшней ночью, когда душою моею, но никак не разумом готовилась я к тому, что сейчас происходит, я видела в окно цепочку фонарей вдоль Тверского бульвара. Она, к счастью, мне просто видна. И смотрела на жёлтую милую эту светлость и думала, опять-таки вспомнила, как некогда шли здесь две чудные девочки. Одна из них незадолго до этого позвонила, и сквозь Мерзляковский, Хлебный, Борисоглебский, сквозь всё то, где всегда жила или ютилась или торжествовала жизнь Цветаевых, сквозь всё это донёсся прелестный, совершенно живой и живучий голос Аси, которая вот…
Анастасия Ивановна здесь, и я надеюсь, что именно в этом месте ей будет уместно меня перебить на столько, на сколько ей будет угодно. А нам остается только ликовать, что мы её сейчас услышим.
1978Лицо и голос
Давай ронять слова, Как сад — янтарь и цедру, Рассеянно и щедро, Едва, едва, едва. Борис ПастернакЯ так сижу, я так живу, так я сижу там, где живу, что стоит мне повернуть голову, я сразу же увижу это Лицо, лучшее из всех прекрасных лиц, виданных и увиденных мной на белом свете. Лицо — шедевр (пишем по-русски) создателя (пишем с маленькой буквы, преднамеренно, потому что я не о Боге сейчас, не только о Боге, но и о сопутствующих обстоятельствах, соучастниках, незнаемых вспомогателях создателя, ваятеля этого Лица).
Живу, сижу, головы не поворачиваю, может быть, сейчас поверну и узнаю, чего стоит шее маленький труд повернуть голову и увидеть Лицо. Н-н-н-не могу.
Но Лицо смотрит на меня. Не на меня, разумеется, а в объектив когда-то (1921 год) фотографа, и потом на всех — с вопросительным, никого не укоряющим недоумением.
Не провиниться перед этим Лицом, перед этим никого ни в чём не укоряющим взглядом, перед вопрошающим значением глаз — жизнь моя ушла на это. Ушла, всё же сижу, живу, а головы повернуть не могу, не смею. Провинилась, стало быть.
Но какое счастье — его детство, его юность, Марбург, несчастная любовь, Скрябин — «шаги моего божества».
Да, «шаги моего божества» — вот в чём смысл бессмысленного писания, разгадка и моей тайны, которую не хочу предать огласке.
А я и не разглашаю ничего. Но я не скрываю воспоминания о том дне, когда я впервые увидела его лицо и услышала его голос. Это вечером было, зимою 1954 года, в клубе МГУ.
У меня не было такого детства, из которого можно выпутаться без сторонних, высших вмешательств. Не выжить, я имею в виду, что было почти невозможно, «почти» — вот как вкратце на этот раз упоминаю всех и всё, упасших и упасшее мою детскую жизнь. О, я помню, простите меня.
Но, выжив, — как, кем и зачем я должна была быть? Это не такое детство, где изначально лелеют слух, речь, совесть, безвыходную невозможность провиниться. Да, бабушка у меня была, Пушкин, Гоголь, Лермонтов были у меня, но где и как-это другое.
Я ходила в Дом пионеров — с Варварки, через Ильинский сквер, вдоль Маросейки на Покровский бульвар — чудный этот дом теперь не пионеров, других постояльцев — сохранен, как я люблю его первых обитателей, в каком-то смысле — тоже пионеров, да простят они мне развязную шутку.
В Доме этом действовали несколько студий, называемых «кружками»: литературная, драматическая и «изо», для художников. Усмехаясь над собою, а не над художниками, впервые написала «изо» — Леонид Осипович Пастернак не догадался бы, что это значит, но милый и знаменитый Валерий Левенталь — догадается, ежели спросить, — он начинал там свой художественный путь.
Детство — при загадочных словах, не в мастерской на Мясницкой.
Я прилежно ходила в этот дом для двух разных, родственных, двоюродно-враждебных занятий. Про драмкружок — потом, в другом месте и случае, но спасибо, спасибо, Екатерина Павловна.
Литературная же студия, кружок наш, как теперь я думаю, был весьма странен для той поры. Его попрекали, упрекали, укоряли и потом, при взрослой моей жизни — «декаденты», дескать. И то сказать — имя одного мальчика: Виталий Неживой. Надеюсь, жив он, хочу, чтобы благоденствовал. Мы все писали что-то заунывное, «загробное», мрачное. Смеюсь: в то же время, иногда — одновременно, в соседней комнате бывшего особняка я изображала Агафью Тихоновну, «даму приятную во всех отношениях», домработницу из пьесы В. С. Розова — и возвращалась в «загробную комнату». Два этих амплуа и теперь со мною — если бы мне было дано совершенно подражать великим людям, я бы не сумела выдумать ничего лучше, чем смех уст и печаль глаз.
Был там и другой мальчик, из этого кружка, из другого, как говорят, круга. Очень умственный и просвещённый мальчик.
Да, умственный мальчик из другого круга, тоже писавший стихи, всем изначальным устройством своим нечаянно опровергающий мимолётность слов из письма: «поэзия должна быть глуповата».
С ним, зимою 1954 года, я вошла в клуб МГУ — ему было известно имя того, кто стоял на сцене, в библиотеке его семьи (может быть, несчастной?) были книги стоявшего на сцене, но он не любил их, или сказал так.
Зал был пуст. Три первых ряда занимали — теперь и давно я знаю: кто и как прекрасны. Тогда я не знала ничего, но происходившее на сцене, происходившее на сцене… то есть это уже со мной что-то происходило, а на деревянном возвысии стоял, застенчиво кланялся, словно, да и словами, просил за что-то прощения, пел или говорил, или то и другое вместе, — ничего похожего и подобного я не видела, не увижу и никто не увидит. И не услышит.
Пройдёт несколько лет, я прочту все его книги, возможные для чтения в ту пору, стихотворения (в журнале и во многих переписанных и перепечатанных страницах) и увижу его лицо и услышу его голос ещё один раз, осенью 1959 года.
Мелкую подробность моей весны того года не хочу упоминать за ничтожностью, но пусть будет: из малостей состоит всякий сюжет, из крапинок — цвет. Велели — отречься от него. Но какое счастье: не иметь выбора, не уметь отречься — не было у меня такой возможности. Всего лишь — исключили из Литературного института, глумились, угрожали арестом — пустое всё это. Лицо его и голос — вот перед чем хотелось бы не провиниться, не повредить своей грубой громоздкостью хрупкости силуэта, прочности осанки, — да не выходит.
Памяти Бориса Пастернака
Начну издалека, не здесь, а там, начну с конца, но он и есть начало. Был мир как мир. И это означало всё, что угодно в этом мире вам. В той местности был лес, как огород, — так невелик и всё-таки обширен. Там, прихотью младенческих ошибок, всё было так и всё наоборот. На маленьком пространстве тишины был дом как дом. И это означало, что женщина в нём головой качала и рано были лампы зажжены. Там труд был лёгок, как урок письма, и кто-то — мы ещё не знали сами — замаливал один пред небесами наш грех несовершенного ума. В том равновесье меж добром и злом был он повинен. И земля летела неосторожно, как она хотела, пока свеча горела над столом. Прощалось и невежде и лгуну — какая разница? — пред белым светом, позволив нам не хлопотать об этом, он искупал всеобщую вину. Когда же им оставленный пробел возник над миром, около восхода, толчком заторможённая природа переместила тяжесть наших тел. Объединённых бедною гурьбой врасплох нас наблюдала необъятность, и наших недостоинств неприглядность уже никто не возмещал собой. В тот дом езжали многие. И те два мальчика в рубашках полосатых без робости вступали в палисадник с малиною, темневшей в темноте. Мне доводилось около бывать, но я чужда привычке современной налаживать контакт несоразмерный, в знакомстве быть и имя называть. По вечерам мне выпадала честь смотреть на дом и обращать молитву на дом, на палисадник, на малину — то имя я не смела произнесть. Стояла осень, и она была лишь следствием, но не залогом лета. Тогда ещё никто не знал, что эта окружность года не была кругла. Сурово избегая встречи с ним, я шла в деревья, в неизбежность встречи, в простор его лица, в протяжность речи… Но рифмовать пред именем твоим? О нет.Он неожиданно вышел из убогой чащи переделкинских дерев поздно вечером, в октябре, более двух лет назад. На нём был грубый и опрятный костюм охотника: синий плащ, сапоги и белые вязаные варежки. От нежности к нему, от гордости к себе я почти не видела его лица — только ярко-белые вспышки его рук во тьме слепили мне уголки глаз. Он сказал: «О, здравствуйте! Мне о Вас рассказывали, и я Вас сразу узнал. — И вдруг, вложив в это неожиданную силу переживания, взмолился: — Ради Бога! Извините меня! Я именно теперь должен позвонить!» Он вошёл было в маленькое здание какой-то конторы, но резко вернулся, и из кромешной темноты мне в лицо ударило, плеснуло яркой светлостью его лица, лбом и скулами, люминесцирующими при слабой луне. Меня охватил сладко-ледяной, шекспировский холодок за него. Он спросил с ужасом: «Вам не холодно? Ведь дело к ноябрю?» — и, смутившись, неловко впятился в низкую дверь. Прислонясь к стене, я телом, как глухой, слышала, как он говорил с кем-то, словно настойчиво оправдываясь перед ним, окружая его заботой и любовью голоса. Спиной и ладонями я впитывала диковинные приёмы его речи — нарастающее пение фраз, доброе восточное бормотание, обращённое в невнятный трепет и гул дощатых перегородок. Я, и дом, и кусты вокруг нечаянно попали в обильные объятия этой округло-любовной, величественно-деликатной интонации. Затем он вышел, и мы сделали несколько шагов вместе по заросшей пнями, сучьями, изгородями, чрезвычайно неудобной для ходьбы земле. Но он легко, по-домашнему ладил с корявой бездной, сгустившейся вокруг нас, — с выпяченными, сверкающими звёздами, с впадиной на месте луны, с кое-как поставленными, неуютными деревьями. Он сказал: «Отчего Вы никогда не заходите? У меня иногда бывают очень милые и интересные люди — Вам не будет скуплю. Приходите же! Приходите завтра». От низкого головокружения, овладевшего мной, я ответила надменно: «Благодарю Вас Как-нибудь я непременно зайду».
Из леса, как из-за кулис актёр, он вынес вдруг высокопарность позы, при этом не выгадывая пользы у зрителя — и руки распростёр. Он сразу был театром и собой, той древней сценой, где прекрасны речи. Сейчас начало! Гаснет свет! Сквозь плечи уже мерцает фосфор голубой. — О, здравствуйте! Ведь дело к ноябрю — не холодно ли? — вот и всё, не боле. Как он играл в единственной той роли всемирной ласки к людям и зверью. Вот так играть свою игру — шутя! всерьёз! до слёз! навеки! не лукавя! — как он играл, как, молоко лакая, играет с миром зверь или дитя. — Прощайте же! — так петь между людьми не принято. Но так поют у рампы, так завершают монолог той драмы, где речь идёт о смерти и любви. Уж занавес! Уж освещают тьму! Еще не всё: — Так заходите завтра! — О тон гостеприимного азарта, что ведом лишь грузинам, как ему. Но должен быть такой на свете дом, куда войти — не знаю! невозможно! И потому, навек неосторожно, я не пришла ни завтра, ни потом. Я плакала меж звёзд, дерев и дач — после спектакля, в гаснущем партере, над первым предвкушением потери так плачут дети, и велик их плач.* * *
Он утверждал: «Между теплиц и льдин, чуть-чуть южнее рая, на детской дудочке играя, живёт вселенная вторая и называется — Тифлис». Ожог глазам, рукам — простуда, любовь моя, мой плач — Тифлис! Природы вогнутый карниз, где Бог капризный, впав в каприз, над миром примостил то чудо. Возник в моих глазах туман, брала разбег моя ошибка, когда тот город зыбко-зыбко лёг полукружьем, как улыбка благословенных уст Тамар. Не знаю, для какой потехи сомкнул он надо мной овал, поцеловал, околдовал на жизнь, на смерть и наповал — быть вечным узником Метехи. О, если бы из вод Куры не пить мне! И из вод Арагвы не пить! И сладости отравы не ведать! И лицом в те травы не падать! И вернуть дары, что ты мне, Грузия, дарила! Но поздно! Уж отпит глоток, и вечен хмель, и видит Бог, что сон мой о тебе — глубок, как Алазанская долина. (1962)Метель
Февраль — любовь и гнев погоды. И, странно воссияв окрест, великим севером природы очнулась скудость дачных мест. И улица в четыре дома, открыв длину и ширину, берёт себе непринуждённо весь снег вселенной, всю луну. Как сильно вьюжит! Не иначе — метель посвящена тому, кто эти дерева и дачи так близко принимал к уму. Ручья невзрачное теченье, сосну, понурившую ствол, в иное он вовлёк значенье и в драгоценность произвёл. Не потому ль, в красе и тайне, пространство, загрустив о нём, той речи бред и бормотанье имеет в голосе своём. И в снегопаде, долго бывшем, вдруг, на мгновенье, прервалась меж домом тем и тем кладбищем печали пристальная связь. (1968) 1989Всех обожаний бедствие огромно
Впервые я услышала имя Анны Ахматовой в школе. У меня были добрые, неповинные в общем зле учителя, но им было велено оглашать постановление: Ахматова и Зощенко.
Я пойму это потом, но из непонятных «обличающих» Анну Ахматову слов возник чудный, прелестный, притягательный образ.
Воспитание может иметь обратное значение.
Прошло некоторое время. Я раздобыла стихотворения Ахматовой и написала убогое посвящение. Вскоре я его порву и выкину. Подозреваю прекрасного Александра Володина, всегда любимого мной, в том, что он успел передать Анне Андреевне Ахматовой случайно уцелевший черновик.
Из всего этого помню строфу:
«Об это старинное древо утешу ладони мои. Достанет Вам, Анна Андреевна, покоя, хвалы и любви»…Ужасно, но далее будет ужаснее.
Однажды, в скромном начале дня, выхожу из дома. В этом же доме жили Наталия Иосифовна Ильина и Александр Александрович Реформатский, звавший меня: Гуапа; их собаку-спаниеля звали Лада.
Наталия Иосифовна говорит: «Зачем Вы избегаете встречи с Ахматовой? Анна Андреевна в Москве, я еду к ней, Вы можете поехать со мной».
Я: «Нет, я не могу. Не смею, не хочу, и не надо».
Тот день (для меня) стал знаменательным.
Я привечала Анджело Мариа Рипеллино, знаменитого слависта, и журналиста, для меня безымянного, виновата.
На бензоколонке на Беговой опять встречаю Наталию Иосифовну. Н. И.: «Не передумали? Я к Ахматовой еду».
Я: «Нет, не могу. И не надо».
Я развлекала итальянцев: показывала уцелевшую старую Москву, ярко бедную, угнетаемую и свободную мастерскую художника Юрия Васильева.
Итальянцы стояли в гостинице «Пекин». Что-то им понадобилось там. Подъехали к гостинице. Передо мной, резко скрипнув тормозами, остановилась машина Ильиной. Я знала, кто пассажир этого автомобиля. Лицо знало, как бледнеет, ноги не знали, как идти. Сказала: «Ну смотрите, синьоры, больше вы этого не увидите». (Я ошиблась: итальянцы увидели Ахматову — в Таормине, в пальто Раневской.) Подошла. Н. И. с жалостью ко мне весело объяснила Ахматовой: «Она так любит Вас, что не хочет видеть Вас».
Я же видела дважды: грузный, вобравший в себя страдания и болезни лик и облик и тончайший профиль, столь известный, столь воспетый.
Молча поклонилась. Вернулась к итальянцам. Моё лицо было таково, что они забыли, что они забыли в гостинице «Пекин».
Анджело Мариа Рипеллино спросил: «Что с Вами?» — «Там была Ахматова».
Далее — повезла их в забегаловку, в Дом литераторов, не обещая кьянти, что-нибудь взамен обещая. Вернула их к гостинице «Пекин».
Подъехала к дому. В лучах фар стояла Ахматова: ждала Ильину. Это не имело значения, если не считать разрыва ума, сердца, зрения. Сказала: «Анна Андреевна, Бог знает, я не хотела видеть Вас, но вижу Вас второй раз в этот день». Ахматова: «Верите в Бога?» Я: «Как не верить? Вы не только от Ваших родителей родились, произросли и осиянны. И я это вижу». Я и видела ярко бледное осиянное лицо Ахматовой в потёмках двора.
К счастью моему, спустилась со своего этажа Наталия Иосифовна Ильина и засмеялась. Анна Андреевна величественно-милостиво сказала: «Едем к Ардовым на Ордынку. Может быть, желаете сопроводить?» Я тупо плюхнулась на заднее сиденье. Ехали по Ленинградскому проспекту. Фонарь и нефонарь, свет и тень, я видела, не могла видеть, но видела профиль, силуэт. Модильяни? Альтман?.. Нет. В Оспедалетти, в 12-м году?.. Нет, эту фотографию мне подарят много позже.
Когда проезжали мимо поворота к больнице Боткина. Ли на Андреевна великим голосом произнесла: «Я бывала в этой больнице. Лежала около окна. Другие старухи хотели занят моё место. Ко мне пришёл шведский корреспондент в белой рубашке, столь белой, что меня стали уважать».
Я читала эти (приблизительно) слова у Лидии Корнеевны Чуковской. Но я эти слова — слышала.
Приехали на Ордынку. Н. И.: «Проводите Анну Андреевну через двор и наверх».
Двор состоял из рытвин. Я поддерживала хрупкий утомлённый локоть. Поднялись пешком на указанную верхотуру. Я чувствовала пульс, сильный и сильно убывающий.
У Ардовых играли в карты. Алёши Баталова не было. Мы прошли в его комнату. Анна Андреевна сразу прилегла и спросила: «Кто были те двое у Вас в автомобиле?» Сила зоркости обошлась мне холодом мурашек. Я не могла понять, как Ахматова, не обернув головы, сумела разглядеть ещё кого-то. В ум вступило изобретённое Лесковым слово «мелкоскоп». Ответила: «Двое итальянцев: Анджело Мариа Рипеллино и…» Ахматова (с надменно-ласковой усмешкой): «Как? Этот мерзавец?» Я: «Неужто он в чём-нибудь провинился перед Вами?» Анна Андреевна слабым жестом указала, слабым голосом приказала: «Там сердечные капли. Подайте, пожалуйста». Я исполнила указание и приказание.
Анна Андреевна показала итальянскую книгу: «Мне жаль, что я не могу подарить книгу. У меня нет другой».
Я: «Зачем? Не о чем сожалеть. Я не знаю итальянского языка… Ваш — знаю, этого знания достанет для многих…»
Не знаю, как спустилась по лестнице, пересекла двор. Н. И. ждала не суетно, не торопливо.
На этой странице злоключения обожания не завершаются. Переходим на следующую.
Я увидела Анджело Мариа Рипеллино, в последний раз, он приехал в Москву.
Я: «Анджело Мариа, что ты содеял, написал? Ахматова сказала: мерзавец».
А. М. Р.: «Что есть „мерзавец“? Кто-то, погибший от мороза?» (Стало жалко воображаемого озябшего мерзавца.)
Я: «Спрашивай у Даля (он спрашивал), признавайся: что написал?»
Признался (воспроизвожу по памяти, текста не видела): «Анна Ахматова ныне есть единственный классик великой русской литературы».
То есть: опять какое-то старинное древо, утешающее чьи-то лишние ладони.
Бедствие обожания набирало силу. Я слабела, чем и теперь занимаюсь.
Прошло некоторое время.
Позвонила Н. И.: «Вы уже видели Ахматову — дважды в один день. Можно и привыкнуть. Анна Андреевна хочет поехать за город. Я сегодня не могу повезти её. Позвоните ей, повезите. Вот номер телефона».
Ахматова тоща остановилась у своей знаменитой приятельницы, на Садовом кольце, рядом с площадью Маяковского.
Глубокое чувство обречённости овладело мной. В этом не было мистики. Был автомеханик Иван Иванович, гений своего дела, он сурово учил меня ездить, менять колесо за пять минут — не дольше! Заклеивать мылом бензобак — в случае протечки (мыло — было). Но вот когда «иглу заливает бензином», — он мог это исправить, я уже ничего не могла поправить.
Позвонила по указанному телефону. Великий голос (я всегда слышу: «Дорога не скажу куда…») ответил: «Благодарю Вас. Жду Вас в двенадцать часов. В полдень».
Я понимала, что не в полночь. Не понимала: что надеть? В уме стояло воспоминание: Чехов едет к Толстому в Гаспру, думает: что надеть? (описано Буниным).
Надела то, что под руку попалось: синие узкие брюки, оранжевый свитер, это уже входило в обречённость. Ровно в полдень (помедлив возле дома) поднялась, позвонила в дверь.
Прекрасная дама, в чёрном платье, встретила меня, справедливо-брезгливо оглядела меня, сказала: «Анна Андреевна ждёт Вас. Вы умеете это делать?» (изящными запястьями изобразила руль автомобиля).
Плохие предчувствия крепчали, хороших не бывает.
Вышла Ахматова, в чёрном платье.
Сине-оранжевая, я опять держала её локоть, плавно-громоздко мы спустились по лестнице, я открыла дверь автомобиля, села за руль. У следующего перекрёстка (при повороте на Петровку) машина остановилась навсегда. Это и была игра иглы с бензином. Я сидела, ничего не делая. Мешала проехать грузовику, водитель кричал: «Баба за рулём! Две дуры — молодая и старая!»
Его зоркость, обращённую ко мне, тоже следует отметить: он высунул голову из кабины. Я показалась себе ровесницей горя, старше беды.
«Вам никакой не подходит?» — спросила Ахматова: цвет, цвет, цвет светофора менялись несколько раз.
Подошёл великодушный милиционер. Водитель грузовика продолжал кричать, я — молчать.
Великодушный милиционер прикрикнул на водителя грузовика: «Вылезай! Помоги откатить машину к тротуару. Женщине плохо…»
Мне и не было хорошо.
Тот послушался. Машину перекатили к тротуару, грузовик отпустили. Великодушный милиционер, у него была дирижёрская палочка в руках, сказал: «Хочу Вам помочь».
Я: «Помогите. Я вижу телефон-автомат напротив. Помогите перейти дорогу». Позвонила: «Пришлите автомобиль: Ахматова, игра иглы с бензином…»
Непонятливый испуг ответил: «Не бойтесь, не двигайтесь с места. Сейчас приедем».
Вернулась: «Анна Андреевна, сейчас приедет другая машина».
Анна Андреевна сказала: «Я ничего не предпринимаю во второй раз».
Снова я держала локоть — поднимались по лестнице на восьмой этаж. Прекрасная дама в чёрном не удивилась, как если бы знала о моей автомобильной и всей судьбы неудаче.
Несколько дней после этого я не могла говорить: немая, немтая была.
Куда делись брюки, автомобиль, свитер — не любопытствую знать.
«Всех обожаний бедствие огромно…» — сеть у меня такое стихотворение. Я стояла возле могилы Ахматовой, никого не было, цветы были — как всегда. Величие ласково-надменной и прощающей усмешки я ощутила и приняла как осязаемую явь бессмертия.
Я не бежала, как бы упадала из Комарово в Репино по быстрой дороге вниз. Это само собой сочинилось.
Мне довелось читать (и сейчас читаю) и видеть Льва Николаевича Гумилёва Однажды, в беспечном, а для меня напряжённом застолье, Лев Николаевич вдруг спросил: «Вы так любите её?»
Слабоумным голосом третьегодника с последней парты я спросила в ответ: «Кого?»
Лев Николаевич Гумилёв объяснил: «Вы знаете — кого». Он не ошибся.
Вы, любезные читатели, не ошибайтесь — любите.
Всегда Ваша Белла Ахмадулина 1996Строка
…Дорога не скажу куда…
Анна Ахматова Пластинки глупенькое чудо, проигрыватель — вздор какой, и слышно, как невесть откуда, из недр стеснённых, из-под спуда корней, сопревших трав и хвой, где закипает перегной, вздымая пар до небосвода, нет, глубже мыслимых глубин, из пекла, где пекут рубин и начинается природа, — исторгнут, близится, и вот донёсся бас земли и вод, которым молвлено протяжно как будто вовсе без труда, так легкомысленно, так важно: «…Дорога не скажу куда…» Меж нами так не говорят, нет у людей такого знанья, ни вымыслом, ни наугад тому не подыскать названья, что мы, в невежестве своём, строкой бессмертной назовем. 1968Снимок
Улыбкой юности и славы чуть припугнув, но не отторгнув, от лени или для забавы так села, как велел фотограф. Лишь в благоденствии и лете, при вечном детстве небосвода клянётся ей в Оспедалетти апрель двенадцатого года. Сложила на коленях руки, глядит из кружевного нимба. И тень её грядущей муки защёлкнута ловушкой снимка. С тем — через «ять» — сырым и нежным апрелем слившись воедино, как в янтаре окаменевшем, она пребудет невредима. И запоздалый соглядатай застанет на исходе века тот профиль нежно-угловатый, вовек сохранный в сгустке света. Какой покой в нарядной даме, в чьём чётком облике и лике прочесть известие о даре так просто, как названье книги. Кто эту горестную мету, оттиснутую без помарок, и этот лоб, и чёлку эту себе выпрашивал в подарок? Что ей самой в её портрете? Пожмёт плечами: как угодно! И выведет: Оспедалетти. Апрель двенадцатого года. Как на земле свежо и рано! Грядущий день, дай ей отсрочку! Пускай она допишет: «Анна Ахматова» — и капнет точку. 1973«Я завидую ей — молодой…»
Я завидую ей — молодой и худой, как рабы на галере: горячей, чем рабыни в гареме, возжигала зрачок золотой и глядела, как вместе горели две зари по-над невской водой. Это имя, каким назвалась, потому что сама захотела, — нарушенье черты и предела и востока незваная власть, так — на северный край чистотела вдруг — персидской сирени напасть. Но её и моё имена были схожи основой кромешной лишь однажды взглянула с усмешкой, как метелью лицо обмела. Что же было мне делать — посмевшей зваться так, как назвали меня? Я завидую ей — молодой до печали, но до упаданья головою в ладонь, до страданья, я завидую ей же — седой в час, когда не прервали свиданья две зари по-над невской водой. Да, как колокол, грузной, седой, с вещим слухом, окликнутым зовом, то ли голосом чьим-то, то ль звоном, излучённым звездой и звездой, с этим неописуемым зобом, полным песни, уже неземной. Я завидую ей — меж корней, нищей пленнице рая и ада. О, когда б я была так богата, что мне прелесть оставшихся дней? Но я знаю, какая расплата за судьбу быть не мною, а ей. 1974Так вот какова эта ночь…
Прощаясь с Павлом Григорьевичем Антокольским
Так вот какова эта ночь на самом деле. Темно, и в мозгу — стороннее причитание безутешного пульса: где ты сейчас, где ты, любовь моя, радость? Там, где твой мальчик в шинели, там, где твоя Зоя, там, где настигну тебя. Но где это? Почему это так непроницаемо для мысли? Или это запёкшееся, изнывающее место в груди, видимо, главное в ночной муке, и есть твоё нынешнее вместилище, твоя запасная возможность быть и страдать?
Давно, трепеща за него и обрываясь, душа уже попадала в эту ночь из предыдущего времени, примеряла к себе её неподъёмность, но в должный час оказалась неопытной, не готовой перенести. И сам он, зимою сидючи со мною на кухне, описывал мне эту ночь, предписывая и утешая, но и вглядываясь в неё особенным взором, стараясь разглядеть. Как тяжек тоща мне был этот взор, а ведь это было счастье: он издалека смотрел на эту ночь, он был жив. Я сказала: «Полно, полно! Я не собираюсь доживать до этого!» — чем испугала и расстроила его, и он прикрикнул: «Молчи!»
Вот по его вышло, не по-моему. А я и впрямь не собиралась, не умела вообразить этого. Из нас никто никогда не жил и не обходился без него, этому только предстоит учиться. Мы родились — он обрадовался нам, мы очнулись от детства — он уже ждал, протягивая навстречу руки, мы старились — он благословлял нашу молодость. Мы разнежились в этой длительности, обманчиво похожей на бесконечность. Простое знание, что он — несомненно — чудо, было на стороне не тревоги, а детской надежды: он будет всегда, без него ничего не бывает.
Впервые я увидела его осенью 1955 года: он летел по ту сторону окон, чтобы вскоре влететь. Пока же было видно, как летит, воздев палку, издавая приветственный шум. Меня поразили его свирепая доброжелательность и его хрупкость, столь способная облечь и вытерпеть мощь, пыл, азарт. Он летел, неся деньги человеку, который тоща был молод, беден и захворал. Более с ним не разминувшись, я вскоре поняла, что его положение и занятие в пространстве и есть этот полет, прыжок, имеющий целью отдать и помочь. В его существе обитала непрестанная мысль о чьей-то нужде и невзгоде. Об этом же были его последние слова дочери Наталии Павловне Раздаривание — стихов, книг, вещей, вещиц, взглядов, объятий и всего, из чего он неисчислимо состоял, — вот его труд и досуг, прибыль расточителя, бушующего и не убывающего, как прибой: низвергаясь и множась.
И вот, мыкаясь в этой ночи, до которой довелось-таки дожить, что сейчас кажется мне пронырливым, хитроумно-живучим, я считаю всё, данное им. Без жалости к себе я знаю, что взяла все его дары и подарки, и это единственное, что я для него сделала. Я не удержала его жизни — пусть вычитанием дней из своей. То есть они вычтены, конечно, но уже без пользы для него, наоборот. Долго идя к нему в последний раз, я опоздала на час — навсегда. Почему, пока мы живы, мы так грубы, бестолковы и никуда не успеваем? Он успевал проведать любую простуду и осведомиться о благополучии всех, и собаки.
И как сформулировать то, что подлежит лишь художественной огласке? Он это знал, когда писал о Сыне и Зое Бажановой.
Чтобы описать эту ночь, предоставленную нам для мысли о том, что он приходился нам жизнью, эту степень нашего родства с ним, — надо писать, а здравого ума пока нет.
Я знаю, что книги остаются. Я убедилась в этом, открывая его книги на исходе ночи, когда проступал уже день, обезображенный его отсутствием, понимаю, конечно, что просто новый день ни в чём не повинный. Он продолжал оставаться чудом: жалел и ободрял, и его обычный голос отвечал мне любовно и внятно.
Я знаю его внуков и правнуков, в которых длится бег его крови.
Знаю, что жизнь его обращена к стольким людям, сколько есть их на белом свете, и это не может быть безответно и бесследно.
Но на самом деле я знаю, что утешения нет.
1978Павлу Антокольскому
I Официант в поношенном крахмале опасливо глядит издалека, а за столом — цветут цветы в кармане и молодость снедает старика. Он — не старик. Он — семь чертей пригожих. Он, палкою по воздуху стуча, летит мимо испуганных прохожих, едва им доставая до плеча. Он — десять дровосеков с топорами, дай помахать и хлебом не корми! Пижонский, что ли, это темперамент и эти загорания в крови? Да что считать! Не поддаётся счёту тот, кто — один. На белом свете он — один всего лишь. Но заглянем в щёлку. Он — девять дэвов, правда, мой Симон? Я пью вино, и пьёт старик бедовый, потрескивая на манер огня. Он — не старик. Он — перезвон бидонный. Он — мускулы под кожею коня. Всё — чепуха. Сидит старик усталый. Движение есть расточенье сил. Он скорбный взгляд в далёкое уставил. Он старости, он отдыха просил. А жизнь — тревога за себя, за младших, неисполненье давешних надежд. А где же — Сын? Где этот строгий мальчик, который вырос и шинель надел? Вот молодые говорят степенно; как вы бодры… вам сорока не дашь… Молчали бы, летая по ступеням! Легко ль… на пятый… возойти… этаж… Но что-то — есть: настойчивей! крылатей! То ль всплеск воды, то ль проблеск карасей! Оно гудит под пологом кровати, закруживает, словно карусель. Ах, этот стол запляшет косоного, ах, всё, что есть, оставит позади. Не иссякай, бессмертный Казанова! Девчонку на колени посади! Бесчинствуй и пофыркивай моторно. В чужом дому плачь домовым в трубе. Пусть женщина, капризница, мотовка, тебя целует и грозит тебе. Запри её! Пускай она стучится! Нет, отпусти! На тройке прокати! Всё впереди, чему должно случиться! Оно ещё случится. Погоди. 1956 II Двадцать два, значит, года тому дню и мне восемнадцатилетней, или сколько мне — в этой, уму ныне чуждой поре, предпоследней перед жизнью, последним, что есть… Кахетинского яства нарядность, о, глядеть бы! Но сказано: ешь. Я беспечна и ем ненаглядность. Это всё происходит в Москве. Виноград — подношенье Симона. Я настолько моложе, чем все остальные, настолько свободна, что впервые сидим мы втроём, и никто не отторгнут могилой, и ещё я зову стариком Вас, ровесник мой младший и милый. 1978Миг бытия
О Павле Григорьевиче Антокольском не хочу думать в прошедшем времени: он родился, ему 100 лет, я привыкла праздником отмечать день его рождения. Не во мне дело — в его безмерной сердечной расточительности, дарительности: было с кем возиться, за кого просить, ходить, чтобы книжку издали, пластинку выпустили.
Время Антокольского — не умственность, всегда терзающая ум отвлечённость, это время, впрямую нас касающееся.
Антокольский делал нас соучастниками времени и истории, того, что нам по возрасту или по другим недостаткам было недоступно.
Как-то спросила у Павла Григорьевича: «Вы этого не помните? Это было до начала Первой мировой войны». Антокольский отвечает: «Как это я не помню? Я уже был весьма… Ты что, меня совсем за дурака держишь?»
Начало века. Павел Григорьевич предъявил нам это время не как хрестоматийное, а как живое сведение.
Мы говорим: Антокольский и театр, Антокольский много сделал для театра. Он и сам был театром. Как он читал «Я помню чудное мгновенье…», как читал «Вакхическую песню», когда вино разливали по бокалам…
Антокольский был театр в высоком смысле этого слова, любил изображать и показывать, как читали Блок, Брюсов, Белый. Я не знаю, как на самом деле это было, знаю лишь по собственному представлению. Но я любовалась Антокольским. Слуха и взора нельзя было отстранить. Поэт никому ничего не должен, но человек обязан быть утешительным театром да другого человека. Мне не нравится, когда человеческое лицо являет собою скушное, незахватывающее зрелище. Человек обязан человечеству служить или развлечением, или поучением, или защитой от душераздирающих действий; лицо — всегда портрет взлёта души Антокольский многих учеников возымел, никого не поучал.
Начало века. 10-е годы. Первая мировая война. 20-е годы для Антокольского отрадны. Смерть Гумилёва, смерть Блока — больно, боль не проходит, никогда, но — театр Вахтангова, Зоя Бажанова, общее возбуждение, сопряжённое со всякими драматическими обстоятельствами. 30-е годы. Когда мы читаем Антокольского, читаем ещё что-то за тем, над тем, что написано. Всё это надо было снести и из всего этого выйти. 40-е годы. Война, гибель Володи, сына. 50-е годы. Обвинения в космополитизме.
Первый раз я увидела Павла Григорьевича Антокольского много лет назад, больше, чем умею сосчитать. Он шёл помочь другому, поэту, который вскоре станет знаменит. А тогда ему просто нужна была эта щедрая и благородная помощь. Сначала я увидела, как летит трость по воздуху, затем явился и сам даритель, пришедший помочь другому. Потом — я тогда была молода — в ресторане я диву далась, увидев этого человека в полном его действии: свобода слов и движений.
Вспоминаю день рождения Антокольского, на даче. Зоя, собака Боцман, кот Серик. Домработница Дуся накрывает стол. Мы сидим: Зоя Константиновна, Павел Григорьевич и я, как счастливица. Тогда я не понимала, что я — счастливица. Меня уже снедала, брала тоска, чего-то как будто не хватало, что-то мешало. Тогда я не знала, что вот он — счастливый миг моего бытия. Теперь знаю, что счастье есть осознанный миг бытия.
Дуся стол накрывает, вдруг — крик Дуси: «Пятух! Пятух! Чисто пятух!» Какой петух? Побежала смотреть. А это грач сидел, в нём отражалась радуга небес, в его чёрных перьях. Он сверкал, как фазан, нет, семицветно, как радуга. Ослепительность этого мгновения я запомнила. Вскоре приехали Чиковани — Симон и Марика.
Теперь я думаю, что мы не успеваем узнать своё счастье. Если ты это поймёшь, ты преуспел, этого довольно. Если всё чего-то хочешь и алчешь — навеки несчастен.
Думаю и пишу об Антокольском. И не могу не думать и не написать о Зое Константиновне Бажановой, артистке театра Вахтангова. Зоя — Муза, Зоя — хозяйка очага, отрадного для всякого путника, Зоя — источник радушия.
Зоя Константиновна влияла на совесть других людей. Меня звала «Эльф». Когда Зоя Константиновна видела что-нибудь плохое, нечто не совпадающее с опрятностью поведения, говорила: «Боже, я, как Петроний, умру от отвращения». Узнала потом, как умер бедный Петроний: от отвращения и умер.
Антокольский и Зоя — отсутствие плоти, негромоздкость, грациозность. Зоя Константиновна — вождь и вдохновитель совести. Как-то Павел Григорьевич был болен, а от него чего-то хотели, может быть, и пустяка, но это не совпадало с его намерениями. Лучше бы он сделал это, чего от него хотели? Зоя Константиновна не согласилась. Тогда они сказали, что, если он не сделает так, как они ему приказывают, они лифт ему не сделают. Зоя Константиновна ответила твёрдо: «И не надо. Жили без лифта и проживём» (у Павла Григорьевича был инфаркт, жили они на 5-м этаже).
В 1970 году Павел Григорьевич мне сказал: «Я хочу тебя спросить». — «Спрашивайте, Павел Григорьевич». — «Я хочу выйти из партии». — «Из какой?» — «А ты не знаешь? Из коммунистической. Я от них устал. Не могу больше». — «Павел Григорьевич, умоляю, нижайше прошу Вас, не делайте этого. Я тоже устала — за меньшее время…»
Сидим в мастерской на Поварской с водопроводчиком дядей Ваней, который не любил водопроводную трубу и Мичурина. Беседуем о Мичурине. Неожиданно влетает Павел Григорьевич с тростью. Познакомились: «Иван». — «Павел». Беседа продолжалась, сразу же подружились, и уже как друзья возымели маленькое пререкание. Павел Григорьевич спрашивает. «Белла, кем тебе приходится этот человек?» — «Павел Григорьевич, этот человек приходится мне водопроводчиком этого дома». Павел Григорьевич вспорхнул со стула, бросился к дяде Ване и поцеловал его руку. Тот очень удивился: с ним такого прежде не бывало.
…Павел Григорьевич захотел проведать могилу Бориса Леонидовича Пастернака. Тропинка многими и мною протоптана. Был март. Когда мы добрались до кладбища, пошёл сильный снег. Стало смеркаться, и быстро смерклось. Мы долго плутали по кладбищу. Сквозь пургу, сквозь темноту всё-таки дошли до могилы. У могилы Павел Григорьевич вскричал: «Борис! Борис! Прости!» За что просил прощения? — я никакой вины Антокольского не знаю. Или просто прощался?
Снова вспоминаю дарительные, ободряющие жесты Павла Григорьевича. Так бросился он к Шукшину, так — к Высоцкому. Павел Григорьевич всегда был очарован, прельщён талантом другого человека. Для меня это и есть доказательство совершенного таланта.
Есть книги, неопубликованные сочинения, но это уже дело литературоведов. Я ученик его и обожатель.
1996Среди долины ровныя…
Недавно я получила от глубокоуважаемой госпожи Нелли Биуль-Зедгинидзе книгу: «Литературная критика журнала „Новый мир“ А. Т. Твардовского (1958–1970 гг.)» — с предшествующей надписью: «На память об эпохе». Весомый и обстоятельный том содержит замечательно тщательное, кропотливое и доблестное исследование всех свершений и злоключений знаменитого журнала. В многотрудном реестре действует множество событий, перипетий, грозных вмешательств и мелких козней, присутствуют неисчислимые лица и характеры, мельком упоминаюсь даже я. Это незначительное обстоятельство живо вернуло мне упомянутую эпоху — «чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй», имевшее некоторые промашки и огрехи. На соотношение с ним, пусть косвенное, уходила жизнь, но кое-что спасительно оставалось на разживу. Исчерпывающая серьёзность книги и других трудов освобождает меня от многозначительных рассуждений, дозволяя лёгкость или легкомыслие воспоминаний.
Долгое время я соседствовала с Александром Трифоновичем Твардовским в дачном подмосковном посёлке. Его придирчивость к новому литературному поколению поначалу распространялась и на меня, но вскоре сменилась прямой милостью и снисходительностью. Это соседство казалось моему отцу несоразмерным и непозволительным: Василий Тёркин был главным сподвижником и любимцем его солдатской жизни. После войны, раненый и контуженный, он часто бредил и, не просыпаясь, громко читал отрывки из поэмы, просвещая мои детские ночи. Впоследствии мы в два голоса читали классическое стихотворение «Из фронтовой потёртой книжки», до сих пор мной любимое.
Мои вид и повадка его смущали. Однажды, уже расположившись ко мне, он робко спросил: «Уж если непременно надо носить брюки, — нельзя ли — чтобы чёрные?»
Моё пылкое отношение к Пастернаку, изъявленное и в стихах, Твардовский находил чрезмерным, незрелым и витиеватым. Стихи, с прозой внутри, дороги мне и теперь: они вживе сохранили для меня случайную встречу с Борисом Леонидовичем глубокой переделкинской осенью 1959 года. В посвящение ему я уже была исключена из Литературного института, мелкие невзгоды и угрозы льнули ко мне, но что значил этот воспитующий вздор вблизи его лица, голоса, ласкового приглашения зайти, которому я, от обожания, не откликнулась? Гонения и издевательства, павшие на Пастернака, Твардовский близко, но неопределённо принимал к сердцу. Не знаю, мог ли он тогда примерять к себе крайнюю степень возвышенного, оскорблённого, недоумевающего одиночества, разрушающего организм, причиняющего болезнь и смерть.
По мере жизни и бесед его рассуждения об Ахматовой и Цветаевой становились всё мягче и проницательнее. Анна Андреевна особенно понравилась ему в Италии, он покорно принял на себя власть её стати и голоса, отметив, как, отвергнув поднесённый бокал, она величественно и твёрдо сказала: «Благодарю вас, но дайте-ка мне рюмку водки».
Нас сблизила страсть к Бунину, открытому ему в молодости смоленским учителем. Меня он недоверчиво и ревниво спросил: «Это вы-то знаете Бунина?» Я и тогда говорила, что сочинения Бунина возвращают мне отъятую урождённость земли и речи, осязаемую и обоняемую как явь. Об унижении запрета ответить Бунину он умалчивал, но видно было, что оно не заживало.
Твардовского забавляло и чем-то радовало, что, несмотря на его повторяющиеся приглашения, я не печаталась в «Новом мире»: чем приветливее он был, тем менее приходило мне в голову ему докучать. Стихов ему я тоже не читала. Однажды он настоял, и я прочла длинное стихотворение, посвящённое Цветаевой. Он удивился: «И всё это вы помните наизусть?»
Чаще всего мы встречались в милом, радушном доме Верейских: с Орестом Георгиевичем, Ориком, Твардовский был очень дружен ещё с военных времён. Являлись гости, завсегдатаями были Наталия Иосифовна Ильина и Александр Александрович Реформатский, жизнь щедро обманывала нас шутками и радостями застолья. Иногда и я рассказывала смешные истории, угождая Твардовскому простонародными словечками и оборотами, изображая разных персонажей, подчас зловещих. Про последних он как-то со вздохом обмолвился: «Эх, делали бы они столько зла, сколько надобно им для прожитку, так нет — всегда с запасом, с излишком».
Твардовский неизменно называл меня: Изабелла Ахатовна, выговаривая моё паспортное имя, как некий заморский чин. Однажды, опустившись передо мной на колено, он важно-шутливо провозгласил: «Первый поэт республики у ваших ног». Я отозвалась: «А вы всё это называете республикой?»
Думаю, что первым поэтом условной республики он себя ответственно и тяжело ощущал. Так и в учебниках было объявлено, так он и смотрелся: непререкаемо-крупный, недоступный для бойкой докуки. Но бремя это, чтимое окружающими, утяжелялось и оспоривалось препонами, придирками, стопорами, искушениями уловок, уступок, косвенных поисков выхода. Для преодоления всего этого было бы сподручней уродиться чем-то более мелким, прытким и уклончивым. Русский язык был его исконным родовым владением, оберегаемым от потрав и набегов. И перу подчас приходилось опасаться сторонней опеки, но, в добром расположении духа, говорил он замечательно. Его полноводная речь наступательно двигалась, медля в ложбинах раздумья, вздымаясь на гористые подъёмы деепричастных оборотов, упадая с них точно в цель. Некоторые слова были для меня прародительно новы — я запоминала и спрашивала Даля.
Казалось бы, это была избранная достопочтенная среда, оснащённая дачными угодьями и достатком. Но время продиралось сквозь изгороди и садовые заросли, вмешивалось в обеденные ритуалы террас разговорами об арестах и обысках. Будоражили мысль и совесть прибывающие свежие таланты, особенно — благородная проголодь гонимых питерских корифеев, по счастью, еще с юности моей, меня привечавших.
Но, конечно, главное было — Солженицын. Его разразившееся явление потрясло и переменило жизнь, во всяком случае мою.
Неповоротливая, привычно удушающая эпоха перестала казаться непоправимо бесконечной. Раньше никто, даже самым смелым помыслом, не надеялся её пережить. Вдохновению слабых надежд сопутствовали сильные дурные предчувствия.
Уезжая в редакцию и возвращаясь, Твардовский был нелюдим и мрачен. Окрестная природа предлагала свои кроткие утешения. (Одно моё описание её благолепия кончалось так: «Никто не знал, как мука велика за дверью моего уединенья».)
В зимнем лесу я часто встречала приметные следы Твардовского. Он шёл медленно, грузно, там, где он останавливался, его палка оставляла на снегу глубокую тёмную вмятину, как бы помечавшую место его особенно печального раздумья. Его подавленность я относила не только к «Новому миру», но и ко всему ходу жизни, к молодости, к роковому раскулачиванию его семьи, об этом — упаси Бог! — мы никогда не говорили. Вернувшись с похорон матери, он долго молчал, потом удручённо выговорил: «Только копань остался от всего, что было».
(Во внимательных скобках замечу, что воспоминания Ивана Трифоновича Твардовского, появившиеся в печати много позже, поразили меня силой и простотой художественного слога. Я возразила Наталье Ильиной, что я не углядела в них укоризны, бросающей тень на не сумевшего помочь брата. Только горе, безысходное общее горе вставало из скорбного бесхитростного повествования. Моё сострадание к Твардовскому, постоянно нёсшему испепеляющую, не прощённую себе вину, лишь усилилось и многое прояснило в его тяжёлых молчаниях и умолчаниях.)
Как-то мы сидели в поздних сумерках, при сильном запахе влажных предосенних флоксов. Бледно-голубые глаза Твардовского серебряно светились. Он таинственно и тихо заговорил: «А вот что случилось у нас на Смоленщине с одним кузнецом. Только пробило полночь, как слышит он: кто-то стучит кнутовищем в кузню и покрикивает, да так протяжно, властно: „Кузнец, а кузнец, отвори ворота“. Делать нечего, кузнец отворил. Видит тройку коней, у седока лицо тёмное, сокрытое. Тот ему, словно в насмешку: „Что, кузнец, можешь подковать моих лошадей?“ Спорить не стал, начал с левой пристяжной. Заглянул ей сбоку в морду, а это и не морда вовсе, а лицо Маланьи, что о прошлый год в пруду утопилась. Видит кузнец: дело-то нечисто, да отступать боязно. А правая пристяжная — точь-в-точь сосед Степан, его на сенокосе молоньёй убило. Коренник не хотел себя показывать, воротил рожу, но скалился по-знакомому — был у нас пришлый лихой мужик, озоровал на дорогах. Седок поблагодарил: „Ты — добрый кузнец, откинь-ка фартук, я тебе награды насыплю“. Насыпал в большой кожаный фартук видимо-невидимо золота — и укатил. Кузнец очухался, заглянул в фартук, а там не золото, а — неловко сказать — говно. Вот: подсобил вражьей силе».
В доверительном, волнующем рассказе я не усомнилась. Сторонне желалось для Твардовского другой жизни, другого детства, с ребятишками, скачущими в ночное, с шёпотами у костра на Бежином или другом лугу, да, видать, не обойтись нам без вмешательства «вражьей силы».
История мне полюбилась. Однажды, при многих людях, я попросила рассказчика повторить её. Он сурово, с гневом и обидой, меня одёрнул, словно я дерзнула предать грубой огласке доверенную мне тайну. Потом я прочла у Бунина очень похожую запись, но одно другому не мешает: в разных губерниях водятся родственные небылицы, легко принимаемые за собственный опыт.
Всё племя леших, водяных, домовых и прочих их сородичей Твардовский по-крестьянски, не без тайного уважения, величал: «ОНИ». Я сказала: «Ваши „ОНИ“ — существа, в общем, игривые и безобидные, и креста боятся. А я, вкратце, говорю „ОНИ“ про других, действительно страшных». — «Это про кого же?» — помрачнел и напрягся Твардовский. — «Да про всех вредителей живой жизни, вам лине знать? Это „ОНИ“ глумятся над вами и вашим журналом всем людям от них продыху нет, и от них не открестишься». Твардовский очень осерчал и прикрикнул на меня. «Вы не смеете об этом судить! Вы — главного не видите. А в главном — мы всегда были правы!» Это схематическое отвратительное главное давно мне наскучило, я разозлилась: «А вы себя в „ОНИ“ зачислили? Всё я вижу! Для „НИХ“ главным всегда было уничтожать, душегубствовать, раскулачивать!» Твардовский поднялся, стукнул палкой: «Если бы вы были в моём доме, я попросил бы вас выйти вон!» Размолвка происходила у Антокольских, и хрупкая доблестная Зоя Константиновна бросилась на мою защиту: «Александр Трифонович, пока ещё вы в моём доме и сами можете выйти, если хотите». Это было так неожиданно и слишком, что все невольно смягчились. Антокольский засмеялся, Твардовский сел, опершись подбородком на набалдашник подобревшей палки. Я подытожила: «Александр Трифонович, разговор с вами вот так выглядит, — я построила из рук треугольник, широко разведя локти и сомкнув пальцы, — начинаешь на равных и заходишь в тупик. А следовало бы вот так», — я свела локти и обратила отверстые ладони к предполагаемому мирозданию. «Это что же за фигура такая?» — заинтересовался он. «Это наглядное пособие я сейчас специально для вас придумала». — «Ну, это ещё куда ни шло, а я было испугался, подумал: сюрреализм».
Некоторые невинные «сюрреализмы» с нами порой случались. Вьюжным мартовским вечером сидели мы у Верейских. Твардовский пришёл с опозданием и, по обыкновению последнего времени, выглядел угрюмым, раздражительным, утомлённым. Рюмка ненадолго его оживляла. Грустно было видеть, как малою помощью вина пытался он облегчить необоримую душевную тяжесть. Расслабившись в тепле при близкой заоконной вьюге, потягивая вино, все несколько рассеянно слушали разговорившегося Твардовского, то и дело возвращавшегося к снедающей его теме «Нового мира». Взоры были обращены к собаке Дымке. Разлёгшись у камина, чуя ласковое внимание, она переворачивалась с боку на бок, укладывалась на спину и, закинув голову, оглядывала зрительскую публику. Пламя отражалось в её длинной серебряной шерсти. Её отвлекающее соперничество стало раздражать Твардовского, признававшегося в сокровенном, насущном. Он заметил, что собаке так же естественно находиться в сторожевой будке, как прочей скотине в хлеву. Вдруг у калитки позвонили. Оказалось, что за мной заехала искавшая меня компания. В снежных вихрях я различила моего дорогого, задушевного друга художника Юрия Васильева со спутниками. Он объяснил, что это — замечательное художественное семейство Дени (Денисовых), но главная удача и радость заключалась в том, что вместе с ними прибыла обезьяна Яша — для моего потрясения и восхищения. Мы направились к дому, где я жила, Твардовский заявил, что крепко привадился к главенствующему обществу животных, и теперь — куда обезьяна, туда и он.
Наскоро собрали на стол. Яша, в красном кафтанчике, с неудовольствием проверил угощение. Художник Дени благодарил Твардовского: «Я знаю, что это не вы, но всё равно спасибо, низкий поклон вам от всей земли русской!» Когда его уверили, что подделки нет, он впал в неистовое вдохновение декламации и поминутно простирал руки к окну, к буре и мгле. Я бы не удивилась, если бы нас проведал седок, правящий тройкой. Жена художника оказалась прекрасной певуньей и несколько раз спела «Летят утки…», чем очень растрогала и утешила Твардовского. Часто встречаясь с ним, я редко видела его лицо ясным, открытым, словно он привык оборонять его урождённое беззащитное добродушие от любопытного или дурного глаза. Твардовский затянул: «Славное море, священный Байкал…» Кажется, этой замечательной, любимой им, песней он проговаривался о чём-то подлинно главном, при словах «волю почуя…» усиливая голос и важное, грозное лицо, высоко вздымая указательный палец.
Напитки быстро иссякали, я вспомнила о початой бутылке джина, Твардовский гнушался чужестранными зельями, но сейчас с предвкушением, большим отвращения, смотрел на последнюю полную рюмку. В это время обезьяна Яша, учёный человеческим порокам, схватил рюмку и дымившуюся «Ароматную» сигарету Твардовского и вознёсся на шкаф, где и уселся, лакомясь добычей и развязно помахивая ножкой.
Твардовский всерьёз обиделся и стал одеваться. Собрались в долгую дорогу и другие гости. Со мной остались Яша и молоденькая дочка Денисовых, красивая молчаливая девочка, столь печальная, что грусть её казалась не настроением, а недугом. Она сразу же ушла в душ и долго не возвращалась. Яша, привязанный поводком к ножке шкафа, смотрел на меня трагическим и неприязненным взглядом. Я отвязала его, и он больно ущипнул меня за щёку. Я хотела уйти, но он догнал меня и обнял за шею маленькими холодными ладошками: никого другого у него не было в чужой, холодной, метельной ночи. Мне сделалось нестерпимо жалко его крошечного озябшего тельца, да и всех нас: Юру Васильева, недавно упавшего с инфарктом на пороге Союза художников после очередных наставлений, эту девочку, осенённую неведомым несчастьем, Твардовского с его «Новым миром», обречённо бредущего сквозь пургу. Все мы показались мне одинокими неприкаянными путниками, и дрожащая фигурка Яши как бы олицетворяла общее разрозненное сиротство.
В 1965 году затевалась помпезная и представительная поездка русских поэтов во Францию. Я о ней и не помышляла: за мной всегда числились грехи, но Твардовский решительно настаивал на моём участии. Он взял меня с собой в ЦК. Я дичилась, и он крепко вёл меня за руку по дремучим коридорам. Встречные приветствовали его по-свойски, без лишнего подобострастия. В одном кабинете он ненадолго оставил меня. Беседа была краткой: «Есть решение: вы поедете. САМ за вас партийным билетом поручился, так что — смотрите».
«Ну вот, — засмеялся Твардовский, — отправимся мы с вами, как Левша, смотреть заграничные виды».
Парижа, пленительно обитавшего в воображении, я как бы не застала на месте. Нет, Париж, разумеется, был во всём своём избыточном блеске, загодя были возожжены Рождественские ёлки, витрины сияли, беспечные дамы и господа посиживали в открытых кафе. Я двигалась мимо всего этого, словно таща на спине поклажу отдельного неказистого опыта, отличающего меня от прочей публики. Ночью я смотрела в окно на огни бульвара Распай, на автомобили с громко переговаривающимися и смеющимися пассажирами, на высоких красавиц, беззаботно влачивших полы манто по мокрому асфальту, и улыбалась: «Превосходно, жаль только, что — неправда». Опровергая подозрение в нереальности, утром в номер подавали кофе с круассанами, Эйфелева башня и Триумфальная арка были литературны, но вполне достоверны. Меж тем советская делегация привлекала к себе внимание, в основном посвящённое Твардовскому. Каждое утро, в десять часов, в баре отеля его поджидали журналисты. Он отвечал им спокойно, величественно, иногда — раздражённо и надменно: дескать, куда вам, французам, разобраться в наших особых и суверенных делах. На пресс-конференциях наиболее «каверзные» вопросы — главным образом, об арестованных Синявском и Даниэле — храбро принимал на себя Сурков. Его ораторский апломб, ссылавшийся на новые изыскания следствия и точное соблюдение отечественных законов, туманил и утомлял здравомыслие прытких корреспондентов, и они отступались. Торжественное выступление русских поэтов в огромном зале и отдельный вечер Вознесенского и мой прошли с успехом.
Усилиями Эльзы Триоле была издана по-французски обширная антология русской поэзии, её покупали, с присутствующими авторами искали знакомства. Официальным ходом громоздких, пышно обставленных событий, да, по-моему, и всем положением советской литературы во мнении французского общества, единовластно ведала Эльза Триоле, Арагон солидно и молчаливо сопутствовал. Твардовский тайком бросал на них иронические проницательные взгляды. Эльза Юрьевна не скрывала своей неприязни ко мне: на сцене приостановила моё, ободренное аплодисментами, чтение, потом, у неё дома, когда Кирсанов, переживавший её ко мне немилость, попросил меня прочитать посвящение Пастернаку, с негодованием отозвалась и о стихах, и о предмете восхищения. Всё это не мешало мне без всякой враждебности принимать её остроту, язвительность, злоязычие за некоторое совершенство, точно уравновешивающее обилие обратных качеств, существующих в мире. Она удивилась, когда я похвалила её перевод «Путешествия на край ночи» Луи Селина, тогда мало известный.
Вынужденно соблюдая правила гостеприимства, Триоде и Арагон пригласили меня и Вознесенского на премьерный концерт певца Джонни Холлидея. Среди разноликой толчеи, сновавшей вокруг нашей группы, выделялась экспансивная дама русского происхождения. Восклицая: «Наш Трифоныч!», она постоянно норовила обнимать и тискать Твардовского, от чего он страдальчески уклонялся. Она объявила мне, что появиться в театре «Олимпия» без шубы — неприлично и позорно для нас и наших пригласителей. Обрядив меня в своё норковое манто и атласные перчатки, она строго напутствовала меня: «Не вздумай проговориться, что манто — не твоё». Наши места были на балконе, и сверху я с восхищением озирала парижские божества, порхающие и блистающие в партере при вспышках камер. Эльза Юрьевна утомлённо прикрыла рукой лицо от одинокого фотографа «Юманите». С пронзительной женственностью оглядев меня, она тут же спросила: «Это манто вы купили в Париже?» — «Это не моё манто», — простодушно ответила я, о чём, неодобрительным шёпотом, было доложено Арагону. Жалея бумаги, всё же добавлю: в Москве я должна была передать маленькую посылку сестры Лиле Юрьевне Брик. Было очень холодно, и моя приятельница закутала меня в свой каракуль. «Это манто вы купили в Париже?» — незамедлительно спросила Лиля Юрьевна. Ответ был тот же. Сразу зазвонил телефон из Парижа, и в возбуждённой беседе сестёр слово «манто» было легко узнаваемо.
В Париже Твардовский чувствовал себя скованно, тяжеловесно, не сообщительно. И Париж был не по нему, и мысли о Москве угнетали. Как-то посетовал: «Не только говорить — мы и ходить, как они, не умеем, словно увечные на физкультпараде. А ведь раньше любой наш повеса здесь прыгал и болтал не хуже, чем они».
Всё же мы частенько захаживали в кафе, и Твардовский дивился понятливости официантов. Однажды в «Куполе» к нам, при Триоле и Арагоне, присоединился весёлый и элегантный Пабло Неруда. Меня удивило, что к моей сухости к коммунистическим идеалам он отнёсся без всякой предвзятости, радостно заказывал рюмки и купил для меня фиалки у цветочницы. Потом он посвятил мне изящное стихотворение, полученное мной после его смерти.
Твардовский тихонько жаловался, что за ним по пятам ходит Сурков, остерегающийся возможных непредвиденностей. Я, тоже тихонько, посоветовала: «А вы — улизните».
Однажды Твардовский не спустился к журналистам ни к десяти часам, ни позже. В отеле его не было, служащие ничего о нём не знали. Сурков был охвачен паникой. Я робко спросила: «Что с вами, Алексей Александрович? На вас лица нет». Он разъярённо ответил: «У меня — ЧП!» — и ехидно добавил: «А вы, часом не в курсе дел?»
Твардовский появился после полудня, отмахнулся от Суркова и, не сказав никому ни слова, поднялся к себе в номер. Вечером мы должны были идти на приём в студенческий клуб. Никто не решался к нему обратиться, меня послали за ним. Как ни странно, он был в неплохом настроении: ему удалось-таки увильнуть от присмотра. Оказалось, что в пятом часу утра, видимо, «волю почуя!», он вышел из отеля и пошёл в неизвестном направлении. Несмотря на ранний час, в Париже было достаточно многолюдно. Он сам добрался до Сены и в предутренних сумерках разглядывал поразившие его химеры Нотр-Дам. Многие заведения были открыты. Возле одного из них он быстро подружился с толпой приветливых оборванцев, двое из них говорили по-русски. «Да и остальных я стал понимать», — заметил он с гордостью. Угощая их вином, он вместе с ними достиг «Чрева Парижа», где отведал лукового супа. (К другим парижским разносолам он относился с осторожностью и предубеждением, на одном обеде до дурноты испугавшись устриц.) «С хорошим народом познакомился, — сказал он с удовлетворением, — хоть один раз приятно провёл время».
Вечером, побаиваясь Суркова, мы старались держаться вместе. Когда стали обносить напитками, к удивлению собравшихся, он и я выбрали «Пепси-колу». «Хмель-то входит в это пойло? — брезгливо спросил Твардовский. — Недаром у нас ругают эту гадость». Сурков не знал, что и думать о нашем манёвре.
На следующий день Твардовский твёрдо объявил о своём возвращении в Москву. Перед отъездом он застенчиво сказал мне: «Пожалуйста, облегчите моё затруднение, возьмите у меня французские деньги, они мне больше не нужны, а вы остаётесь. Не могу я смотреть, как вы на каблуках ходите, — ради меня, купите себе ботинки». Я засмеялась: «Александр Трифонович, я же не ношу ботинки». — «Ну, тогда полуботинки», — жалобно попросил он.
Он и потом, в Москве, так же смущённо, потупив лицо, предлагал мне помощь, ссылаясь на то, что время трудное, и не только ему, но и мне не удастся к нему приноровиться. Может быть, мне больше, чем другим, выпало слышать мягкие, уступчивые, вопросительные изъявления его голоса.
Все внимательно следили за событиями в «Новом мире», но развитие их явственно читалось в его внешности: поступь утяжелилась, следы палки в лесном снегу становились всё более частыми и глубокими, ослабевшая открытость лица стала как бы пригласительной для грядущих невзгод.
Иногда обманное воображение самовластно рисует другую, шекспировскую картину его ухода: вольный и статный, очнувшийся в урождённом великанстве, свободно и вальяжно входит он в ничтожный кабинет и говорит: «Ну, вот что, ребята, вы надо мной всласть потешились, с меня довольно. Вы — неизвестно что за людишки, а я — Твардовский, и быть по сему».
Это измышление для меня отчётливей и убедительней унижения, угасания в их же Кремлёвской больнице и всеми оплаканной смерти. В нём было много всего, и что-то важное, сокрытое, самовольное, как счастливая парижская прогулка, утешительно для нас, он оставил себе в никем не попранное, никому не подвластное владение.
19962
Воспоминание о Грузии
Вероятно, у каждого человека есть на земле тайное и любимое пространство, которое он редко навещает, но помнит всегда и часто видит во сне. Человек живёт дома, на родине, там, где ему следует жить; занимается своим делом, устаёт и ночью, перед тем как заснуть, улыбается в темноте и думает: «Сейчас это невозможно, но когда-нибудь я снова поеду туда…»
Так думаю я о Грузии, и по ночам мне снится грузинская речь. Соблазн чужого и милого языка так увлекает, так дразнит немые губы, но как примирить в славянской гортани бурное несогласие согласных звуков, как уместить долготу гласных? Разве что во сне сумею я преодолеть косноязычие и издать этот глубокий клёкот, который всё нарастает в горле, пока не станет пением.
Мне кажется, никто не живёт в такой близости пения, как грузины. Между весельем и пением, печалью и пением, любовью и пением вовсе нет промежутка. Если грузин не поёт сейчас, то только потому, что собирается петь через минуту.
Однажды осенью в Кахетии мы сбились с дороги и спросили у старого крестьянина, куда идти. Он показал на свой дом и строго сказал: «Сюда». Мы вошли во двор, где уже сушилась чурчхела, а на ветках айвы куры вскрикивали во сне. Здесь же, под тёмным небом, хозяйка и две её дочери ловко накрыли стол.
Сбор винограда только начинался, но квеври — остроконечные, зарытые в землю кувшины — уже были полны юного, ещё не перебродившего вина, которое пьётся легко, а хмелит тяжело. Мы едва успели его отведать, а уж все пели за столом во много голосов, и каждый голос знал своё место, держался нужной высоты. В этом пении не было беспорядка, строгая, неведомая мне дисциплина управляла его многоголосьем.
Мне показалось, что долгожданная тайна языка наконец открылась мне, и я поняла прекрасный смысл этой песни: в ней была доброта, много любви, немного печали, нежная благодарность земле, воспоминание и надежда, а также всё остальное, что может быть нужно человеку в такую счастливую и лунную ночь.
1964Отрывок
Осенью минувшего года я впервые была в том Тбилиси, где нет Чиковани. Где нет Леонидзе. Город, любовно затверженный мной наизусть, но преображённый, искажённый их отсутствием, был мне нов и неведом. Как изменился вид на Метехи!
Но платаны на проспекте Руставели — розовели в честь предстоящей зимы!
Женщина, изогнувшись, освобождала окно от штор и допускала солнце к обилию цветущих холстов, к чрезмерной зрелости жёлтых роз в просторных сосудах. В огромном свете комнаты — седой, изящно сломанный в силуэте, ненаглядно красивый, шёл Ладо Гудиашвили, искоса общаясь со своими творениями. Нежные, причудливые, совершенные в прелести или заданном уродстве, они взывали к нему со стен, толпились и клубились вокруг, но всё же подлежали его власти, и он с неловкостью объяснял простой смысл их доброго значения. Чудеса продолжались, и в их обширном воздухе длилась жизнь прежних, прекрасных участников. Где-то под потолком ещё витало дивное бормотание любимого переделкинского гостя — восемь лет прошло с тех пор, как им любовались здесь в последний раз.
Душа моя возвращалась из горя, как из долгого странствия, и разве когда-нибудь отступится она от Метехи?
Тбилиси — назывался этот город, и — что мне было делать? — я вновь любила его, как ни одно другое место земли. По поводу любого места земли слух мой дольше страдает от любви, чем зрение. Память зрачков уже освобождается от лиц и пейзажей, а чужой язык ещё живёт во мне, бурно творится сам по себе, терзая меня близостью и недоступностью. Ни с одной чужой речью не общалась я так долго и близко, как с грузинской. Она вплотную обступала меня говором и пеньем, искушая неловкую славянскую гортань трудиться до кровавых ссадин, чтобы воспроизвести стычку и несогласие согласных звуков и потом отдохнуть в приволье долгого «и». Как мучалась я из-за этой, не данной мне, музыки — мне не было спасения в замкнутости, потому что вода, льющаяся из крана, внятно обращалась ко мне по-грузински.
Но наступала таинственная ночь труда, и эта речь, ещё недавно бывшая сильнее меня, лежала передо мной бездыханным подстрочником — бедная, беззащитная и нагая. Теперь от одной меня зависели её жизнь или смерть в ином языке. С течением времени я научилась мгновенно множить дословный перевод на воображаемую музыку и по подстрочнику именно грузинского стихотворения сразу же определять, с каким поэтом имею дело.
Да, нет счастья надёжнее, чем талант другого человека, единственно позволяющий быть постоянно очарованным человечеством. Кроме всей жизни, я помню ночь такого счастья, преувеличенного до чрезмерности синевой зелени за окном и предрассветными соловьями.
1967«Прекратим эти речи на миг…»
Даже если его собеседник не имел других заслуг и отличий, кроме замечательно круглых и румяных молодых щёк, а также самоуверенной склонности объединять все слова в свадебные союзы созвучий, — даже и тогда он заботливо склонял к нему острое, быстрое лицо и тратил на него весь слух, видимо полагая, что человеческие уста не могут открываться для произнесения вздора. Щёки, вздор и угрюмое желание зарифмовать всё, что есть, были моим вкладом в тот день, копи Антокольский среди московского снегопада ни за что ни про что — просто моя судьба счастливая! — впервые дарил мне Чиковани. Почему-то снег сопутствовал всем нашим последующим московским встречам, лето оставалось уделом его земли, и было видно при снеге, что слово «пальто» превосходит солидностью и размером то, что накидывал Чиковани на хрупкую худобу, — так, пёрышко, немного черноты, условная дань чуждой зиме. Так же как его «дача», его загородные владения не имели ни стен, ни потолка, ни других тяжеловесных пустяков, ничего, кроме сути: земли, неба, множества фиалок и разрушенной крепости вдали и вверху, на горе.
Обременённый лишь лёгкостью силуэта, он имел много удобств и преимуществ для того, чтобы «привлечь к себе любовь пространства»: оно само желало его, втягивало, само трудилось над быстрым лётом его походки и теперь совершенно присвоило, растворило в себе. Эта выдумка поэтов о «любви пространства» применительно к ним самим — совершенная правда. Я уверена, что не только Чиковани любил Горвашское ущелье, Атени, Алазань, но и они любили его, отличая от других путников, и по нему теперь печалится Гремская колокольня.
Теперь и сам я думаю: ужели по той дороге, странник и чудак, я проходил? Горвашское ущелье, о, подтверди, что это было так!Так это и было, он проходил, и мир, скрывающий себя от взора ленивых невежд, сверкал и сиял перед ним небывалостью причуд и расцветок. Опасно пламенели оранжевые быки, и олени оставляли свои сказочные должности, неуместно включаясь в труд молотьбы на гумне. Не говоря уже о бледной чьей-то невесте, которая радугой вырвалась из скуки одноцветья и предстала перед ним, «подобная фазану»: таинственная и ослепительная. Разум его, затуманенный волшебством сновидений, всегда был зорок и строг.
Мне снился сон — и что мне было делать? Мне снился сон — я наблюдал его. Как точен был расчёт — их было девять: дубов и дэвов. Только и всего… Я шёл и шёл за девятью морями, Число их подтверждали неспроста девять ворот, и девять плит Марабды, и девяти колодцев чистота.Казалось бы, что мне в этом таинственном числе «девять», столь пленительном для грузинского воображения, в дэвах, колодцах, в горах, напоминающих «квеври» — остроконечные сосуды для вина? Но ещё тогда, при первом снегопаде, он прельстил меня, заманил в необъяснимое родство, и мой невзрачный молодой ум впервые осенила догадка, что нет радости надёжнее, чем талант другого человека, единственно позволяющий быть постоянно очарованным человечеством. Чиковани уехал в Тбилиси, а я осталась здесь — его влюблённым и прилежным братом, и этого неопределённого звания мне навсегда хватит для гордости и сиротства. Тяжкий, драгоценный, кромешный труд перевода в связи с Чиковани был для меня блаженством — радостью было воспроизвести в гортани его речь:
И, так и не изведавшая муки, ты канула, как бедная звезда. На белом муле, о, на белом муле в Ушгули ты спустилась навсегда.Тайна этой лёгкости подлежит простой разгадке. У Чиковани и в беседах, и в мимолётных обмолвках, и в стихах предмет, который он имеет в виду, и слово, потраченное на определение предмета, точно совпадают, между ними нет разлуки, пустоты, и в этом счастливая выгода его слушателя и переводчика. Расплывчатость рассуждений, обманная многозначительность — вот где хлебнёшь горюшка.
Но я не хочу говорить о стихах, о переводах. В этом разберутся другие, многоучёные люди. Я вообще предпочла бы молчать, любить, вспоминать и печалиться, отозвавшись на его давнее приглашение к тишине, надобной природе для лепета и бормотания:
Прекратим эти речи на миг, пусть и дождь своё слово промолвит, и средь тутовых веток немых очи дремлющей птицы промоет.Ещё один снегопад был между нами. Какая была рань весны, рань жизни — ещё снег был свеж и силён, ещё никто не умер в мире — для меня. Снег, деревья, фонари, в тёплых сенях — беспорядок объятий, возгласов, таянье шапок.
— Симон и Марика! (Это Чиковани.) Павел и Зоя! (Это Антокольские.)
Кем приходятся мне эти четверо? Какое точное название даст им душа, обмершая в нестерпимой родимости и боли?
Там, пока пили вино и долгий малиновый чай, читали стихи и сетовали на малые невзгоды жизни, был ли мне дан, из другого, предстоящего возраста, знак, что это беспечное сидение впятером вкруг стола и есть счастье, быстролетящая драгоценность обстоятельств, и больше мне так не сидеть никогда?
В глаза чудес, исполненные света, всю жизнь смотрел я, не устав смотреть. О, девять раз изведавшему это не боязно однажды умереть.Из тех пятерых, сидевших за столом, двое нас осталось, и жадно смотрим мы друг на друга.
Иногда юные люди приходят ко мне. Что я скажу им? Им лучше известно, как съединять воедино перо, чернила и бумагу. Одно, одно лишь надо было бы сказать — пусть ненасытно любуются лицами тех, кого любят. В сослагательном наклонении так много печали: ему сейчас исполнилось бы семьдесят лет. Но я ничего не говорю.
Как миндаль облетел я намок! Дождь дорогу марает и моет — это он подаёт мне намёк, что не столько я стар, сколько молод. Слышишь? — в тутовых ветках немых голос птицы свежее и резче. Прекратим эти речи на миг, лишь на миг прекратим эти речи. 1973Симону Чиковани
Явиться утром в чистый север сада, в глубокий день зимы и снегопада, когда душа свободна и проста, снегов успокоителен избыток и пресной льдинки маленький напиток так развлекает и смешит уста. Всё нужное тебе — в тебе самом, — подумать и увидеть, что Симон идёт один к заснеженной ограде. О нет, зимой мой ум не так умён, чтобы поверить и спросить: — Симон, как это может быть при снегопаде? И разве ты не вовсе одинаков с твоей землёю, где, навек заплакав от нежности, всё плачет тень моя, где над Курой, в объятой Богом Мцхете, в садах зимы берут фиалки дети, их называя именем «Иа»? И коль ты здесь, кому теперь видна пустая площадь в три больших окна и цирка детский круг кому заметен? О, дома твоего беспечный храм, прилив вина и лепета к губам и пение, что следует за этим! Меж тем всё просто: рядом той это, и в наше время от зимы до лея полгода жизни, лёта два часа. И приникаю я лицом к Симону всё тем же летом, тою же зимою, когда цветам и снегу нет числа. Пускай же всё само собой идёт: сам прилетел по небу самолёт, сам самовар нам чай нальёт в стаканы. Не будем звать, но сам придёт сосед для добрых восклицаний и бесед, и голос сам заговорит стихами. Я говорю себе: твой гость с тобою, любуйся его милой худобою, возьми себе, не отпускай домой. Но уж звонит во мне звонок испуга: опять нам долго не видать друг друга в честь разницы меж летом и зимой. Простились, ничего не говоря. Я предалась заботам января, вздохнув во сне легко и сокровенно. И снова я тоскую поутру. И в сад иду, и веточку беру, и на снегу пишу я: Сакартвело. 1963День, ведущий к Анне…
Речь об Анне Каландадзе, об Анне, о торжественном дне её рождения, но прежде — о былом, о скромном дне рождения цветов миндаля на склонах Мтацминды, о марте, бывшем давно. Какая весна затевалась! Я проснулась поутру, потому что дети в доме напротив, во множестве усевшись на подоконник, играли в зеркало и в солнце и посылали огонь в моё окно, радио гремело: «У любви, как у пташки, крылья…» Начинался день, ведущий к Анне, ослики по дороге во Мцхету кричали о весне, и сколько же там было анемонов! А у Симона Чиковани, у совершенно живого, невредимого, остро-зрячего Симона, дача была неподалёку — что за дача: дома нет, зато земли и неба в избытке, за рекой, на горе, чётко видны развалины стройных древних камней, и виноградник уже очнулся от зимней спячки, уже хлопотал о незримом изначалье вина. Люди, оснащённые высшим даром, имеют свойство дарить нам себя и других. Сиял день весны, Симон был жив и здоров, но подарки ещё не иссякли, и Симон восклицал: «Кацо, ты не знаешь Анны, но ты узнаешь: Анна — прекрасна!» К вечеру я уже знала, что Анна — прекрасна, большой поэт, и её язык, собственный, ведомый только ей, не меньше всего грузинского языка по объёму и прелести звучания. На крайнем исходе дня пришла маленькая Анна, маленькая, говорю потому, что облик её поразил и растрогал меня хрупкостью очертаний, серьёзнейшей скромностью и тишиной — о, такие не суетятся, мыслят и говорят лишь впопад и не совершают лишних поступков.
Потом, в Москве, в счастливом уединении, я переводила стихотворения Анны Каландадзе, составившие её первую русскую книгу — совсем маленькую, изданную в Тбилиси. Спасибо, Анна, — я наслаждалась. В тесной комнате с зелёными обоями плыли облака Хетты, Мидии, Урарту, боярышник шелестел, витали имена земли: Бетания, Шиомгвими, Орцхали… Анна была очевидна и воздушно чиста, и сколько Грузии сосредоточенно и свободно помещено в Анне! Её страсть к родимой речи, побуждающая к стихосложению и специальным филологическим занятиям, всё ещё не утолена, склоняет её к мучению, а нам обещает блаженство. Анна, когда живёт и пишет, часто принимает себя за растения земли: за травинку, за веточку чинары, за соцветие магнолии, за безымянный стебелёк. Что ж, она, видимо, из них, из чистейших земных прорастаний, не знающих зла и корысти, имеющих в виду лишь зеленеть на благо глазам, даже под небрежной ногой незоркого прохожего, — лишь зеленеть победно и милосердно. Пусть всегда зеленеет! Годы спустя, в Тбилиси, опять пришла Анна с букетиком фиалок — думайте, что метафора, мне всё равно, но Анна и цветок по имени «иа» были в явном родстве и трудно отличимы друг от друга.
Да, я переводила Анну и наслаждалась, но и тоща предугадывала, а теперь знаю, что не могла соотноситься на равных с поэтом, о котором пекусь всей душой: я была моложе и я была — хуже. Но много лет прошло, и я ещё улучшусь, Анна, и вернусь к Вашим стихам, чтобы, лишённые первоначальной сути, они не сиротствовали в чужом языке, в моём родном языке, а славно и нежно звучали.
До свидания, Анна, кланяюсь, благодарю, поздравляю, благоденствуйте в Тбилиси — за себя, за Симона, за Гоглу, и примите в обратный дар строку Вашего стихотворения: «Мравалжамиер, многие лета!»
1975Анне Каландадзе
Как мило всё было, как странно. Луна восходила, и Анна печалилась и говорила: — Как странно всё это, как мило. — В деревьях вблизи ипподрома — случайная сень ресторана. Веселье людей. И природа: луна, и деревья, и Анна. Вот мы — соучастники сборищ. Вот Анна — сообщник природы, всего, с чем вовеки не споришь, лишь смотришь — мгновенья и годы. У трав, у луны, у тумана и малого нет недостатка. И я понимаю, что Анна — явленье того же порядка. Но если вблизи ипподрома, но если в саду ресторана и Анна, хотя и продрогла, смеётся так мило и странно, я стану резвей и развязней и вымолвлю тост неизбежный: — Ах, Анна, я прелести вашей такой почитатель прилежный. Позвольте спросить вас: а разве ваш стих — не такая ж загадка, как встреча Куры и Арагвы близ Мцхета во время заката? Как эти прекрасные реки слились для иного значенья, так вашей единственной речи нерасторжимы теченья. В ней чудно слова уцелели, сколь есть их у Грузии милой, и раньше — до Свети-Цховели, и дальше — за нашей могилой. Но, Анна, вот сад ресторана, веселье вблизи ипподрома, и слышно, как ржёт неустанно коней неусыпная дрёма. Вы, Анна, — ребёнок и витязь, вы — маленький стебель бесстрашный, но, Анна, клянитесь, клянитесь, что прежде вы не были в хищной! — И Анна клялась и смеялась, смеялась и клятву давала: — Зарёй, затевающей алость, клянусь, что ещё не бывала! — О жизнь, я люблю твою сущность: луну, и деревья, и Анну, и Анны смятенье и ужас, когда подступали к духану. Слагала душа потаённо свой шелест, в награду за это присутствие Галактиона равнялось избытку рассвета, не то чтобы видимо зренью, но очевидно для сердца, и слышалось: — Есмь я и рею вот здесь, у открытого среза скалы и домов, что нависли над бездной Куры близ Метехи. Люблю ваши детские мысли и ваши простые утехи. — И я помышляла: покуда соседом той тени не стану, дай, жизнь, отслужить твоё чудо, ту ночь, и то утро, и Анну… 1975Нодар Думбадзе
Именно сейчас, в этот солнечный день, я вдруг вспомнила другой солнечный день вблизи Тбилиси. Мы были вместе с Нодаром Думбадзе, меня попросили посадить маленькое дерево на память. Мне сказали, что это дерево — клён. Я тогда была очень счастлива, весела и всех тех служителей парка просила: только, пожалуйста, никогда не забудьте о нём, всё-таки оно клён, оно, может быть, не очень привьётся здесь. Могла ли я думать при том ослепительном сиянии неба, при цветении земных произрастаний, могла ли я думать, что мне следовало печься всей душой не о дереве, которое в сохранности, а о том человеке, который стоит рядом со мной и смеётся.
Я знаю Нодара столько, сколько помню себя в соотношении с Тбилиси, в соотношении с Грузией. Мы умели смешить друг друга. Когда он однажды хворал и мне сказали что лучше его не беспокоить, я всё-таки помчалась к нему домой и стала шутить и говорить: «Ах, это всё пустое, Нодар! Ничего, как-нибудь всё это обойдется!»
Когда я печалилась, Нодар смешил меня. Я знаю, что он пришёл для того, чтобы причинить людям радость, может быть, самой драгоценной чертой его человеческого таланта (я сейчас уже не говорю, что хорошо помню его блистательное литературное начало, то начало, которое принесло ему успех и всеобщее признание). Я думаю, что черта смеяться и смеяться как бы не над тем, что вокруг, а именно как бы над собой, смеяться над печалью, которая тебя именно осенила, может, и была той драгоценностью, которая входила в талант Нодара. Правда, я знаю, что, кроме того, что он сделал для людей как писатель, он старался помочь им как-то иначе, то есть разными способами, поскольку у него были такие возможности, и знаю, как много он делал. Однажды, я помню, мы были участниками одной поездки, возвращались поездом в Тбилиси, и я ему сказала: «Нодар, ты хочешь помочь очень многим людям, и у тебя для этого есть самые разные способы и возможности, но не отвлекает ли это тебя от твоего художественного дела? Может быть, главная помощь, которую художник может оказать и причинить другим людям, — это только его творчество».
Нодар тогда мне ответил: «Но иначе не выходит. Тот художник, который может художественно помочь людям, он нечаянно ещё всасывается в разные проблемы человеческого существования и хочет им помочь даже в чём-то малом».
Я говорила о том, что мы много смеялись, всегда, даже когда Нодар был болен. Я, кстати, всю его семью и детей его так люблю, и они это знают. И хочу сказать, что, если человек пришёл на белый свет не для того, чтобы опечалить того, кто его видит и кто его слышит, пусть мы всегда будем думать о Нодаре Думбадзе как о человеке, который умеет смеяться, и тут просто несколько строчек из моего стихотворения: смысл так прост, что уста человека, которые даны ему для изъявления души, могут открываться только по благородному поводу, и, пожалуй, этими строчками я завершила бы то, о чём говорила:
Но если так надобно Снова, не зря, не для зла, неспроста, Но только для доброго слова, для смеха Откройтесь уста! 1987Живое семицветье
Не помню, как мы познакомились. Да мы и не знакомились вовсе; мы учились вместе в Литературном институте, виделись мимоходом и часто на Тверском бульваре, в Переделкино, кивали друг другу с торопливой приветливостью, а сейчас редко встречаемся.
Но когда я вижу что-нибудь синее, оранжевое, золотое — любую милую яркость, которой одаряет нас мир, я вспоминаю юношу в блёклом лыжном костюме и своё нежное уважение к нему, к его восприимчивости к тем краскам, что украшают жизнь своим живым семицветьем. Вспоминаю, как однажды, давно уже, мы столкнулись с ним в долгом вечернем сумраке опустевшего институтского коридора, и я заметила, что он невелик ростом, а в скромном, тихом лице его есть второе, глубокое выражение: какой-то страстной сосредоточенности и доброй печали. Может быть, это остро-чёрные, пристально нацеленные в упор зрачки придавали его простым чертам многозначительность. Я знала о нём, что он — чуваш, из маленькой далёкой деревни, и в Москве недавно.
— Ну, как дела? — спросила я на ходу.
Он быстро глянул своими, словно остроконечными, метко видящими зрачками и, простив мне условность вопроса и радуясь собеседнику, рассказал мне о своей деревне, как он скучает по ней, как сильно окрашено всё там: небо, ягоды, вода, глаза лошадей, и всё такого прекрасного, всеобъемлюще синего цвета.
Впервые я услышала о его стихах от Михаила Аркадьевича Светлова: он всем нам причинил то или иное добро, но хвалил нас не так уж часто. Юношу в синем костюме он, не остерегаясь, хвалил.
Впоследствии я эти стихи слышала, читала перечитывала. Они могут показаться сложными, несколько витиеватыми, но мне думается, что не нарочитость виной тому, а серьёзная и подлинная сложность, которую ощущает в мире и в себе юный, наивно-проницательный человек, сильно, азартно устремивший в жизнь зрение, слух, руки. Он пристально смотрит вокруг, и нет такой малости, которая не показалась бы ему значительной, располагающей к раздумью. В будничном, привычном он отгадывает возвышенность и красоту, делает их предметом искусства. Многие чудеса поражают его: поезда, мелькнувший фонарь, такой таинственно-светлый, как будто маленький Пимен поместился в нём и завершает сказанье, белый архипелаг сада, дивный овал человеческого лица, человеческие выдумки и творенья и всё, чего так много и из чего и возникает постепенно непростой и прекрасный мир, близко подступающий к глазам. И как щедро, буйно и родимо этот мир расцвечен: в нём и радуги, и Йиржи Волькер, и чёрный куст в розовом пространстве, и лиловые маляры.
Он — поэт. Вот в чём дело. Зовут его Геннадий Айги.
1964Путешествие
Памяти Джона Стейнбека, его собаки
Чарли, всех моих собак, всех, кого
любила и потеряли
«Путешествие с Чарли» — знаменитая прекрасная книга Стейнбека.
Я видела его в Москве, в редакции журнала «Юность». Ничего позорнее этого молодого собрания я не помню. Там были замечательные писатели: Василий Аксёнов, Анатолий Гладилин. Я пришла с опозданием: у меня в тот день отобрали автомобильные права. Предводительствовал Борис Полевой. У него и у Стейнбека как-то в розную кось смотрели глаза. Подавали кофе, Стейнбек попросил другого напитка — не дали, он пошутил: «Я слышал, что в России даже из табуреток это добывают».
Мы все молчали. Мы — по-разному — были добычей страха или той доблести, когда не плетут липшего, но всё-таки плетут и расплачиваются.
Гладилин спросил: «Мистер Стейнбек, Вы встречались с Хемингуэем? О чём Вы говорили?»
— Только о том, кто первый заказывает.
Спросили: «Мистер Стейнбек, Вы встречались с Дос-Пассосом?»
— Говорили о том же. Почему Вы ничего не говорите? Вы — молоды. Вы должны быть отважны, как молодые волки.
Полевой шепнул мне в ухо:
— Беллочка, скажите что-нибудь.
Я сказала: «Господин Стейнбек, Вы вернётесь в Америку. Вам будет грустно, а мне стыдно. „Но не волк я по крови своей“. Вы заметили: я опоздала. У меня отобрали автомобильные права. Других прав не имею и не возымею».
Мне стало известно, что Стейнбек понял меня.
Прошло время, погибла моя собака. Я хотела обрести облегчение: написав «Путешествие с Ромкой». Я имела в виду не географический сюжет, а трагический, исторический: рождение, жизнь, смерть. Но боль, посвящённая собаке, превозмогла мою способность писать. Я не обрела облегчения и умру с этой мыслью.
1968«Мороз и солнце, день чудесный…»
Двадцать девятого января, а по-нынешнему десятого февраля люди с особенным выражением говорят о нескончаемом Пушкине, о его присутствии в яви дня и безутешно горюют, потому что прежде Пушкин был хрупко живой, родимый человек, а его ранили в живот и убили.
Но я хочу повести речь только о жизни, в которой всегда есть Пушкинская причина ликовать и с днём печали многозначительно соседствует день радости. Например, четырнадцатого февраля, при морозе и солнце, можно выехать из Пскова в сторону Опочки, минуя Остров, ещё раз благословить имя доброго Пущина, купившего здесь когда-то три бутылки «клико», в должном месте повернуть налево, обмирать и задать, когда прояснится вдали шпиль Святогорского монастыря, ещё раз повернуть и ещё, сильным топотом отрясти на крыльце снег и с разлёту, с холоду, из сеней, выпалить: «Здравствуйте, Семён Степанович! Поздравляю Вас с чудесным днём Вашего семидесятилетия!»
Ехать мне никак невозможно и остаётся призывать к себе михайловские виды, благо они всегда вблизи души. Солнечный свет разбивается о сугробы, о лёд, придерживающий течение Сороти, в стороне от дневного блеска сдержанно высятся необщительные ганнибаловские ели. А в доме тепло, славно, кот Васька в полдремлющего глаза озирает ненасытную птичью толчею за окном, и у печки, посылающей в небо весть о здравии этого жилья, в душегрейке и больших валенках стоит пригожий юбиляр, не одобряет моей затеи рассуждать о нём во всеуслышание, а поделать издалека ничего не может. И я рассуждаю.
Вам и без меня известно, что Семен Степанович Гейченко возглавляет Государственный Пушкинский заповедник. Но одних этих высоких полномочий мало, чтобы обрести доверие одушевлённых деревьев, разгадать капризы старых строптивых вещей и воскресить в окне кабинета подлинное пламя свечи. Посудите сами, что для Домового — просто директор, а между тем он слушается, рачительно выполняет Пушкинскую волю, объявленную ему в специальном послании.
Кем приходится Гейченко единственному хозяину этих мест, если знает его так коротко и свободно? Счастливая игра — сидеть вечером на разогретой лежанке и спрашивать: какую обувь носил Пушкин зимой в деревне? Какую позу нечаянно предпочитал для раздумья? Когда спрашивал кружку, то для вина, наливки или другой бодрящей влаги? Если никакой не было, куда посылал? (Один прилежный человек удивился последнему глупому вопросу: как — не было? Наверняка в доме держался нужный запас. Семён Степанович ему ничего не сказал, только глянул весело, не свысока, а издалека, из давнего знакомства с дарителем, расточителем, любителем угощать, а чтобы печься о припасах или другим велеть — не тем была его голова занята.) Все эти нехитрые тайны ведомы и другим людям, но они проникли в них усилиями учёности, а Гейченко — вблизи видел, помнит, и всё тут. Поэтому жив и очевиден Пушкин в Михайловском. Любой, чья совесть не отягощена заведомым невежеством или дурным помыслом, встретит в парке узкий след его петербургских кожаных калош, застанет врасплох кресло, не успевшее воспрянуть после того, как он сидел в нём, подвернув правую ногу и муча зубами перо.
Когда Семён Степанович говорит, в нём открывается целый театр: в остром, примечательном лице хватает простора для множества действующих лиц, в большом, старинном голосе спорит и пререкается их многоголосье, вдохновенно и хищно парит пустой рукав. Вы скажете: ну вот, возможно ли поминать пустой рукав? Ничего, возможно, ведь это уже не отсутствие руки, потерянной на войне, это присутствие крыла, указующего, заманивающего. Этот невиданный-неслыханный артистизм — тоже достопримечательность заповедника, но в нем нет собственной корысти: это верный способ одарить нас Пушкиным, наградить им, осыпать с головы до ног.
Чтобы ваш, мой и каждого Пушкин вольготно населял эти комнаты и аллеи, Гейченко не навязывает ему своего хотенья: откуда-то ему точно известно, что Пушкину угодно и удобно. Прилежный человек спросил: неужели Пушкин не тяготился нетопленными печами и довольствовался простецким видом дома и усадьбы? Семён Степанович и на это ничего не сказал, а дворовый Пётр, бывший кучером, засмеялся из давно минувших дней: «Наш Александр Сергеевич никогда этим не занимался, чтоб слушать доклады приказчика. Всем староста заведовал; а ему, бывало, всё равно, хошь мужик спи, хошь гуляй; он в эти дела не входил». А может, и есть меж ними — Пушкиным и Гейченко — какие-нибудь дружественные несогласия, об этом я не берусь судить. Ведь здесь действуют не личность и тень, а две личности, и вторая оснащена собственным немалым талантом. Может быть, к этому сводится тайна, позволяющая поэту бодрствовать в михайловских рощах? Кроткий исследователь, ставший как бы тенью великого человека, повторяет его меньше, чем соучастник, достойный товарищ, на которого смело можно оставить дом, сад, рукописи, недогоревшую свечу и отправиться в Тригорское, а если позволят, и в Петербург.
Солнце убывает, мороз крепчает, четырнадцатый день февраля на исходе, хозяйка всё хлопочет, хотя стол совершенно и чрезмерно накрыт, медленно синеют сугробы, и мне надо спешить, чтобы успеть добавить ко всем речам, письмам, тостам и телеграммам признание в пылкой и почтительной нежности.
1973О Евгении Винокурове
Я пишу все это десятого апреля, при сильном весеннем солнце, в день моего рождения, тридцати восьми лет от роду. Я имею в виду написать статью о поэте, для меня драгоценном, и знаю, что ничего из этого не выйдет, потому что — разве пишут статьи о нежности, теснящей сердце, о безрассудной приязни ума? В изначалье нового возраста сижу за столом, улыбаюсь и не умею писать.
Сколько же лет, как много лет назад это было! Ведомая непреклонной сторонней силой, которую для быстроты можно назвать судьбой, я шла по Москве той давней ослепительной зимой, и пылание моих молодых щёк причиняло урон снегопаду: сколько снега истаяло на моём лице, пока я шла! Прихожу. Литературное объединение завода имени Лихачёва. Это даже не робость — уж не смерть ли моя происходит со мной в мои семнадцать лет? О, как я страшусь и страдаю, как мне тяжела моя громоздкая нескладность (это моя прелесть была), как помню я это теперь, как глубоко уважаю муку — быть юным. Спрашиваю надменно: «Это вы — поэт Евгений Винокуров?» Жадно подсматриваю за его лицом: не таится ли в нём усмешка взрослого высокомерия? Но вижу лишь выражение совершенной благосклонности и пристального любопытства. Евгений Винокуров в ту пору руководил упомянутым объединением, и я стала руководима, его лёгкой рукой водима по началу жизни, которое — из-за Винокурова, лишь по причине его поощрения — весьма счастливо сложилось. Этот первый его урок — расточительной доброжелательности, свойственной людям прекрасного дара, я надеюсь если не вполне усвоить, то вполне отслужить. Потом, к лучшей моей радости, мы стали коллеги, товарищи и ровесники, но тогда между мной и первым моим учителем зияла бездна разницы, в которой смутно клубились моё чудовищное невежество (Винокуров был поражён им, но не раздражён), угрюмая застенчивость под видом апломба и страсть писать, воплощённая в длинные вялые строки. Не к моим достоинствам, но к таланту Винокурова отношу я его доброе и сильное участие к моим бедным детским стихотворениям которые он — впервые и лишь собственным усилием — напечатал со своим предисловием, и других людей пригласил к интересу к моей фамилии, звучавшей так непривычно и витиевато.
Наши беседы, которые случались всё чаще и длились всё дольше, учили меня тому, что поэт — не надземен, что и в житье-бытье его разум внятен, точен и не способен к расплывчатости суждений. Поэзия — не спорить же с Пушкиным! — глуповата, но поэт — всенепременно умён.
Но не обо мне, пылко признательной Винокурову, речь, а лишь о нём, о его многозначительной личности, равной его книгам, сейчас разложенным на моём столе и всегда существующим в нашей памяти и жизни. Если счастливый случай сводит нас с поэтом в соседство знакомства и дружбы — это чрезвычайное и уже лишнее благо, ничего не меняющее в его главном значении для нашей судьбы. Не умея подвергать творчество Винокурова учёному обзору и умному суду, оставляя каждому читателю свободу располагать подарком его дарования по собственному усмотрению, я бы хотела не навязчиво упомянуть лишь некоторые приметы, по которым мы с лёгкостью и мгновенно отличим и узнаем речь этого истинного поэта. Винокуров известен и знаменит — своим, особенным и очень достойным способом: просто и отчётливо и вне поверхностного шума. Меж тем о нём легко и удобно было бы шуметь: он смел и дерзок в обращении со словом, как если бы он пошёл на преднамеренный вызов выспренности, высокопарности, о которых принято думать, что они и отличают поэзию от прочих речей и разговоров, которыми так легко провести слух неопытного слушателя (Винокуров не часто читает, вслух не произносит свои стихи, но ведь и глазами лишь принимая стихи, мы их сразу же слышим). Он предпочёл (естественно, непринуждённо, но как будто с осмысленным азартом и озорством поступил) «слова, которыми на улицах толкуют». Все большие поэты, как бы высоко ни пела их гортань, всё же говорили на языке своих сограждан, даже проще умея, даже грубей назвать любой предмет и ощущение по имени. Ещё: строка Винокурова подобна безошибочной формуле точных наук, которую следовало бы изобразить не так: слова…, а так: слово. Слово. То есть не бесформенность, где всё не обязательно подлежит возможной перемене, а точность, найденная раз и навсегда. Дело читателей — любить Винокурова, но дело грядущего и тонкого исследователя заметить и доказать, как его труд сказался на труде других, вовсе не похожих на него, поэтов. Во всяком случае, я эту благотворную зависимость всегда ощущаю как свою выгоду и пользу.
«Как хорошо лицо своё иметь…» — так он написал, и что же, он завидно преуспел в этом — даже не намерении, а исполнении человеческого долга: быть таким, как все люди на твоей земле, не уклониться от общей судьбы, работать, страдать, воевать — точно, как все, не выгадав отдельности и поблажки, но всегда иметь «лицо своё», не похожее ни на одно другое, оснащённое прекрасным выражением сосредоточенного ума, доброты и таланта.
Ещё: я пишу всё это и знаю, что Евгений Михайлович Винокуров зайдёт ко мне сегодня и поздравит меня с днём рождения. А я ему скажу: месяц без одного дня пройдёт, и будет День Победы. Я помню, как это было тридцать лет назад. Какое ликование было. Какая печаль, какой изъян на белом свете без тех, которые не вернулись. «Серёжка с Малой Бронной и Витька с Моховой». Но — День Победы. Ты — жив. Ты — вернулся. Я тобой горжусь. Я тебя благодарю. Я тебя поздравляю.
1975Счастливый дар
Некогда Евгений Михайлович Винокуров поздравил меня с моим условным совершеннолетием — с моими бедными восемнадцатью годами, со способностями, которые он благосклонно предполагал во мне и опекал, с грядущей судьбой, к осуществлению которой он приложил лёгкую и добрую руку.
Я не скрываю моей непреклонной добропамятности и с любовью, объединившей почтительность к наставнику и нежность к товарищу, поздравляю его с подлинным совершенством лет: с его славными пятьюдесятью годами, с его счастливым даром и с трудом, который ему предстоит. Нынешний день его рождения совершенен не потому лишь, что отсчитан торжественно округлым числом, но и потому, что величина даты, без потерь и изъянов, соразмерна величине личности, которая убедительно сбылась и без утайки предъявлена всевидящему суду читателей.
Я уважаю редкую и завидную удачу Винокурова; безукоризненное совпадение предмета, который он имеет в виду, и слова, которое он говорит, — точно впопад, без расточительных затрат многословия. Дисциплина его языка такова, что между сутью вымысла и облекающей её формой нет неопрятного зазора пустоты.
Художник всегда подлежит мощной диктовке пространства, звездопаду сторонней музыки, от которого некуда спрятать голову. В этом поединке исполнитель не всегда поспевает за указкой великого дирижёра. Муза же Винокурова явно ладит с повелевающим смыслом, воплощая его в безошибочный звук. Мне кажется, что он чужд разлада с желаемым и ещё до склона лет, до тютчевских седин, решил задачу, заданную его таланту, приводя её к единственно правильному ответу в пределах каждого стихотворения.
Винокуров, разумеется, взрослел и менялся по мере жизни, но его младость и зрелость, мальчик в шинели и маститый поэт трогательно и чудесно схожи меж собою и не пребывают в разлуке. Он сразу преуспел в доказательстве задиристо приметного своеобразия, на том стоит и тем лёгок для памяти. Его именем называем мы не только человека, известного уму и родимого сердцу, но и целую отвлечённую громоздкость — самостоятельную грамматику, особый штиль речи: рассуждать о возвышенном на уровне земли с её травой, суглинком и житьём-бытьём сограждан. Этот способ стихосложения дерзит сладкой для слуха витиеватости пиитов и самоотверженно не ищет выгоды быстрого успеха. Водится за Винокуровым и ещё одна доблесть: его замкнутая сосредоточенность на прямой цели поэтического труда, решительная несклонность к эстраде, прочно повенчавшей в наше время поэзию и её почитателей. Стихи Винокурова в меньшей мере собственность слушателей, чем пристальных и вдумчивых читателей, и эта старинная принадлежность кажется мне достойной и чистой.
Я всегда помню и упоминаю, что Винокуров приходился мне учителем, с тем большей благодарностью, что, пестуя моё ученичество, он вовсе не ждал и не просил моего уподобления ему, поощряя лишь несходство и независимость, подобающие человеку.
Я радуюсь всем его удачам и накликиваю их во множестве на его голову вместе с вдохновением и здоровьем. Я приношу Евгению Винокурову мои почтительные поздравления — сама по себе и от имени всех его учеников, которых у него столько же, сколько читателей.
1975Вероника Тушнова
Я обещала незамедлительно написать несколько слов и ещё не написала, между тем день иссяк, ночь в половине. Медленный труд видимого бездействия окажется скоропалительным, если я в нём преуспею. Что день и ночь, данные мне для того, чтобы прожить в обратном направлении долгое время жизни, вернуться в былое, застать там человека, которого ныне нет, и как бы обрести его кроткое позволение сказать о нём несколько слов! Если бы не эта день и ночь, я бы не ощутила возможности рассуждать о Веронике Тушновой.
Я была моложе, мы не были житейски близки, моё нежное расположение к Веронике Михайловне не нарушало дисциплину почтительности, а она при встрече одобряла меня пристальной теменью глаз и посылала моей щеке мимолётную ласку ладони. Это — тогда, давно.
И вот теперь, весь день и всю ночь, я вглядываюсь в милый облик, дивясь его яви и сохранности в моём зрении. Издалека, из сегодня, я приметливей вижу, как нежная смуглость лица усугубляется непоправимой тенью. Но я вольна смотреть ещё дальше в глубь времени, видеть глаза, улыбку, чьё общее выражение соединяет сосредоточенность и отстранённость, лучезарную доброту к собеседнику и неуловимую рассеянность. Так смотрят и улыбаются люди, осенённые любовью, и некоторые из них имеют высокую власть и отвагу слагать об этом стихи…
1976«Итальянцы в России»
Какая радость, досточтимые синьоры, и Вы, прекрасные синьоры, и Вы, особенно Вы, ненаглядные синьорины, никогда не открывающие книг. Что за чудная ночь эта нынешняя ночь, ей-ей, в ней есть что-то италийское: такая вдруг мягкость и влажность в природе, и отсветы воды дрожат на потолке. Понимаю, что дождь наполнил сад, а всё-таки — Пастернак так когда-то проснулся в Венеции: отсветы воды дрожали на потолке. Когда и я однажды проснулась в Венеции, я прочла в потолке не золотую игру бликов, а отражение отражений, описание их Пастернаком, превосходящее силой и прелестью явь моего пробуждения. И долго ещё это Венецианское утро казалось мне его сотворением и собственностью, и не жаль было, что меня как бы нет, а он — невредимо-юн и счастлив.
Но о чём я? Вам-то какая в этом радость, мои синьоры, и синьоры, и синьорины, не заглядывающие в книги (и не надо, все книги, все поэты сами глядят не наглядятся на Вас)? Ах, да, ведь я пишу это здесь и сейчас, а Вы — там и потом берёте в руки книгу, о которой и веду я мою сбивчивую речь.
«Да читала ли ты книгу, о которой речь?» — спрашивает меня моя Венецианская Переделкинская ночь. Нет, отвечаю я, но зато я знаю название: «Итальянцы в России». Неужели этого мало? Что может быть лучше, что более наводит ум на воспоминания и вдохновение? Из всех влияний, воспринятых влиятельной, но и впечатлительной Россией, воздействие Италии кажется самым возвышенным, самым духовным и безгрешным, в нём нет никаких сложностей, кроме простейше-сложнейшей слагаемости: Искусство. В этом смысле Россию без Италии могу увидеть, как вижу сейчас не полную, усечённую Луну, знаю, что Луна целиком цела, но вижу — так, вот она, кстати, появилась из-за тучи.
Разумеется, авторы книги знают всё лучше, чем я, иначе зачем бы они взялись за книгу, теперь принадлежащую Вам. Но я знаю авторов книги — иначе зачем бы я стала морочить Вам голову и заманивать Вас в книгу, которую возлюбила прежде, чем прочла? Каждого из двух авторов я знаю давно, пристально и благосклонно, но прежде я знала их по отдельности, врозь. Да и почему бы я стала соотносить того и другого? Судите сами.
Юлий Крелин — хирург, ведущий хирург московской больницы. Я знаю многих людей, обязанных ему самым серьёзным образом. Они говорят, что он ослепителен в своём белом и особенно в своём зелёном: решительность, властность, скупость слов и движений — сокрытая доброта врача. Совершенно им верю, но я-то видела его в другом, случайном и не имеющем значения цивильном цвете, к которому сводится нечаянная элегантность человека, не расточающего досуг на портного. Я прихожусь ему не пациентом (во всяком случае пока), а внимательным читателем. Врач Крелин — писатель, чьи рассказы и повести давно и прочно снискали особенный интерес и расположение взыскательной читающей публики. Его сюжеты и вымыслы обычно исходят из его медицинского опыта, но, если бы дело было только в этом, его читали бы лишь его благодарные больные, которых, впрочем, предостаточно. По счастью, дело обстоит иначе. Не сам по себе недуг, подлежащий или не подлежащий исцелению, а человек с его страстями и страданиями — вот герой или персонаж-завсегдатай произведений Крелина. Полагают, что врач и писатель наиболее осведомлены в многосложной человеческой природе. Совпадение двух этих дарований в одном лице обещает редкостную удачу, вызывает доверие и уважение. Даже отвлечённо рассуждая, можно сказать, что у хорошего врача не должно быть оснований и времени писать плохие книги.
Натан Эйдельман — знаменитый историк литературы, сосредоточенный на русском XIX веке, на Пушкине, декабристах, Герцене и всех соседних именах и обстоятельствах. От сердца скажу, что его заслуги и достижения в этой области мне милее и ближе других аналогичных. Живость и какая-то глубоко серьёзная, но весёлая игра хорошо разветвлённого и просвещённого ума, столь украшающие Эйдельмана и как милого знакомца и собеседника, придают его трудам прельстительный и радостный блеск. Его выдающимся изысканиям вовсе не свойствен наукообразный хлад, они оснащены ярко-живым художественным пульсом. Да и можно ли одною наукой постичь Пушкина? Здесь надобен собственный творящий и вольнолюбивый дар. Давно когда-то, зная имя Эйдельмана лучше, чем его облик, я увидела и не узнала его в телевизионной передаче. Да кто это? — думала я с радостью и недоумением. Какая своеобычная, изысканная речь, какая стройная мысль, какая пригожая, талантливая осанка. И догадалась: Эйдельман, и никто другой.
Вот видите — два примечательных и примечательно разных человека. Меж тем их соединяет в пространстве очевидный пунктир даже поверхностной, чисто житейской связи. Они — ровесники, учились в одной школе, дружат 40 лет и будут дружить и впредь, не имея причин для распрей и лукавства. Высокая одарённость вообще залог доброжелательности. Я знаю даже больше. Например, дочь Эйдельмана — историк и навряд ли посрамит славную фамилию. У Крелина — трое детей, дочь занимается хирургической диагностикой. Впрочем, я имею честь знать лишь его вовсе юного сына: огнь волос, веснушки в изобилии и то залихватски-независимое выражение лица, которое многое обещает в будущем.
Упомянутый пунктир подтверждён линией более цепкой и глубокой. Книга — вот что наглядно объединяет их и нас с Вами, вот почему эта тёплая ночь поздней осени кажется мне итальянцем в России. Станемте читать. Теперь Вы вправе спросить: ну а кто же тот, кто представляет нам столь известных людей? И впрямь — кто сей созерцатель луны и дождя? Ах, да просто это один русский поэт, но, в угоду нашей теме, скажем, что в нём есть немного итальянской крови.
Примите привет и добрые пожелания.
Белла Ахмадулина 1985Несколько слов о Борисе Чичибабине
С любовью и застенчивостью пишу несколько слов о Борисе Чичибабине.
Я — не старше и не лучше, чем он.
Борис Чичибабин моего соучастия не искал, ни о каких публикациях никого не просил.
«Ну, и при чём здесь вы?» — спросят читатели журнала «Огонёк», которым теперь несть числа.
При том, отвечаю загодя, что человек с талантом (чем бы он ни занимался) нечаянно оказывается вопреки, невпопад, не терпит понуканий и посягательств на урождённую независимость души и ума и претерпевает нужду и невзгоду, потому что таковой человек не имеет корысти, плохих намерений и суетных желаний. Но как на нём и на всех нас сказывается то, что он претерпевает?
Борис Чичибабин много лет назад был исключён из Союза писателей. Не знаю, как было сформулировано решение об этом исключении, но совершенно знаю исключительную честность и чистоту этого человека.
Чичибабину — ничего не нужно. Доходов он никогда не рыскал. Живёт не доходливым трудом. Но о всеобщих доходах можно помышлять лишь при условии, что любой человек с любым человеческим талантом может заниматься своим делом по своему усмотрению. Иначе — всеобщие убытки невосполнимы, невозместимы. (Не знаю: восклицательный знак или вопросительный поставить в конце.)
1987Париж — Петушки — Москва
Впервые я прочла «Москва — Петушки» много лет назад, в Париже, не зная автора и об авторе.
Мне дал рукопись, для прочтения за ночь, благородный подвижник русской словесности — урождённо русский, родившийся во Франции.
Но я-то не во Франции родилась. Вот он и попросил меня прочесть за ночь и сказать: каково это на мой взгляд? живут ли так? говорят ли так? пишут ли так в России?
Всю ночь я читала. За окном и в окне был Париж. Не тогда ли я утвердилась в своей поговорке: Париж не стоит обедни? То есть (для непосвящённых): нельзя поступиться даже малым своеволием души — в интересах души. Автор «Москва — Петушки» знает это лучше других. Может быть, только он и знает.
В десять часов утра я возвращала рукопись.
— Ну что? — спросил меня давший её для прочтения.
Всё-таки он родился во Франции, и, с любовью оглядев его безукоризненно хрупкий силуэт, я сказала:
— Останется навсегда, как… Скажем: как «Опасные связи» Шодерло де Лакло…
Всё-таки он был совершенно русский, и мы оба рассмеялись. Он понял меня: я имела в виду, что прочтённое мной — сирота, единственность, не имеющая даже двоюродного родства с остальными классическими сочинениями. Одинокость, уникальность, не схожесть ни с чем.
Так — не живут, не говорят, не пишут. Так может только один: Венедикт Ерофеев, это лишь его жизнь, равная стилю, его речь, всегда собственная, — его талант.
Какое счастье — что талант, какая тоска, — отчётливо знать, что должен претерпеть его счастливый обладатель.
«Свободный человек!» — вот первая мысль об авторе повести, смело сделавшем её героя своим соименником, но отнюдь не двойником. Герой — Веничка Ерофеев — мыкается, страдает, вообразимо и невообразимо пьёт, существует вне и выше предписанного порядка. Автор — Веничка Ерофеев, сопровождающий героя вдоль его трагического пути, — трезв, умён, многознающ, ироничен, великодушен.
В надежде, что вещь эта всё таки будет напечатана на своей родине, не стану касаться её содержания. Скажу лишь, что её зримый географический сюжет, выраженный в названии, лишь внешний стройный пунктир, вдоль которого следует поезд со всеми остановками. На самом деле это скорбный путь мятежной, любящей, парящей и гибельной души. В повести, где действуют питьё, похмелье и другие проступки бедной человеческой плоти, главный герой — непорочная душа чистого человека, с которой напрямую, как бы в шутку, соотносятся превыспренние небеса и явно обитающие в них кроткие, заботливые, печальные ангелы. Их заметное присутствие в повествовании — несомненная смелость автора перед литературой и религией, безгрешность перед их заведомым этическим единством. Короче говоря, повесть своим глубоким целомудрием — изнутри супротивна своей дерзкой внешности и тем возможным читателям-обвинителям, которые не имеют главного, в суть проникающего взгляда. Я предвижу их проницательные вопросы касательно «морального облика» автора. Предвижу и отвечаю.
Писатель Ерофеев поразительно совпал с образом, вымышленным мною после первого прочтения его рукописи. Именно поэтому дружбой с этим удивительным человеком я горжусь и даже похваляюсь.
1988Памяти Венедикта Ерофеева
Слова заупокойной службы утешительны: «…вся прегрешения вольныя и невольныя… раба Твоего… новопреставленного Венедикта»…
Не могу, нет мне утешения. Не учили, что ли, как следует учить, не умею утешиться. И нет таких науки, научения, опыта — утешающих. Наущение есть, слушаю, слушаюсь, следую ему. Себя и других людей утешаю: Венедикт Васильевич Ерофеев, Веничка Ерофеев, прожил жизнь и смерть, как следует всем, но дано лишь ему. Никогда не замарав неприкосновенно опрятных крыл души и совести, художественного и человеческого предназначения тщетой, суетой, вздором, он исполнил вполне, выполнил, отдал долг, всем нам на роду написанный. В этом смысле — судьба совершенная, счастливая. Этот смысл — главный, единственный, всё справедливо, правильно, только почему так больно, тяжело? Я знаю, но болью и тяжестью делиться не стану. Отдам лишь лёгкость и радость: писатель, так живший и так писавший, всегда будет утешением для читателя, для нечитателя тоже. Нечитатель как прочтёт? Вдруг ему полегчает, он не узнает, что это Венедикт Ерофеев взял себе печаль и муку, лишь это и взял, а всё дарованное ему вернул нам не насильным, сильным уроком красоты, добра и любви, счастьем осознания каждого мгновения бытия. Всё это не в среде, не среди писателей и читателей происходило.
Столь свободный человек — без малой помарки, — он нарёк героя знаменитой повести своим именем, сделал его своим соименником, да, этого героя повести и времени, страдающего, ничего не имеющего, кроме чести и благородства. Вот так, современники и соотечественники.
Веничка, вечная память.
1990День счастья
О Николае Эрдмане, о его трагической судьбе — как общей, обязательной для всех, кто так или иначе причастен этому времени, — думают, воздумают, пишут и напишут.
Эти биографические и исторические сведения уже могут быть доступны вниманию неленивого читателя. Я — лишь о том, что я помню и знаю.
Впервые я увидела Николая Робертовича Эрдмана днём расцветшего лета в посёлке Красная Пахра, вблизи Москвы. Я относительно молода была, но его имя, былая слава, две пьесы, стихи и сюжет судьбы были мне известны: по наслышке и недозволенному чтению. Николай Робертович в ту пору снимал малый домик в этом посёлке, времянку или сторожку, как принято говорить в дачных местах. Времянка эта или сторожка, наверное, и теперь сохранна во времени, пусть живёт-поживает, сторожит воспоминания. Уверена, что хозяева её больших денег с постояльцев не брали.
Соседи этого условного обиталища Верейские (художник Орест Георгиевич и жена его Людмила Марковна) сказали мне, что Николай Робертович приглашает меня увидеться с ним. Не совсем так — его тишина, скромность и любезность превосходят мою почтительность. Я пришла — он не сразу вышел, или я пришла раньше, чем указали, а он вышел из комнаты, но несколько минут оставалось до встречи. Там висела ситцевая занавеска, отделяющая кровать. Из-за ситцевой изгороди вдруг протянулась рука и донёсся слабый голос: «Подойдите сюда». Это были рука и голос матери жены Эрдмана Инны. Оказалось, что именно ей, не зная её имени, по просьбе её подруги, я послала письмо и стихи, когда она претерпевала тяжёлый инфаркт. Незначительное моё послание она приняла за ободряющую, сторонне спасительную весть. Я упоминаю эту подробность не потому, что спешу отправиться в ад, где найдётся место и тому, кто сделал как бы что-то доброе и предал огласке, такое добром не считается, совсем наоборот. Нет, потому лишь упоминаю, что жизнь, в проживании её и описании, состоит не из расплывчатой бесформенности, а из точной совокупности подробностей, из суммы их, где важны лишь слагаемые.
Что-то безвыходное, обречённое было указано и продиктовано мне той рукой, тем голосом. Не меня касалось предопределение, но сбылось.
И сейчас вялый одушевлённый ситец, тогда сокрывающий кровать и болезнь старой женщины, с которой заведомо соотнёс меня любовный произвол неведомого сценариста и постановщика, отвлекает память зрения от яркого летнего дня, от ожидаемого и неожиданного лица и силуэта. Николай Робертович вошёл, занавеска ещё пестрела и рябила в глазах, но правая ладонь уже приняла в себя благовоспитанность, кротость, доброжелательность рукопожатия. Его врождённая хрупкость, поощряемая, если так можно сказать, обстоятельствами жизни и потом доведённая до совершенства, — не знаю: восхитила или испугала меня. Такая бесплотность — изящная доблесть, но и несомненная выгода в условиях, где и когда не дают есть или нечего есть. Малым прокормом обходится такая лёгкая плоть. Лицо содеяно не из броской видимости примет и очертаний, первый взгляд читает… да, пожалуй, так… давнюю привычку лица не открываться для беглого прочтения первым взглядом.
Теперь я это ясно вижу. Прошло более четверти века, не впустую для меня. Капля воды не похожа на каплю воды. Лицо человека не похоже на лицо человека. Но есть общность выражения, присущая лишь тем, кто не сразу открывает для других тайнопись лица, не разбрасывается ладонью для приветствия, не позволяет голосу оговорок. Милостью судьбы считаю, что не удалось пребыть вчуже, створки лица не сомкнулись предо мной, следуя многоопытной опаске: содержание глаз — выражение любви, доброты, печали и прощения.
Пройдёт тот летний день, наступят и пройдут другие дни, мы станем часто видеться, и Николай Робертович скажет мне про хрупкость и беззащитность, которые я любила и понимала как отвагу, противостоящую оскорблению: «Может быть, надо было не литературным занятиям предаваться, а упражнениям, укрепляющим оборонительные мышцы?» Приблизительно так, и, конечно, он шутил — с той милой, не явной усмешкой, свойственной избранникам, смеющимся не над другими.
В доме Родам Амирэджиби, вдовы Михаила Светлова и сестры известного писателя, не понаслышке знающей то, о чём речь, Николай Робертович читал вслух пьесу «Самоубийца». Пьеса, написанная им не свободно, но как изъявление попытки художника быть свободным, — в его одиноком исполнении была шедевр свободы артистизма. Особенно роль главного героя, бедного гражданина Подсекальникова, в тот вечер удалась трагически-усмешливому голосу Эрдмана. Неповторимый затаённый голос измученного и обречённого человека как бы вышел на волю, проговорился. Знаменитый артист Эраст Гарин, близкий Эрдману, умел говорить так, в честь дружбы и курьёза их общего знания, но и это навряд ли сохранилось, прошло.
В этом месте страницы нечаянно вижу прекрасное лицо Михаила Давыдовича Вольпина, самого, сколько знаю, близкого Николаю Эрдману человека. Только его могу я спросить: так ли? нет ли неточности какой? С безукоризненным достоинством снёс он долгую жизнь и погиб летом прошлого года в автомобильной катастрофе. Он тоже не имел обыкновения лишнего с лишними говорить. Но, если закрываю глаза и вижу его прекрасное лицо, — всё ли прошло, всё ли проходит?
Лето же, и несколько лет, — проходили. Инна и матушка её, оправившаяся от болезни, затеяли строить дом в том же посёлке, на его окраине. Мысль о доме, здравая, обнадёживающая, всегда естественная для человечества, — в том случае ощущалась мной как каторга: неподъемлемость, бессмысленная громоздкость, преодолеваемая лишь Сизифом для подвига и мифа.
Деньги, надобные для жизни, Николай Робертович зарабатывал тем литературным трудом, который особенно труден, потому что не освободителен, не утешителен для автора. Сразу же чётко замечу, что жена его и тёща не были корыстны, были добры и щедры. Многие обездоленные животные, собаки и кошки, также растения обрели неисчислимую долю любви и приют вблизи строящегося дома. Просто — не об участке, об участи речь, о несчастии, диким и убогим памятником которому стоит этот дом, не знаю, кому принадлежащий. В нашей общей местности, или в моей, как истолкуем английскую поговорку про дом и крепость? Всё — пустое.
Один вечер радости всё же был в этом доме на моей памяти. Нечто вроде новоселья, но Николай Робертович не имел дарования быть домовладельцем. Среди гостей — Михаил Давыдович Вольпин, Андрей Петрович Старостин, Юрий Петрович Любимов, никогда не забывавшие, не покидавшие своего всегда опального друга.
В последний раз я увидела Николая Робертовича в больнице. Инна, опустив лицо в ладони, сидела на стуле возле палаты. Добыванием палаты и лекарств занимался Юрий Петрович Любимов. И в тот день он добыл ещё какие-то лекарства, тоща уже не вспомогательные, теперь целебные для меня как воспоминание — добыча памяти со мной.
Я вошла. Николай Робертович уже подлежал проникновению в знание, в которое живые не вхожи. Всею любовью склонившись к нему, я бессмысленно сказала: «Николай Робертович, Вы узнаёте меня? Это я, Белла». Не до этого узнавания ему было. Глядя не на меня, не отсюда, он сказал: «Принесите книги». Дальше — точно. «Какие книги, Николай Робертович?» — «Про революцию… Про гражданскую войну… Я знаю… Они напечатают… Поставят…» Слова эти были произнесены человеком, совершенно не суетным при жизни, лишь усмешку посылавшим всякой возможной поблажке: публикации ли, постановке ли. Но это уже не при жизни было сказано. Художественное недосказание и есть подлинная трагедия художника, а не жизнь его, не смерть. Так я поняла это последнее признание и предсказание.
Но, пока строился упомянутый дом, — был у меня день совершенного счастья, вот каков был. Растения росли, животные ластились к человеку, боле других помню большого дворнягу с перебитой и исцеляемой, уже исцелённой лапой, звали: Рыжий. Другие собаки и кошки сновали возле цвели цветы (ими, животными и растениями, был полон участь-участок). Дом, ни в чём, кроме тщетности усилий, не повинный, — возводился. Николай Робертович и я сидели вдвоём в… что-то вроде беседки уже было возведено или осталось от чьей-то бездомности, домовитости. Сиял день — неописуемого золотого цвета, отражённый в рюмках коньяка, в шерсти оранжевой собаки, в бабочке, доверчиво сомкнувшей крылья на грани отблеска, в этом лишь гений бабочки сведущ.
Если назвать беседкой прозрачное укрытие, сплетение неокрепших вьющихся растений, всё же не назову беседой моё молчание и радость смотреть на моего собеседника, на цвет дня, на солнце, наполняющее рюмку в его изящной руке…
Тот день счастья, с его солнцем, растениями, животными, — навсегда владение тех, о ком вспоминаю и думаю с любовью.
1988Ваше величество женщина
Евгения Семёновна Гинзбург умерла 11 лет назад. Я имела честь и счастье знать её лично. И счастлива тем, что судьба дарит возможность многим людям тоже познакомиться с этой удивительной женщиной. Потому что хроника её — совершенная исповедь, где нет ни одного слова лукавого или обольстительного. Где нет и тени опустошённости и озлобленности.
«Каторга! Какая благодать!» — называется одна из глав. Это строчка из стихотворения Пастернака. Весь свой восемнадцатилетний крутой маршрут Евгения Семёновна прошла со стихами в душе. Самые ужасные обстоятельства способен вынести человек, если ему есть чем жить внутри себя. Хотя бы стихотворной строкой.
Рукопись посвящена внуку Алёше. Также звали и сына Евгении Семёновны, который погиб в детприёмнике для детей заключённых неизвестно когда и где. Какова же должна быть духовная оснащённость слабой женщины, чтобы вынести всё это и пронести через мученическую жизнь неисчерпаемый запас доброты?! Поверьте, вы найдёте ответ в книге, которую я считаю дважды великой: и как талантливейшее художественное произведение, и как достовернейшую хронику величия человеческого духа.
Один из экземпляров рукописи хранится у меня много лет. В последний раз перечитывала её полгода назад. Перечитывала, совершенно не веря в возможность публикации. И сейчас не смею поверить. А Евгения Семёновна Гинзбург верила всегда, о чём и написала в предисловии. И если это всё-таки произойдёт, я буду считать себя совершенно счастливой. Потому и спешу поделиться своим счастьем с будущими читателями произведения, чьё название и имя автора пока им ни о чём не говорят.
1988«Амадей и Вольфганг»
На мгновение забудем о Моцарте. Написала так, не забыла, а вспомнила, слышала таинственный, укоряющий, непререкаемый звук и нечаянно вникала в пристальный труд Альфреда Эйнштейна «Моцарт. Личность. Творчество». Я упоминаю об этом лишь затем, чтобы далее и ниже не тревожить имя Моцарта, оставить его в стороне надземного обитания.
На этот раз — я только о Генрихе Сапгире. Соседствуя с ним во времени имеете жительства, я всегда радовалась его таланту, не однажды смеялась от радости, что — талант, люди, не оснащённые этим свойством и качеством, не умеют рассмешить собеседника и читателя. Я приходилась ему и тем, и другим, но между Сапгиром и широким кругом читателей неопределённо виделась и чётко ощущалась препона, не зависящая от достоинств автора и этого возможного круга. Какая-то часть его творчества распространялась устной оглаской и стала сведением наслышки, имуществом сознания наподобие фольклора. Но многие дети (и мои) хорошо знают его сочинения и соответственно остры умом, отвергающим заведомую и насильную схему. Независимая игра мысли и вольность усмешки над предписанной, а не выбранной неоспоримостью изначально составляют дар Сапгира и наверняка осложняли сюжет его существования и благоденствия.
Я из тех, кто считает дар другого человека даром всем нам и мне, и ответно желаю пригодиться хотя бы скромным соучастием и добрым словом.
1988Час души
…НАСТАНЕТ час души! Анастасия Цветаева. «Утешение» В глубокий час души, В глубокий — ночи… (Гигантский шаг души, Души в ночи.) Марина Цветаева. «Час Души»27 сентября — День рождения Анастасии Ивановны Цветаевой. 99 лет назад в семье Ивана Владимировича Цветаева и Марии Александровны, урождённой Мейн, родилась дочь, при крещении наречённая Анастасией. Старшей сестре её Марине было два года. Какая радость написать это на бумаге, прочесть и заново узнать то, что всем известно, как ободряющую и восхитительную новость.
8 сентября 1993 года выше постижимой высоты, утешительно, да, но и терзающе — или так не позволительно сказать? — звучали слова заупокойной службы в храме Николы в Пыжах, на Ордынке. Особенно, не стесняя силы собственного, личного чувства, служил отец Александр. В проповеди помянул он всех тех неисчислимых, родных, знаемых или для нас безымянных, навсегда оставшихся в стылой земле насильного севера, да и повсюду в нашей земле. Опасаюсь неточности или неправедности изъяснения, но возрастающая сумма всех моих пульсов, нервов, грехов, отяжелевших глаз, лица, заслонённого рукой, стала неприлично чрезмерной и виновной пред гармонией священного обряда. Сложное это непригожее месиво болезненно сторонилось жара свечей, взглядов, касаний, обращений шёпотом, на которые не снисходило отвечать, едва не приняв за толчею бедное, единственное, возлюбленное человечество. Иному кому-нибудь зачем здесь быть? Велико ли множество, притиснувшее меня к стене возле входа, по сравнению с прочим, обратным и большим множеством, — не знаю, но его совершенно довольно, дабы не впасть в опасно близкий и заманивающий смертный грех уныния, отчаяния. Чрез потупленные головы я не могла и не тщилась увидеть ту, к которой пришли, зрячий и зримый, для робкой ощупи внятный свет главенствовал в воздухе церкви и над: заведомо простившая всех, и бывших гонителей, мучителей своих, очевидно продолжала прощать и любить. На паперти я тупо, с отвращением к замаранности суетой, воззрилась на неузнаваемый и неуместный предмет микрофона. Нечто похожее ощущаю я и сейчас, когда пишу: если и следует предавать огласке, то — как? дана ли мне такая возможность?
При стройном многолюдии, при хладном блеске ранней осени свершилось отпевание новопреставленной рабы Божией Анастасии. Но я ведь о новорождённой Анастасии. Этот сентябрь на исходе, а тот не пройдёт никогда. Какая радость принять щекою его острую свежесть, а жадным вместительным зрачком — зелёный двор и дом в Трёхпрудном переулке. Не удалось разрушителям преуспеть во зле: как это — нет, если ярко и выпукло вижу тополиный двор, комнаты и закоулки дома, залу, рояль, лестницу, вверх по которой шелестит быстролётным шёлком прелестная, навсегда прекрасная Лёра, даже бело-голубую молочную кружку вижу как трогаю, ласкаю. В том сентябре Марине два года, мне — по её младенческой фотографии, подаренной Анастасией Ивановной, близким — из близи, видна ли особая мета, осеняющая чудный облик ребёнка? Не надо! Стану смотреть на избыточно счастливую, роскошно данную длительность времени, словно дающий загодя знал, за что, за какое грядущее дарит, осыпает, как бы ничего не оставляя про запас. Сумерки Сочельников, сверканья Рождества, книги, альбомы, гравюры, портрет Наполеона в киоте, свирепо защищённый старшей дочерью от гнева ужаснувшегося отца.
На «Песочную» дачу стану любоваться сколько хочу, хоть сама стояла на останках её фундамента, где резвилась танцплощадка дома отдыха имени Куйбышева, разыгрывалась викторина, спрашивалось: «Какой крейсер…?», и один прыткий старик сразу догадался — какой. Во мне прочней, чем в почве склона, ведущие к Оке ступени, вырубленные Серёжей Иловайским. Милые, обречённые Серёжа и Надя Иловайские, для них та длительность оказалась краткой, но вот ненаглядность их лиц — жива. «…Я хочу воскресить весь тот мир — чтобы все они не даром жили — и чтобы я не даром жила!» Так написала Марина Цветаева, так поступили обе сестры, и детище их отца, «младший брат» их — МУЗЕЙ — заглавно белеет среди их Москвы, удостоверяя мои сбивчивые речи. Открытка от Анастасии Ивановны к Софии Исааковне и Юдифи Матвеевне Каган: «Проходя по Волхонке, вспомните нашего с Мариной отца… (Волхонка, 12)… Споры филологов из папиного кабинета, как мамина рояль (вся классическая музыка!) питали детство, как земля питает росток… Но — самое главное, Юдя, никаких падений духа, от неудач, первых, вторых, третьих, — неудачи неизбежны и даже обязательны для человека!» Обратный адрес — загадочные цифры какие-то, но, если разгадать их, получится Дальлаг (1945 г.).
Какая радость, что родилась! Когда вскоре крестили и так же свет стоял в церкви, провидела ли высшая любовь и опека, каков упасающий — и упасёт — крест над купелью? В 17-м году, почти одновременно, смерть мужа и сына, три ареста, тюрьмы, десять лет лагерей, ссылки, «вечное поселение» — до 1956 года, и худшее: смерть сестры, о которой узнала от вещего сна, но от людей два года спустя, в лагере. В этом году — смерть старшего сына Андрея Борисовича Трухачёва, а молодую жизнь его присвоили тюрьмы, лагеря, ссылки. «Памятник сыну» — не дописан, но уверена, что содеян.
Но какая радость задувать свечи на праздничном пироге, с каждым годом больше свечей, больше радости, какие подарки, какие нарядные, любимые гости, влажно и нежно смотрят родители и родные, зеленеет драгоценными глазами сестра. Разве можно попасть даже в малую невзгоду из-под такого призора, из таких объятий?
Моё обиталище — мастерская художника Мессерера, приют друзей, животных, причудливых одушевлённых вещей, не состоящих на службе у быта. На снимке 80-х годов видно, как любо это пристанище Анастасии Ивановне. Улыбается, расточительно излучает свет, наверное, смотрит на детей или на зверей, тем и другим говорит «Вы», тех и других крестит перед расставанием, за тех и других молится по вечерам. Впрочем, ласка её и молитвы простерты надо всем, что есть, и, может быть, поэтому есть и пребудет. Я и сама чувствую, что наше вольное жилище тайными, но явно мерцающими пунктирами соотнесено с Цветаевыми, не только из-за книг, писем, портретов, скрытных вещиц, впрямую связанных с ними, но и другим волшебным способом. Вот, например, старый фонарь, свисающий с разрисованного дождями потолка (это же чердак, над-этажный, надземный, поднебесный). Стеклянной оболочке предполагаемого огня, цвета аметиста, однажды улыбалась Анастасия Ивановна. Я вспомнила, что Марина Ивановна в детстве желала или примеривалась, играючи, побыть, погостить, пожить ещё где-то, и в фонаре. Я сказала: «И просторный, и цвета аметиста — идеальное прибежище». Улыбка, обращённая вверх, была и общий смех двух сестёр. Улица, где живём, — Поварская, прилегающие переулки: Борисоглебский, Мерзляковский, Хлебный, Скатертный — всё это неотъемлемые владения величественно бескорыстных Цветаевых. В соседнем с нашим доме жила «Драконна» — так звали две девочки ту изумительную, вседобрую, утром в день открытия Музея принёсшую их отцу смутивший его лавровый венок. По соседству в другую сторону жили Муромцевы. Вера Николаевна, впоследствии Бунина, была из немногих в Париже, жалевших, желавших помочь.
Это о человечестве. Но никак не менее важно — о собачестве, кошачестве, обо всём родимом зверинстве, тут сёстры Цветаевы прежде, первее всех. Только дарительность, спасительность жеста, готовность к непосильной жертве, обожание и сострадание ко всему живому обозначены именами и образами животных, птиц, насекомых, растений, любимых ими, спасаемых, ласкаемых, воспетых. Как-то (в 78-м году) Анастасия Ивановна сказала мне: «Собаку пишу не с большой буквы, а вообще большими буквами». «Воспоминания», «Моя Сибирь», «Непостижимое» — эти книги Анастасии Цветаевой лучше знают и рассказывают, чем я.
На Ваганьковском кладбище — много людей, давно дорогие и вовсе незнакомые дорогие лица, бедное, родное, возлюбленное человечество. Последнею, вместе с Надеждой Ивановной Катаевой, подхожу. Надежда Ивановна опускается на колени. Цветы, сдержанность черт или слёзы, скорбный ропот: «Осиротели…» Так ли это? Губы узнают холод, глаза и душа узнают свет. Рядом с родителями, рядом с сыном.
Когда Юдифь Матвеевна оповестила мать о смерти Анастасии Ивановны, София Исааковна сказала: «Это неправда». Мне приходится верить этим словам.
«Марина! Свидимся ли мы с тобою иль будем врозь — до гробовой доски?» Это Анастасия Цветаева написала в заключении, в 1939-м году. Отвечала себе словами молитвы: «Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение его! Руководи моею волею и научи меня молиться, надеяться, верить, любить, терпеть и прощать! Аминь».
1993«Когда вы безвыходно печальны…» —
написала девочка из посёлка. Без кавычек, вкратце излагаю смысл письма: что Вы делаете, когда нет выхода из печали, из отчаяния? правда ли, что — грех? здесь и нигде нет доброты, жалости ко всему живому и убитому, не хочу говорить на языке злых; волшебного не бывает, деться некуда; откуда Вам знать, живёте не как все, а мне нет утешения, нет веселья, на сердце тяжело…
Никто не живёт «как все», всяк по-своему жив или жил, всяк по-своему печален.
Не возымею возможности ответить гордой печальной девочке, не указавшей обратного адреса, но отвечаю.
Мрачен посёлок, прелестна девочка. Не пишет ли стихи? «Что Вы делаете, когда безвыходно печальны?»
Что я делаю в таком ужасном случае?
Попросту признаюсь: я читаю и перечитываю сочинения Юрия Коваля. И тогда все живы: люди, дети людей, животные, дети животных, птицы и дети птиц, реки, моря, озёра, земля и созвездие Ориона, и мы — бедные дети всего этого вместе, малого посёлка и всеобщего селения, упомянутых существ и не упомянутых звёзд и сияний.
Нежность ко всему, что живо или убито, или может подлежать убиению, въявь ощущается как бессмертие. Мы знаем: душа бессмертна, но и при жизни хочется быть наивно уверенным в сохранности всего, что любила душа. Упасает нас всегда дар художника, милость, ниспосланная ему свыше, нам — в подарок. Это без меня известно. Но мне это не могло бы быть известно, ежели бы не язык Юрия Коваля. Письменная речь Юрия Коваля взлелеяна, пестуема, опекаема всеми русскими говорами, говорениями, своесловиями и словесными своеволиями. Язык Юрия Коваля — плодовит, самотворен, он порождает и поощряет образы, повадки, невиданность и неслыханность его персонажей.
Деться некуда? Но есть выход из безвыходной печали. Я, сиднем сидючи, имею мечтание: скорее, вместе с другими читателями (вдруг — с девочкой из посёлка тоже) обрести новый роман Юрия Коваля; «Суер-Выер».
Вот где обитает волшебство, вот счастливый способ не путешествовать по насильной указке путеводителя или по указанию какого-нибудь предводителя, а вольно шествовать по морям и островам — по пути свободного воображения автора, и смеяться от радости.
С любовью завершая это посвящение, я обращаю ко всем читателям Юрия Коваля его же, для меня утешительные, слова:
ВЕСЕЛЬЕ СЕРДЕЧНОЕ.
1995Посвящение Сергею Довлатову
Шла по московской улице в яркий полдень погожего летнего дня мимо бойкой торговли, среди густой человеческой толчеи, — с печалью в глазах, с тяжестью на сердце. Эти печаль и тяжесть приходилось ещё и обдумывать, и полученный туманный итог означал, что я виновата перед полднем погожего дня: чем он не угодил глазам и сердцу? Бойкость торговли — её заслуга. Люди — не толчея, они стройно спешат, они молоды, нарядны, возбуждены ожиданием неизбежной удачи.
Среди всего вкратце перечисленного я ощутила себя чем-то лишним, мешающим, грубой препоной на пути бодрого течения. Сумма усталости, недомогания, дурных предчувствий (ненапрасных) — всё это следовало убрать с пути цветущего и сияющего дня.
Вдруг мне словно оклик послышался, я подошла к лотку, продающему книги: сторонясь развязного бумажного многоцветия, гордо и одиноко чернели три тома Сергея Довлатова, я приняла их за ободряющий привет из незнаемой превыспренней дали.
Привет такого рода сейчас может получить каждый читатель Довлатова, но я о чём-то своём, ещё не знаю о чём.
Менее всего я намереваюсь с умом и здравомыслием подвергнуть суду моего пристального восхищения его талант, его судьбу, достоинства его сочинений. Скажу лишь, что первое же подробное чтение, давно уже, стало для меня исчерпывающим сведением, объём его не мог разрастись или измениться.
Мне хорошо известно написанное о Довлатове: блестящие эссе, статьи, воспоминания. Авторы посвящений так или иначе близки Довлатову: друзья его и близкие друзья со времён его молодости, невзгод и вдохновений. Всё это люди чрезвычайных дарований и значений, некоторые из них мне весьма знакомы и, без усилий с их стороны, повлияли на ход и склад моей жизни. Я отличаюсь от них — когда думаю и пишу о Довлатове — тем, что никогда его не видела, даже мельком. Это представляется мне настолько невероятным, что даже важным и достойным робкой огласки.
Его лучезарность и тайная трагедийность братски родственны мне. Как же я с ним разминулась?
Моё соотношение с его средой совпало с началом моей жизни. Движение Москва — Питер и наоборот было взаимным правилом, для меня тоже (да и теперь так). Я много слышала о Довлатове, помышляла о нём, его образ прочно обитал в разговорах, в начальных легендах и анекдотах, расцветал в воображении, становился всё более рослым и прельстительным, он и сейчас свеж где-то под веками, там и сохранен.
Мы не встретились ни в Питере, ни в Таллине, ни в Михайловском. Но, пожалуй, самым трудным было не встретиться в Нью-Йорке, хотя бы в знаменитом «Самоваре», притягательном для русских. Как-то зашли, слышим: «Только что был Довлатов, подарил самовар, купленный на толкучке».
Я читала его всё больше, любуясь устройством его фразы, как бы беспечной, вольной, смешливой, но подлежащей благовоспитанной дисциплине, составляющей грациозную формулу. Если бы не слово, которому Довлатов единственно служил, которым владел, — его обаяние, доброта, юмор, благородство не стали бы достоянием множества людей: они воспомнят его 24 августа 1995 года и в другие дни других лет.
Снова мои рассеянны, сбивчивы, — чтобы содеять их иначе, не хватает прохладной четкости. Но для моей неопределенной цели ненадобны иные слова.
Меня не однажды настигали косвенные великодушные приветы Сергея Довлатова — и тот неслышимый утешающий оклик в яркий и печальный полдень погожего летнего дня. Я хочу за всё поблагодарить его, как мне быть? Надо прикрыть веки, очень сосредоточиться — не на большой, а на доброй мысли — и может быть, заструится, запульсирует утекающий ввысь светящийся пунктир нежного ответного привета.
1995Устройство личности
Выступление на праздновании 70-летия Булата Окуджавы
Счастливый день, счастливое собрание… В судьбе Булата, не столько соседствующей с нашей судьбою, а, пожалуй, возглавившей её течение, то вялое, то горестное, в этой судьбе есть нечто, что всегда будет приглашать нас к пристальному раздумью. Может быть, устройство личности Булата, весьма неоткровенное, не поданное нам на распахнутой ладони… Устройство этой личности такою, что оно держит нас в особенной осанке, в особенной дисциплине. Перед ним, при нём, в связи с ним, в одном с ним пространстве не следует и не хочется вести себя недостойно, не хочется поступиться честью, настолько, насколько это возможно. Всё-таки хочется как-то немножко выше голову держать и как-то не утруждать позвоночник рабским утомлённым наклоном. Булат не повелевает, а как бы загадочно и кротко просит нас не иметь эту повадку, эту осанку, а иметь всё-таки какие-то основания ясно и с любовью глядеть в глаза современников и всё-таки иметь утешение в человечестве. Есть столько причин для отчаянья, но сказано нам, что уныние есть тяжкий грех. И может быть, в нашей любви, в нашем пристрастии к Булату есть некоторая ни в чем не повинная корысть, потому что, обращаясь к нему, мы выгадываем, выгадываем свет собственной души…
1994Песенка для Булата
Мой этот год — вдоль бездны путь. И если я не умерла, то потому, что кто-нибудь всегда молился за меня. Всё вкривь и вкось, всё невпопад, мне страшен стал упрёк светил, зато — вчера! Зато — Булат! Зато — мне ключик подарил! Да, да! Вчера, сюда вошед, Булат мне ключик подарил. Мне этот ключик — для волшебств, а я их подарю — другим. Мне трудно быть не молодой и знать, что старой — не бывать. Зато — мой ключик золотой, а подарил его — Булат. Слова из губ — как кровь в платок. Зато на век, а не на миг. Мой ключик больше золотой, чем золото всех недр земных. И всё теперь пойдёт на лад, я стану жить для слёз, для рифм. Не зря — вчера, не зря — Булат, не зря мне ключик подарил! 1972Шуточное послание к другу
Покуда жилкой голубою безумья орошён висок, Булат, возьми меня с собою, люблю твой лёгонький возок. Ямщик! Я, что ли, — завсегдатай саней? Скорей! Пора домой, в былое. О Булат, солдатик, родимый, неубитый мой. А остальное — обойдётся, приложится, как ты сказал. Вот зал, и вальс из окон льётся. Вот бал, а нас никто не звал. А всё ж — войдём. Там, у колонны… так смугл и бледен… Сей любви не перенесть! То — Он. Да. Он ли? Не надо знать, и не гляди. Зачем дано? Зачем мы вхожи в красу чужбин, в чужие дни? Булат, везде одно и то же. Булат, садись! Ямщик, гони! Как снег летит! Как снегу много! Как мною ты любим, мой брат! Какая долгая дорога из Петербурга в Ленинград. 1977Письмо Булату из Калифорнии
Что в Калифорнии, Булат, — не знаю. Знаю, что прелестный, пространный край. В природе летней похолодает, говорят. Пока — не холодно. Блестит простор воды, идущий зною. Над розой, что отрадно взору, колибри пристально висит. Ну, вот и всё. Пригож и юн народ. Июль вступает в розы. А я же «Вестником Европы» свой вялый развлекаю ум. Всё знаю я про пятый год столетья прошлого; раздоры, открытья, пререканья, вздоры и что потом произойдёт. Откуда «Вестник»? Дин, мой друг, славист, профессор, знаний светоч, вполне и трогательно сведущ в словесности, чей вкус и звук нигде тебя, нигде меня не отпускает из полона. Крепчает дух Наполеона. Графиня Некто умерла, до крайних лет судьбы дойдя. Все пишут: кто стихи, кто прозу. А Тот, кто нам мороз и розу преподнесёт, — ещё дитя безвестное, но не вполне: Он — знаменитого поэта племянник, стало быть, родне известен. Дальше — буря, мгла. Булат, ты не горюй, всё вроде о’кей. Но «Вестником Европы» зачитываться я могла, могла бы там, где ты и я брели вдоль пруда Химок возле. Колибри зорко видит в розе насущный смысл житья-бытья. Меж тем Тому — уже шесть лет! Ещё что в мире так же дивно? Всё это удивляет Дина. Засим прощай, Булат, мой свет. 1977Дарующий радость
Фирма «Мелодия» предлагает Вашему вниманию… — я написала эти слова, и рука моя надолго остановилась.
Темнело, светало, таяло, морозило, шёл снег — я не умела продолжить. Но почему? Казалось бы, всё волшебно просто… Фирма «Мелодия» делает Вам и мне, нашему общему неисчислимому множеству драгоценный подарок — Вы сами видите, каков он. Но до того, как Вы возьмёте его в руки, я должна объяснить вот этому листу бумаги, почему мне так трудно соотносить с ним перо.
Когда-то, давно уже, я поздравляла читателей «Литературной газеты» с Новым годом, с чудесами, ему сопутствующими, в том числе с пластинкой «Алиса в Стране чудес», украшенной именем и голосом Высоцкого.
А Высоцкий горько спросил меня: «Зачем ты это делаешь?» Я-то знала — зачем. Добрые и доблестные люди, ещё раз подарившие нам чудную сказку, уже терпели чьё-то нарекание, нуждались хоть в какой-нибудь поддержке и защите печати.
С тех пор прошло ровно десять лет. Я пишу это в декабре 1986 года.
«Литературная газета» ещё раз поздравит читателей с Новым годом — никто не пререкается с моими словами о Высоцком, вернее, значение его имени для нашего сознания стало непререкаемо и неоспоримо.
И ещё один раз Высоцкий так же горько и устало спросил меня: «Зачем ты это делаешь?» — это когда в альманахе «День поэзии» было напечатано одно его стихотворение, сокращённое и искажённое.
Голос — всегда изъявление души. Голос Высоцкого — щедрый, расточительный подвиг. Но других, расчётливых и скаредных, подвигов не бывает.
Высоцкий сделал для нас всё, что мог, даже более, чем возможно. Что же мы можем сделать для Высоцкого? Ему ничего не нужно.
Было нужно: признания его профессиональной литературной независимости, ведь прежде всего он — автор своих сочинений. Всенародная слава была с ним при его жизни, но и обида, не полезная для жизни, была. То и другое претерпевал он с достоинством.
Для личности и судьбы Высоцкого изначально и заглавно то, что он — Поэт. В эту его роль на белом свете входят доблесть, доброта, отважная и неостановимая спешка пульсов и нервов, благородство всей жизни (и того, чем кончается жизнь). Таков всегда удел Поэта, но этот наш Поэт ещё служил театру, сцене, то есть опять служил нам, и мы знаем, в какой степени: в превосходной, в безукоризненной. Какое время из всего отпущенного ему взял он для пристального и неусыпного труда: для работы над словом, над строкою? Его рукописи удостоверяют нас в том, что время, которым располагает Поэт, не поддаётся общепринятому исчислению. Он должен совершенно уложиться в свой срок, и за это вся длительность будущего времени воздаст ему нежностью и благодарностью. Начало бесконечного воздаяния бурно происходит на наших глазах.
Июль 1980 года стал пеклом боли для современников Высоцкого и навряд ли станет прохладой воспоминания для других поколений, но и у них в календаре будет январь, чтобы радоваться дню его рождения.
Неисчислимые почитатели Высоцкого заслуживают восхищения, но и утешения: между ними и всем тем, что содеяно их героем и любимцем, не должно быть препон и разлуки. Читатели, зрители и слушатели всё чаще получают в своё неотъемлемое и бескорыстное владение то, что заведомо и по праву принадлежит им.
К числу утешительных радостей и наград такого рода несомненно относится этот альбом. Две его пластинки для меня несколько раз драгоценны. Их общий состав и объём достаточно обширны, чтобы свидетельствовать о разных периодах и достоинствах творчества Высоцкого. Знаменитые артисты, привлечённые для участия в записи, — близкие друзья и сподвижники Володи, это сразу слышно и вызывает волнение и признательность.
И, конечно, главное содержание альбома — живой и невредимый голос Высоцкого, никогда не покидающий нас, дарующий радость, затмевающий влагой глаза.
Вдруг мне показалось, что голос этот снова спросил меня: «Зачем ты это делаешь?» И правда — зачем? Сейчас Вы сами всё это услышите.
От всей души желаю Вам любви и счастья.
Белла Ахмадулина 1986Вождь своей судьбы
Выступление на вечере памяти В. Высоцкого в Доме кино
Досточтимые друзья!
Меня утешает и обнадёживает единство нашего помысла и нашего чувства. Хорошо собираться для обожания, для восхищения, а не для вздора и не для раздора. И хотя по роду моих занятий я не развлекатель всегда любимой мною публики, я всё-таки хотела бы смягчить акцент печали, который нечаянно владеет голосом каждого из нас.
Вот уже седьмой год, как это пекло боли, обитающее где-то здесь, остаётся безутешным, и навряд ли найдётся такая мятная прохлада, которая когда-нибудь залижет, утешит и обезболит это всегда полыхающее место. И всё-таки у нас достаточно причин для ликования. Завтра день рождения этого человека.
Мандельштамом сказано — я боюсь, что я недостаточно грациозно воспроизведу его формулу, — но сказано приблизительно вот что. Смерть поэта — есть его художественное деяние. То есть смерть поэта — не есть случайность в сюжете его художественного существования. И вот, когда мы все вместе, желая утешить себя и друг друга, всё время применяем к уже свершившейся судьбе какое-то сослагательное наклонение, может быть, мы опрометчивы лишь в одном. Если нам исходить из той истины, что заглавное в Высоцком — это его поэтическое урождение, его поэтическое устройство, тогда мы поймём, что препоны и вредоносность ничтожных людей и значительных обстоятельств — всё это лишь вздор, сопровождающий великую судьбу.
Чего бы мы могли пожелать поэту? Нешто когда-нибудь поэт может обитать в благоденствии? Нешто он будет жить, соблюдая свою живучесть? Нет. Сослагательное наклонение к таким людям неприменимо. Высоцкий — несомненно вождь своей судьбы. Он — предводитель всего, всего своего жизненного сюжета.
Я помню, и мне довелось из-за него принять на себя жгучие оскорбления; отношение к нему как к непрофессиональному поэту — было и для меня унизительно. Я знаю, как была уязвлена столь высокая, столь опрятная гордость, но опять-таки будем считать, что всё это пустое.
Я полагаю судьбу Высоцкого совершенной, замкнутой, счастливой. Потому что никаких поправок в неё внести невозможно. Несомненно, что его опекала его собственная звезда, перед которою он не провинился. И с этим уже ничего не поделаешь, тут уже никаких случайностей не бывает. А вот всё, что сопутствует поэту в его столь возвышенном, и столь доблестном, и столь трудном существовании — всё это какие-то необходимые детали, без этого никак не обойдёшься. Да, редакторы ли какие-то, чиновники ли какие-то, но ведь они как бы получаются просто необходимыми крапинками в общей картине трагической жизни поэта. Видимо, для этого и надобны.
Но всё же, опять-таки вовлекая вас в радость того, что этот человек родился на белом свете и родился непоправимо навсегда, я и думаю, что это единственное, чем можем мы всегда утешить и себя, и тех, кто будет после нас.
Он знал, как он любим. Но что же, может быть, это ещё усугубляло сложность его внутреннего положения. Между тем, принимая и никогда не отпуская от себя эту боль, я буду эту судьбу полагать совершенно сбывшейся, совершенно отрадной для человечества.
Позвольте прочесть несколько стихотворений, посвящённых Владимиру Высоцкому.
* * *
Твой случай таков, что мужи этих мест и предместий белее Офелии бродят с безумьем во взоре. Нам, виды видавшим, ответствуй, как деве прелестной: так — быть? или — как? что решил ты в своём Эльсиноре? Пусть каждый в своём Эльсиноре решает, как может. Дарующий радость, ты — щедрый даритель страданья. Но Дании всякой, нам данной, тот славу умножит, кто подданных душу возвысит до слёз, до рыданья. Спасение в том, что сумели собраться на площадь не сборищем сброда, бегущим глазеть на Нерона, а стройным собором собратьев, отринувших пошлость. Народ невредим, если боль о Певце — всенародна. Народ, народившись, — не неуч, он ныне и присно — не слушатель вздора и не покупатель вещицы. Певца обожая, — расплачемся. Доблестна тризна. Так — быть или как? Мне как быть? Не взыщите. Хвалю и люблю не отвергшего гибельной чаши. В обнимку уходим — всё дальше, всё выше, всё чище. Не скаредны мы, и сердца разбиваются наши. Лишь так справедливо. Ведь если не наши — то чьи же?Москва: дом на Беговой улице
Московских сборищ завсегдатай, едва очнётся небосвод, люблю, когда рассвет сохатый чащобу дыма грудью рвёт. На Беговой — одной гостиной есть плюш, и плен, и крен окна, где мчится конь неугасимый в обгон небесного огня. И видят бельма рани блёклой пустых трибун рассветный бред. Фырчит и блещет быстролётный переходящий в утро бег Над бредом, бегом — над Бегами есть плюш и плен. Есть гобелен: в нём те же свечи и бокалы, тлен бытия, и плюш, и плен. Клубится грива ипподрома. Крепчает рысь младого дня. Застолья вспыльчивая дрёма остаток ночи пьёт до дна. Уж кто-то щей на кухне просит, и лик красавицы ночной померк. Окурки утра. Осень. Все разбредаются домой. Пирушки грустен вид посмертный. Ещё чего-то рыщет в ней гость неминуемый последний, что всех несносней и пьяней. Уже не терпится хозяйке уйти в черёд дневных забот, уж за его спиною знаки она к уборке подает. Но неподвижен гость угрюмый. Нездешне одинок и дик, он снова тянется за рюмкой и долго в глубь вина глядит. Не так ли я в пустыне лунной стою? Сообщники души, кем пир был красен многолюдный, стремглав иль нехотя ушли. Кто в стран полуденных заочность, кто — в даль без имени, в какой спасительна судьбы всеобщность и страшно, если ты изгой. Пригубила — как погубила — непостижимый хлад чела. Всё будущее — прежде было, а будет — быль, что я была. На что упрямилось воловье двужилье горловой струны — но вот уже и ты, Володя, ушёл из этой стороны. Не поспевает лба неумность расслышать краткий твой ответ. Жизнь за тобой вослед рванулась, но вот — глядит тебе вослед. Для этой мысли тёмной, тихой стих занимался и старел и сам не знал: причём гостиной вид из окна и интерьер? В честь аллегории нехитрой гость там зажился. Сгоряча уже он обернул накидкой хозяйки зябкие плеча. Так вот какому вверясь року гость не уходит со двора! Нет сил поднять его в дорогу у суеверного пера. Играй со мной, двойник понурый, сиди, смотри на белый свет. Отверстой бездны неподкупной я слышу добродушный смех.* * *
И стихотворение, посвящённое Блоку, — я преднамеренно но выбрала его для чтения.
Бессмертьем душу обольщая, всё остальное отстранив, какая белая, большая в окне больничном ночь стоит. Все в сборе: муть окраин, гавань, вздохнувшая морская близь, и грезит о герое главном собранье действующих лиц. Поймём ли то, что разыграют, покуда будет ночь свежеть? Из умолчаний и загадок составлен роковой сюжет. Тревожить имени не стану, чей первый и последний слог непроницаемую тайну безукоризненно облёк. Всё сказано — и всё сокрыто. Совсем прозрачно — и темно. Чем больше имя знаменито, тем неразгаданней оно. А это, от чьего наитья туманно в сердце молодом, — тайник, запретный для открытья, замкнувший створки медальон. Когда смотрел в окно вагона на вспышки засух торфяных, он знал, как грозно и огромно предвестье бед, и жаждал их. Зачем? Непостижимость таинств, которые он взял о собой, пусть называет чужестранец Россией, фатумом, судьбой. Что видел он за мглой, за гарью? Каким был светом упоён? Быть может, бытия за гранью мы в этом что-нибудь поймём. Все прозорливее, чем гений. Не сведущ в здравомыслье зла, провидит он лишь высь трагедий. Мы видим, как их суть низка. Чего он ожидал от века, где всё — надрыв и всё — навзрыд? Не снёсший пошлости ответа, так бледен, что уже незрим. Искавший мук, одну лишь муку: не петь — поющий не учёл. Вослед замученному звуку он целомудренно ушёл. Приняв брезгливые проклятья былых сподвижников своих, пал кротко в лютые объятья, своих убийц благословив. Поступок этой тихой смерти так совершенен и глубок. Всё приживается на свете, и лишь поэт уходит в срок. Одно такое у природы лицо. И остаётся нам смотреть, как белой ночи розы всё падают к его ногам. 1987Артист и поэт
Выступление на вечере памяти В. Высоцкого в Центральном доме актёра ВТО
Дорогие досточтимые друзья!
В вашем высоком присутствии, в этих благородных стенах, вблизи… этого лица, перед которым не хотелось бы мне провиниться, я хочу ещё раз восславить этого Артиста. Когда я говорю «артист», я имею в виду нечто большее, нежели просто доблестное служение сцене, лишь театру. Артист — это нечто большее…
Я не хочу приглашать вас ни к какой печали — всё-таки завтра день рождения Владимира Высоцкого. Получается, что рождение поэта для человечества гораздо важнее, чем всё, что следует за этим и что разрывает нам сердце. Блаженство, что он родился. Привыкшая искать опоры лишь в уме своём или где-то в воздухе, тем более что этот близлежащий воздух для меня благоприятен, я хочу сослаться на что-нибудь, найти себе какие-то слова, вроде эпиграфа.
И вот нахожу их. Это скромно и робко написано мною о Борисе Пастернаке. Это только несколько, просто буквально несколько строк, и потом я объясню себе и вам, почему мне нужен этот эпиграф, почему мне нужно это маленькое предисловие.
Из леса, как из-за кулис актёр, он вынес вдруг высокопарность позы, при этом не выгадывая пользы у зрителя — и руки распростёр. Он сразу был театром и собой, той древней сценой, где прекрасны речи. Сейчас начало! Паснет свет! Сквозь плечи уже восходит фосфор голубой. Вот так играть свою игру — шутя! всерьёз! до слёз! навеки! не лукавя! — как он и фал, как, молоко лакая, играет с миром зверь или дитя.Нечаянно вспомнив эти свои строки, я хочу соотнести их с той моей уверенной, но наверно неоригинальной мыслью, что Владимир Высоцкий по урождению своему прежде всего был Поэт. Таков был способ устройства его личности, таков был сюжет его судьбы. То, что ему приходилось так много быть на сцене, что же, и за это воздалось ему всенародной любовью и всенародной славой. Высоцкий всегда был всенародно любим, слава его неимоверна. Но что, собственно, есть слава? Где-то ещё и докука, это ещё усугубление одиночества человека, которому нужно выбрать время и множество сил и доблести для того, чтобы сосредоточиться и быть наедине с листом бумаги, с чернилами.
Теперь, когда рукописи Владимира Высоцкого открыты — сначала для тех, кто этим занимались в интересах будущих читателей, а потом, надеюсь, это всё будет доведено до сведения читателей, — теперь видно, как он работал над строкой, как он относился к слову. И единственное, что я могу сказать в утешение себе, — я всегда ценила честь приходиться ему коллегой, и я всегда пыталась хоть что-нибудь сделать, чтобы не скрыть его сочинения от читателей.
Мы мало преуспели в этом прежде, но путь поэта не соответствует тому времени, в которое умещается его жизнь. Главное — это потом… И сейчас можно удостоверить, что та разлука, которую с таким отчаяньем, с таким раздиранием души всё время переживали соотечественники и современники Владимира Высоцкого с ним не только из-за его смерти, а ещё из-за того, как будто препона стояла между ним и теми, для кого он был рождён и для кого он жил так, как он умел, — эта, разлука таит в себе ещё и радость новых встреч.
Позвольте мне всё-таки поздравить вас с счастливым днём его рождения. Это наша радость, это наше неотъемлемое достояние, и не будем предаваться отчаянью, а, напротив, будем радоваться за отечественную словесность.
Позвольте прочесть три небольших стихотворения.
Твой случай таков, что мужи этих мест и предместий белее Офелии бродят с безумьем во взоре. Нам, виды видавшим, ответствуй, как деве прелестной: так — быть? или — как? что решил ты в своём Эльсиноре? Пусть каждый в своём Эльсиноре решает, как может. Дарующий радость, ты — щедрый даритель страданья. Но Дании всякой, нам данной, тот славу умножит, кто подданных душу возвысит до слёз, до рыданья. Спасение в том, что сумели собраться на площадь не сборищем сброда, бегущим глазеть на Нерона, а стройным собором собратьев, отринувших пошлость. Народ невредим, если боль о Певце — всенародна. Народ, народившись, — не неуч, он ныне и присно — не слушатель вздора и не покупатель вещицы. Певца обожая, — расплачемся. Доблестна тризна. Так — быть или как? Мне как быть? Не взыщите. Хвалю и люблю не отвергшего гибельной чаши. В обнимку уходим — всё дальше, всё выше, всё чище. Не скаредны мы, и сердца разбиваются наши. Лишь так справедливо. Ведь если не наши — то чьи же?И ещё стихотворение — называется «Театр», посвящено Владимиру Высоцкому.
Эта смерть не моя есть ущерб и зачёт жизни кровно-моей, лбом упёршейся в стену. Но когда свои лампы Театр возожжёт и погасит — Трагедия выйдет на сцену. Вдруг не поздно сокрыться в заочность кулис? Не пойду! Спрячу голову в бархатной щели. Обречённых капризников тщетный каприз — вжаться, вжиться в укромность — вина неужели? Дайте выжить. Чрезмерен сей скорбный сюжет. Я не помню из роли ни жеста, ни слова. Но смеётся суфлёр, вседержитель судеб: говори; всё я помню, я здесь, я готова. Говорю: я готова. Я помню. Я здесь. Сущ и слышим тот голос, что мне подыграет. Средь безумья, нет, средь слабоумья злодейств здраво мыслит один: умирающий Гамлет. Донесётся вослед: не с ума ли сошед Тот, кто жизнь возлюбил да забыл про живучесть. Дай, Театр, доиграть благородный сюжет, бледноликий партер повергающий в ужас.И ещё стихотворение, которое читаю в честь Владимира Высоцкого, чьё присутствие, кстати, меня никогда не покидало.
Стихотворения чудный театр, нежься и кутайся в бархат дремотный. Я — ни при чём, это занят работой чуждых божеств несравненный талант. Я — лишь простак, что извне приглашён для сотворенья стороннего действа. Я не хочу! Но меж звёздами где-то грозную палочку взял дирижёр. Стихотворения чудный театр, нам ли решать, что сегодня сыграем? Глух к наставленьям и недосягаем в музыку нашу влюблённый тиран. Что он диктует? И есть ли навес — нас упасти от любви его лютой? Как помыкает безграмотной лютней безукоризненный гений небес! Стихотворения чудный театр, некого спрашивать: вместо ответа — мука, когда раздирают отверстья труб — для рыданья и губ — для тирад. Кончено! Лампы огня не таят. Вольно! Прощаюсь с божественным игом Вкратце — всей жизнью и смертью — разыгран стихотворения чудный театр.Благодарю вас и с любовью объявляю тех, кто с успехом заменит меня на этом месте, — Татьяну и Сергея Никитиных.
1967Союз радости и печали
Выступление на церемонии открытия памятника В. Высоцкому
Сколько раз мы слышали эта слова, и только что слышали: не успел ни дожить, ни допеть. И всякий раз они разрывают нам сердце. Но это же бедное, живучее сердце ищет себе какого-то утешения, и, по-моему, сегодня мы можем быть утешены одним: во-первых, он успел — он дожить, может быть, не успел, но он успел, исполнил свой художественный и человеческий долг перед всеми нами, перед своим народом, перед его будущим.
Вот мы открыли памятник. Это торжество особенно должно нас возвысить, потому что на моей памяти не открывали таких сооружений, которые были бы изделием народного сердца, а не навязаны ему какими-то сторонними силами. Да, конечно, хочется нечаянно повторить пушкинские слова о воздвигнутом памятнике нерукотворном. Они сейчас или обитают, или хотя бы гостят в наших умах, потому что торжество этого памятника крайне отрадно, но главный памятник он воздвиг себе действительно сам, и подтверждение этого мы можем читать в лицах друг друга или вот я с этого скромного возвышения.
И то, что наше собрание имеет такой благородный повод и помысел, — это есть утешение. Потому что когда я вижу и читаю лица, глаза, я не должна думать, что народ наш утратил какие-то достоинства ума и духа. Нет, так не может быть. Это ободряет. И потом редко удавалось нам — во всяком случае, при моём возрасте и жизни — собираться не по какому-то условному принуждению, а просто от единого человеческого чувства. И тоща возникшая мысль о том, что мы кем-то приходимся друг другу, что мы не одиноки в своём человечестве, в своём времени, что есть такие причины, которые могут объединить наши сердцебиения, уже не оставляет меня. В этом есть опровержение того, что сейчас как-то часто всуе повторяют дескать, совсем мы пали и… Наверное, не совсем.
Наше чувство к Высоцкому всегда двояко: союз радости и печали. Это чувство усложнено и увеличено тем, что, восхищаясь им, мы как бы восхищаемся собственным уделом. Мы были его современниками, и, может быть, какие-то наши вины, какие-то наши грехи он взял на себя и, может быть, поэтому и не успел, как он сам думал, дожить.
В этом, мне кажется, свет торжества этого дня, в этом утешение. Позвольте мне прочесть короткое стихотворение. Оно написано 15 лет назад. Я его, разумеется, читаю с коленопреклонённой памятью о Высоцком, но оно сейчас посвящено вам, потому что у меня, в общем, человека, который редко счастливо для себя участвовал в каком-то коллективе, сейчас есть ощущение, что я действительно родилась и умру на этой земле, где я не одинока, где мы все можем встретить человеческий взор или протянуть друг другу руку. (Читает стихотворение «Твой случай таков…»).
1995Не забыть
Памяти Василия Шукшина
Мы встретились впервые в студии телевидения на Шаболовке: ни его близкая слава, ни Останкинская башня не взмыли ещё для всеобщего сведения и удивления. Вместе с другими участниками передачи сидели перед камерой, я глянула на него, ощутила сильную неопределённую мысль и ещё раз глянула. И он поглядел на меня: зорко и угрюмо. Прежде я видела его на экране, и рассказы его уже были мне известны, но именно этот его краткий и мрачно-яркий взгляд стал моим первым важным впечатлением о нём, навсегда предопределил наше соотношение на белом свете.
Некоторые глаза — необходимы для зрения, некоторые — ещё и для красоты, дм созерцания другими, но такой взгляд: задевающий, как оклик, как прикосновение, — берет очевидный исток в мощной исподлобной думе, осязающей предмет, его тайную суть. Примечательное устройство этих глаз, теперь столь знаменитых и незабываемых для множества людей, сумрачно-светлых, вдвинутых в глубь лица и ума, возглавляющих облик человека, тогда поразило меня и впоследствии не однажды поражало.
Однако вскоре выяснилось, что эти безошибочные глаза впервые увидели меня скорее наивно, чем проницательно. Со Студии имени Горького мне прислали сценарий снимающегося фильма «Живёт такой парень» с просьбой сыграть роль Журналистки: безукоризненно самоуверенной, дерзко нарядной особы, поражающей героя даже не чужеземностью, а инопланетностыо столичного обличья и нрава. То есть играть мне и не предписывалось: такой я и показалась автору фильма. А мне и впрямь доводилось быть корреспондентом столичной газеты, но каким! — громоздко-застенчивым, невнятно бормочущим, пугающим занятых людей сбивчивыми просьбами о прощении, повергающим их в смех или жалость. Я не скрыла этого моего полезного и неказистого опыта, но мне сказано было — всё же приехать и делать, как умею. Так и делали: без уроков и репетиций.
Этот фильм, прелестно живой, добрый и остроумный, стал драгоценной удачей многих актёров, моей же удачей было и осталось — видеть, как кропотливо и любовно сообщался с ними режиссёр, как мягко и безгневно осуществлял он неизбежную власть над ходом съёмок.
Что касается моего скромного и невразумительного соучастия в фильме, то я вспоминаю его без гордости, конечно, но и без лишнего стыда. Загадочно неубедительная Журналистка, столь быстро утратившая предписанные ей сценарием апломб и яркость оперения, обрела всё же размытые человеческие черты, отстранившие от неё первоначальное отчуждение автора и героя. Был даже снят несоразмерно долгий одинокий проход этого странного существа, не вошедший в заключительные кадры фильма, но развлекавший задумчивого режиссёра в темноте просмотрового зала, где они шли навстречу друг другу через предполагаемую пропасть между деревенскими и городскими жителями во имя более важных человеческих и художественных совпадений. Преодоление этой условной бездны, не ощущаемой мною, но тяготившей его в ту пору его жизни, составило содержание многих наших встреч и пререканий. Опережая себя, замечу, что если он и принял меня вначале за символ чуждой ему, городской, умственно-витиеватой и не плодородной жизни, то всё же его благосклонность ко мне была щедрой и неизменной, наяву опровергавшей его теоретическую неприязнь.
Со съёмок упомянутого фильма началась наша причудливая дружба, которая и теперь преданно и печально бодрствует в моём сердце. Делая необязательную уступку наиболее любопытным читателям, оговариваюсь: из каких бы чувств, поступков, размолвок ни складывались наши отношения, я имею в виду именно дружбу в единственном и высоком значении этого лучшего слова. Это вовсе не значит, что я вольна предать огласке всё, что знаю: это право есть у Искусства, а я всего лишь имею честь и несчастье писать воспоминания.
В ту позднюю осень, в ту зиму мы оба, не очень, правда, горюя, мыкались и скитались: он — потому что это было первое начало его московской жизни, пока неуверенной и бездомной, я — потому что тоща бежала благоденствия, да и оно за мною не гналось. Вместе бродили и скитались, но — не на равных. Ведь это был мой город, совершенно и единственно мой, его воздух — мне удобен, его лужи и сугробы — мне отрадны, я знаю наперечёт сквозняки арбатских проходных дворов, во множестве домов этого города я всегда имела приют и привет. Но он-то был родом из других мест, по ним он тосковал во всех моих чужих домах, где мрачнел и дичился, не отвечал на любезности, держал в лице неприступно загнанное выражение, а глаза гасил и убирал, вбирал в себя. Да и радушные хозяева не знали, что с гордостью будут вспоминать, как молчал в их доме нелюдимый гость, изредка всверкивая неукрощенным вольным глазом, а вокруг его сапог расплывался грязный снег.
Открою скобки и вспомню эти сапоги — я перед ними смутно виновата, но перед ним — нет, нет. Дело в том, что люди, на чьём паркете или ковре напряжённо гостили эти сапоги, совсем не таковы были, чтобы дорожить опрятностью воска или ворса. Но он причинял себе лишнее и несправедливое терзание, всем существом ошибочно полагая, что косится на его сапог соседний мужской ботинок, продолговатый и обласканный бархатом, что от лужи под сапогами отлепётывают брезгливые капризные туфельки. То есть сапоги ему не столько единственной обувью приходились, сколько — знаком, утверждением нравственной и географической принадлежности, объявлением о презрении к чужим порядкам и условностям.
В тех же скобках: мы не раз ссорились из-за великого Поэта, про которого я знала и знаю, говорила и говорю, что он так же неотъемлем от этой земли и так же надобен ей, как земледелец, который свободен не знать о Поэте, этом или другом Поэте, всегда нечаянно пекущемся и о земледельце, и на них вместе и держится эта земля. Есть известный фотографический портрет Поэта; в конце жизни, на её последней печальной вершине, он стоит, опершись о лопату, глядя вдаль и поверх.
— В сапогах! — усмехнулся тот, о ком пишу и тоскую.
Так или приблизительно так кричала я в ответ:
— Он в сапогах, потому что тоща работал в саду. И я видела его в сапогах, потому что была осень, было непролазно грязно в той местности! А ты…
А он, может быть, и тогда уже постиг и любил Поэта, просто меня дразнил, отстаивал своевольную умственную независимость от обязательных пристрастий, но одного-то он наверняка никогда не постиг: нехитрого знания большинства людей о существовании обувных магазинов или других способов обзаводиться обувью и прочим вздором вещей.
И всё же — в один погожий день, он по моему наущению был заманен в ловушку, где вручили ему свёрток со вздором вещей: ну, костюм, туфли, рубашки… Как не хотел! А всё же я потом посмотрела ему вслед: он шёл по Садовому кольцу (по улице Чайковского), лёгкой подошвой принимая привет апрельского московского асфальта.
Кстати, я всегда с грустью и со страхом смотрю вслед тем, кого люблю: о, только бы — не напоследок.
Вот и всё о бедных сапогах, закрываю скобки.
Да, о домах, куда хаживали мы вместе в гости, — ничего из этого не получилось. Поэтому чаще мы заходили в те места, в которые, знаете ли, скорее забегают, чем заходят. В одном из таких непритязательных мест на проспекте Мира, назовём его для элегантности «кафе», я заслужила его похвалу, если не хвалу — за то, что мне было там хорошо, ловко, сподручно и с собеседниками я с лёгкостью ладила. Много таких мест обошли мы — они как бы посредине находились между его и моими родными местами. В окне висела любезная мне синева московских зимних сумерек, он смягчился и говорил, что мне надо поехать в деревню, что я непременно полюблю людей, которые там живут (а я их-то и люблю!), и что какие там в подполе крепкие, холодные огурцы (а я их-то и вожделею!), что всё это выше и чище поэтической интеллигентской зауми, которую я чту (о, какие были ужасные ссоры!).
Многие люди помнят пылкость и свирепость наших пререканий. Ни эти люди, ни я, ни вы — никто теперь не может сказать в точности: что мы делили, из-за чего бранились? Ну, например, я говорила: всякий человек рождён в малом и точном месте родины, в доме, в районе, в местности, взлелеявшей его нрав и речь, но художественно он существует — всеземно, всемирно, обратив ум и душу раструбом ко всему, что есть, что было у человечества. Но ведь так он и был рождён, так был и так сбылся на белом свете. Просто он и я, он — и каждый человек, с которым он соотнёсся в жизни и потом, — нерасторжимы в этой пространной земле, не тесной для разных способов быть, говорить, выглядеть, но всё это — ей, ей лишь.
Последний раз увиделись в Доме литераторов: выступали каждый — со своим. Спросил с усмешкой: «Ну что, нашла свою собакуя?» — «Нет». — «Фильм мой видела?» — «Нет». — «Посмотри — мне важно».
Получилось, что его последнего фильма я ещё не успела посмотреть, но он успел прочесть объявление о пропаже собаки. Но над этим — сильно и в последний раз сверкнули мне его глаза. И — прыгнул, бросив ему руку, Антокольский: «Шукшин? Я вас — почитаю! Я вас — обожаю!»
Дальнейшее — обозначаю я безмолвием моим. Пусть только я знаю.
Около Ново-Девичьего кладбища рыдающая женщина сказала мне:
— Идите же! Вас — пустят.
Милиционер — не пустил, у меня не было с собой членского билета Союза писателей. Я сказала: «Я должна. Я — товарищ его. И я писатель всё же, я член Союза писателей, но нет, понимаете вы, нет при мне билета».
Милиционер сказал: «Нельзя. Нельзя». И вдруг посмотрел и спросил: «А вы, случайно, не снимались в фильме „Живёт такой парень“? Проходите. Однако вы сильно изменились с тех пор».
Я и впрямь изменилась с тех пор. Но не настолько, чтобы — забыть.
1978Слово о Ларисе Шепитько
Так случилось, так жизнь моя сложилась, что я не то, что не могу забыть (я не забывчива), — я не могу возыметь свободу забытья от памяти об этом человеке, от утомительной мысли, пульсирующей в виске, от ощущения вины. Пусть я виновата во многом, но в чём я повинна перед Ларисой? Я долго думаю — рассудок мой отвечает мне: никогда, ни в чём.
Но вот — глубокой ночью — я искала бумаги, чтобы писать это, а выпал, упал чёрный веер. Вот он — я обмахиваюсь им, теперь лежит рядом. Этот старинный чёрный кружевной веер подарил мне Сергей Параджанов — на сцену, после моего выступления.
— При чём Параджанов? — спросит предполагаемый читатель. При том, что должно, страдая и сострадая, любить талант другого человека, — это косвенный (и самый верный) признак твоей одарённости.
Ну, а при чём веер?
Вот я опять беру его в руки. Лариса держала его в руках в новогоднюю ночь, в Доме кино. Я никогда не умела обмахиваться веером, но я никогда не умела внимать строгим советам и склонять пред ними голову.
— Я покажу Вам, как это делается, — сказала Лариса. — Нас учили этому во ВГИКе.
Лариса и веер — стали общая стройность, грациозность, плавное поведение руки, кружев, воздуха. Я склонила голову, но всё же исподтишка любовалась ею, её таинственными, хладными, зелёными глазами.
Откуда же она взяла такую власть надо мною, неподвластной?
Расскажу — как помню, как знаю.
Впервые, отчётливо, я увидела её в Доме кино, ещё в том, на улице Воровского. Нетрудно подсчитать, когда это было: вечер был посвящён тридцатилетию журнала «Искусство кино» — и мне было тридцать лет. Подробность этого арифметического совпадения я упоминаю лишь затем, что тогда оно помогло мне. Я поздравляла журнал: вот-де, мы ровесники, но журнал преуспел много боле, чем я. Я знала, что говорю хорошо, свободно, смешно, — и согласная приязнь, доброта, смех так и поступали в мою прибыль из тёмного зала. Потом я прочитала моё долгое, с прозой, стихотворение, посвящённое памяти Бориса Пастернака. Уж никто не смеялся: прибыль души моей всё увеличивалась.
Но что-то сияло, мерцало, мешало-помогало мне из правой ложи. Это было сильное излучение нервов — совершенно в мою пользу, — но где мне было взять тупости, чтобы с болью не принять этот сигнал, посыл внимания и одобрения? Нервы сразу узнали источник причинённого им впечатления: Лариса подошла ко мне в ярко освещённом фойе. Сейчас, в сей предутренний час, через восемнадцать лет, простым художественным усилием вернув себе то мгновение, я вижу прежде не Ларису, а её взгляд на меня: в чёрном коротком платье, более округлую, чем голос, чем силуэт души, чем тонкость, притаившаяся внутри, да просто более плотную, чем струйка дыма, что тяжеловесно, — такова я, пожалуй, в том внимательном взоре, хищно, заботливо, доблестно профессиональном. Сразу замечу, что по каким-то другим и неизвестным причинам, но словно шлифуемая, оттачиваемая этим взором для его надобности, я стала быстро и сильно худеть, — всё легче мне становилось, но как-то уже и странно, рассеянно, над и вне.
Но вот я вглядываюсь в Ларису в тот вечер, в её ослепительную невидимость в правой ложе, в её туманную очевидность в ярком фойе: в отрадность, утешительность ее облика для зрения, в её красоту. И — в мою неопределенную мысль о вине перед ней: словно родом из Спарты, она показалась мне стройно и мощно прочной, совсем не хрупкой, да, прочной, твёрдо-устойчивой, не хрупкой.
Пройдёт не так уж много лет времени, будет лето, Подмосковье, предгрозье, столь влияющее на собак, — всё не могла успокоить собаку, тревожилась, тосковала. Придут — и н-н-не смогут сказать. Я прочту потупленное лицо немого вестника — и злобно возбраню правде быть: нет! нельзя! не сметь! запретно! не позволяю, нет. Предгрозье разрядится через несколько дней, я запутаюсь в струях небесной воды, в электричке, в сложных радугах между ресниц — и не попаду на «Мосфильм».
Был перерыв в этом писанье: радуги между ресниц.
Но всё это будет лишь потом, и этого нет сейчас: есть медленный осенний предрассвет и целая белая страница для насущного пребывания в прошедшем времени, когда наши встречи участились и усилились, и всё зорче останавливались на мне её таинственные, хладные, зелёные глаза.
Впрочем, именно в этой драгоценной хладности вскоре стала я замечать неуловимый изъян, быстрый убыток всё теплела, слабела и увеличивалась зелёная полынья. Таянье тайны могло разочаровать, как апрельская расплывчатость льда, текучесть кристалла, но, кратким заморозком самообладания, Лариса превозмогала, сковывала эту самовольно хлынувшую теплынь как некую независимую бесформенность и возвращала своим глазам, лицу, силуэту выражение строго-студёной и стойкой формы, совпадения сути и стати.
Неусыпная художественная авторская воля — та главная черта Ларисы, которая, сильно влияя на других людей, слагала черты её облика. Лариса — ещё и автор, режиссёр собственной её внешности, видимого изъявления личности, поведения. Поведение — не есть просто прилежность соблюдения общепринятых правил, это не во-первых, хоть это обязательно для всякого человека, поведение есть способ вести себя под общим взором к своей цели: сдержанность движений, утаённость слёз и страстей.
Эту сдержанность, утаённость легко принять за прочность, неуязвимость. Я любовалась повадкой, осанкой Ларисы, и уважение к ней опережало и превосходило нежность и жалость. Между тем я видела и знала, что её главная, художественная, жизнь трудна, непроста: вмешательства, помехи, препоны то и дело вредили её помыслам и её творческому самолюбию. Это лишь теперь никто не мешает ей и её славе.
Влиятельность её авторской воли я вполне испытала на себе. Лариса хотела, чтобы я снималась в её фильме, и я диву давалась, замечая свою податливость, исполнительность: я была как бы ни при чём: у Ларисы всё выходило, чего она хотела от меня. Это моё качество было мне внове и занимало и увлекало меня. Лариса репетировала со мной сначала у неё дома, на набережной, потом на «Мосфильме». Всё это было совсем недолго, но сейчас я чётко и длинно вспоминаю и вижу эти дни, солнце, отрадную близость реки. В силе характера Ларисы несомненно была слабость ко мне, и тем легче у неё всё получалось. Лариса открыто радовалась моим успехам, столь важным для неё, столь не обязательным для моей судьбы, ведь у меня — совсем другой род занятий. Но я всё время принимала в подарок её дар, ярко явленный в её лице, в её указующей повелительности.
Всё-таки до съёмок дело не дошло, и я утешала её: «Не печальтесь! Раз Вы что-то нашли во мне — это не пройдёт с годами, вот и снимите меня когда-нибудь потом, через много лет». Лариса сказала как-то грозно, скорбно, почти неприязненно: «Я хочу — сейчас, не позже».
Многих лет у неё не оставалось. Но художник вынужден, кому-то должен, кем-то обязан совершенно сбыться в то время, которое отведено ему, у него нет другого выхода. Я видела Ларису в расцвете её красоты, подчёркнутой и увеличенной успехом, отечественным и всемирным признанием. Это и была та новогодняя ночь, когда властно и грациозно она взяла чёрный кружевной веер и он на мгновение заслонил от меня её прекрасное печальное лицо.
Милая, милая, хрупкая и беззащитная, но всё равно как бы родом из Спарты, — простите меня.
1985Динара Асанова
Никто ни на кого не похож. Одно не похоже на другое. Капля воды лишь для незорких похожа на соседку; на каплю воды.
Но совпадения — бывают.
Когда я в первый раз увидела Александра Вампилова (я уже читала написанное им, и «Утиную охоту») — он стоял спиною ко мне, лицом к Даугаве, ловил рыбу на удочку. Ничего он не поймал, а я сильно любовалась им. Он обернулся — мы засмеялись от совпадения глаз и скул, от грядущих шуточек и печали.
У Шукшина Василия Макаровича тоже были глаза и скулы, большого значения.
Скулы Динары — отсутствие щёк, отсутствие всего лишнего, мешающего глазам. Пиза — вот и вся Динара. Отсутствие плоти, присутствие глаз.
Много, много лет назад, робко коснувшись моей руки, как бы не смея просить помощи и совета, Динара сказала мне: «Я скоро умру».
В этом была такая детская вопросительность, такая просьба о жизни.
Ей предстояла жизнь, впереди у неё были успех, радость — но как помню я биенье пульсов в её хрупкой руке, в маленьких косточках запястья. Так всё билось и дрожало, так безутешно темнели глаза.
Любой человек, который пытался спасти птицу, залетевшую в дом, не умеющую из дома вылететь, разбивающуюся о закрытое стекло или о зеркало, не умеющую вылететь в открытое окно по ошибке птицы, чей гений поведёт её потом через океан и обратно, — любой такой человек, взявший в руку птицу для выпускания, знает, как предсмертно бьётся её сердечко, все множества её пульсов.
Так в моей руке — мгновение всего лишь — обитала и трепетала рука, ручка Динары.
Я строго сказала: «Вы ошибаетесь, успокойтесь. Это — тахикардия, при этом можно жить столько, сколько нужно». На самом деле навряд ли я точно так думала и точно так сказала.
Мы тоща обе были бездомны — Динара с Колей, и я сама по себе, и другие люди, не имевшие приюта, и собаки, и кошки — мы все тогда жили у великодушных и терпеливых Россельсов.
Но моё бездомье, совершенно искреннее, с взглядом моим на окна, где горят люстры и мебель, наверное, отражает свет люстр и торшеров, — бездомье это нравилось мне, было моей художественной прихотью, своеволием, да и неплохо жилось мне у Россельсов.
Но у Динары было ещё художественное отчаяние, безвыходное, как ей казалось. Да и я, жалея и губя трепещущую птичку её руки, врала ей как умею: обойдётся! всё остальное приложится!
У меня было всё, что мне надобно для писания и летания, Россельсы всё давали: еду, питьё, бумагу — только пиши, только летай. Но Динаре, по её обречённости к её роду занятий, нужны были: студия какая-нибудь, оператор, множество аппаратуры или хоть сколько-нибудь чем снимают, и позволение снимать. И ничего этого не было. Были только глаза и скулы. Скулы обострялись, глаза увеличивались. Впрочем, в остроте её скул были плавность, мягкость, уступчивость. Что это: уступчивость? По-человечески — это заведомое уважение к другому лицу, к другой личности, я всё уступаю Вам, Вы говорите, я молчу. Вежливость, короче говоря. Но — режиссёр? Только воля и сила режиссёра могут содеять из изначального безволия, бессилия артиста волю, силу, свободу…
Прошло некоторое время, и я стала счастливым зрителем и очевидцем успехов Динары Асановой…
1989«Прощай, свободная стихия»
Я приняла весть и убрала лицо в ладони. Не то чтобы я хотела утаить лицо от людей: им не было до меня дела, ведь это было на берегу моря, люди купались, смеялись, пререкались, покупали разные предметы, покрикивали на детей, возбуждённых припеком юга и всеми его соблазнами, так или иначе не вполне дозволенными. Я услышала сильную, совершенную тишину. Неужели дети и родители наконец послушались друг друга? Нет, просто слух мой на какое-то время стал невменяем, а внутри стройно звучало: «Прощай, свободная стихия…» Пора домой, на север, но звучание это, прозрачной музыкой обитающее в уме, на этот раз, наверное, относилось к другому прощанию. Среди людей и детей, вблизи или вдалеке от этого чудного бедного моря, где погибают дельфины, я никогда не встречала столь свободного человека, каковым был и пребудет Сергей Параджанов.
Я ещё сижу, закрыв лицо руками, у меня ещё есть время видеть то, что вижу. Вот я в Тбилиси, поднимаюсь круто вверх на улицу Котэ Месхи. Я знаю, что не застану обитателя комнаты и веранды, он опять в тюрьме, он виноват в том, что — свободен. Он не умещается в предложенные нам обстоятельства, он вольный художник, этой волей он заполняет пространство и тем теснит притеснителей, не знающих, что это они — обитатели той темницы, где нет света, добра, красоты. Нечто в этом роде тогда я написала в единственном экземпляре, лучше и точнее, чем сейчас. Письмо такое: просьба, мольба, заклинание. Может быть, оно сохранно. Вот опять я поднимаюсь в обожаемое место любимого города, а сверху уже раздаются приветственные крики, сам по себе накрывается самобранный стол, на всех людей, на меня, на детей моих и других сыплются, сыплются насильные и нежные подарки, всё, что под руку попадётся. А под руку ему попадается то, что или содеяно его рукой, или волшебно одушевлено её прикосновением. При нём нет мёртвых вещей. Скажем: крышечки из фольги для молочных и кефирных бутылок, небдительно выкинутые лагерными надзирателями. А на них выгравированы портреты товарищей по заключению: краткие, яркие, убедительные образы. Дарил он не крышечки эти, для меня драгоценные, всё дарил всем, и всё это было издельем его души, фантазии, безупречного и безграничного артистизма, который трудно назвать рукодельем, но высшая изысканность, известная мне, — дело его рук. Избранник, сам подарок нам, — всенепременно даритель. Столь предаваясь печали, застаю на своём лице улыбку. Он и меня однажды подарил: взял на руки и опустил в окно квартиры, где сидела прекрасная большая собака. Она как-то смутилась и потупилась при вторжении подарка. Через некоторое время, открыв ключом дверь, вошли хозяева. Собака и я сидели с одинаково виноватым выражением. Хозяева нисколько не удивились и стали накрывать стол. Параджанов недальним соседом приходился им, и всё это было в Тбилиси. Я имела счастье видеть его в Грузии, в Армении и в Москве, где всегда жёстко и чётко меня осеняла боль предчувствия или предзнания. К чувству и знанию боли мне ещё предстоит притерпеться.
Параджанов не только сотворил своё собственное кино, не похожее на другое кино и ни на что другое, он сам — был кинематограф в непостижимом идеале, или лучше оказать: театр в высочайшей степени благородства, влияющей даже на непонятливых зрителей.
Вот, поднимаю лицо. Всё так, как следует быть. Люди купаются, пререкаются, покупают, покрикивают на кричащих от радости детей. Да будут они благословенны! Я всё слышу, но глаза видят препону влаги. Между тем — прямо перед ними ярко и хрупко алеет цветок граната. «Цвет граната» — это другое. Но здесь сейчас цветёт гранат.
1990Склоняю голову
«Тишина, ты — лучшее из всего, что слышал».
Эта строка Пастернака самовольно обитала в моем слухе и уме, затмевая слух, заменяя ум, 20 августа 1987 года, когда Москва прощалась с артистом Андреем Мироновым.
В тот день, в последний раз его пребывания на сцене, я не видела его, стояла неподалёку, рядом, положила цветы, смотрела на прибывающие слёзы и цветы, слышала упомянутую строку.
Когда в тот день я подошла к его Театру, я оробела перед неисчислимым множеством людей, желавших того же: войти в Театр. Хотела отступиться, уйти, и это уже было невозможно. Люди — избранники из множественного числа толкающегося и пререкающегося беспорядка — отступились от честной своей очереди, я вошла, они остались. И снова (Шукшин, Высоцкий, Миронов) я подумала: множество людей не есть сборище толпы, но человек, человек, человек… — человечество, благородное и благодарное собрание народа, понёсшего ещё одну утрату.
Артист, о котором… без которого…
Сосредоточимся. Начнём сначала, лишь изначальность соответствует бесконечности, детство — зрелости. Талант и талант, имя и имя его родителей — известны и досточтимы. Счастье заведомо сопутствовало его урождению и воспитанию. От природы и родителей — сразу данный, совершенный дар безукоризненной осанки, повадки, грациозного поведения тела в пространстве, музыкальности и иронии. Прирождённый ум рано встретился с прекрасными книгами, у него была драгоценная возможность читать, читать. Всегда любуясь им, я любила совпадение наших читательских пристрастий.
Старая привычка к старинному просторечию позволяет мне написать: «из хорошей семьи». Устаревшее это определение (и не жаль его языковой низкородности) состоит в каком-то смутном родстве с прочным воспоминанием о том, как я увидела Андрея Миронова в первый раз, не из зала, а вблизи, в общей сутолоке житейского праздника. Он был неимоверно и трогательно молод, уже знаменит, пришёл после спектакля и успеха, успехи же только брали разгон, нарастали, энергия нервов не хотела и не умела возыметь передышку, в гостях он продолжал быть на сцене, взгляда и слуха нельзя было от него отвлечь. Всё это вместе пугало беззащитностью, уязвимостью, в моих нервах отражалось болью, причиняло какую-то старшую заботливую грусть. Он непрерывно двигался и острил, из глаз его исходило зимнее голубое облачко высокой иронии, отчётливо различимое в дымной голубизне воздуха, восхищение этим зрелищем становилось трудным, утомительным для зрения. Но вот — от вежливости — он придержал предо мною крылья расточительного полёта, я увидела бледное, утомлённое лицо, украшенное старинным, мягким, добрым изъявлением черт, и подумала: только дисциплина благовоспитанности хранит и упасает этого блестящего молодого человека от рискованной грани, на ней, «на краю».
Притягательность «опасной бездны» — непреодолима, неотвратима для Артиста и непоправима для его почитателей.
Эльдар Рязанов рассказывал, какие доблесть и изящество надобны для того, чтобы безупречным поступком прыжка соединить разъединяющиеся части моста и себя — с близким присутствием льва. Услышав, что Андрей Александрович Миронов хотя бы льва несколько опасался, чего на экране не видно, с безутешной нежностью и тоской я улыбнулась. Любой человек, и путник в львиной пустыне, может разминуться со львом. Артист — не может. Так же он не может препоручить дублёру подвиг всего, что должен сам исполнить при жизни — и потом.
Андрею Миронову удалось совершенство образа и судьбы. Известно, что он дочитал монолог Фигаро, доиграл свою роль до конца — уже без сознания, на пути в смерть. Это опровергает разумные и скудные сведения о смерти и бессознании. Остаётся — склонить голову.
1987Посвящение
Так начала я, шли дни и ночи, не мимо меня, сквозь меня шли, для удобства их прохождения сквозь меня я меняла географические местоположения и не нашла музыкального позволения писать дальше.
Генрих Густавович, Станислав Генрихович, правильно ли слышу Вас, что — не надо, не следует? Я всегда слышу Вас (слушаю — это другое, для слушания Вас и теперь, и всегда остаётся некоторая простая возможность). Не ослышаться, а ослушаться остерегаюсь.
Не ослушник Ваш и не послушник ничей, кроме как Ваш, пусть я напишу что-нибудь, позвольте мне это, пожалуйста, иначе как объясню я безвыходную для меня надобность написать: безвыходность эта сначала была не художественного происхождения. То есть я полагала, что должна — и обещала, может быть, опрометчиво, потому что должно держать слово, но слово должно лишь гармонии, нет у него других задолженностей, его воля не пререкаема и не понукаема и всегда может оспорить и пересилить мою. Обретут ли согласие данное мной слово и слово, ещё мне не данное?
Некогда, как и многие люди, я приняла и присвоила расточительный привет Вашего великодушия, заведомое прощение, одобрение, доверчивое изъявление веры мне, уверенности в том, что я — не оскорбитель, не предатель музыки, не толкователь и не разглашатель тайны, не развязный пошляк, скажу так для краткости говоренья. Сколько раз, мучась и сомневаясь, осознавая несовершенство моих способностей и совершенство ужасных обстоятельств воспитания и образования, сколько раз приникала я к Вашей помощи — помогите ещё один раз.
«Вот ещё одно оправдание моей затеи: когда одного писателя, выразившего, хотя и другими словами, небезызвестное чувство: „молчите, проклятые книги“, спросили, зачем же он пишет, он ответил: чтобы избавиться от своих мыслей».
Эти слова Генриха Нейгауза, без ошибок переписанные мною из его книги, я приняла за позволение написать. Ведь и в них есть другой, новый, собственный, вольный по отношению к общеизвестной достоверности, смысл: это не изложение, это сочинение…
1987Памяти Генриха Нейгауза
Что — музыка? Зачем? Я — не искатель муки. Я всё нашла уже и всё превозмогла. Но быть живой невмочь при этом лишнем звуке, о мука мук моих, о музыка моя. Излишек музык — две. Мне — и одной довольно, той, для какой пришла, была и умерла. Но всё это — одно. Как много и как больно. Чужая — и не тронь, о музыка моя. Что нужно остриям органа? При органе я знала, что распят, кто, говорят, распят. О музыка, вся жизнь — с тобою пререканье, и в этом смысл двойной моих услад-расплат. Единожды жила — и дважды быть убитой? Мне, впрочем, — впору. Жизнь так сладостно мала. Меж музыкой и мной был музыкант любимый. Ты — лишь затем моя, о музыка моя. Нет, ты есть он, а он — тебя предрекший рокот, он проводил ко мне всё то, что ты рекла. Как папоротник тих, как проповедник кроток и — краткий острый свет, опасный для зрачка. Увидела: лицо и бархат цвета… цвета? — зелёного, слабей, чем блеск и изумруд: как тина или мох. И лишь при том здесь это, что совершенен он, как склон, как холм, как пруд — столь тихие вблизи громокипящей распри. Не мне её прощать: мне та земля мила, где Гёте, Рейн, и он, и музыка — прекрасны, Германия моя, гармония моя. Вид музыки так прост: он схож с его улыбкой. Ещё там были: шум, бокалы, торжество, тот ученик его прельстительно великий, и я — какой ни есть, но ученик его. 1977Посвящается Вам
…Сначала — музыка. Но речь вольна о музыке глаголить…Впервые я письменно обращаюсь не к читателям, а к слушателям. Зачем? И без моего приглашения услышать музыку Вы по-своему и по своему (чуть не написала: усмотрению), по Вашему слуху примете и получите дар этой пластинки, столь долго-долгожданной, столь отрадной и утешительной для меня. Музыка не есть отрада и утешение и не подлежит описанию словами. Дар — нам — Леонида Десятникова отраден и утешителен для меня. Как радостно, просто, легко сразу же ощутить, почувствовать, взять себе в подарок талант другого человека, любить его и любоваться им. Как трудно писать об этом. Говорить было бы легче, и я бы сказала: Десятников, как и подобает музыке, возбраняет нам неуклюжее вмешательство в тайну. Сочинитель музыки дважды и многажды причастен тайнам, неведомым мне. Десятников иронично замкнут в некоторой строгой целомудренной суверенности, запретной для грубой отгадки, ключ к разгадке (не обязательно скрипичный или басовый) — сокровище Вашего музыкального слуха. Я не обладаю таковым, но, как сказал один близкий мне ребёнок, «организм у меня очень слухливый». Слово «организм» нам позволил Пушкин. Слово «обожание» нам позволила Марина Цветаева, чьи слух и слух Вам известны. Вот и пишу: я обожаю всех соучастников пластинки: Леонида Десятникова, Алексея Гориболя, Олега Ведерникова, Полину Осетинскую, Ксению Кнорре. И ещё есть — очень важно, очень есть — в пластинке и везде, не знаю, где, но всегда, весьма сведущие в жизни и смерти, в музыке и поэзии, в иронии и трагедии: Даниил Хармс и Николай Олейников.
Вы — слушайте, Вы — поймёте.
Ваша Белла Ахмадулина 1993Предисловие к книге Асафа Мессерера «Танец. Мысль. Время»
Начну с начала, опишу всё по порядку.
Представьте себе человека, который сидит у столь большого окна, что, не поводя головой из стороны в сторону, он не может увидеть всё, что видно в окно.
День сияет, ночь смеркается лишь на мгновение, человек давно уже так сидит, поводит головой из стороны в сторону и видит непомерное множество невской воды и столько обожаемого им города, что этого слишком много для одного взора, для яви.
Загадки никакой: так построен отель, так высоко и велико окно, и человек терзаем избытком того, что он видит, и своим мучительным долгом описывать неописуемое. Человек думает, что Пушкин… В это время звонит телефон, и спрашивают: «Что Вы думаете о Большом театре?» Как, ко всему, что мучит ум, уже болеющий белой ночью, нужно прибавить ещё одно раздумье?
Гаснет купол Исаакия, темнеет в Летнем саду, разводят один мост, другой, краткая темень, и снова во всю величину окна сверкает Нева. Человек улыбается: он ловит себя на том, что вот уже сутки думает о Большом театре, и это совпадает и с Пушкиным, и с тем, что в окне. Стало быть, не только на своей площади, но и в сознании человека воздвигнут Великий театр, и достаточно малого оклика, намёка, и вот он явился перед памятью, перед влюблённым зрением.
Первое воспоминание: драгоценный, красный, с позолотой воздушный шар — вожделение моего детства. Бабушка купила, намотала на палец нитку, а шар размотал её своей силой, освободился от детской алчности. Разрывание сердца, утрата рук и прибыль зрения: красный шар в синеве Вселенной, нежная белизна хрупко-громоздкого здания, прочно опёршегося на колонны, посылающего в небо коней. Не знаю, сказала ли бабушка: «Смотри, это Большой театр». Вряд ли, я должна была и прежде это знать, но увидела так впервые, раз навсегда.
Затем — непрерывная удача детства, счастливое знакомство мамы, и на все, на все спектакли ведут, дают перламутровый бинокль, алеет бархат, блестит позолота, меркнет люстра и — ах!
Как прекрасно ты, возлюбленное человечество… Разве мало просто ходить и разговаривать, а ты вон что: на носках, на божественных и невероятных пуантах. Бесшумных, а всё же слух знает наизусть их быстрый-быстрый лепет по сцене. Немыслимо изогнув шею, ты всем телом совершаешь подвиг красоты. И чьи-то уста уже разомкнулись для пения. Да не чрезмерность ли это? Нет, это именно то, что соответствует твоей сути.
Принаряженное дитя ещё не понимает смысла слёз, мешающих смотреть в перламутровый бинокль. Там просто — ножка о ножку, прыжок, повисание, прыжок, но почему это причина для слёз? Восходит надземная люстра, прощай, бинокль, зато — вот пальто, как будто одно заменит другое! Большой театр парит и блещет, что ему до маленького человека со слезой, чью судьбу и речь он нечаянно и непреклонно слагает и пестует: много лет пройдёт, и в его честь вдруг, ни с того ни с сего, расплачется человек при Неве, при Летнем саде, клянусь Вам, что плачет.
Удачливый московский ребёнок вырастает в печального счастливчика, который по-прежнему держит перламутровый бинокль и обмирает, пока меркнет люстра. Потом по неведомой причине он вовсе не ложится спать, соотнося имя театра и величину его значения, и, видимо, одно соответствует другому, если уж новый день сияет, а человек всё ещё думает о том, о чём его мимолётно спросили по телефону.
И за это судьба осыпает его подарками невероятных совпадений. В это же время балерина дарит ему свои балетные туфли, вот они лежат — розовые, грациозные, в забытьи, потому что они почти сведены на нет возвышенной каторгой труда.
И открывается дверь, и входит человек, ему семьдесят три года, и вся его жизнь — это Большой театр, бывший, нынешний и грядущий — бесконечный. Я безмерно люблю его и почитаю, как и множество людей. Он спрашивает. «Как Вы поживаете? Вы, кажется, устали, Вы спать не ложились».
Я смотрю на него, усилием зрачка побарываю и скрываю влагу и говорю: «Всё хорошо. Просто я поздравляю Вас с 200-летием Большого театра».
Всё так и было, как описано в этой заметке, опубликованной в «Литературной газете» 26 мая 1976 года. Оставалось только написать несколько слов на газетных полях: «Дорогой и несравненный Асаф Михайлович! Надеюсь, что и другие люди догадались, но мы-то с Вами точно знаем, кто это входит и кого я безмерно люблю и почитаю и первым — поздравляю. Позвольте ещё раз сказать Вам: люблю и почитаю и поздравляю. Всегда Ваша Белла».
Неведомый друг, глубокоуважаемый Читатель! Асаф Мессерер, вошедший в упомянутую дверь ослепительным ленинградским утром, переступит и Ваш порог — когда Вы откроете эту книгу. Мне следует поспешить оставить Вас наедине с ним, с его жизнью, чей непрерывный и непреклонный сюжет — доблестное служение гармонии, сотворение формы, безукоризненно облекающей смысл.
Артист и педагог, дважды воплотивший свой чудный дар, всегда предъявлял зрителю лишь безупречный итог труда — как бы драгоценную беловую рукопись без единой погрешности и помарки. Читателю же книги открыт мучительный черновик, предшествующий чистоте шедевра, — вся жизнь, без малой поблажки себе, без передышки.
Большой художник одаряет нас своим искусством и, как будто этого мало, в простом житье-бытье, в котором он скромен, робок и рассеян, оповещает нас о прелести его личности сильным излучением какой-то благодатной энергии, похожей на умение светить в темноте.
На этом я прощаюсь с Читателем и радуюсь за него: на свете нет лучшей радости, чем талант другого человека, весь его дар — это дар нам.
Белла Ахмадулина 1979Асафу Михайловичу Мессереру
Дорогой любимый Асаф Михайлович!
Опять я сижу и гляжу на Неву. Та же гостиница: отель «Ленинград».
Но знаю: Вы — не войдёте, Вы — в Париже.
Ваша книга (с моим бедным предисловием) — со мной.
Сегодня, когда я ехала в автомобиле на моё выступление, я сказала Вашей внучке Анечке Плисецкой: «Асаф Михайлович однажды сострадательно спросил меня: „Как же Вы устаёте, когда стоите на сцене?“»
Я знаю, что Вы имели в виду нечто другое. Помню, что ответила: «Только ноги устают, Асаф Михайлович». Вы и я — рассмеялись.
Потому что — я СТОЮ на сцене.
Позвольте мне считать себя Вашим учеником: в жизни и на сцене.
В сей (шестой) час 31 октября я сижу глядючи на Неву и заранее поздравляю Вас с днём Вашего рождения: 19 ноября.
Поздравляю всех, кого Вы учили.
Я — просто люблю Вас. И — я люблю счастливые совпадения (в обыденной жизни называют: судьба).
Всегда и только Ваша Белла Ахмадулина 31 октября 1988 г.Асафу Михайловичу Мессереру
И волос бел, и голос побелел, и лебедята лебедю на смену уже летят. Но чем душе балет приходится? — уразуметь не смею. А кто я есмь? Одиллий и Одетт влюблённый созерцатель обречённый. Быть может, средь предсмертных лебедей я — самый чёрно-белый, бело-чёрный. С чего начать? Не с детства ли начать? Вот — я дитя. Мне колыбель — Варварка. Недр коммунальных чадо я, где чад и сыро так, как в сырости оврага. И вдруг — наряд из банта и калош. Театр, клянусь: я не умру, покуда не отслужу твоих восьми колонн стройнейший строй вблизи любви и чуда. Театр, но что меня с тобой свело? Твой нищий гость, твой тугодум младенец, я — бархата, и злата, и всего сверканья расточительный владелец. Мой нищий дух в твой вовлечён полёт. Парит душа и небу не перечит. Ты — божество, целующее лоб. И плачу я, твой безутешный грешник. Во мне — уж смерклось, а тебе — блестеть без убыли. Пусть высоко и плавно парит балет — соперник и близнец души, пока душа высокопарна. 1983Памяти Великого Артиста
На 89-м году жизни умер Асаф Михайлович Мессерер. Ещё недавно каждое утро он шёл вниз по Тверской улице из дома на работу — в Большой театр. Это называется: «давать класс». Условный балетный термин следует увеличить, расширить, возвысить, отнести к уроку всей его жизни — бессмертному, потому что у его учеников всегда будут ученики.
Его пребывание в воздухе было таинственно, волшебно. Это видели многие зрители, это видели Шаляпин и Собинов — он совпал с ними на великой сцене, это видели Мейерхольд и Михоэлс — он совпал с ними в трагическом времени.
Да, он прожил большую, полную жизнь, прожил вполне, совершенно. Я написала и прочла эти слова, но не сумела сыскать в них утешения. Больше никаким утром он не пойдёт вниз по Тверской — что-то покачнулось, непоправимо разрушилось, кончилось… Эпоха кончилась. Но балет остался и всё будет парить и блистать, увековечивая кроткий образ, драгоценное имя Асафа Мессерера.
1992Слово прощания
Выступление на гражданской панихиде по А. М. Мессереру
Вот, в сей час, в сей миг, при нас завершается нерасторжимость Большого театра и Асафа Мессерера. Разумеется, я имею в виду только очевидную нерасторжимость. Я хорошо понимаю, что стены великих театров умеют хранить своих героев бережнее и тщательнее, чем усыпальницы фараонов.
Энергия всех движений Асафа Мессерера, которую он расточил на зрителей, на учеников, всё-таки должна пребывать где-то и в этом воздухе. Я верю в это. И где-то здесь навсегда останется нечто от него — какой-то привет людям, которые придут после нас. И всё-таки обрыв этой нерасторжимости трудно осознать, и звучит это и выглядит несусветно.
Сегодня утром, увидев колонны Большого театра, мне показалось, что я созерцаю их некоторый беспорядок, какую-то близость к обмороку. Поверьте, это не смятение моих глаз, а действительно историческое ощущение того, что значительная часть времени кончилась. То, что Асаф Михайлович Мессерер не будет каждое утро ходить вниз по улице из своего дома к Большому театру, то, что это действительно так и что он больше не войдёт в свой Театр, — вот это в моём сознании разрушает некоторую конструкцию, без которой трудно обходиться. В эту конструкцию входит всё — и великий его дар, и трагическое время, и судьба его учеников.
Но тем не менее что-то отчётливо пошатнулось. Я утешаю себя тем, что я знаю, что всё это происходит при нашей общей боли, общем страдании, потому что в Асафе Мессерере было ещё одно качество. Это в нём теплился, теплился и ласкал других какой-то кроткий, но довольно мощный свет. Во всяком случае я попадала под это излучение. И то, что в рассеянном, в разрозненном мире Асаф Мессерер всегда и сейчас может объединить людей в добром возвышенном чувстве — пусть это будет нам всем утешением. Да, я ищу утешения себе, желаю утешения вам, но в душе что-то поплакивает, попискивает и не принимает слова утешения.
12 марта 1992Чудо танца
Как в детстве вдень праздника — проснуться не завсегдатаем быта, а избранником судьбы, приближённым ёлки, когда твои умыванье, одеванье, поеданье завтрака относятся не к тебе, а к придворным хлопотам о её воцаренье. Не тоже ли самое с Театром, возводящим нас в чин ребёнка, ожидающего волшебства? Ты ещё отмываешь лицо от недолгого сна, глотаешь кофейную гущу, борешься с предметами; ненужные рвутся за тобой, нужные норовят остаться — а между тобой и бело-алой, каменно-бархатной громадой шатра уже протянулся пунктир неминуемой связи, оркестранты вразнобой примеряются к вашему единству, и Та, ради которой — всё, уже бледна и ещё раз испытывает соотношение ног и Божьей милости. Одновременно где-нибудь в Салтыковке, при последнем издыхании сирени, рослая нескладная девочка запускает многоугольник локтей и колен в погоню за электричкой и, едва не обогнав её, прыгает в вагон. На ней белое платье в чёрный горох с красным цветком из бумажного сада. Тебе нет до неё никакого дела, но ответвление того пунктира нащупывает её в мирозданье и упирается в красный цветок. Солнце точно в зените, а ты опаздываешь, и затруднённое движение такси, не соразмерное со спешкой нервов, терзает тебя, как продирание тела сквозь кустарник. Твоё явление на солнцепёке меж белых колонн поистине величественно, к тебе взывает множество жаждущих рук, ты наугад снабжаешь их чудом и таким образом на три часа помещаешь в угол глаза чёрный горох на белом фоне. Дня лишнего блаженства спрашиваешь перламутровый бинокль у грациозного антикварного старца в гардеробе, упираешься локтем в бархат, в глубину времени, источающую привет-намёк-упрёк: при этих-то чудесах, при детском золоте Театра — зачем, возможно ли затевать злое дело или грубые помыслы, не проще ли предаться музыке, всегда повествующей о любви?
Пусть просвещённые и досточтимые ценители музыки обдумывают и говорят свои справедливые слова, мне следует знать свой шесток и не рассуждать о музыке, но обратить к ней доверчивый лопоухий слух. Тем более что эта музыка умна, сильна, независима, не склонна любезничать со слушателем, впрямую растолковывая что к чему, и предлагает скорее раздумье, чем бессознательный трепет. Увертюра сдержанно и неболтливо уведомляет нас о значительности предстоящих событий, и торжественно обнажаются декорации — важные, лаконичные, с очень глубоким, угрюмо поблёскивающим объёмом, удобным для безысходной муки и редких ослепительных просветов радости. Спешу поздравить художника В. Левенталя (и заодно похвалиться во всеуслышанье, что некогда мы занимались в одном Доме пионеров) — привет и браво!
Всё начинается при снегопаде, при грустных фонарях, с кружения снега и изящных силуэтов вокзальной публики — надо сказать, что все группы и множества людей — на перроне, на балу и везде по ходу спектакля — сплочены гармонией и играют свою второстепенную роль по правилам первоклассного мастерства.
И вот чёрные горохи приходят в неистовое волнение и даже, кажется, гремят в погремушке восторга — появляется Та, которой предстоит любить и страдать. Её объявляет единый влюблённый вздох огромного зала, но и без этого совершенно ясно, что это именно она, хотя она вступает в свой круг скромно, без восклицательных движений, в платье черней темноты. Высоко занеся над общим порядком острое, знаменательное лицо, она поигрывает почти нескладным избытком грации и заведомо прельщает внимание. Конечно же, это Та, в которой так сильно чувство судьбы, уже материализовавшейся в образе Станционного мужика (приблизительно того, чья многозначительная гибель под колёсами паровоза предопределяет исход романа). Артист Ю. Владимиров играет эту реальную и мистическую роль, под отдельные аплодисменты, с удалью таланта, усвоившего все классические и современные уроки, и, может быть, именно поэтому подчас кажется не столько зловещим, сколько привлекательным, не грозным роком, а милой нечистой силой, разбушевавшимся домовым например.
Если страсть к балету не вполне отвлекла вас от памятно знаменитой книге, вы легко можете представить себе, что происходит дальше, — с естественной поправкой на условность жанра, кстати, не обидевшего литературную основу ни развязностью, ни педантичностью воспроизведения. Всё гибельнее и неизбежней сокращается пространство разлуки между Той, которая обречена погибнуть, и тем, чей поверхностный блеск с глубоким блеском осуществляет М. Лиепа — безупречный, как всегда, и не больше Вронский, чем прежде. Но воля великого автора и не предписывает ему громоздкого и незаурядного характера, он и первоначально значителен лишь как партнёр, выполняющий поддержку в лучшем страдании и крайнем крахе. Всё идёт своим чередом, всё тягостнее недоумевает чопорный муж, не умеющий и вынужденный мучиться, — мне кажутся отвагой Н. Фадеечева его преднамеренно не балетные, заземлённые движения: после нескольких быстрых, почти житейских шагов, означающих раздумье, нога нервно рисует на полу часть какого-то безвыходного круга, руки сомкнуты за спиной, в лице — демонстративно драматическое выражение, смягчённое хорошо скрытым актёрским лукавством: дескать, таков приём, и я его доблестно выполняю.
И — первый триумф, назревший в конце несколько рационального и медлительного действия. Та, которая выбрала — любить, пришла сама, не оставила себе ничего, их лица сведены вплотную в опустевшей вселенной. Эта сцена так сильна, так целомудренна в своей неплатонической сути и так исполнена обволакивающего артистизма, что сослаться на быстрый холодок мурашек по спине проще, чем подыскать слова похвалы. Бумажный цветок рядом со мной распускается в живую плоть и отчётливо пахнет розой — и всё в честь Той, для которой сегодня погибло столько цветов. Она ещё надолго отдана вашему зрению — облачённая в разноцветные туманы, огромно-хрупкая, плавная, как сосуд, и резкая, как разбитое стекло. Просияют бальные шествия, огибающие её сиротскую отдельность, промчатся сверкающие, эффектно и остроумно решённые скачки, возвысятся своды надменного дома — и везде ей предстоит страдать, а вам — сострадать и прослезиться, когда она придёт к покинутому сыну. (Правда, на этот раз уже не только по причине искусства, как это было в тот миг, когда она пошатнулась, раненная падением предполагаемой Фру-Фру, видимо случившимся где-то над вашими головами, но и потому, что как же не прослезиться при виде живого, настоящего, чудного ребёнка, вовлечённого во взрослые игры.) Затем сгустится танец Рока, световые и музыкальные силы сольются в истребляющее железо (отчасти заглушающее невыносимую мысль о том — помните? — красном мешочке, который она почему-то не хотела брать с собой туда), и она падёт ниц, обретя искомое совершенство несходства и неблагополучия. Горохи последний раз запрыгают над бьющимся сердцем.
Но подлинными драгоценностями, соединяющими промежутки элегантного, дисциплинированного и холодноватого зрелища, останутся пылкие и мучительные диалоги двух влюблённых — «о свойствах страсти», о вечной неразрешимости, возбуждающей прекрасное искусство.
Вы скажете, что всё это не вполне совпадает с балетом. Но ведь и балет не вполне совпадает о романом. Пусть это будет нечто по мотивам балета по мотивам романа. Пусть это будет бедный бумажный цветок к ногам Той, чей образ, помещённый в юные золотые зрачки, движется в сторону Салтыковки.
1972Послесловие к автобиографии Майи Плисецкой
Глаз влажен был, ум сухо верил в дар Бога Вам — иначе чей Ваш дар? Вот старый чёрный веер для овеванья чудных черт лица и облика. Летали сны о Тальони… но словам здесь делать нечего… Вы стали — смысл муки-музыки. В честь Тайны вот — веер-охранитель Вам. Вы — изъявленье Тайны. Мало я знаю слов. Тот, кто прельстил нас Вашим образом, о Майя, за подвиг Ваш нас всех простил.* * *
Майе Плисецкой Та, в сумраке превыспреннем витая, кем нам приходится? Она нисходит к нам. Чужих стихий заманчивая тайна не подлежит прозрачным именам. Как назовём породу тех энергий, чья доблестна и беззащитна стать? Зрачок измучен непосильной негой, измучен, влажен и желает спать. Жизнь, страсть — и смерть. И грустно почему-то. И прочных формул тщетно ищет ум. Так облекает хрупкость перламутра морской воды непостижимый шум.«Чем больше имя знаменито, тем неразгаданней оно…» Это строчка из моего стихотворения, посвящённого Блоку. Как можно соотнести этот маленький эпиграф с художественной судьбою, которая сбылась о таким совершенством?
Творческий удел Майи Плисецкой — есть чудо, дарованное нам. Человек получил свой дар откуда-то свыше и вернул его людям в целости и сохранности и даже с большим преувеличением. Так что здесь нет ни одной маленькой убыли, нет ни одного маленького изъяна. И казалось бы, Майя Михайловна не оставляет нам никаких загадок. Она явила нам всё, что ей назначено. И всё-таки я применила эту строчку к раздумью о ней. Дело в том, что в исчерпывающей очевидности этого сбывшегося несравненного таланта всегда есть некоторая захватывающая тайна. И сколько бы я ни помышляла о Плисецкой или сколько бы раз я ни видела её на сцене или просто ни следила бы вблизи за бликами, которые озаряют её лицо и осеняют весь её облик, всю её повадку, всегда я усматривала в этом захватывающий сюжет, приглашающий нас к какому-то дополнительному раздумью. Действительно, ореол этой тайны приглашает нас смотреть в художественные, человеческие действия Плисецкой с тем же азартом, с каким мы можем следить поведение огня или поведение воды или всякой стихии, чьё значение не вполне подлежит нашему разумению.
И ещё поражало меня — то есть несомненно, ничего не оставлено в тайне от нас, всё предложено нашему созерцанию. И всё-таки это тот простор, куда может углубиться наш действующий ум, любопытство наших нервов. Это огромный объём, оставленный нам для раздумья и для сильного умственного и нервного проникновения.
И ещё меня поражает в её художественном облике совпадение совершенно надземной одухотворённости, той эфемерности, которую мы всегда невольно приписываем балету, с сильной и мощно действующей страстью. Пожалуй, во всяком случае на моей памяти, ни в ком так сильно не совпала надземность парения, надземность существования с совершенно явленной энергией трагического переживания себя в пространстве. И может быть, всё вот это и останется для нас непрерывным побуждением мыслить.
Мне однажды довелось видеть… Это было некоторое чудо. Я просто ждала в числе прочих Майю Михайловну около консерватории. И она подошла незаметно, и вдруг — был дождливый день — и вот в дожде этого дня вдруг отразился её чудный мерцающий и как будто ускользающий облик. И ещё раз тогда я подумала, что очевидность этой судьбы всё-таки оснащена прекрасной тайной, вечной возможностью для нас гадать, думать, наслаждаться и никогда не предаться умственной лени и скуке.
1996Новый год и Майя
…Смягчается времён суровость, Теряют новизну слов! Талант — единственная новость, Которая всегда нова. Борис ПастернакС чего-то надобно начать (уже два раза луна сходила на нет и становилась совершенно округлой), а я всё сижу, никакого толку, успела лишь спросить Евгения Борисовича Пастернака: смягчается? или меняется? Книги под рукой нет, есть неподалёку от руки. Да мне так легче, лучше: услышать этот голос. Две первые строки относятся к 1957 году, две вторые — ко всему и всегда.
«Времён суровость» — Майя Плисецкая знает это. Майя как бы с неба к нам пришла, прилетела, я видела, как летает, летит, сидит («Кармен-сюита», я имею в виду неописуемость этой позы, бурю и мглу, мощь и энергию движения, всё-таки соотнесённого с заданной неподвижностью, с табуретом, не знаю, как назвать) или стоит на столе («Болеро»).
Более всего я люблю видеть её на сцене, на разных сценах видела, но вот, прикрываю глаза веками и вижу: на родной сцене Большого театра, сначала как бы вижу весь спектакль, все спектакли, на сцене — трагедия. Её героиня — всегда трагедия и страсть, страсть как любовь и как страдание. Мои глаза влажнеют. Рядом сидящие малые дети спрашивают: «Её — убьют?» Отвечаю: «Есть одна уважительная причина плакать — искусство». И дети запомнили, не плаксивы.
Спектакль кончается, и вы… — не вы — ходит? не вы — летает? Это у меня не выходит, не вылетает слово для объяснения того, что видела и вижу. Публика стоит и аплодирует, а на ту, чей дар трагедиен и отраден, на неё, к ней всё падают, сыплются цветы. Цветы подносят и снизу, но я особенно дорожу теми, что летят сверху, с верхних ярусов, с галёрки. Всякий раз мне перепадал цветок из её долгой, прекрасной руки — потом, за кулисами, да простят мне эту щедрость дарители цветов не мне.
Открываю глаза, иначе бы я видела, но не написала, пишу, описываю: 1 января 1993 года. Я воочию вижу её не на сцене, а дома, в московском доме на Тверской. Гляжу — не нагляжусь, улыбка радости наполняет, переполняет моё лицо, выходит за пределы лица, дома, Тверской улицы, Москвы, Замоскворечья, Твери и прочих мест, предместий, столиц, окрестностей. Улыбка радости заполняет весь белый свет, в котором столько печали. Почему же я улыбаюсь, и сейчас улыбаюсь? Чему я так радуюсь? Да — цветам сверху, дару свыше, ненаглядности красоты.
1993Памяти Александра Григорьевича Тышлера
Милый, великий Тышлер
— Вы напишете о Тышлере?
— О, да!
«О» — это так, самовольное изъявление одушевлённых лёгких, мнение любящего бессознания, не спросившего у старших ответственных сил, которым дана маленькая пауза, чтобы сильно увидеть, обежать ощупью нечто, чего ещё вовсе нет, в чьём неминуемом наличии клянётся твёрдое: «Да!»
Всё дело — в кратком препинании голоса, в препоне осознания, в промежутке, обозначенном запятой, на которую уйдут три времени года.
О — запятая — да.
Автор — всего лишь этого восклицания, усугублённого запятой, — недвижно сидит и смотрит в окно: на снег, на цветущую зелень, на шорох падающих листьев, сейчас — идёт дождь.
Он так занят этим недвижным неотрывным взглядом, словно предполагает в нём трудовую созидательную энергию, соучаствующую в действиях природы, и, видимо, ждёт от окна, что именно в нём сбудется обещание, данное им три времени года назад.
Он как бы смотрит на свою мысль, ветвисто протяжённую вовне, соотнесённую с ним в питающей точке опоры. Разглядывая со стороны это колеблющееся построение, он усмехается, узнав в нём нечто мило-знакомое, не ему принадлежащее. Преданно помышляя о Тышлере, он зрительно превратился в его измышление, почти изделие: в продолговатый силуэт, простодушно несущий на голове прозрачную многослойную громоздкость, домики какие-то, флажки, колокольчики, человечков, занятых трудами и играми.
Весело покачивать надо лбом трогательное подобие земного бытия, приходиться ему скромным основанием, опекающим его равновесие и сохранность. Остаётся вглядеться в это цветное нагромождение и с любовью описать увиденное.
Этому лёгкому труду предшествует бархатное затемнение, мягкая чернота, облегающая выпуклый золотой свет; ёлку, или сцену, или улыбку лица — подарок, для усиления нашей радости заточённый до времени в нежную футлярную тьму.
Почему это вступительное ожидание, чья материя — бархат, предваряет в моей памяти образ Тышлера? Не потому ли, что он, в нашем зрении, так связан с Театром — не со спектаклями, которые содеял, а с Театром вообще, с его первобытным празднеством, прельстившим нас до нашего детства: в общем незапамятном детстве людей?
Вот он говорит: «До сих пор я живу детскими и юношескими воспоминаниями. На меня очень подействовали народные театры, балаганы, народные праздники и представления». — И добавляет: «Это очень важно».
Я так и вижу эти слова на его устах, в его увлекательном лице, возымевшем вдруг наивно-важное выражение совершенной детской хитрости. Я видывала и слыхивала эти его слова, относящиеся к невидимым и неведомым подробностям сокровенного художества.
Думаю о нём — и улыбаюсь, вижу со стороны лицо, улыбку, не обозначенную чертой рта, зримое построение над головой, на голове: город, города, ярмарка, флажки, кораблики, свечи, лестницы, переходы из одного в другое.
Лицо — я сейчас вижу его как бы со стороны: незаметная улыбка, очевидное для невидимого очевидца построение над головой, моей же, — мысль о нём, о Тышлере. На этот раз — не метафора, ничего не могу поделать с явью, Александр Григорьевич.
Я ведь в окончательную смерть не верю — не в том смысле, что собираюсь уцелеть, быть, ещё раз быть, сбыться вновь, иначе. Смерть — подробность жизни, очень важная для живущего и жившего, для тех, кто будет и не будет вживе. Что и как сбылось — так будет и сбудется, но я не об этом, Александр Григорьевич.
Просто сижу, улыбаюсь, вижу и вспоминаю. Построение над головой, иногда без чёткой опоры на темя, вольно в небе, лучшее в мире, кроме самого этого мира, белый свет, уже во второй раз даруемый нам художниками. Без них, наивысших страдальцев, — как понять, оценить, возыметь утешение?
У Александра Григорьевича Тышлера была чудная ребячливая улыбка, вернее: усмешка чудного ребенка доброго, не лукавого, но не простоватого, претерпевшего положенный опыт многознания. Простодушно, но не простоумно, с превосходством детской хитрецы взирал он на события жизни, на гостей — я среди них видела только почитателей его, но до и без меня, он знал, видел и понимал, чему он приходится современником, жертвенным соучастником.
Построения на голове — моё неуклюжее, достоверное построение из головы, над головой главнейшее изъявление мысли о Тышлере. Вот и сижу, улыбаюсь, вспоминаю…
80-еДитя Тышлер
«Поэзия должна быть глуповата», — Пушкин не нам это писал, но мы, развязные читатели писем, — прочли. Что это значит?
Ум — да, но не умственность суть родители и созидатели искусства. Где в существе человека помещается и умещается его талант, его гений? Много надобно всемирного простора.
Но, всё-таки, это соотнесено с головой и с тем, что — над головой, выше главы, выше всего.
Тышлер — так рисовал, так жил. Всегда — что-то на голове: кораблики ли, театрики ли, города, анти-корриды, женщины, не известные нам до Тышлера.
Эти построения на голове пусть разгадывают и разглядывают другие: радость для всех, навсегда.
Художник Борис Мессерер познакомил… представил меня Александру Григорьевичу Тышлеру и Флоре.
Я от Тышлера глаз не могла отвести. Я — таких не видела прежде. Это был — многоопытный, многоскорбный ребёнок. Он говорил — я как бы слышала и понимала, но я смотрела на него, этого было с избытком достаточно.
Привыкнуть — невозможно. У меня над головой, главнее головы, произрастало нечто.
Александр Григорьевич и Флора приехали к нам на дачу. Как желала я угостить столь дорогих гостей: сварила два супа, приготовила прочую еду.
— Александр Григорьевич, Вы какой суп предпочитаете?
— Я съем и тот, и другой, и прочая…
Исполнил обещания и стал рисовать.
Однажды в пред-Рождественскую ночь в мастерской Мессерера — гадали: холодная вода, горячий воск.
Больно мне писать это. Были: обожаемый Юрий Васильев, художник, обожающий Тышлера (я знаю, так можно: обожаемый — обожающий), Тышлер, Флора, Боря и я.
Когда воск, опущенный Тышлером в воду, обрёл прочность, затвердел, Юрий Васильевич Васильев воскликнул или вскричал:
— Александр Григорьевич! У Вас из воска получается совершенство искусства. Позвольте взять и сохранить.
Александр Григорьевич не позволил и попросил? повелел? разрушить. Так и сделали. Не я. Борис и я — не гадали, я всё смотрела на Тышлера и до сих пор не насмотрелась.
Что он видел, глядючи на воск и воду? Судьбу? Она уже свершилась. Художник исполнил свой долг.
Александр Григорьевич подарил мне корабельный подсвечник.
— Вы не думаете, не опасаетесь, что я, на корабле, попаду в шторм?
— Всё может быть. У Вас будет подсвечник.
Всё может быть. Или не быть. Но у всех у нас есть устойчивый подсвечник. У всех есть Тышлер.
А почему — дитя?
Выражение, вернее — содержание лица и облика — детское многознание.
Смотрю на корабельный подсвечник вот он.
Александра Григорьевича Тышлера вижу во сне. Вчера видела: глаз не могла отвести, пока глаза не открылись.
1996Розы для Анели
…И то же в Вас очарованье…
Вольное сочинение: поздравительное посещение Анели Судакевич
Речь эта, речь-молчанье, при полновластном соучастии неполной луны обращённая в письмена, — здравица в честь 28 октября 1906 года и 1996 года, немая речь о счастье, о пожелании счастья.
По общей влюблённой привычке всё начинать с Того, кто полагал ПОКОЙ И ВОЛЮ высшим и заглавным состоянием и достоянием бытия, не начать ли мне с 19 октября этого года? Как славно затевался день: зрело-лиловый мрак слабел и утоньшался до синих, сизых, безымянно-прозрачных сумерек, до РУМЯНОЙ ЗАРИ над БАГРЕЦОМ И ЗОЛОТОМ, как бы следуя подсказке радивого школьника. Оставалось созерцать, обонять, слушать и повторять свою же поговорку, что на свете счастье есть, что счастье есть осознанное мгновение жизни, а если ещё и воспетое, запечатлённое, то мои слова ненадобны, поскольку другой великий Поэт МОЛЧА ШЕПТАЛ и написал о жизни навсегда: «Благодарствуй! Ты больше, чем просят, даёшь».
Так помышляла я 19 октября, в субботу, продвигаясь по Ленинградскому проспекту в сторону Петровско-Разумовских аллей и станции метро «Динамо», но и в сторону Питера, посредине отечества в направлении особенно отчего ОТЕЧЕСТВА ЦАРСКОГО СЕЛА. Одновременно это был ход и путь к юбилею и образу Прекрасной Дамы, о которой думаю и пишу, к будущему дню 28 октября, географически точно вспять маршрута — к дому в ответвлении Тверской улицы. Принимая свой вольно-покойный шаг и беспечную, но опекающую мысль за, пусть небольшое, вполне достаточное для меня, счастье, я возымела невольных беспокойных сообщников: множество утренне-румяных детей размеренно шествовало под руководством нарядных родителей или ретиво, подчас безгрешно-развязно, резвилось вокруг, рокоча быстролётными досками и роликами, разевая азартные уста дм вожделенных лакомств. Одного ненаглядного мальчика я самодеятельно и самодовольно присвоила как украшающее дополнение к моему стихотворению «День-Рафаэль»: ярко хорош собой и даровито добр, обмирая от любви, он притворно-строго и бесполезно подвергал нравоучениям свою, чудесно разнообразной породы, собаку: «Рафинад! К ноге! Рядом, Рафинад! Рафка, кому говорят, рожа ты этакая!» Рафкина отрадная рожа лукаво косила глазом, любезно рявкала, даже как бы немного ржала. Зачарованная зрелищем, я подобострастно, не посягая на суверенность неразрывной пары, произнесла: «Рафинад! Радость ты и для прохожего человека!» Тот и ухом не повёл, — не смахивающий на сластёну, в честь белозубой смешливости наречён? для подтверждения рафинированного артистизма внутри многоцветно рыжей косматости? Рафаэльский мальчик глянул неодобрительным исподлобьем: чистая душа его ревновала сокровище Рафинада к докучливым чужакам. Ра, ры, ре… Грустно вспомнился раритет Кирсанова, дразнившего свою картавость: «На горе Арарат растёт красный виноград»… Семён Исаакович тоже приходился мне любящим учителем, старшим ровесником. Но и впрямь всё радовалось, розовело и рдело вокруг! Я ещё не знала тоща, что проспект, обращённый к Санкт-белонощному граду, кривью и косью зрения и воображения, напрямик вёл меня к рьяно-розовейшим розам, посвящённым Прекрасной Даме, заведомо обручённым с Её Днём 28 октября, обречённым к исполнению первой роли в моём подношении. Но что делать путнику, чьё блуждание в околицах заветных полушарий есть его единственно прямой первопуток к общепонятной, ясно-простой и таинственной цели? Да, множество детей населяло золотисто-хладный субботний пред-полдень, некоторые из них возлежали или восседали в экипажах колясок, иные ещё обитали в замкнутой округлости идеального уюта, в благодатном чреве матерей, отличных от других женщин не очевидностью стана, но значением взгляда, присущего лишь их очам, устремлённым сразу в глубь и в даль, в драгоценный тайник, мимо всего остального, не важного и не обязательного вздора.
Более всего дивилась я несметному обилию красавиц, они словно сговорились с красою дня стать ровней ему, си ять, блистать и мерцать соцветно и созвучно солнцу сквозь нежную зыбкую промозглость (почему-то подумалось: венецианскую), листве, листопаду, влаге асфальта цвета каналов. Вдруг сильно смерклось, Тинторетто проведал Москву, во мгле его привета явилось, полыхнуло — это были розы цветочного рынка возле упомянутой станции метро. Барышня, ведавшая растениями, предводительница их, юная Флора, в расточительный добавок к удачам и прибылям того моего дня, разумеется, тоже была красавица, я простодушно сообщила ей эту, ведомую ей не-новость: здравые солидные господа, останавливающие автомобили вблизи благовонной торговли для скорого подарка своим избранницам, останавливали на ней многоопытный, не марающий её, взор. Сначала этот оранжевый Рафинад с чернокудрым мальчиком, потом Рафаэль, Венеция, Тинторетто, — я не удивилась, когда прелестная цветочница, с глазами, превосходящими длиной тонкие пределы висков, объяснила мне, что редкий сорт этих роз именуется: «Рафаэлло». Девочка была ещё и великодушна: она застенчиво и бескорыстно приглашала меня приобрести хотя бы одну из этих роз, несомненно причиняющих душе целебную радость и пользу. Я не усомнилась в её словах, совершенно доверилась им и сказала, что непременно приду за розами 28 числа, в понедельник.
Я медленно шла по проспекту, удаляясь от Ленинграда и Петербурга, от дня нечаянной радости, приближаясь к Тверской, к 28 дню октября, чая радости для героини торжественного дня, знаменитой героини эпохи немого кино, всей нашей многосложной и многословной эпохи, героини судьбы своей и большого достославного семейства. Пастернак: «…Быть женщиной — великий шаг, / Сводить с ума — геройство». Ей поклонялись, называли дочерей её именем (я встречала таковых), её рисовали Фонвизин, Тышлер и другие художники, поэты посвящали ей стихи (я в их числе). По роду моих занятий всегда и всю эту ночь напролёт я склонялась пред высокой красотой, служила ей и, думая об Анели, твёрдо знаю: красота не проходит, этот хрупкий каркас прочен и долговечен, этот дар неотъемлем. Самовольно наведались в уже утреннюю страницу строки из давнего стихотворения «Роза»:
…Знай, я полушки ломаной не дам за бледность черт, чья быстротечна участь. Я красоту люблю, как всякий дар, за прочный позвоночник, за живучесть… В росе ресниц, прельстительно живой, будь, роза роз! Ивой подвиг долговечен. Как соразмерно мощный стебель твой прелестно малой головой увенчан…Дорогая Анель, примите, пожалуйста, эти слова и эти розы.
Ваша Белла Ахмадулина 19963
Скука летних дней в барской усадьбе[36]
Как любил он прежде встречать в серебряном стекле своё пригожее нарядное лицо: кровь с молоком в благородной пропорции, приятная плавность линий и оранжерейные усы драгоценного отлива. Пиза красиво помещены чуть навыкате, в стороне от ума, не питающего их явным притоком, — светлые, бесхитростные таза, надобные для зрения и общей миловидности, а не дм того, чтобы угнетать наблюдателя чрезмерным значением взора. (О глазах другого и противоположного устройства, и поныне опаляющих воображение человечества, когда-то сделал он следующую запись: «Свои глаза устанут гоняться за его взглядом, который ни на секунду не останавливался ни на одном предмете. Чтобы дать хотя приблизительное понятие об общем впечатлении этого неуловимого взгляда, сравнил, его можно только с механикой на картинах волшебного фонаря, где таким образом передвигаются глаза у зверей».)
Один лишь маленький изъян мог он предполагать в своих чертах — это грубоватость их предыстории, винные откупы обожаемого батюшки — и тот легко восполнялся напуском барственного выражения и склонностью к шёлковым и бархатным материям глубоких патрицианских тонов.
Некоторые, особенно счастливые, свои отражения помнил он до сих пор. Однажды, по выпуске из юнкерской школы, угорев от офицерской пирушки, ища прохлады, воли и другого какого-то счастья, толкнул он наугад дверь и увидел прямо перед собой свое прельстительно молодое лицо, локон, припотевший к виску, сильную, жадную до воздуха шею — всё это в отчётливом многозначительном ореоле. Стоял и смотрел, покуда судьба, рыщущая в белых сумерках, не приметила молодца для будущей важной надобности. И ещё в Киеве, зимой, в самую острую пору его жизни, поднимался по лестнице меж огнедышащих канделябров и на округлом повороте резко, наотмашь отразился в упоительном стекле: впервые немолодой, близкий к тридцатому году, бережно несущий на отлогом челе мету неутолимой скорби, но, как никогда, статный, вольготный и готовый к любви. Именно таким сейчас, сейчас увидит его бал, разом повернувший к нему все головы, и выпорхнет картавый польский голосок, обмирающий от смеха и от страха: шутка ли примерить к себе прицел этих ужасных прекрасных поцелуйных усов! Но ещё половина лестницы оставалась ему, и выше крайней её ступени ничего не будет в его жизни — то была вершина его дней, его Эльборус, а далее долгий медленный спад, склон, спуск к скуке этого лета.
Его туалетный стол по-прежнему был обставлен с капризным дамским комфортом, но зеркало, окаймлённое тяжёлым серебром, изображающим охотничьи игры Дианы, уже не приносило радости. И не в старении его было дело! Батюшка в этом возрасте был хотя и почтенный, но бодрый, резвый человек, в свободную минуту пускавшийся шалить с маленькими дочерьми и сыновьями. Да, видно, вся кровь их износилась и ослабела: брат Михаил не прожил полувека, а сам он в пятьдесят шесть лет замечал в слюне нехороший привкус, словно в душе что-то прокисло.
Отвлёкшись от зеркала, стал он глядеть в окно, но и там ничего хорошего не увидел: висело пустое небо, сиреневые куртины пялили остовы обгоревших на солнце кистей. В стороне от зрения оставались близкое село с церковью, скушные поля, бедный лес. Впрочем, между ним и природой и прежде ничего особенного не происходило, только вершины гор и избыток звёздного неба внушали неприятную робость, схожую с предчувствием недуга, посягающего на непрочную плоть.
Почты он не ждал и не хотел: через её посредство уже допекали его досужие господа, неграмотные в правилах чести, сующие нос в чужие дела, — он содрогался от близости этого развязного чернильного носа, с сомнением принюхивающегося к святыне его порядочности. И козни эти уже достигали других нестойких умов! Недавно в Москве представляли ему молодого человека, нуждающегося в ободрении, — он было хотел его приветить, да вдруг через протянутую руку почувствовал, как того передёрнуло от плеча к плечу, так что руки их разорвались, при этом несбывшийся протеже побледнел, словно от смерти.
Третьего дня соскочил с его дороги потёртый, плюгавый господинчик, устремивший на него нелепую трагическую гримасу, в смысл которой и вчитываться не стоило. На белом свете толкутся тьмы таких бесцельных людишек, даже не помеченных для порядку разнообразием внешности. Точно такого же невежу встретил он давно, выйдя из несильной короткой тюрьмы на дозволенную целебную прогулку: тот так же таращился, разыгрывая лицом целую драму, и долго не пил воды, брезгливо дожидаясь полной перемены минеральной струи. Третий близнец вмешался в толпу зевак при его венчании, выставлял физиономию и натужно мигал, нагнетая в зрачки фальшивый адский пламень. Эти курьёзные действия не предвещали браку добра, что вскоре и подтвердилось.
Он давно уже собирался выразить отпор всем нескромным задирам, а отчасти и собственной маленькой неуверенности, иногда крепчавшей до явного неудобства, и только ждал нужного дня.
Утром особенного дня, на который возлагал он большие надежды, он пробудился живей, чем обычно, сразу приглянулся серебряной Диане, приласкал усы и за кофием с такой отдалённостью соотносился с домашними, словно дивился и сострадал их незначительности и птичьему вздору речей. Сегодня он ждал от природы участия и подъёма, но она смотрела в окно по-прежнему бесцветно и глупо, как белёсая деревенская девка.
Словно побуждаемый свыше, строго прошёл он в кабинет, присел к хрупко-громоздкому, французской работы, столу для умственных занятий и, обмерев от силы момента, плеснувшего за ворот холодком, красиво и крупно вывел в верху листа дорогой бумаги: «МОЯ ИСПОВЕДЬ». Далее — сбоку и мелко — «15 июля 1871 года, село Знаменское». И единым духом, без остановки: «Сегодня минуло ровно тридцать лет, как я стрелялся с Лермонтовым на дуэли».
Так вот это кто. Вот зачем ему именно этот день. Как многое обыкновенные люди, он полагался на необыкновенность обстоятельств, чтобы спутать их с собственной заслугой. Роковая округлость даты должна была взбодрить нервы, продиктовать уму скрытый от него смысл. Он фатум приглашал в соавторы своей руке, чьим вкладом в дело был красивый, холеный почерк. И резво бежала рука.
«Тридцать лет — это почти целая жизнь человеческая, а мне памятны малейшие подробности этого дня, как будто происшествие случилось только вчера».
Почти жизнь. Как сказать. Сам он проживёт вдвое больше. Второму участнику происшествия и до этого неполного срока недоставало четырёх лет. Но — бледнейте, грядущие литературоведы: ему памятны подробности! Затаим биение сердца и станем заглядывать за плечо, одетое стёганым домашним шёлком.
«Углубляясь в себя, переносясь мысленно за тридцать лет назад и помня, что я стою теперь на краю могилы, что жизнь моя окончена и остаток дней моих сочтён…»
О, вот оно, сбылось! Не зря он ждал! Сторонняя сила причинила ему состояние, в котором он не имел опыта и которому названия не знал, а это было вдохновение, взлёт в чужую пугающую высь, откуда он ясно увидел, что ржавый вкус, и тревога, и вялое ожидание облегчающей перемены — всё это было близость его собственной смерти, очень существенной и трогательной до слёз. Он не отшатнулся от этого откровения, а даже усугублял его, немного любуясь собой и тайком заговаривая судьбу: может, и не сбудется, да и не теперь же, немедленно, ему умереть, а выгода незаурядности, возвышающей его над беспечно живыми людьми, уже есть, и не им корить человека, сознающего предсмертие. Да ведь если он умирает, его столкновение с умершим кончено миром, они уже сравнялись и никто не виновен. Он впервые примерил смерть к себе, ещё совершенно живому, и это было настолько больше и важнее всего, о чём он собирался писать, что чувство стало убывать, и остатком его он продолжил: «Для полного уяснения дела мне требуется сделать маленькое отступление: представить личность Лермонтова так, как я понимал его, со всеми его недостатками, а равно недобрыми качествами, которые он имел».
Он добросовестно отложил перо, затуманил глаза и тут же увидел требуемую личность, которая, как всегда, неприятно поразила его. Нервы его сразу обострились против фантазёров, теперь влюбившихся в эту личность за красоту собственных фантазий. Виновен ли он, что эта личность, обратная и противопоказанная ему всеми недостатками и добрыми качествами, всю жизнь настигала его, задирала, набрасывалась с дружелюбием, звала к Яру, зарифмовывала чёрт те с чем, искала в нём пустого места для жгучих неблаговоспитанных выходок. Даже при вдруг кротком Лермонтове он ощущал неуютное беспокойство, как в горах, когда пейзаж притворяется идиллией, а затылок подозревает на себе прищуренный черкесский глаз. Он не умел отличать самолюбия от чувства чести, отчего площадь его уязвимости была искушающе огромной и требовала неусыпной придирчивой охраны. Ещё в юнкерской школе он раз и навсегда предупредил, что с ним шутить нельзя.
Если бы Лермонтов искал себе убийцы или, напротив, опасался его, он бы вспомнил, как озорничала предводительствуемая им «Нумидийская конница». Как оседлавшие друг друга сорвиголовы, облачённые в простыни и вооружённые холодной водой, врывались ночью в расположение новичков и повергали их в смятение и сырость. Как один хорошенький юнкер, обычно имевший в лице простодушное выражение девичьего недомыслия, насупился и напрягся для боя, и лицо его, побелевшее целиком, вместе с глазами, не умещалось в игре и не сулило пощады. Главный нумидиец засмеялся и завернул эскадрон. Фамилия победителя была — Мартынов. А это вам не Есаков, которого Лермонтов продразнил всю осень сорокового года (в Чечне) и всю последующую зиму (в Ставрополе), однако не был за это убит. Есаков: «…он школьничал со мною до пределов возможного, а когда замечал, что теряю терпение (что, впрочем, недолго заставляло себя ждать), он, бывало, ласковым словом, добрым взглядом или поцелуем тотчас уймёт мой пыл».
Всё их приятельство, общие гостиные, обеды, карты, поездки верхом вспоминались ему как изнуряющее неудобство, от которого он и теперь не мог отдохнуть. Он тратил на один предмет одну мысль — так же просто и чётко, как обходился одним глазом для прицела, и эта экономность ума предрешила исход их долгих отношений. Лермонтов же явно не умещался в одно мнение, рассудок не поспевал за ним и терпел эту неудачу как новое маленькое оскорбление. Всей этой зауми Мартынов, разумеется, не знал, но у него были и другие, известные ему, причины быть недовольным. Начать с того, что он считал красоту или хотя бы благообразность непременным условием порядочности. А Лермонтов назло ему был дик лицом, не вытянут в длину, небрежен в платье, не шёл к седлу, даром что совершенно им владел, ел слепо и жадно, даже и не по-мужицки, а по-разбойничьи, — не говоря уже о его зверских прыжках и шалостях! Мало этого — он таинственным образом заманивал неотрывно смотреть на себя, и мучение возрастало. Главное же было в том, что при нём Мартынов начинал сомневаться в своей безукоризненной приглядности, в правильности туалета, в храбрости скакать по горам, в находчивости вести беседу и — в крахмальной опрятности совести.
От Лермонтова сквозило или пекло, что составляло целую лихорадку, и он скучал, если не на ком было её выместить. Когда брошенный Лермонтовым полтинник упал решёткой вверх, в пользу каприза, Пятигорска и гибели, в чём, скажите, виноват был Мартынов? Он мирно спал, когда явился за ним чернявый Найтаки, державший гостиницу: дескать, прибыли и желают видеть без промедления. Он доверчиво пошёл, следуя выносливой привязанности: Монго лежал с львиной грацией и ленью, а Лермонтов так и прыгнул обнимать и звать «Мартышкой». Несносность его крепла ещё два месяца.
Но исповедь предполагает осуждение себя, а не других, и он силою стал наводить мысль на хорошие черты Лермонтова, похвалы которым он и не думал скрывать. Первыми в их списке были: очень белые, удобные для насмешника зубы, даже слишком крепкие и сильные для дворянина, и неизменно безупречное бельё. Следовало одобрить и халат цвета тины, опоясываемый снурком с золотыми жёлудями на концах. Хваткие руки ниже запястья — благородной формы и белизны, ладони свежие, с примечательным раскладом линий, по цыганской грамоте — неблагоприятным Мартынов кочующим и прочими племенами гнушался, вещунов избегал и ладонью разбрасывался с предосторожностью, потому что усвоил и передал фамильную — лучше бы сказать по-французски! — потливость, относящуюся не к исповеди, а к нашему злословию. К достоинствам Лермонтова относились также: превосходная ловкость в обращении с оружием всех видов, даже и с рапирой, не давшейся Мартынову из-за чрезвычайного страха щекотки, точное и смелое чувство лошади (при некрасивой посадке), замечательная лёгкость в танцах. Кабы не преувеличенные им до крайности, могли нравиться в нём общие для гусар отличия, в ту пору ещё соблюдаемые. Так, он нисколько не щадил денег (правда, не был учён нуждой), в удалом кутеже оставался трезв, лишь бледнел и темнел глазами, был беспечен к опасности и, хотя мало кого любил, любого мог заслонить в походе (отчасти из-за своего фатализма). И всё же хорошим офицером он быть не мог, так как не терпел подчиняться, не скучал о наградах и вынужден был примирять выдающуюся храбрость с непреодолимым дружелюбием к строптивым инородцам, населяющим Кавказские горы. Да и дурное сложение не обещало успехов ни в кавалерии, ни тем более в пешем фронте.
Тут он осекся, вспомнив о докучливых ревнителях лермонтовской славы, движение которой во времени его удивляло и беспокоило. Он не знал давнего рассуждения Т. А. Бакуниной, грустившей о нравах слепого и неблагодарного общества, но с начальной его частью прежде мог согласиться: «Об Лермонтове скоро позабудут в России — он ещё так немного сделал…» Ан, всё обернулось иначе, и он взял более современный и учёный тон.
«Не стану говорить об его уме: эта сторона его личности вне вопроса; все одинаково сознают, что он был очень умён, а многие видят в нём даже гениального человека».
К нему самому как раз этой стороной своей личности Лермонтов совсем не оборачивался, да и от других норовил её скрыть за видимым легкомыслием и шалопайством. Он и с Белинским вначале не хотел серьёзничать, дурачил и мучил его до болезненной вспышки щёк и, кажется, очень был доволен, что сумел-таки произвести тяжёлое и даже пошлое впечатление, отпраздновав эту победу резким смехом. И только в ордонансгауэе не смог утаить себя — и как счастлив, как влюблён сделался пылкий Белинский, не когда-нибудь через сто лет, а сразу, немедленно постигший, с какой драгоценностью имеет дело, и оповестивший о ней с обожанием, принижением себя, с восторгом.
Лермонтов и для шахмат искал только сильных партнёров, особенно отличая поручика Москалёва (да и того обыгрывал). В более таинственные и деликатные игры ума Мартынов и вовсе не мог быть приглашён и не находил их занимательными. А всё же он и сам знал об этом общеизвестном уме, что он, точно, есть у Лермонтова, — и по убедительной наслышке и по своему почтительному доверию ко всему непонятному, утверждавшему его причастность к мыслящему кругу. Так хорошие жёны вяжут при мужской беседе, не вникая в её смысл и пребывая в счастливой уверенности, что всё это очень умно и полезно для общества, в чьё умственное парение и они сейчас вовлечены.
Хорошо, что автор исповеди не может через наше плечо увидеть этого неприличного сравнения! Он твёрдо знал и любил свою принадлежность к полу метких стрелков, стройных наездников, бравых майоров (в отставке). А ведь было в нём что-то дамское, что разглядел за усами капризный коварный ангел польского происхождения, толкнувший к нему бальным веером тёплый воздух дурмана, заменяющий твёрдое «эль» заманчивым расплывом голоса и взятый им в жёны. Не то чтобы она стала ревновать его к флаконам, атласу и книжкам, галантно обращённым именно к читательницам, но, после недолгой приглядки, возвела себя в чин грубого превосходства и на все его соображения отвечала маленькой улыбкой сарказма и нетерпеливым подёргиванием башмачка — и это, заметьте, не только тет-а-тет, но и на виду у посторонних.
Мартынов не отрицал пользы глубокомыслия, но, если очень умничали при нём, он томился, непосильно напрягал брови, и жаль было его невинного лба, повреждённого морщиной недоумения. Застав его лицо в этом беспомощном положении, Лермонтов взглядывал на него с пристальным и нежным сочувствием, но тут же потуплял глаза для перемены взора на дерзкий и смешливый. Оба эти способа смотреть на него равно не устраивали Мартынова. Тем не менее он продолжил:
«Как писатель действительно он весьма высоко стоит, и, если сообразить, что талант его ещё не успел прийти к полному развитию, если вспомнить, как он был ещё молод…»
С наивностью, которую в нём многие любили, он ни в какой мере не соотносил себя и то обстоятельство, что молодость осталась основным и окончательным возрастом Лермонтова. Что касается до положительной оценки его как писателя, то лукавил он лишь в том, что вообще пустился в это рассуждение — для необходимой поблажки затаившимся недругам. Разумеется, знаменитый роман Лермонтова, минуя описания природы и другие длинноты, он очень даже читал, поощряемый естественным любопытством просвещённого человека, а ещё более — необоснованными наветами, сближающими Грушницкого чуть ли не с ним самим, а княжну Мери, что и вовсе глупо, — с сестрой Натальей Соломоновной. Не отрицая живости некоторых эпизодов, он не одобрял общей, предвзятой и искажённой картины той жизни, которой сам был не менее автора свидетель и участник. То, что во главу не только романа, но общества и века поставлен был озлобленный и безнравственный субъект, присвоивший сильно приукрашенные и всё же неприятно знакомые черты, казалось ему нескромным и оскорбительным самоуправством. Он не знал, что совпадает во мнении со своим августейшим тёзкой, с той разницей, что тот не имел нужды стесняться и прямо определил роман как отвратительный. Вообще о высочайшей неприязни к Лермонтову он был извещён и оценил её чрезмерность невольным пожатием плеч, словно ревнуя к столь сильному монаршему чувству, из излишков которого получилась мимолётная благосклонность к нему самому. Государь, в свою очередь, не знал, что по художественному устройству натуры имеет близкую родню в отставном артиллерийском майоре, с той разницей, что тот не должен множить личные пристрастия на общегосударственные опасения.
Читал он и другие произведения Лермонтова. Те из них, которые были ему понятны, он считал простыми и незначительными (что ж мудрёного слагать рифмы, он и сам их слагал), а более трудные и возвышенные могли быть отнесены к поэзии, да он не был до них охотник. Вольнодумство, сверх обязательной, принятой в его кругу меры, на его взгляд, никак не сочеталось с гармонией. Ему случалось слышать, как Лермонтов, не одержав или принудив себя, говорил вслух свои стихи, но тогда Мартынова отвлекало и настораживало лицо Лермонтова, и он опять начинал ждать этого, сначала сострадающего, а потом весёлого взора. Он не любил заставать на себе неожиданно мягкие, любящие и словно прощающие глаза Лермонтова, ненадолго позабытые им в этом выражении — до скорого пробуждения зрачков в их обычном, задорно-угрюмом виде. И последнее мгновение жизни Лермонтов потратил именно на такой — ласковый, кроткий, безмятежно выжидающий — взгляд. И то, что этот взгляд не успел перемениться, было неприятно Мартынову, потому что такие глаза могли быть только у человека, который не помышлял о прицеле, не хотел и не собирался стрелять и, стало быть, был безоружен, и Мартынов это видел, и все наблюдатели поединка тоже видели. Это было неприятно, это было очень неприятно, но Мартынов стал исповедоваться не в этом, а в дурном отношении Лермонтова к женщинам.
Толковал он об этом и той, которая так выразительно подтвердила справедливость мнения о непреклонной гордыне, присущей полькам вместе с редкостною белизной кожи. В ответ на досадные и неуместные расспросы он горячился, нахваливая свой, противоположный лермонтовскому, способ влюбленности, включающий в себя открытое обожествление выбранного предмета, восточную витиеватость речей и особенные посылки томного взора. Это вело к усилению саркастической улыбки, учащённому и злобному выглядыванию башмачка и перелёту глаз на потолок, где, высоко вознесясь над головой красноречивого супруга, молчал и злорадствовал прельстительный господин Печорин. В результате этой многословно-безмолвной распри он, постыдно мучась, стал относить выбор жены не к себе самому, а к тому, чьё присутствие в его судьбе оказалось непреодолимым и нескончаемым. Приметы других людей не исчерпывались чином, титулом, занятием и требовали личного уточнения: тайный советник — какой? — Беклемишев, князь — какой? — Щербатов, поставщик — какой? — Френзель. Даже про самодержца всея Руси можно было спросить: какой — почивший в бозе или царствующий ныне? Его же роковое звание было единственным и сводило на нет значение имени, сопровождавшего развитие многих поколений. Он был — такой-то, убийца Лермонтова, и она стала — такая-то, жена убийцы Лермонтова. Впереди маячили такие-то: сын убийцы Лермонтова, внук убийцы Лермонтова и так до скончания ставшею безымянным рода. Между тем он знал, что убийцами бывают нехристи с большой дороги, душегубцы, лютые до чужого богатства, всклокоченные маньяки. А он был благородный человек, христианин, офицер, имел дом в Москве, поместье, слуг, лошадей, столовое серебро, изрядную французскую библиотеку, превосходный гардероб и никак не мог быть убийцей. Вначале он не тяготился этим определением — оно шло к его белой черкеске и чёрному бархатному бешмету и как бы проясняло наконец их таинственный оригинальный смысл, оказавшийся совсем не смешным, а величественно важным и печальным. В пору плохих ожиданий, гауптвахты, следствия он делал столь сильное впечатление на дам, что шестнадцатилетняя Надя Верзилина едва не лишилась чувств, завидев его на пятигорском бульваре под стражей сонного и боязливого солдата. Старшая, Эмилия, больно поддержала сестру за локоток и учтиво залепетала о том, о сём, далёкими кругами обходя главное, а оно во все её глаза смотрело на Мартынова, — он улыбнулся снисходительно и скорбно и пошёл прочь. В этом ореоле явился он в Киев для церковного покаяния, мысленно примерял его, снаряжаясь на балы, им нечаянно обманул белейшую польку, согласную на любую опасность, кроме скуки, из которой она вышла благополучно — бывшей женой убийцы Лермонтова. Он страдал и простил.
Вот он сидит, освещённый убывающим пеклом июльского дня. Последние тридцать лет не прошли ему даром: победневшие волосы далеко отступили ото лба, в щеках близко видна подноготная сеточка отмершей крови, ему мало осталось жить (он не знал: четыре года). Смилуйтесь над ним — он не похож на убийцу. Матушка, голубка, провидица, она-то гением любви всегда вблизи Лермонтова страшилась за чад своих, зорко смотрела за дочерьми, особенно за Натальей, а надо было держать сына, жадно притиснув его голову к себе, к охраняющему теплу, в котором он так беспечно спал до рождения. Ещё в сороковом году она писала ему на Кавказ: «Лермонтов у нас чуть ли не каждый день. По правде сказать, я его не особенно люблю; у него слишком злой язык…» Он читал это письмо в застарелом зное, размытый целебной силой воды, ему хотелось Москвы, ещё не освоившей лета, только что в офени и кисее, дома, населённого барышнями, сквозняками, гостями — под чётким приглядом материнских глаз, и в молодости очень трезвых и способных к счёту. После кончины батюшки, постигшей их в прошлом году, маменька словно увеличилась телом, окрепнув для одиноких вдовьих забот, и глядела не дамой, а будущей тёщей, свекровью и бабушкой. Он с неудовольствием видел, как вместо него Лермонтов одолевает лестницу своими крепкими скачущими ногами и ловко склоняется к руке, для него чужой и безразличной, а для Мартынова желанной и лучшей. Как он, может быть, целое мгновение осмеивает ванильный запах и деловую прочность этой руки, а матушка неприязненно глядит на его голову, помеченную светлой шельмовской прядью. Оба они успевают пригасить и поправить лица к началу любезной беседы, и уже слетаются со всех сторон шелест, щебет, каблучки и оборки. Или воображал, как Лермонтов входит к сёстрам в ложу и Наталья долго не оборачивается, подвергая его весёлому взгляду голую, вдруг озябшую спину и всевидящий край милого напряжённого глаза. Привлекательность, радостная и необходимая в других женщинах, в сёстрах казалась ему рискованной и обречённо-беззащитной, а применительно к Лермонтову требующей неусыпной старшей опеки. Это сильное чувство, разделяемое матерью, он не использовал для своего удобства во время печальных объяснений: нет, злобы не питал, предлога для ссоры не искал. В то последнее лето язык Лермонтова был таков, как указывалось в письме, и ещё хуже. Нервы Мартынова, ощетинившись для защиты, затвердели в этой оборонительной позиции и очнулись только тогда, когда Лермонтов лежал на земле под дождём, а сам он вслепую скакал к коменданту. Но не в злоязычии винил он Лермонтова, а в том, что он завлёк в свою сильную предрешённую судьбу постороннего человека, чей путь лежал мимо, но его позвали — он подошёл, показали бездну — и она его втянула. Повитуха, проводившая младенца на свет, цыганка, отпрянувшая от ладони, петербургская ворожея, прозванная «Александром Македонским» и знаменитая не менее полководца, иные люди, умеющие не предвидеть, а видеть, обещали Лермонтову раннюю и не свою смерть. Но ему мало было предопределения — он вольничал с небом, накликал на себя его раздражённое внимание, сам напоминал провидению о своей скорой гибели, и только когда всё определилось и гроза откликнулась ему, он успокоился и стал говорить Глебову о жизни, о двух задуманных романах. В тесных отношениях Лермонтова с роком не оставалось места ни для кого другого, но образованный ими вихрь воздуха вкрутил в себя тех, кто неосторожно стоял поблизости, и в первую очередь — Мартынова. Недаром все участники события вели себя как зачарованные и не предпринимали никаких самостоятельных действий.
Он сознавал недостаточность этого мистического объяснения для пристрастных судей: если считать, что гибель Лермонтова была предрешена свыше (не уточняя степени высоты), то всё-таки почему осуществил её именно он, а не, например, Лисаневич, принявший свою долю насмешек и склоняемый к мести? Лисаневич пусть как знает, а сам он знал публичной обиде один ответ и продолжение вызова кутежом в обнимку считал ниже чести. Да велика ли была обида? Ну, горец, ну, с кинжалом, и Наденька Верзилина засмеялась сквозь веер, а Эмилия рассудительно заметила: «Язык мой — враг мой». Не в «горце» и не в Наденьке было дело, а в том, что Лермонтов опять не считался с независимым значением его личности, с его избранной отдельностью, объявленной в романтическом и стилизованном облике. А потом — никогда не мог он предположить, что для огромной смерти человека достаточно столь малого, меньше мгновения, времени, он только пальцем пошевелил — и сразу была одна смерть, без умирания, без единого, ещё живого, движения, даже без последнего выдоха, сделанного уже по другую сторону вечности, при перенесении тела с тропы.
И вот Лисаневич давно забыт, а сам он, через тридцать лет после этой мгновенной и окончательной смерти, не может высвободиться из защемившего его тупика: он хотел не убить, а чего-то другого, но какое же другое поручение можно дать посланной в сердце пуле? Ему нужно было объяснить, что разгадка относилась к характеру Лермонтова, который как бы выманивал пулю из ствола ещё со времён их юности.
«Лермонтов, поступив в юнкерскую школу, остался школяром в полном смысле этого слова».
Но он забыл, что прежде писал об этом иначе:
«Он поступил в школу уже человеком, много читал, много передумал; тогда как другие ещё вглядывались в жизнь, он уже изучил её со всех сторон; годами он был не старше других, но опытом и воззрением на людей далеко оставлял их за собой».
Он стал припоминать Лермонтову его маленькие жестокости, деликатно доказывая, что тот всегда был ловким и опасным раздражителем гнева. Но ему уже скушно становилось. Лоб, истомлённый дневной натугой, норовил отвернуться от бумаги к более близким и важным заботам. Хотелось есть — не весело, по-молодому, а оттого, что надо же когда-нибудь есть. Но он ещё написал:
«Генерал Шлиппенбах, начальник школы…»
Это были его последние слова о Лермонтове.
1972Посвящение дамам и господам, запечатлённым фотографом летом 1913 года в Н-ской губернии Великой Российской империи
Уходит жизнь — уж так заведено, — Уходит с каждым днём неудержимо. И прошлое ко мне непримиримо, И то, что есть, и то, что суждено. Петрарка, сонет CCLXXII…Над вымыслом слезами обольюсь…
ПушкинКто бы они ни были, им остаётся ровно год: для непрестанных празднеств и торжеств, фейерверков, кавалькад, балов-алегри, музыкальных вечеров, любительских спектаклей и для любви, конечно, для любви, как всегда — особенной и роковой, как никогда — особенной и роковой в то лето крайнего и последнего благоденствия. Ясные сухие погоды перемежались краткими грозами, вольное электричество гуляло в воздухе, но они уже привыкли знать, что оно, вопреки Зевсу и Юпитеру, укрощено Эдисоном для свечения матовых лампионов, блеска витрин, услужливости лифтов и ещё каких-то моторов и механизмов. И есть громоотвод. Однако, вскоре, 20 июля, в день Илии пророка, так полыхнёт и громыхнёт, что кто-то, в шутку, перекрестится и скажет, как нянька говаривала: «Не из всякой тучи гром, а и грянул — не про нас. С нами Царица Небесная!» Радуги строились и разрушались над церковью на холме, но оставались другие, более прочные, как барыням казалось: в хрустале бокалов и люстр, в скромных алмазных подвесках. Тихий пред-погожий закат омрачался вмешательством знаков и фигур, раздражительно менявших очертания, словно писавший чёрным по алому отчаивался, ужасался непонятливости этих групп и сборищ внизу. Солнце — вдруг навсегда? — быстро уходило за дальнюю хвою. Граммофон самовольно провожал его арией Каварадосси: «И вот я умираю… Ах, никогда я так не жаждал жизни!» В деревянное основание поющего устройства был привнесён медальон с изображением Льва Толстого. Трёх лет не прошло, как умер великий мучительный человек, они уже освоились с грандиозностью его ухода прочь, без гнёта его постоянного назидания и укора втайне им полегчало, но и страшно становилось от покинутости им на беспризорную свободу. Впрочем, всё было хорошо и прекрасно — как никогда прежде и потом.
Действующие лица помещены в Н-ской губернии, но воображение льнёт к близости Петербурга, соотнося сосны, берёзы, молодой ельник, туалеты дам, осанку кавалеров и вольное усмотрение сочинителя. Это был доброкачественный, добропорядочный, двояко отчётливый круг: средне-высший, статско-военный, замкнуто-широкий. Знали бы они, что семьдесят семь лет спустя кто-то войдёт в их круг через увеличительное стекло, чтобы любить их, любоваться ими, скрывать от них обречённость всего, что кажется им незыблемым, неотъемлемым, необоримым.
Нечего каркать, у них впереди — целый год, даже больше года, это чудное лето молодо-зелено, у меня же, для соседства с ними, — минувший день, иссякающая ночь, они могут медлить, я спешу. Они медлят, я спешу, но и следующая, нынешняя, ночь на исходе. Значит ли что-нибудь для них, что я прихожусь им незримым сторожем с неслышимой колотушкой, упасающим их покой? Но это у меня осень и ночь под утро, у них — летний полдень, они всё так же покойны и беспечны. Я прижилась к ним, я знаю о них больше, чем они, не проболтаться бы ни им, ни Вам. Кое-что всё же можно сказать, не нарушив щепетильных правил.
Молодая дама и офицер разделены деревом, наглядной чертой невидимых препон, но осязаемый пунктир пульсирует между ними, съединяя их в остановленном мгновении, сохранном поныне. Только они смотрят в объектив, только для них это важно. Через минуту они встанут и пойдут по аллее. Она откроет и закроет зонтик. Спросит; — Когда вы едете? — Завтра. — Новое назначение благоприятно? — В известном вам смысле. И в том смысле, что везде одно и то же. — Вот как? — Я хотел сказать: для меня, во мне.
Он смотрит на анютины глазки, приколотые к атласному поясу белого платья. В его сапогах отражается свет, на лице лежит тень, в значение которой она будет бессмысленно вчитываться в декабре следующего года. Привычный уже заголовок газетных сообщений, предшествующий списку убитых и раненых, покажется несообразным, непонятным:
«С ТЕАТРА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ».
Горничная подумает, что барыня сделалась похожа на слабоумную кухаркину девочку. А она всё будет повторять про себя: — Откуда? Ах, да, с театра. Но что за театр такой? Действий, разумеется. Зачем, каких? Военных. С театра. Военных. Действий.
Зато он никогда не узнает, и дико, несусветно, безобразно было бы жить и знать, что через малое страшное время от всей её прелести и гордыни останется обрывок тюля, осколки зеркал, букет анютиных глазок, раздавленный пьяным подкованным каблуком. Но я — автор сочинения — не хочу, не позволяю. Пусть не год, не лето, но целый тот день ещё принадлежит им, их силуэты ещё видны в бесконечной аллее, и теперь видны.
Я привыкла ко всем участникам фотографического сюжета, привязалась и к полным дамам в брюссельских кружевах, даже к той, в шляпе с высоким эспри, делающей кому-то ручкой, пока изящный ироничный офицер, всеобщий и мой любимец, поднимает и преподносит оброненный платок. Он видим нам во всю свою складную долговязость, умеющую умерять глиссаду вальса, преломляться в колене, безукоризненно облекать бока обожаемой лошади. С какой стати мне отпустить его в близкую погибель? Пусть на той же пиршественной лужайке выпьет весёлого вина, перемолвится словом с приятелем, тем, с меланхолическими глазами и усами, тайком посвящёнными Лермонтову, чем и был дразним.
Я не стану смущать милую супругу высокопоставленного лица, застенчиво позирующую в велосипедной упряжке. Она известна чистотой религиозных чувств и благотворительной деятельностью, её тяготит богатство, и напрасно, вскоре она совершенно искупит его греховность.
Трое скептических офицеров отвлечены от вина фотографом, один, ещё не раскуривший сигару, раздражён докучливой помехой. Не говорить же им до времени, что они проиграют войну. Жизнь — что? — она заведомо посвящена России, но и Россию они проиграют. Или нет?
При снисходительности офицера в белом кителе, скрытом неодобрении нижних чинов и любопытстве местных ребятишек дама неловко целится из винтовки. Пусть всегда пребывают в той же позиции, не зная, что они — сами мишень, уже взятая на прицел теми, кто не промахнётся, хоть и стреляет хуже, чем они.
Мне жаль прощаться с ними, но я оставляю их не на растерзание грядущему, а разгару лета и беспечного пикника, вблизи породистых вин и десерта, увенчанного ананасом.
Ещё не вечер, более года остаётся им до Сараевского убийства и последующих событий. Я желаю им счастливого пиршества, драгоценных великих пустяков, из коих состоит выпуклая, живая, как бы бессмертная жизнь на снимках. Пусть здравствуют и благоденствуют, пока возможно. Безмолвно добавляю: Вечная память.
1990Созерцание стеклянного шарика
Ладони, прежде не имущей, обнова тяжести мешает. Поэт, в Германии живущий, мне подарил стеклянный шарик. Но не простой стеклянный шарик, а шарик, склонный к предсказаньям. Он дымчатость судьбы решает. Он занят тем, чего не знаем. Когда облёк стеклянный шарик округлый выдох стеклодува, над ним чело с надбровным шрамом трудилось, мысля и колдуя. Пульсировала лба натужность, потворствуя растрате лёгких, чей воздух возымел наружность вместилища миров далёких Их затворил в прозрачном сердце мой шарик, превратившись в скрягу. Вселенная в окне — в соседстве с вселенной, заточённой в склянку. Задумчив шарик и уклончив. Мне жаль, что он — неописуем. Но так дитя берёт альбомчик и мироздание рисует…Это — не эпиграф, это — начало стихотворения.
Может быть, и впрямь, препона моим стараниям заключена в упомянутом неописуемом шарике? Вот он отчуждённо и замкнуто мерцает передо мной с неприступным выражением достоинства, оскорблённого предложением позировать и подвергать обзору и огласке свою важную тайную суть. Одушевлённая стеклянная плоть твёрдо противится вхожести дотошного ума, хоть они весьма знакомы. Но на что годен сочиняющий ум, который знает, а упорхнувшая музыка о нём знать не хочет, звук — беспечный вождь и сочинитель смысла. Своевольный шарик — не раб мой, угодливо отнесу его в привычные ему покои письменного стола, а сама чернавкой останусь на кухне и начну о нём судачить. Полюбовалась напоследок, напитав его светом лампы, — и унесла.
Как и написано, шарик этот благосклонно подарил мне поэт, в Германии живущий. Он был немало удивлён силой моего впечатления при получении подарка. Умыслом и умением стеклодува, округлое изделие, изваянное его лёгкими, изнутри было населено многими стройными сферами: более крупными, меньшими и маленькими, их серебряные неземные миры ослепительно сверкали на солнце, приходясь ему младшими подобьями. В сердцевине плотно-прозрачного пространства грациозно произрастала некая кроваво-коралловая корявость, кровеносный животворный ствол — корень и опора хрупкой миниатюрной вселенной. Её ваятель с раскалёнными щеками не слыл простаком: и ум знал, и музыка ума не чуралась. И шарик мой был не простой, а волшебный, что не однажды и только что подтвердилось.
Всё это происходило в небольшом немецком городе Мюнстере, населённом пригожими людьми, буйно-здоровыми детьми и множеством мощно цветущих рододендронов. Нарядный, опрятный, неспешный, утешный городок. Если бы вздумала усталая жизнь отпроситься в отлучку недолгой передышки, — лучшего места не найти для шезлонга. Но для этого надо было бы родиться кем-нибудь другим — лучше всего вот этим гармонично увесистым дитятей, плывущим в коляске с кружевным балдахином, свежим и опытным взглядом властелина озирающим крахмальный чепец няньки и весь, услужливо преподнесённый ему, обречённый благоденствию, мир. Или хорошенькой кондитершей, чья розовая, съедобная для ненасытного сладкоежки-зрачка, прелесть — родня и соперница роз, венчающих цветники тортов, сбитых сливок с клубникой и прочих лакомств её ведомства. Или, наконец, вон тем статно-дородным добропорядочным господином, он не из сластён, он даже несколько кривится при мысли о приторно удавшейся жизни, пока запотевшая кружка пива подобострастно ждёт его степенных усов.
Примерка сторонних образов и обстоятельств быстро наскучит, или экспромт сюжета начнёт клянчить углов, поворотов, драматических неожиданностей, что косвенно может повредить облюбованным неповинным персонажам. А у меня всегда, где-то на окраине сердца, при виде чужого благоустройства, живёт мимолётная молитвенная забота о его сохранности и нерушимости.
Шарик сразу прижился к объятию моей ладони, пришёлся ей впору, как затылок собаки, всегда норовящей подсунуть его под купол хозяйской руки. Собака здесь при том, что тёплое стеклянное темя посылало в ладонь слабые внятные пульсы, ободряющие или укоризненные, но вспомогательные.
Пойду-ка верну шарик из полюбовной ссылки, заодно проведаю загривок собаки.
Заведомо признаюсь возможным насмешникам, что часто отзывалась игривости и озорству предметов и писала об этом, как бы вступая с ними не только в игру, но и в переписку. Эти слабоумные занятия не худшие из моих прегрешений, и они несколько оберегли меня от заслуженной почтенной серьёзности.
По возвращении в Москву мы с шариком вскоре уехали в Малеевку, где, вырвавшись в лето, главенствовали и бушевали дети. Мой балкон смотрел на овраг и пруд, в глухую сторону, обратную их раздолью. Чудный был балкон! Он был сплошь уставлен алыми геранями, возбуждённо пламенеющими при закате. Когда солнце заходило за близкие ели, я думала о Бунине. Гераневый балкон я называла Бунинским Днём я выносила на него клетку с любимой поющей птицей. К ней прилетал оставшийся одиноким соловей, и они пели в два голоса. Я рано вставала и плавала в пруду — вдоль отражения берёзы к берёзе. В пятницу — до понедельника — приезжал Борис, с нашей собакой. Я ждала его на перекрёстке в полосатом чёрно-белом наряде, в цвете и позе верстового столба. Борис и собака уезжали ранним утром — я ощущала яркую, как бы молодую, какую-то остро-черёмуховую грусть. Со мной оставались леса и протяжные поля, гераневый Бунинский балкон с оврагом и прудом, книги, перо и бумага, любимая поющая птица и, конечно, стеклянное сокровище — или сокровищница, учитывая насыщенность его недр звёздами, кровянистым коренастым кораллом, тайным умом и явным талантом? Мыслящий одухотворённый шарик был неодолимо притягателен для детей, я этому не препятствовала. Шарик, с некоторой гордой опаской, но всё же уступчиво давался им в руки. Дети, по очереди, выходили с ним в другую комнату, шептались, шушукались, спрашивали, просили, загадывали и гадали. Некоторые их желания сбывались немедленно: в правом ящике стола я припасала для них сладости и презренные жвачки. С небольшой ревностью я просила, как о всех живых тварях: только не тискайте, пожалуйста, не причиняйте излишних ласк. Дети вели себя на диво благовоспитанно, уважительно обращаясь к взрослому шарику полным и удостоверенным именем: Волшебный Шарик. Некоторые из них его рисовали — и получался краткий, абстрактно-достоверный портрет всеобъемлющего свода. Недвижно плывущие в нём сферы нездешних миров они, без фамильярности, именовали пузырьками, что смутно соответствовало неведомой научной справедливости.
По ночам шарик уединялся и собратствовал с всесущей и всезнающей бездной. Возглавляющая Орион жёлтая Бетельгейзе, по своему или моему обыкновению, насылала призывную тоску, похожую на вдохновение.
…Но так дитя берёт альбомчик и мироздание рисует. Побыть тобою, рисовальщик, прошусь — на краткий миг всего лишь, присвоить лика розоватость и карандаш, если позволишь. Сквозь упаданье прядей светлых придать звезде фольги сверканье и скрытных сфер стеклянный слепок наречь по-свойски пузырьками. А вдруг и впрямь: пузырь — зародыш и вод, и воздуха, и суши. В нём спят младенец и звереныш. Пузырчато всё то, что суще. Спектр ёмкий — ёлочный и мыльный — величествен, вглядеться если. Возьми свой карандаш, мой милый. Остерегайся Бетельгейзе. Когда кружишь в снегах окольных, и боязно, и вьюга свищет, — то Орион, небес охотник, души, ему желанной, ищет. Вот проба в дальний путь отбытья. Игрушечной вселенной омут — не сыт. Твой взгляд — его добыча — отъят, проглочен, замурован…Старинно воспитанный, учёно-сутулый мальчик стал ближайшим конфидентом шарика, но деликатно посещал его реже других паломников, робко испросив позволения. Когда они с шариком смотрели друг на друга, меж ними зыбко туманилось и клубилось родство и сходство. Глаза мальчика, отдалённые и усиленные линзами очков, тоже являли собою сложно составленные миры, сумрачные и светящиеся, с дополнительными непостоянными искрами. Казалось, что самому мальчику была тяжела столь громоздкая сумма зрачков: понурив голову, он занавешивал их теменью ресниц — это был закат, общий заход-уход лун и солнц, зато обратное, восходное, действие вознаграждало и поражало наблюдателя. Мальчик играл на скрипке, уходя для этого в глубины парка, впадающего в лес, и однажды — в моей комнате, что сильнейше повлияло на поющую птицу и прилетавшего к ней соловья. Небывалое трио звучало душераздирающе, и одна чувствительная слушательница разрыдалась под моим балконом. Мальчик жил во флигеле под легкомысленным присмотром моложавой, шаловливой, даже озорной прабабушки. Можно было подумать, что добрые феи, высоко превосходящие чином противоположные им устройства, вычли из её возраста годы тюрем и лагерей, подумали — и ещё вычли, уже в счёт других приговоров, тоже им известных. Сама же она объясняла, что фабула её жизни была столь кругосветна, что безошибочный циркуль вернул её точно в то место времени, откуда её взяли в путешествие. «Не в главное путешествие, — утешала она меня, — я говорю о детстве. Я рано себя заметила. Я совсем была мала, но не „как сейчас вижу“ — в сей час живу в счастье дня, которого мне на всю жизнь хватило. В то лето разросся, разбушевался жасмин, заполонил беседки, затмил окна, не пускал гостей в аллеи. Няня держит меня на руках и бранит жасмин: разбойник жасмин, неприятель жасмин, войском на нас нашёл, ужо тебе, жасмин. А продираясь сквозь жасмин, к нам бежит девочка-мама и кричит: папа с фронта приехал в отпуск! он крест Святого Георгия получил! За ней идёт прекрасно красивый отец, с солнцем в погонах, и целует усами мои башмачки. А вечером — съезд, пиршество, фейерверк и среди белых цветов жасмина — обрывки белых кружев. Ну, а дальше что было — известно. Только — если человек запасся таким днём, он и в смерти выживет и не допустит в сердце зла».
Сквозь шарик или в нём я живо видела тот счастливый день, может быть, его избыточного запаса и мне достанет — хотя бы для недопускания в сердце зла. Чудная картина июньского полдня внушала зябкую тревогу. Дама в белом платье с розой у атласного пояса, офицер в парадном мундире, добрый снеговик няньки, светлое дитя в батистовых оборках, белый жасмин, белые кружева. Как всё бело, слишком бело, и какая-то непререкаемая смертельная белизна осеняет беззаботную группу, приближается к ней, готовится к прыжку из жасминовых зарослей. Ей противостоит неопределённый крылатый силуэт, бесплотный неуязвимый абрис — видимо, так окуляр шарика выглядел и выявил из незримости фигуру Любви. Дальше смотреть не хотелось, чтобы не допустить в сердце зла.
Очаровавшая меня прабабушка — может быть, в ней и упасла свою сохранность фигура Любви? — тоже дружила с шариком, он нежился и лучезарил в её тонких руках. Однажды он огорчил ее, нарушив свойственную ему скрытность. Старая молодая дама печально молвила: «Да, это правда, и быть по сему — быть худу. Влюблён мой правнук — вы знаете, я его прадедушкой дразню — тяжело, скорбно влюблён, старым роковым способом».
Снежной королевной того жаркого лета была высокая взрослая девочка — всегда на роликах и с ракеткой. Длинные белые волосы — в причёске дисциплины, не позволявшей им развеваться по ветру или клониться в сторону обеденного стола. Хладные многознающие глаза с прямым взглядом, не снисходящим к собеседнику. Когда она неспешно проносилась по выбоинам асфальта, страшно было за высокие амфоры её ног, наполненные золотом виноградного сока. Кто-то предупредил её об опасном месте, удобном для спотыкания или упадания. Она сурово успокоила доброжелателя: «Со мной этого не может быть». Заискивающая свита подружек звала её Лизой, она не возражала: «Хоть горшком… Мое имя — Элзе, но вам это не по силам». Говорили, что отец её — норвежец, русская мать преуспевает в собственном компьютерном деле. Кто-то осмелился спросить её об отце: правда ли, что он — норвежец, и не шкипер ли он? Она ответила: «Правда то, что меня в вашей русской капусте нашли». В честь этого обстоятельства она появилась на детском празднике в прозрачном туалете бабочки-капустницы. Приставленная к ней гувернантка или приживалка укоризненно зашептала ей в ухо, и все услышали строгий ответ: «А вы видели когда-нибудь, чтобы бабочки носили зипун?» И тут же обратилась к прабабушке мальчика, искоса указав на него подбородком: «Меня — в капусте, а вот этого где удалось отыскать?» Дама кротко и доброжелательно ответила: «Его нашли в жасмине, это очень редкий случай». Ей нравилась девочка, она подозревала в ней трудное горячее сердце, крепко-накрепко запертое, как ларец с алмазом, и не ключом, а зашифрованным набором чисел и букв.
В теннис девочка играла одна, гнушаясь неравными партнёрами, одному смелому претенденту отказала так: «Нет уж, вы играйте в свой шарик, а я — в свой».
Родителей капустной девочки и жасминного мальчика никто из живущих в доме никогда не видел, но в алмазном норвежстве девочки я не сомневалась. Для меня она была родом из Гамсуна, из его чар, из шхер, фиордов, скал и лесов. Безудержная гордыня фрекен Элзе не могла вволю глумиться над избранником её пристальных насмешек: он избегал её, вернее, сторонился с видимым равнодушием, но она его настигала; «Вашей сутулостью вы доказываете ваше усердие в умственных занятиях?» — «О нет, примите этот изъян за постоянный поклон вам», — кланялся мальчик. Или: «Я видела вас в беседке с тетрадкой. Вы пишете стихи? О чём вы пишете?» — «Да, иногда, для собственного развлечения, сейчас — о звезде Бетельгейзе». Надменная фрёкен Элзе тоже умела ошибаться: «Это — посвящение? Не стану благодарить, потому что рифма — примитивна». — «Как вы догадались? Рифма, действительно, крайне неудачна, искусственна, вот послушайте»:
Плутает слух во благе вести: донёсся благовест из Рузы. Но неусыпность Бетельгейзе следит за совершенством грусти. Доверься благовесту, странник, не внемли зову Бетельгейзе: не бойся, что тебя не станет, в пыланье хладном обогрейся. Какой затеял балетмейстер над скудостью микрорайона гастроль Тальони-Бетельгейзе с кордебалетом Ориона? Безынтересны, бестелесны, сумеем ли без укоризны последовать за Бетельгейзе в посмертья нашего кулисы?— Какой ужасный ужас! — искренне возмутилась не зарифмованная девочка. — Дайте мне эту гадость, я порву, чтобы и следа не осталось.
— Пожалуйста, — о готовностью согласился сочинитель. — Только здесь ничего не написано, это само из воздуха взялось.
На листке бумаги не было никаких букв, но присутствовало изображение шарика с его разновеликими зрачками и отражёнными в нём разнообразными зрачками мальчика.
— Так я и знала! — ещё пуще прогневалась девочка. — Вы не из воздуха, а из вашего шарика все эти вздоры берёте. Пусть он волшебный, но вашему одиночеству он вместо собаки. Тогда назвали бы: Полкан. Нет — Орион «Орион, к ноге!» — в вашем захудалом микрорайоне это бы пышно звучало. Собаку я люблю, — последовал задумчивый вздох. — Собаки это не касается, а ваше бутафорское мироздание — разрываю и распускаю.
Нарисованные миры врозь покинули нарисованное здание стеклянной темницы-светлицы и на крыльях бумажных клочков разлетелись по сквозняку вселенной, отчасти обитающей и в наших скромных угодьях. Бутафорский хаос распада всё же производил небольшое зловещее впечатление.
— Дайте мне ваши очки, — приказала разрушительница миров и сердец.
— Но зачем? Вы в них ничего не увидите, — сказал мальчик, покорно обнажая затруднённый восход близоруких светил, умеющих смотреть в свой исток, в изначальную глубь обширного исподлобного пространства. Девочка надела очки, странно украсившие её русалочье лицо, — словно она из озера глядела.
— Для этого и прошу. Вот теперь хорошо: какое удовольствие вас не видеть. Надо бы заказать такие, если у оптики найдётся столько диоптрий — не все же мне отдать. Впрочем, я и так вас больше не увижу: завтра мы с тётушкой уезжаем. Так что — постарайтесь не поминать лихом.
Она протянула мальчику руку, и он взросло склонился к ней похолодевшими губами: — Прощайте. — Засим ролики фрёкен Бетельгейзе удалились.
Вскоре собрались к отъезду прабабушка и правнук и зашли попрощаться со мной, шариком и поющей птицей — навещавший её соловей отсутствовал. В тёмном дорожном платьице разминувшаяся с возрастом прабабушка смотрелась совсем барышней, но, при свете гераневого балкона, видно было, какую горечь глаз нажила, намыкала она данной ей долгой жизнью, возбранив себе утеху слёз, жалоб и притязаний. Она застенчиво протянула мне засушенную веточку жасмина: «Преподнесите и этот цветок стихотворению Пушкина „Цветок“, я это ваше обыкновение невольно приметила». У «Цветка», в моих и во многих книгах, много уже было преподнесённых мной цветков, и я часто наугад вкладывала лепестки меж других страниц, перечитывая их, с волнением принимая их понимающую усмешливую взаимность. Жасмин я бережно положила по назначению — том привычно открывался в должном цветочном месте.
Опасаясь обременить её тяжестью горшка, я заведомо приготовила для неё сильный отросток герани, уже прицеливший корни к новому питательному обиталищу. Она радостно смеялась, умерив горемычность глаз: «Представьте: как раз горшок у меня есть, а теперь и растение есть, такое совпадение — роскошь». Мальчик и шарик сдержанно прощально переглянулись. (Мне не однажды доводилось раздавать заповедные предметы, как бы следуя их наущению и устремлению, но искушение дарить на шарик никак не распространялось, даже приблизительная мысль об этом суеверно-опасна.)
Увеличив свободу и прилежность моих и шарика занятий, школьные каникулы кончились. С этой фразы начинаются каникулы воображаемого читателя. Ведь он мог боязливо предположить, что занёсшийся автор пустился писать роман, и предлинный: о прабабушке и о мальчике, о напряжённой дрожи многоточия меж ними, о пунктире острого электричества, не известного Эдисону, неодолимо съединяющему и уязвляющему сердца. Но нет, эта заманчивая громоздкость не обрушится ни на чью голову, а останется в моей голове — подобно отростку герани, пустившему корни в стакане воды.
Пора приступить к началу и признаться, что произошло на самом деле. Некоторое время назад я сидела за столом, имея невинное намерение описать мой шарик, чья объявленная волшебность не содействовала мне, а откровенно противоборствовала. Врасплох зазвонил телефон, и определённо милый (это важно) женский голос попросил меня о встрече, об ответе на несколько вопросов обо мне, о моей жизни. Неподалёку лежали два недавних интервью, вполне достоверных и доброкачественных, но я ещё не очнулась от необоримой скуки их прочтения. Ни за что не соглашусь, — бесполезно твёрдо подумала я. Но голос был такой милый, испуганный, уж не подозревал ли он меня в злодейской надменности, в чопорной тупости? А я — вот она: усталый человек, сидящий на кухне, печально озирающий стеклянный шарик. Таким образом, один ответ уже был, может быть, и другие откуда-нибудь возьмутся, хотя бы из этой усталости, не пуста же она внутри. И я сказала сотруднице журнала: — Приходите.
Она и сама была милая, робкая, доверчивая, со свежими снежинками, ещё не растаявшими на беззащитной шапочке. Этой небойкой пригожести, несмелой доброжелательности, этим снежинкам — не выходило отказать. Её кроткое вопросительное вмешательство в моё сидение на кухне походило на ласковое сочувствие, а не на докучливое любопытство. Мы невнятно сговорились, что я отвечу на вопросы, не изъявленные, не заданные впрямую, отсутствующие. С этим обещанием, как с удачей, она отправилась в свой путь по зимнему дню, может быть, дальний и нелёгкий.
Опять мы остались один на один с шариком и как бы в сходных, если не равных, положениях. Сторонние обстоятельства понуждали нас разомкнуть дрёму охранительных ресниц, обнажить устье зрачков, берущих исток во взгорбьях темени, — приглашали задумчивый моллюск на бал погостить на блюде устриц. Втайне я полагалась на участливую подсказку шарика. То, что он имеет врождённые и вменённые ему предсказательные способности, как оказалось, известно не только мне.
Есть брат у шарика. Он — царствен. Сосуд пророческого шара в театре, в городке швейцарском я видела в руке Бежара. В дырявом одеянье длинном, дитя умершее качая, он Лиром был, и слёзы лил он, и не было слезам скончанья. Сбывались предсказанья шара, воображенье поражая, и было нестерпимо жалко весь мир, и Лира, и Бежара. Но я запомнила, как шёл он, отдав судьбе её трофеи: в лохмотьях, бывших властным шёлком, труд тела — краткость и терпенье. Не мук терпенье, не позора — мышц терпеливая находка: не оступиться в след повтора, всяк шаг — добыча и охота. Так поступь старого гепарда тиха, он — выжиданья сгусток, и тетива спины — горбата, вобравшая прыжка поступок. Что нищая падёт корона, не внове ль зала обожанью? Кровь творчества — высокородна: смысл шара, ведомый Бежару…Да, снежной зимой, в Лозанне, Борис и я видели балетную постановку «Короля Лира» — дерзкую и целомудренную. Уединённость театра казалась преднамеренно отшельной, не зазывной, не отверсто-доступной. Его аскетичные тенистые своды возвышали зрителей переполненного зала до важной роли избранников, соучастников таинственного действа. В премьерном спектакле Лиром был сам Бежар. Его отрешённое лицо не объявляло, не предъявляло силы чувств — только блики, отсветы, сумерки зашифрованных намёков составляли выражение упования или скорби. Его сдержанные, расчетливо малые, цепкие движения словно хищно гнались за совершенством краха, не экономя страсть всего существа, а расточая сё на благородную потаённость трагедии. В правой руке он держал мутно мерцающий стеклянный объём темнот и вспышек, явно предвидящий и направляющий мрачный ход событий. Это был величественный, больший и старший, пусть косвенный, но несомненный сородич моего шарика. Это меня так поразило и отдалило от прочей несведущей публики, как если бы я оказалась забытой в глуши дальней свойственницей Короля Лира и свежими силами моего молодого шарика всё ещё можно было поправить. Моя ревность была уверена (может быть, справедливо), что этот округлый роковой персонаж и труппа, и зрители, если замечают, принимают за декоративную пустышку, за царственную прихоть Бежара. Я еле дожила до разгадки. Один просвещённый господин объяснил мне, что подобные изделия издревле водились в разных странах и название их, в переводе с французского, означает именно то, что я сама придумала: магический, предсказующий, гадательный. Так что не зря я в мой шарик «как в воду глядела», и теперь гляжу.
Из всего этого следует, что поверхность моей жизни всегда обитала на виду у множества людей, без утайки подлежа их вниманию и обзору. Но не в этом же дело. Равная, основная моя жизнь происходила и поныне действует внутри меня и подлежит только художественному разглашению. Малую часть этой жизни я с доверием и любовью довожу до сведения читателей — как посвящение и признание, как скромное подношение, что равняется итогу и смыслу всякого творческого существования.
Конечно, я не гадаю по моему шарику, не жду от него предсказаний. Просто он — близкий сосед моего воображения, потакающий ему, побуждающий его бодрствовать.
Все судьбы и события, существа и вещества достойны пристального интереса и отображения. И, разумеется, все добрые люди равно достойны заботливого привета и пожелания радости — вот, примите их, пожалуйста.
О чём стекла родитель думал? Предзнал ли схимник и алхимик, что мир, взращённый стеклодувом, ладонь, как целый мир обнимет? Ребёнок обнимает шарик: миров стеклянность и стократность — и думает, что защищает их беззащитную сохранность. Стекло — молчун, вещун, астролог повелевает быть легенде. Но почему о Лире скорбном? Но почему о Бетельгейзе? Не снизойдёт учёный шарик до простоумного ответа. Есть выбор: он в себя вмещает любовь, печаль, герани лета. Он понукает к измышленьям тот лоб, что лбу его собратен. Лесов иль кухни ты отшельник, сиятелен твой сострадатель. 1997ПРИЛОЖЕНИЕ
Иосиф Бродский
Зачем российские поэты?
Поэзия есть искусство границ, и никто не знает этого лучше, чем русский поэт. Метр, рифма, фольклорная традиция и классическое наследие, сама просодия — решительно злоумышляют против чьей-либо «потребности в песне». Существует лишь два выхода из этой ситуации: либо предпринять попытку прорваться сквозь барьеры, либо возлюбить их. Второе — выбор более смиренный и, вероятно, неизбежный. Поэзия Ахмадулиной представляет собой затяжную любовную связь с упомянутыми границами, и связь эта приносит богатые плоды. Или, скорее, прекрасные цветы — розы.
Сказанное подразумевает не благоухание, не цвет, но плотность лепестков и их закрученное, упругое распускание. Ахмадулина скорее плетёт свой стих, нежели выстраивает его вокруг центральной темы, и стихотворение, после четырёх или того меньше строк, расцветает, существует почти самостоятельно, вне фонетической и аллюзивной способности слов к произрастанию. Её образность наследует взгляду в той же степени, что и звуку, но последний диктует больше, нежели порой предполагает автор. Другими словами, лиризм её поэзии есть в значительной степени лиризм самого русского языка.
Хороший поэт — всегда орудие своего языка, но не наоборот. Хотя бы потому, что последний старше предыдущего. Поэтическая персона Ахмадулиной немыслима вне русской просодии — не столько по причине семантической уникальности фонетических конструкций (взять хотя бы одну из её наиболее употребительных рифм улыбка/улика, смысл которой усиливается качеством созвучия), но благодаря специфической интонации традиционного русского фольклорного плача, невнятного причитания. Последнее особенно заметно на её выступлениях. Впрочем, это присуще Ахмадулиной в той же степени, что и самой женской природе.
Если я не называю поэзию Ахмадулиной мужественной, то не потому, что это рассердит множество женоподобных особей — просто поэзии смешны прилагательные. Женский, мужской, чёрный, белый — всё это чепуха; поэзия либо есть, либо её нет. Прилагательными обычно прикрывают слабость. Вместо употребления любого из них достаточно сказать, что Ахмадулина куда более сильный поэт, нежели двое её знаменитых соотечественников — Евтушенко и Вознесенский. Её стихи, в отличие от первого, не банальны, и они менее претенциозны, нежели у второго. Истинное же превосходство над этими двумя лежит в самом веществе её поэзии и в том, как она его обрабатывает. Сказанное, однако, не лучший способ сделать комплимент русскому поэту — во всяком случае, не в этом веке.
Подобно упомянутой розе, искусство Ахмадулиной в значительной степени интровертно и центростремительно. Интровертность эта, будучи вполне естественной, в стране, где живёт автор, является ещё и формой морального выживания. Личность вынуждена обращаться к этому багажу с такой частотой, что есть опасность впасть от него в наркотическую зависимость или, хуже того, обнаружить его однажды пустым. Ахмадулина великолепно сознаёт эту опасность, тем более, что она работает в строгих размерах, которые сами по себе вырабатывают определённый автоматизм и монотонность писания. Из двух вариантов — продолжать стихотворение, рискуя высокопарными повторами, или вовремя остановиться — она чаще (и вполне предсказуемо) предпочитает первое. И тогда читатели получают что-нибудь вроде «Сказки о дожде» или «Моей родословной». Тем не менее, временами сдержанное очарование держит в узде многословную напыщенность.
Несомненная наследница Лермонтовско-Пастернаковской линии в русской поэзии, Ахмадулина по природе поэт довольно нарциссический. Но её нарциссизм проявляется прежде всего в подборе слов и в синтаксисе (что совершенно немыслимо в таком афлексичном языке, как английский). Гораздо в меньшей степени он направлен на выбор той или иной самодовольной позы — менее всего гражданственной. Когда, тем не менее, она оборачивается праведницей, презрение обычно нацелено против моральной неряшливости, бесчестности и дурного вкуса, непосредственно намекающих на вездесущую природу её оппонента. Подобная разновидность критицизма есть, несомненно, игра беспроигрышная, поскольку поэт является правым, так сказать, априори: потому что поэт «лучше», чем не-поэт. В настоящее время русская публика гораздо более чувствительна к обвинениям психологического, нежели политического характера, устало принимая последнее за обратную сторону той же официальной монеты. Есть определённая доля цинизма в этой позиции; но всё-таки лучше, если поэт предпочитает её возвышению до романтического тона.
Подобное восприятие мира позволяет человеку уверенно чувствовать себя в иерархии истэблишмента. Прежде всего это относится к современной России, где интеллектуальная элита смешивается с элитой партийной бюрократии в совместном бегстве от стандартов прочей части нации. Данная ситуация в известной степени типична для любой истинной диктатуры, где тиран и карбонарий посещают вечером одну и ту же оперу; и тут легче попрекнуть кого-либо другого, нежели Ахмадулину, которая никогда не стремилась к репутации «бунтаря». Что равно печально и в справедливости, и в несправедливости, так это то, что триумф обоих выражается до известной степени в собственной машине, загородном доме, оплаченных государством поездках за границу.
Когда я пишу эти строки, Ахмадулина в сопровождении своего третьего мужа, художника-сценографа Бориса Мессерера, совершает турне по Соединённым Штатам. Но, в отличие от упомянутых знаменитых предшественников, она не является торговым продуктом на экспорт, эдакой икрой, скорее красной, нежели чёрной. И, по сравнению с ними, её стихи переведены на английский гораздо хуже (фактически отвратительно).
Ахмадулина совершенно подлинный поэт, но она живёт в государстве, которое принуждает человека овладевать искусством сокрытия собственной подлинности за такими гномическими придаточными предложениями, что в итоге личность сокращает сама себя ради конечной цели. Тем не менее, даже будучи искажённым, центростремительное сокращение их обеих, её и её лирической героини, лучше, чем центробежное неистовство многих коллег. Потому хотя бы, что первое продуцирует высочайшую степень лингвистической и метафорической напряжённости, тогда как второе приводит к бесконтрольному многословию и — цитируя Ленина — политической проституции. Которая, по существу, является мужским занятием.
Белла Ахмадулина родилась 1937-м году, мрачнейшем году русской истории. Одно это является подтверждением изумительной жизнеспособности русской культуры. Раннее детство Ахмадулиной совпало со Второй мировой войной, её юность — с послевоенными лишениями, духовной кастрацией и смертоносным идиотизмом сталинского правления. Русские редко обращаются к психоаналитикам — и она начала писать стихи ещё в школе, в начале пятидесятых. Она быстро созревала и совершенно без вреда для себя прошла через Литинститут имени Горького, превращающий Соловьёв в попугаев. Её первая книга была опубликована в 1962 году и немедленно исчезла с прилавков книжных магазинов. С тех пор Ахмадулина зарабатывала себе на жизнь преимущественно переводами из грузинской поэзии (для русских писателей заниматься кавказскими республиками приблизительно то же самое, что для американских — Мексикой или Бразилией), журналистикой и внутренними рецензиями. Однажды даже снималась в кино. У неё была нормальная жизнь, состоящая из замужеств, разводов, дружб, потерь, поездок на юг. И она писала стихи, сочетая вполне традиционные четверостишия с абсолютно сюрреалистической диалектикой образности, позволившей ей возвысить свой озноб от простуды до уровня космического беспорядка.
В стране, где публика и театр Абсурда поменялись местами (стопроцентный реализм на сцене, тогда как в зале творится чёрт-те что), — эта разновидность восприятия обладает множественностью отголоска. Никто не позавидует женщине, пишущей стихи в России в этом столетии, потому что есть две гигантские фигуры, являющиеся каждой, взявшей перо в руки — Марина Цветаева и Анна Ахматова. Ахмадулина открыто признаётся в почти парализующей для неё очаровании этих двоих и присягает им на верность. В этих исповедях и обетах легко различить её претензию на конечное равенство. Но плата за подобное равенство оказывается чересчур высока для желающего. Есть большая доля истины в избитой фразе о искусстве, требующем жертв, и слишком мало свидетельств того, что искусство сегодня стало менее плотоядно, нежели в год рождения Беллы Ахмадулиной.
1977 Перевод с английского Виктора Куллэ Joseph Brodsky «Why Russian Poets?» — «Vogue», Vol. 167, № 7 (July 1977), p. 112.Лучшее в русском языке…
Вступительное слово на вечере поэзии Беллы Ахмадулиной
для студентов Амхерст-колледжа (штат Массачусетс, США)
Лучшее, чем обладает каждая нация, это её язык. Лучшее в каждом языке, конечно же, созданная на нём литература. И лучшее в любой литературе — поэзия. Из этого следует, по крайней мере на мой взгляд, что хороший поэт является сокровищем нации. Тем более, если такой поэт женщина.
Как это обычно случается с сокровищами, нация имеет склонность беречь их для себя и выставляет напоказ только изредка, во времена крайней самонадеянности. Такое время, слава Богу, наступило, кажется, в России, поскольку Белла Ахмадулина, слушать которую вы пришли сегодня вечером, — сокровище русской поэзии.
Быть поэтом означает всегда быть соизмеряемым со своими предшественниками. Быть женщиной на этом поприще тяжело вдвойне, поскольку вас соотносят в равной степени и с женщинами, и с мужчинами, смотрящими со страниц антологий. Не существует поэзии женской, поэзии чёрной, голубой, южной или какой-либо иной региональной поэзии. Поэзия потешается над прилагательными и не делает скидок — либо это поэзия, либо нет. Белла Ахмадулина ясно, вполне отчётливо выделяется на фоне своих предшественников и современников, поскольку она не стремится подтасовывать критерии. И если уж говорить о влияниях, насколько можно говорить о влияниях на её поэзию, она более обязана Борису Пастернаку, мужчине, нежели любой из женщин в русской поэзии — Марине Цветаевой, например, или Анне Ахматовой.
Она вышла, скажем так, на сцену в конце пятидесятых — это было время, когда некоторые, если не большинство из вас, ещё не появились на свет. И в силу того, что она начинала в пятидесятые годы, исследователи часто причисляют её к поколению Евтушенко и Вознесенского — этих «Rolling Stones» русской поэзии. Если указанная ассоциация имеет место, то только в силу хронологии. Белла Ахмадулина — поэт гораздо более высокой личностной и стилистической чистоты, нежели большинство её сверкающих, либо непрозрачных, современников. И её поэзия публикуется весьма скупо.
На настоящий момент у Ахмадулиной только семь поэтических сборников. Её стихотворения отличимы от чьих бы то ни было мгновенно. Вообще её стих размышляет, медитирует, отклоняется от темы; синтаксис — вязкий и гипнотический — в значительной степени продукт её подлинного голоса, который вы услышите сегодня вечером. Развёртывание её стихотворения, как правило, подобно розе, оно центростремительно и явственно отмечено напряженным женским вниманием к деталям — напряжённым вниманием, которое иначе можно назвать любовью. Чистый результат, тем не менее, не салонная и не камерная музыка; результат — уникальное ахмадулинское смешение частного и риторического — смешение, которое находит отклик в каждой душе. Этим объясняется её популярность — не только в кругу знатоков поэзии, но и у широкого русского читателя.
Указанные элементы стиля делают Беллу Ахмадулину чрезвычайно трудным для перевода поэтом. То, что вы сегодня услышите, является, следовательно, лишь крупицей её работы, лишь отблеском драгоценности. Перевод — это искусство возможного. Ахмадулина в высшей степени поэт формы, и звук — стенающий, непримиримый, волшебно гипнотический звук — имеет решающее значение в её работе. Переводчики, конечно же, старались делать как можно лучше, и они сделали всё, что могли.
В её присутствии вам, тем не менее, следует обострить свой слух и интуицию, поскольку ни один перевод не в состоянии воспроизвести звучание оригинала. Трёхмерное произведение, соответственно, редуцируется в нём до одномерного — но я совершенно уверен, что для вас станет находкой даже одно измерение. Предлагаемое вам и на английском вызывает, безусловно, трепет, безусловно приковывает внимание.
Как бы то ни было, всем вам предстоит замечательный вечер. Вы собрались здесь, чтобы услышать лучшее в русском языке — Беллу Ахмадулину.
1987 Перевод с английского Виктора КуллэАндрей Битов: «Поэзия, явленная в одном лице…»
Большая слава делает имя еловой. Есенин, Пастернак — как бы уже не фамилии, а слова. Слова, которых до них не было, а у нас есть. Восточная традиция, мешая призвание с лаской, оставляет поэту, как вечному общему ребёнку, лишь его имя, уже без фамилии. Так, в любимой Беллой Ахмадулиной Грузии (или в Грузии, столь любящей Беллу Ахмадулину…) звучат слова-имена Шота, Галактион. Дети нации. Их кличут, зовут: где вы? идите скорей сюда, к нам! скучно без вас…
Едва ли не впервые в истории русской поэзии имя стало ёмче фамилии — БЕЛЛА. И это не фамильярность со стороны читателей и почитателей. Белла Ахатовна — вот фамильярность, для самых близких.
Слава затмевает. Трудно разобраться, что слышишь, что видишь, что читаешь. Такое облако восторга, размытое по краям, как сквозь слёзы. Белла… что это, стихи? лицо? голос? вздор, стойка, повадка?.. Сразу не ответишь. Белла — это… Белла. Признание — род недоумения: неужели такое бывает? Нет, не может быть… Но вот же, вот! Есть, есть… но что же это?
И я — не твой читатель. Смотрю на страницу — а слышу голос. И буква — не вполне буква, и слово — полуначертано: отрывается, отлетает от страницы. Будто ухом видишь, очами слышишь. Смотришь в книгу — слышишь, голос зовёт: оборачиваешься, откуда… Нет, показалось, никого…
И читатели твои, и почитатели… Их нет у тебя. Это ты у них. От упоения собственной любовью уже не виден объект её. Кто разглядит за обласканностью одиночество, за высокословием застенчивость, за столь естественным, лёгким, безудержным звучанием немоту и удушье?
Критикам — совсем нечего сказать.
Если сопоставить популярность имени, воздействие образа и проникновение в поэзию, Белла Ахмадулина получится не только самый популярный, но и непризнанный поэт. Признанием тоже можно отделаться от поэта, избежать той нелёгкой работы души, что вызвана его среди нас явлением.
И впрямь, что уж тут такого популярного, в её стихах? Они сложны, неуловимы, чуть ли не запутанны. Немота, кружение над. Не понимаем — внимаем. Внимаем не этим именно стихам, не этому именно поэту, а чуть ли не самой поэзии, явленной в одном лице. Разглядываем и внимаем. Не просто сложные стихи, но ещё и для узкого круга… О самой Поэзии чуть ли не больше стихов, чем о природе, и уж безусловно больше, чем о любви. О поэтах… Пушкин, Лермонтов, Блок, Мандельштам, Цветаева, Ахматова — лирические герои поэзии Беллы. Страна, переполненная её слушателем и читателем, напоминает зал. Слушает, не дышит, недопонимает, заворожённая музыкой, но воспринимает как наследницу. Вот эффект лирики! Всегда для самого узкого круга — для одного тебя… и масса внимает, как один человек.
И пока есть человек, через которого так происходит слово, и пока в нас, в каждом и во всех, не пропала способность ему внимать, жива Поэзия, жив и человек, с удивлением обнаруживающий, как легко до сих пор пробивается его броня, кора, защитная окраска, обнажая самое беззащитное, нежное, непобедимое и сильное — душу живу. Как быстро тянется этот росток, как неумолимо, как навстречу…
«Ни слова о любви! Но я о ней ни слова…»
1987Инна Лиснянская: Имя
В наши дни, когда прилагательное девальвировалось прежде и быстрей рубля, я не хочу никакого эпитета рядом с именем: Белла Ахмадулина. Я могу соединить это имя с помощью знака равенства только с одним словом: поэт. Белла Ахмадулина = поэт. На мой слух любой эпитет к этому слову ослабляет его богоданный смысл.
«Звук указующий» — так озаглавила Белла Ахмадулина книгу стихов по одноимённому стихотворению 83-го года и тем самым определила само вещество своей поэзии. Это вещество — музыка. Поэт от поэта в первую очередь отличается музыкой, присущей исключительно ему. И звук указующий подсказал Ахмадулиной всё, — ни на кого не похожий ритм, неожиданную синтаксическую прелесть и многострельчатую, но ненавязчивую мысль.
Волеизъявлению звука указующего подчинена и проза Беллы Ахмадулиной: эссе, воспоминания, рассказы. Эту же музыку я слышала и в её повседневных разговорах и попыталась в своём стихотворении 80-го года охарактеризовать её письменную и устную речь одной строкой: «И соловьиная Белла звенит о зиме».
А зима в её символическом понимании для меня и Липки — на в связи с «МетрОполем» длилась 7 лет. И здесь уместно вернуться к имени: «Белла Ахмадулина». Когда КГБ выжило нас из снимаемой дачи в Переделкине, жившая там же Белла сокрушалась: «Если вы обитаете неподалёку, мне легче держать вас под своим крылом». Я не сразу поняла, что крыло есть её ничем незапятнанное мировое имя. А ведь так оно и было. Именно это имя-крыло уберегло, как я понимаю, от ареста Георгия Владимова, берегло и нас, как умело.
Но зима наша кончилась. И вот в начале лета 88-го мы с Липкиным живём в Малеевке, а в домотворческом номере напротив нашего пишет Белла Ахмадулина стихотворение «Ключ и ларец». Видимо, чистота звука указующего не дозволяет никакой, даже малейшей неопрятности там, где она работает. Иногда Белла приглашает меня на пенье соловья. В номере — праздничная аккуратность и красота: цветы в горшках и канарейка в клетке. Этой канарейке и поёт ежевечерне засидевшийся в женихах соловей. А может быть, он поет поэту Ахмадулиной? Кто его знает. Белла сидит за письменным столом перед окном, глядящим в пышный овраг. На столе писчий лист, сигареты, пепельница — и более ничего.
От стихов Беллы Ахмадулиной создаётся впечатление, что они сами выпархивают из её уст, как только она их приоткрывает. Возможно, иные стихи Ахмадулиной так и спеты. Не знаю. Тайна творчества велика. Но ключ к ларцу таинственного стихотворения, о котором говорю, мне и Эмме Григорьевне Герштейн вручала сама Белла, читая нам порознь черновые варианты. Стихотворение создавалось многотрудно, а результат таков, как будто оно единожды выдохнуто открытым горлом.
Когда читаешь Пушкина, невозможно и подумать, какой кропотливости стоило ему то или иное стихотворение — так вольно и своевольно движется стих. Но нам доступны пушкинские черновики, испещрённые поисками наиточнейшего слова…
Нелёгкое бремя русской изящной словесности лежит на крыле имени — Белла Ахмадулина.
7 марта 1997Елена Шварц: «Ларец и ключ»
Само существование такого поэта, как Белла Ахмадулина, пожалуй, заполняет собою пробел, зиявший в истории русской литературы, а именно: это пустующее место Поэтессы конца XVIII — начала XIX века, недостающей звезды Пушкинской плеяды, прекрасной помещицы, наследницы итальянцев, обрусевших на морской службе, и старинного русского рода (из татар). (Говорю «Поэтессы» — ибо именно Поэта-девицы не хватает тем временам) Воспитанная эмигрантом-вольтерьянцем, но научившаяся у него лишь изяществу шутки, наклонная скорей к глубокомыслию Новикова и А. М. Кутузова, любительница Тасса и Стерна, сочиняющая послания в стихах (но не к Булату, а, скажем, к Батюшкову), трогательно добавляя в конце «мой свет». Она любима крестьянами и любит их неюно и слегка насмешливо. Дворня перешёптывается наутро после отъезда гостей: барин кудрявый стишки читал, и наша барыня стишок читала про Паршинский овраг, чувствительно так…
Она пишет ещё баллады и оды, не стесняя себя ничем, не предназначая их для печати, но они, конечно, появляются на страницах «Полярной звезды» или Альманаха, подписанные тремя (или четырьмя) звёздочками.
Как легко представить её себе, гуляющей вдоль сугробов своих аллей, с задумчивым сеттером, бормочущей грустные стихи о безумном друге, о бедном Батюшкове, но — чу! — колокольчик… Снежная пыль у ворот…
Всё это легко вообразить, и, наверное, благом дм нашей словесности было бы существование у истоков её такой поэтессы, но, слава Богу, девятнадцатый век не явился востребовать свою собственность, и ещё большим благом и чудом стало то, что этот прелестный анахронизм был подарен нам во времена оттепели и, хотя помещён в чуждые себе времена и нравы, чудесно прижился в них, и как бедны были бы эти времена без него!
И Королевна, и Паж, Дитя и Юродивый, Щенок и заходящаяся самозабвенно в пении Птица, Лунатик и вечный Гость в каких-то загадочных и всеми покинутых домах — всё это Белла Ахмадулина, обожаемая и ещё чаще обожающая всё, что попадёт в поле зрения, а особенно — всё страдающее, всё обиженное: вянущие цветы, бродячих собак, младенцев, ещё чужих миру. То надменная по отношению к какой-то «черни», то никнущая в самоуничижении…
При внимательном чтении «Избранного» Б. Ахмадулиной можно заметить, что Поэт, не ведая того (лишь смутно догадываясь), проходит путь Мага. От таинственной инициации («Озноб») — героиню стихотворения неизвестно почему колотит чудовищная дрожь, от которой сотрясается всё вокруг, а исцелившись от неё, человек становится уже другим, пережившим, тайком от рассудка, неведомую, но действительную и глубокую мистерию в самом себе и знающим нечто, чего не знал доселе. И — через пожирание Луны (в стихотворении «Зачем он ходит? Я люблю одна быть у Луны на службе…») — где туманно, но всё равно явственно для посвящённых изображён древний обряд, символизирующий рождение Лилит и обретение ясности сознания:
Я неусыпным выпила зрачком треть совершено полного объёмаи дальше:
одною мной растрачена Луна.До — невещественного сокровища, обретённого и укрытого в Ларце, к которому, собственно, Ключ не нужен — не потому, чтоб он просто открывался, а потому, что кому суждено открыть его, тот откроет своим ключом.
В этом магическом свете (тут уже мы раскрываем «Ларец») противоположности сливаются и «молодой кирпич» больничной стены («Стена») становится стеной средневекового замка, всё юное — древним, и наоборот, и Лев смиренно-горд и возлежит рядом с готовым к жертве Ягнёнком и, таким образом, в этом мире (в этом Ларце) наступает Золотой век.
Книга «Ларец и ключ», изданная «Пушкинским фондом» в 1994 году в Петербурге, в том, что касается её внешнего вида — непритязательна и одета в скромное зеленовато-серое платье, что делает её похожей на тетрадь, каковой эта книга по существу и является — тетрадь среди тетрадей, станция среди станций. Она мала, и при всех её достоинствах — лишь одна из комнат большого и причудливого строения, из окна которой открывается вид на бедную финскую или русскую провинциальную местность, на сирый вокзальчик, на потрёпанный автобус. В стихотворении «Вокзальчик», как в некоем крохотном макете страны, люди пьют из цистерны бормотуху на грязном полустанке, а Юродивый вяжет огромный чулок для озябшей отчизны, единственный, кому до неё есть дело. И только дождь помогает ему в этом:
Дождь с туч свисал, как вещее вязанье…Венеция встаёт на сточных канавах («Венеция моя»), и пусть гондольером там будет жук, правящий золотым листом, непоправимо сползающим в бездну Залива — это неважно. Неважно, видела ли Белла на самом деле Венецию, вернее, важно, что видела, но предпочла ей эту — убогую.
Вот так я коротаю дни В Куоккале моей, с Венецией моею.Самодостаточность этой воображаемой Венеции, вообще этого шкатулочного мира, очевидны, и Поэту всё равно что петь — Канаву или Канал — и что преображать во что.
Легко и печаль переходит в радость, хозяйка этого мира вполне беспечна и весела по временам и, при всей глубине, чужда педантизма, и в других ей хочется видеть это:
Я знаю: скрыта шаловливость В природе и уме вещей. Лишь недогадливый ленивец Не зван соотноситься с ней.В последних строках есть намеренная и тоже шаловливая неточность: что значит «соотноситься»? Считаться с ней? Просто — быть шаловливым он не способен. Но этот пассаж тем милей, что тут же с предельной точностью:
Люблю я всякого предмета притворно-благонравный вид. Как он ведёт себя примерно, как упоительно хитрит! Так быстрый взор смолянки нежной из-под опущенных ресниц сверкнёт — и старец многогрешный грудь в орденах перекрестит.Это стихотворение — о цветах. В книге вообще много цветов: и больничных роз, и — в воспоминании — полевых, и столько черёмухи — на кустах, и в «хрустальных гробах», столько сирени! Их ревнивое соперничество и упрёк себе за неверность в любви к скоропреходящей черёмухе:
Но жизнь свежа и беспощадна: в черёмухи прощальный день глаз безутешный — мрачно, жадно успел воззриться на сирень.Но и сирень не так проста, она побеждает не потому только, что приходит позже, не потому, что она — вот сейчас перед глазами, а потому, что растёт там, где было когда-то финское имение. Она — дух дома и хозяев, легкотелесный призрак былого, перевоплощение иной жизни, и в любви к ней — самая высокая и безнадёжная из всех любовей — к обиженным и ушедшим.
В стихотворении «Гроза в Малеевке», как и в более ранних, из других книг, говорится о каких-то ещё не вишне осознанных процессах, творящихся в глубинах души. Гроза видится как борьба скрытых сил: Афины (доблести и девственности) и Зевса (власти и чувственности). Оно — о новом, вечно-повторяющемся рождении в этих грозовых муках Афины, ума и ясности, отчего на земле возникает «мир и в человецех благоволение»:
Светло живёт душа в неочевидном мире…Способность восхищаться миром и сострадать всему в нём обиженному, благородство в защите отверженных всегда спасали Б. Ахмадулину от самоупоения и фальши. Но и Бог и Жизнь были к ней всегда в свою очередь благосклонны и ласковы, как мало к кому — и в этом взаимном одаривании есть свой героизм, непонятный тем, кто на него не способен.
Итак, пожелаем читателю открыть сей Ларец и если не обрести в нём «тайну тайн», то хотя бы почувствовать ее блеск и дуновение.
1995Евгений Попов: Особый свет
Имею высокую честь и осознанную радость говорить о Белле Ахатовне Ахмадулиной. Задача сложная — с одной стороны не впасть в развязность, с другой — не раствориться в ауре её уникальной личности.
Личное наше знакомство состоялось осенью 1978 года при таинственных обстоятельствах, когда в однокомнатной квартирке покойной Евгении Семёновны Гинзбург, матери Василия Аксёнова, группа будущих товарищей (в русском, а не советском смысле этого сакраментального слова) ладила альманах «МетрОполь», ставший причиной скандалов и гонений с одной стороны, а с другой — познакомивший и подруживший нас, как Москва в одноимённой песне прошлых лет.
— Здравствуйте, Белла Ахатовна, — серьёзно сказал я, открывая дверь, но предварительно посмотрев с целью конспирации в глазок.
— Здравствуйте, Евгений Анатольевич, — серьёзно ответила Белла Ахатовна и, предварительно посмотрев на меня с целью изучения, вдруг неожиданно добавила: — Может, сразу перейдём на «ты». Я чувствую — впереди много ещё будет приключений, так что — чего уж там…
Тут она, как практически и во всём другом, была решительно права — приключений оказалось даже более, чем достаточно: отъезды, обыски, стихи, путешествия, разбитый железнодорожный шлагбаум и наша со Светланой свадьба в переделкинской пристанционной «стекляшке», на которой Белла Ахатовна была свидетельницей («со стороны жениха»), «западные корреспонденты», «Голос Америки», «перестройка», «демократизация» и смерти, смерти, смерти. Близких и друзей. Разрушение квадратуры неведомого круга, в котором живут и выживают люди.
Жизнь эта вряд ли приснилась нам, как бы этого иногда ни хотелось. Всё это было и, возможно, просит подробного описания, а, возможно, и нет. Память самодостаточна, и остаётся лишь то, чему ПОЛОЖЕНО остаться вне прямой зависимости от его реальной значимости. Ибо с одной стороны в мире много несправедливого, а с другой — кто может взять на себя смелость определить эту самую «значимость»: жеста, поступка, события, лица?
Особый свет падает на то и тех, с чем и с кем соприкасается Белла Ахмадулина в жизни и литературе. Жизнь и литература изначально сопряжены ею в одно целое, вот почему описание сибирского ночного костра и так называемых «простых людей» в её ранней прозе для меня не менее важны, чем её блистательное и робкое повествование о встрече с гуру Набоковым в далёком от Сибири и Москвы швейцарском городе Монтрё, строки о Пастернаке, Ахматовой, Цветаевой.
Отсюда и её уникальная способность (вопреки распространённому стремлению к так называемой простоте, которая «хуже воровства») и о простом, и о сложном говорить всегда СЛОЖНО, то есть ВЫСОКО и с полной уверенностью — поймут. А не поймут, так почувствуют, что, в принципе, одно и то же. Иногда она на этом пути достигает блистательных успехов, как в цикле «Сто первый километр», где горькая советская жизнь опять же «простого человека» освящена присутствием автора среди персонажей и лишь от этого контраста приобретает в конечном итоге значимость эпики. Иногда же критика вежливо молчит, сочтя тотальную концентрацию эмоций, звуков и красок на квадратном сантиметре некогда белого писательского листа абстрактным суперизыском, теряющим связь с действительностью. В любом случае это голос, который невозможно спутать ни с чьим другим и чья принадлежность Белле Ахмадулиной определяется на уровне даже не строки, а слова и звука.
Развитие событий торопя, во двор вошли знакомых два солдата, желая наточить два топора для плотницких намерений стройбата. К точильщику помчались. Мотоцикл — истопника, чей обречён затылок. Дождь моросил. А вот и магазин. Купили водки: дюжину бутылокКак это сделано — непонятно. Почему это всё же не Н. Некрасов с его дворянскими заботами о «чаянии народном», а несомненно поэт конца второго тысячелетия от Р.Х. Б. Ахмадулина, имеющая разночинный опыт сплошной жизни под властию различных большевиков и коммунистов — нет ответа, даже если учесть, что во времена «певца скорби» уже была водка и солдаты, но ещё не существовало ни мотоциклов, ни стройбата, ни большевиков.
Или ответ этот лежит на поверхности: основное различие искусства и неискусства в том, что неискусство всё говорит до конца, а искусство — всегда тайна. Некрасов, кстати, тоже тайна — если ты так сильно любил народ, как мы учили в школе, то зачем, спрашивается, ты так много играл в карты?
А, впрочем, сентенция эта бессмысленна, как любая попытка понять жизнь, сообразуясь с убогими внешними средствами и ограниченными пространством и временем возможностями… Однажды мы вместе с Беллой Ахатовной поднялись на гору Мтацминда, что расположена в красивом городе Тбилиси, неоднократно воспетом в её стихах и прозе. Она — звезда, её всюду и всегда узнают. Какой-то офицер тогда ещё советской армии пылко и поэтично заговорил, обращаясь явно не к двум своим вальяжным спутницам, а к знаменитой ПОЭТЕССЕ:
— Вот это — святой источник. Если кто из него попьёт, тот будет жить двести лет.
— Интересно, в каком чине вы будете через двести лет? — задумчиво спросила его поэт Ахмадулина.
Действительно, интересно…
13 марта 1997Олег Грушников: Белла Ахмадулина (Библиографический конспект литературной жизни)
Впервые подпись «Б. Ахмадулина» под печатным текстом появилась 12 сентября 1954 г. Первой публикацией автора стала небольшая заметка «Метростроевцы учатся» в многотиражке «Метростроевец». Вчерашняя школьница начала работать внештатным корреспондентом этой газеты. Заметки на разные темы и в дальнейшем (до 30 апреля 1955 г.) периодически появлялись на страницах «Метростроевца» (всего таких заметок было 25).
В конце 1954 г. Б. А. начала заниматься в литературном объединении при Автозаводе им. Лихачёва (тогда он ещё носил имя Сталина), которое возглавлял поэт Евгений Винокуров. Именно Винокуров 5 мая 1955 г. опубликовал на страницах «Комсомольской правды» со своим напутствием подборку стихотворений участников литобъединения, в которую вошло и стихотворение Б. А. «Родина» («На грядках зелёного огородика…»). С этого стихотворения начался отсчёт поэтических публикаций автора.
В 1955 г. Б. А. решила поступать в Литературный институт им. А. М. Горького. Для участия в творческом конкурсе абитуриентка представила 12 стихотворений. Реакция рецензента — маститого поэта Ильи Сельвинского — оказалась более чем восторженной: «Стихи поразительные по силе, свежести, чистоте души, глубине чувства. Принять обязательно!» (Помимо этого официального отзыва Сельвинский обратился к Б. А. с личным письмом, факсимиле которого впервые помещено в книге «Самые мои стихи», 1995 г.). Так Б. А. становится студенткой Литературного института.
Её студенческие годы пришлись на период, вошедший в отечественную историю под названием «хрущёвской оттепели». Б. А. занимается в творческом семинаре поэта Александра Коваленкова, на полтора года перейдя из него в семинар Михаила Светлова. Периодические публикации в «толстых» журналах, выступления на поэтических вечерах, жаркие споры и дискуссии в аудиториях и общежитиях, а главное — стихи, непривычные, волнующие, — делают её имя известным и за стенами института. Вскоре последовало и первое идеологическое одёргивание: в газете «Комсомольская правда» появляется статья под характерным для тех лет названием «Чайльд Гарольды с Тверского бульвара» (28 апреля 1957 г.) и последующий традиционный обзор «читательских писем» (14 мая 1957 г.). Это было неприятно с непривычки, но первое серьёзное нравственное испытание ещё только предстояло.
23 октября 1958 г. было объявлено о присуждении Б. Л. Пастернаку Нобелевской премии за опубликованный на Западе роман «Доктор Живаго». Это сообщение послужило началом беспрецедентной по масштабам травли поэта. Естественно, что студенты Литературного института, этой кузницы «инженеров человеческих душ», не могли быть оставлены в стороне от «всенародного осуждения». Столь же естественна с современной точки зрения и столь же удивительна и неожиданна по тем временам реакция Б. А. на разыгравшуюся вакханалию — «способ совести» был избран раз и навсегда.
Наказание за инакомыслие последовало незамедлительно — в апреле 1959 г. Б. А. исключают из Литературного института. Нетрудно представить состояние 22-летней девушки в этой ситуации. Выйти из глубокого душевного кризиса помог тогдашний главный редактор «Литературной газеты» писатель С. С. Смирнов, включивший Б. А. в состав «писательского десанта», принимавшего участие в очередной пропагандистской акции под названием «„Литературная газета“ в Сибири» (июль-август 1959 г.).
В октябре 1959 г. Б. А. была восстановлена в Литературном институте, а 14 апреля 1960 г. комиссия под председательством писателя Всеволода Иванова рассматривает её дипломную работу «Стихи и переводы». Выступают А. Коваленков, В. Д. Захарченко, В. А. Дынник, М. Луконин, зачитывают отзывы Л. Ошанина, Е. Долматовского, Вс. Иванова. Вердикт комиссии — оценка «отлично».
В 1962 г. в издательстве «Советский писатель» вышла первая поэтическая книга Б. А. — «Струна». Редактором этой книги (а точнее, её вдохновителем, составителем, «пробивателем» и т. д.) был Павел Григорьевич Антокольский, сумевший самосохраниться как одна из самых ярких личностей в советской поэзии. Творческие и человеческие взаимоотношения двух поэтов — Антокольского и Ахмадулиной — явили современный вариант высочайшей Державинско-Пушкинской поэтической эстафеты. Эта удивительная дружба двух столь разных по возрасту и опыту, но равновеликих по поэтической сути русских поэтов прервалась только смертью Антокольского в 1978 г. Павел Григорьевич неизменно оставался самым преданным и надёжным защитником от многочисленных нападок, всегда помогал и поддерживал молодую коллегу. Ему принадлежит один из самых точных и тонких анализов поэтической личности Б. А. — это эссе, впервые опубликованное в качестве предисловия к книге «Стихи» (М.: Худож лит., 1975). А его отношение к Б. А. афористично сконцентрировалось в двух строках из посвящённого ей стихотворения: «Здравствуй, чудо по имени Белла // Ахмадулина, птенчик орла!»
28–29 сентября 1962 г. (напомню в скобках, что до начала хрущёвских разборок с творческой интеллигенцией оставалось 2 месяца) в Центральном доме литераторов состоялся пленум правления Московской писательской организации, посвящённый творчеству молодых писателей Москвы. Всё проходило в соответствии со сложившимися канонами: развёрнутые доклады А. Борщаговского и Я. Смелякова, прения, заключительное слово тогдашнего председателя правления Московской писательской организации С. Щипачёва. Начиная публикацию выступлений на пленуме, газета «Московский литератор» писала: «Пленум продемонстрировал преемственность творчества писателей, их преданность делу партии, делу построения коммунизма» — это также было вполне в духе времени. Это мероприятие достойно упоминания лишь по той причине, что на пленуме в Союз писателей были приняты 14 молодых литераторов, в том числе и Б. А. Поэт Семён Кирсанов, представляя кандидата, сказал в частности: «Это чудесный, поразительный, дивный поэт — поэт, который украшает нашу жизнь, поэт прекрасных слов и прекрасных мыслей».
Имя Б. А. появилось в поле зрения литературной критики в конце 50-х годов. Обычно ей уделяли один-два абзаца в популярных в те годы поэтических обзорах. Любопытно, что первыми, кто обратили внимание на нравственную и психологическую значительность и глубину её стихов, были молодые критики А. Меньшутин и А. Синявский (это была их знаменитая статья «За поэтическую активность», опубликованная в № 1 «Нового мира» за 1961 г.). Однако довольно долгое время критическому рассмотрению подвергалось некое единое поэтическое образование под общей фамилией Евтушенко — Вознесенский — Рождественский-Ахмадулина. Лишь выход книги «Струна» вызвал появление многочисленных «персонально» адресованных откликов и рецензий. Из них следует выделить поэтическое эссе Михаила Светлова, посмертно опубликованное в его книге «Беседует поэт» (М.: Сов. писатель, 1968), а также статьи В. Огнева («Литературная Россия», 1963, № 10) и А. Марченко («День поэзии». М., 1962).
Следующая книга Б. А. — «Озноб» — вышла в 1968 г. во франкфуртском издательстве «Посев». Сейчас трудно даже представить, каким страшным идеологическим жупелом, зловещим антисоветским монстром выставляла официальная пропаганда это издательство в 60–70–80-е годы. Это был «враг № 1» и потому любые контакты с «Посевом» или издаваемым им журналом «Грани» однозначно и непререкаемо оценивались как измена родине: в самой непростительной форме. Редактором и составителем «Озноба», в который вошли стихотворения, переводы и проза Б. А. была Наталия Борисовна Тарасова, 20 лет (с 1962 по 1982 год) редактировавшая «Грани» и очень много стлавшая для литераторов русского зарубежья и отечественных диссидентов.
Естественно, этот контакт с «Посевом» не мог остаться незамеченным. Последующие отечественные книги Б. А. («Уроки музыки», «Свеча», «Метель») подвергались самой пристальной цензурной обработке. Достаточно сравнить сохранившиеся в архивах оглавления представленных автором рукописей с содержанием вышедших в свет книг. Не могло быть и речи о сохранении обшей авторской композиции книги, её внутренней логики и т. д.
В эти трудные годы поддержкой и опорой для Б. А. её «тайным и любимым пространством» стала Грузия, которая «всегда звала к себе и выручала». Этот край, традиционно привлекательный для русской поэзии, в советские времена для многих поэтов стал единственной отдушиной и источником творческого вдохновения. Первые переводы из грузинских поэтов Б. А. выполнила ещё в Литературном институте, переводческая работа активно продолжалась и позднее. Сложившийся в результате цикл переводов грузинских поэтов от Николоза Бараташвили и Галактиона Табидзе, Симона Чиковани и Гоглы Леонидзе до Анны Каландадзе, Отара и Тамаза Чиладзе, по общему признанию, стал ярким событием литературной жизни и получил самую высокую оценку как в Грузии, так и в России.
Журнал «Литературная Грузия» всегда предоставлял Б. А. свои страницы для публикаций (надо ли говорить, каких усилий стоило в 60–70-е годы напечатать опального поэта?), а в 1977 г. в Тбилиси была издана её книга «Сны о Грузии» (второе расширенное издание вышло в 1979 г.). Редактором — составителем этой книги был грузинский критик и литературовед Гия Маргвелашвили, трепетный поклонник и пропагандист новой русской поэзии. Ему удалось включить в «Сны о Грузии» целый ряд стихотворных и прозаических произведений, неизменно отвергаемых центральными московскими издательствами. Перу Г. Маргвелашвили принадлежит один из самых вдохновенных литературных портретов Б. А., это эссе было опубликовано как предисловие во втором издании «Снов о Грузии».
Из последующих книг Б. А. следует выделить два поэтических сборника, изданных «Советским писателем»: «Тайна» (1983) и «Сад» (1987), а также книгу стихов «Ларец и ключ» (1994) и книгу избранной прозы «Однажды в декабре…» (1996), изданные санкт-петербургским «Пушкинским фондом».
На сегодняшний день наиболее полным изданием произведений Б. А. являются «Сочинения» в 3-х т. (составители Б. Мессерер, О. Грушников), выпущенные совместно издательствами «ПAN» и «Корона-принт» в 1997 г. Издание построено по тематическому и хронологическому принципам. В 1-й том вошли стихотворения (1954–1979); переводы из грузинской поэзии; художественная проза. 2-й том составили стихотворения (1980–1996); переводы из поэзии народов бывшего СССР; воспоминания. 3-й том включает поэмы; поэтические посвящения и дарственные надписи; стихи детям; переводы из европейской поэзии; раздел «Поэт о поэте»; статьи и выступления; предисловия к авторским сборникам, журнальным и газетным публикациям, грампластинкам; рецензии; «Посвящение дамам и господам…».
Анализируя творческий путь Б. А., можно достаточно определённо разделить его на три периода или этапа. Первый этап, который условно можно назвать «начальная пора», завершается поэмой «Моя родословная». Второй этап — «пора становления» — хронологически заканчивается участием в альманахе «МетрОполь», в котором Б. А. опубликовала только что написанный ею сюрреалистический рассказ «Много собак и Собака». И наконец, третий этап — «пора зрелости» — открывает большое стихотворение «Мы начали вместе; рабочие, я и зима…», ставшее, кстати сказать, первой публикацией после длительного непечатания авторов «МетрОполя».
В каждый из этих периодов автор, обнаруживая новые грани своего дарования, становился объектом ожесточенной критической полемики, вызывал диаметрально противоположные суждения. Каждая новая книга Б. А. порождала столкновения безоговорочных приверженцев и ярых противников поэта. И лишь в последние 10–15 лет накал критических выступлений несколько ослабел — место и роль Б. А. в современной русской поэзии достаточно чётко определились и, очевидно, могут быть пересмотрены только в исторической перспективе.
Творчество Б. А. хорошо известно не только на родине. Её поэтические книги с 1966 г. начали издаваться сначала в тогдашних «странах народной демократии», а в 1969 г. в Нью-Йорке и в 1970 г. в Лондоне увидела свет ее книга «Fever & Other New Poems», предваряемая предисловием Е. Евтушенко. На сегодняшний день поэтические книги Б. А. изданы на 16 языках: английском, армянском, болгарском, грузинском, датском, иврите, итальянском, латышском, молдавском, немецком, польском, румынском, сербскохорватском, словацком, чешском, эстонском. К этому следует добавить многочисленные публикации в различных журналах всего мира.
В заключение следует упомянуть о библиографических обзорах, посвящённых творчеству Б. А. Первый обзор, составленный Н. Д. Друян и опубликованный в книге «Русские советские писатели. Поэты» (М.: Книга, 1978), т. 2, с. 118–132, охватывает произведения Б. А. и литературу о её жизни и творчестве по 1975 г. включительно. В этом обзоре полностью отсутствуют ссылки на зарубежные публикации. Этого недостатка лишён библиографический обзор, составленный Christine Rydel и опубликованный в книге «10 Bibliographies of 20th Century Russian literature» (Ann Arbor: Ardis, 1977), p. 143–157. Этот обзор также охватывает публикации по 1975 г. включительно. И наконец, библиография книг Б. А. на русском и иностранном языках с 1962 по 1996 год включительно, составленная О. Грушниковым, помещена в 3-м томе упоминавшихся «Сочинений» (М.: ПAN — Корона-принт, 1997).
1997Именной указатель[37]
Адамович Георгий Викторович (1892–1972), поэт, литературный критик.
Айги (наст. фамилия Лисин) Геннадий Николаевич (р. 1934), поэт, переводчик.
Аксёнов Алексей Васильевич, художник кино, сын В. П. Аксёнова.
Аксёнов Василий Павлович (р. 1932), писатель.
Альтман Натан Исаевич (1889–1970), живописец, скульптор, график.
Амирэджиби Родам, жена М. А. Светлова, сестра Ч. Амирэджиби.
Амирэджиби Чабуа (Мзечабук Ираклиевич) (р. 1921), грузинский писатель.
Андреев Леонид Николаевич (1871–1919), писатель.
Андреева Анна Ильинична (1883–1948), жена Л. Н. Андреева.
Андропов Юрий Владимирович (1914–1984), советский государственный и партийный деятель.
Анненков Юрий Павлович (1889–1974), график, живописец.
Антокольская Наталия Павловна (1921–1981), художница, дочь П. Г. Антокольского.
Антокольский Владимир Павлович (1923–1942), сын П. Г. Антокольского.
Антокольский Павел Григорьевич (1896–1978), поэт, переводчик.
Арагон Луи (1897–1982), французский писатель, общественный деятель.
Ардовы: писатель-сатирик Виктор Ефимович Ардов (1900–1976) и его жена, драматическая актриса Нина Антоновна Ольшевская-Ардова (1908–1991).
Асанова Динара Кулдашевна (1942–1985), кинорежиссёр.
Ахматова (наст. фамилия Горенко) Анна Андреевна (1889–1966), поэт, переводчик.
Бажанова-Антокольская Зоя Константиновна (1902–1968), артистка Театра им. Е. Вахтангова, жена П. Г. Антокольского.
Бакунина Татьяна Александровна (1815–1871), сестра революционера-анархиста М. А Бакунина.
Банкуль: Маша, филолог, преподавательница Цюрихского университета; её муж Виктор, служащий электронной фирмы; ее мать Татьяна Сергеевна.
Барышников Михаил Николаевич (р. 1948), артист балета, балетмейстер.
Баталов Алексей Владимирович (р. 1929), киноактёр, сын Н. А. Ольшевской-Ардовой от первого брака.
Бежар (наст. фамилия Берже) Морис (р. 1927), французский артист балета, балетмейстер, педагог.
Беклемишев Пётр Никифорович (1770–1852), тайный советник, шталмейстер двора.
Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848), литературный критик.
Белый Андрей (псевдоним Бориса Николаевича Бугаева) (1880–1954). поэт, прозаик, мемуарист, литературовед.
Битов Андрей Георгиевич (р. 1937), писатель.
Биуль-Зедгинидэе Нелли, швейцарская славистка.
Бичер-Стоу Гарриет (1811–1896), американская писательница.
Блок Александр Александрович (1880–1921), поэт, эссеист.
Брик (урожд. Каган) Лили Юрьевна (1891–1978), скульптор, главная любовь в жизни В. Маяковского.
Бродский Иосиф Александрович (1936–1996), поэт, эссеист.
Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924), поэт, переводчик, прозаик, общественный деятель.
Бунин Иван Алексеевич (1870–1953), писатель.
Вампилов Александр Валентинович (1937–1972), драматург, прозаик.
Васильев Юрий Васильевич (1925–1990), живописец, скульптор, театральный художник.
Ведерников Олег Геннадиевич (р. 1966), виолончелист.
Верейский Орест Георгиевич (1915–1993), художник-график.
Верзилина (в замужестве Шан-Гирей) Надежда Петровна (1826–1863), дочь генерала П. С. Верзилина.
Версуа Одиль (псевдоним Татьяны Владимировны Поляковой-Байдаровой) (1930–1980), французская киноактриса.
Винокуров Евгений Михайлович (1925–1993), поэт.
Влади Марина (псевдоним Марины Владимировны Поляковой-Байдаровой) (р. 1938), французская актриса кино и театра, жена В. Высоцкого.
Владимиров Юрий Кузьмич (р. 1942), артист балета.
Владимов (наст. фамилия Волосевич) Георгий Николаевич (р. 1931), писатель.
Вознесенский Андрей Андреевич (р. 1933), поэт.
Войнович Владимир Николаевич (р. 1932), писатель.
Володин (наст. фамилия Лифшиц) Александр Моисеевич (р. 1919), драматург.
Волошин (наст. фамилия Кириенко-Волошин) Максимилиан Александрович (1877–1932), поэт, литературный критик, художник.
Волькер Йиржи (1900–1924), чешский поэт.
Вольпин Михаил Давыдович (1902–1988), поэт, драматург.
Высоцкий Владимир Семенович (1938–1980), поэт, актёр театра и кино, автор и исполнитель песен.
Гамсун (наст. фамилия Педерсен) Кнут (1859–1952), норвежский писатель.
Гарин Эраст Павлович (1902–1980), актёр театра и кино, режиссёр.
Гейченко Семён Степанович (1903–1993), писатель, директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».
Герра Ренэ (р. 1946), французский славист, коллекционер.
Герцен Александр Иванович (1812–1870), революционер, писатель, философ.
Гёте Иоганн Вольфганг (1749–1852), немецкий писатель, основоположник немецкой литературы нового времени, мыслитель и естествоиспытатель.
Гинзбург Евгения Семёновна (1906–1977), писательниц мемуаристка, мать В. П. Аксёнова.
Гитлер (наст. фамилия Шикльгрубер) Адольф (1889–1945), лидер Национал-социалистической партии Германии, глава германского фашистского государства.
Гладилин Анатолий Тихонович (р. 1935), писатель.
Глебов Михаил Павлович (1819–1847), офицер Конного полка, секундант на последней дуэли М. Ю. Лермонтова.
Глен Ника Николаевна (р. 1928), переводчица, редактор, секретарь комиссии по литературному наследию А. А. Ахматовой.
Гоголь Николай Васильевич (1809–1852), писатель.
Головина Алла Сергеевна (урожд. Штейгер, во втором браке Жиль де Пелиши) (1909–1987), поэтесса, прозаик.
Горбаневская Наталья Евгеньевна (р. 1936), поэтесса, правозащитница, создательница и первый редактор журнала «Хроника текущих событий».
Гориболь Алексей Альбертович (р. 1961), пианист.
Гудиашвили Ладо (Владимир Давидович) (1896–1980), грузинский живописец и график.
Гумилёв Лев Николаевич (1912–1992), историк, географ, сын А. А. Ахматовой и Н. С. Гумилёва.
Гумилёв Николай Степанович (1886–1921), поэт.
Даль Владимир Иванович (1801–1872), писатель, этнограф, лексикограф, создатель «Толкового словаря живого великорусского языка».
Даниэль Юлий Маркович (1925–1988), писатель, правозащитник.
Дени (Денисовы), семья художников.
Десятников Леонид Аркадьевич (р. 1955), композитор.
Диккенс Чарлз (1812–1870), английский писатель.
Довлатов Сергей Донатович (1941–1990), писатель.
Дос Пассос Джон (1896–1970), американский писатель.
Думбадзе Нодар Владимирович (1928–1984), грузинский писатель, общественный деятель.
Ерофеев Венедикт Васильевич (1938–1990), писатель.
Есаков Александр Дмитриевич, прапорщик 20-й артиллерийской бригады, участвовавший одновременно с М. Ю. Лермонтовым в экспедиции в Малую Чечню (октябрь-ноябрь 1840 г.).
Жванецкий Михаил Михайлович (р. 1934), писатель-сатирик, исполнитель своих произведений.
Зощенко Михаил Михайлович (1894–1958), писатель.
Иванов Димитрий Вячеславович (р. 1912), журналист, писатель, сын поэта Вяч. И. Иванова.
Иловайские, семья историка и публициста Дмитрия Ивановича Иловайского (1832–1920), состоящая в родственных связях с семьёй Цветаевых.
Иловайские Надя (1882–1905) и Сережа (1885–1905), дети Д. И. Иловайского от второго брака — с А. А. Каврайской.
Ильина Наталия Иосифовна (1914–1994), писательница, мемуаристка.
Иоселиани Отар Давыдович (р. 1934), грузинско-французский кинорежиссёр.
Искандер Фазилъ Абдулович (р. 1929), поэт, прозаик.
Каган: София Исааковна (1902–1994) и её дочь, литературовед, Юдифь Матвеевна (р. 1924), подруги Л. И. Цветаевой.
Казанова Джованни Джакомо (1725–1798), итальянский писатель, мемуарист.
Каландадзе Анна Павловна (р. 1924), грузинская поэтесса.
Карден Пьер (р. 1922), французский кутюрье.
Катаева-Лыткина Надежда Ивановна (р. 1918), организатор и директор Дома — музея М. И. Цветаевой в Москве.
Кирсанов Семён Исаакович (1906–1972), поэт.
Кнорре Ксения Вадимовна (р. 1953), пианистка, педагог.
Коваль Юрий Иосифович (1938–1995), писатель, художник.
Колбасина-Чернова Ольга Елисеевна (1886–1964), писательница, журналистка.
Копелев Лев Зиновьевич (Залманович) (р. 1912), писатель, литературовед.
Крелин (наст. фамилия Крейндлин) Юлий Зусманович (р. 1929), писатель, врач-хирург.
Куприн Александр Иванович (1870–1938), писатель.
Кушнер Александр Семёнович (р. 1936), поэт.
Лаврова Татьяна Евгеньевна (р. 1938), актриса театра и кино.
Лакло Пьер Амбруаз Франсуа Шодерло де (1741–1803), французский писатель, политический деятель.
Левенталь Валерий Яковлевич (р. 1938), театральный художник.
Леонидзе Гогла (Георгий Николаевич) (1899–1966), грузинский поэт.
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841), поэт прозаик.
Лесков Николай Семёнович (1831–1895), писатель.
Лиепа Марис-Рудольф Эдуардович (1936–1989), артист балета.
Липкин Семён Израилевич (р. 1911), поэт, переводчик, прозаик.
Лисаневич Семён Дмитриевич (1822–1877), прапорщик Эриванского карабинерного полка, знакомый М. Ю. Лермонтова, которого склоняли к дуэли с поэтом.
Любимов Юрий Петрович (р. 1917), актер, режиссёр.
Максимов Владимир Емельянович (1932–1995), писатель, основатель и редактор журнала «Континент».
Мандельштам Надежда Яковлевна (1899–1980), мемуаристка, жена О. Э. Мандельштама.
Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938), поэт.
Мартынов Михаил Соломонович (1814–1860), однокурсник М. Ю. Лермонтова по Школе юнкеров.
Мартынов Николай Соломонович (1815–1875), соученик М. Ю. Лермонтова по Школе юнкеров, участвовавший одновременно о ним в экспедициях в Чечню, убийца поэта на дуэли.
Мартынов Соломон Михайлович (1772–1839), московский дворянин, винный откупщик, отец Н. С. Мартынова.
Мартынова Елизавета Михайловна (1783–1851), жена С. Я. Мартынова, мать Н. С. Мартынова.
Мартынова (в замужестве де ла Турдонне) Наталья Соломоновна (1819-?), сестра Н. С. Мартынова.
Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930; поэт.
Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874–1940), театральный режиссер, актер, реформатор театра.
Мессерер Асаф Михайлович (1903–1992), артист балета, балетмейстер, педагог.
Мессерер Борис Асафович (р. 1933), театральный художник живописец, график, муж Б. А. Ахмадулиной.
Миронов Андрей Александрович (1941–1987), артист театра и кино.
Михоэлс (наст. фамилия Вовси) Соломон Михайлович (1890–1948), актёр, режиссер, педагог.
Мичурин Иван Владимирович (1855–1935), биолог и селекционер.
Мнухин Лев Абрамович, литературовед.
Модильяни Амедео (1884–1920), итальянский живописец и график.
Мопассан Ги де (1850–1893), французский писатель.
Моцарт Вольфганг Амадей (1756–1791), австрийский композитор, музыкант уникального дарования.
Муромцева-Бунина Вера Николаевна (1881–1961), мемуаристка, жена И. А. Бунина.
Муромцевы, семья В. Я. Муромцевой-Буниной: её отец Николай Андреевич (1852–1933), член Московской городской управы; дядя Сергей Андреевич (1850–1910), председатель Первой Государственной думы.
Набоков Владимир Владимирович (1899–1977), русско-американский писатель.
Набоков Владимир Дмитриевич (1869–1922), юрист, публицист, один из лидеров кадетов, отец В. В. Набокова.
Набокова (урожд. Слоним) Вера Евсеевна (1902–1991), жена В. В. Набокова.
Набокова (урожд. Рукавишникова) Елена Ивановна (1876–1939), мать В. В. Набокова.
Найтаки Алексей Иванович, арендатор гостиниц (рестораций) в Пятигорске, Кисловодске и Ставрополе.
Наполеон I (Наполеон Бонапарт) (1769–1821), французский император.
Нейгауз Генрих Густавович (1888–1964), пианист, педагог, музыкальный писатель.
Нейгауз Станислав Генрихович (1927–1980), пианист, педагог.
Нерон (37–68), римский император.
Неруда Пабло (псевдоним Нефтали Рикардо Рейес Басоальто) (1904–1973), чилийский поэт, дипломат.
Никитины Татьяна Хашимовна (р. 1945) и Сергей Яковлевич (р. 1944), исполнители авторских песен.
Никич-Криличевский Анатолий Юрьевич (1918–1994), художник.
Одоевцева Ирина Владимировна (псевдоним Ираиды Густавовны Ивановой) (1895–1990), писательница, мемуаристка.
Окуджава Булат Шалвович (р. 1924), поэт, прозаик, автор и исполнитель песен.
Олейников Николай Макарович (1898–1942), писатель.
Осетинская Полина Олеговна (р. 1975), пианистка.
Параджанов Сергей Иосифович (1924–1990), кинорежиссёр, художник.
Пастернак Борис Леонидович (1890–1960), поэт, переводчик прозаик.
Пастернак Евгений Борисович (р. 1923), литературовед, сын Б. Л. Пастернака.
Пастернак Леонид Осипович (1862–1945), живописец график, отец Б. Л. Пастернака.
Перельман Екатерина Павловна, руководитель драматического кружка Дом пионеров.
Петрарка Франческо (1304–1374), итальянский поэт.
Петроний Гай (?-66), римский писатель.
Платонов Андрей Платонович (1899–1951), писатель.
Плисецкая Майя Михайловна (р. 1925), артистка балета, балетмейстер.
Плисецкий Азарий Михайлович (р. 1937), артист балета, педагог, балетмейстер.
Полевой (наст. фамилия Кампов) Борис Николаевич (1908–1981), писатель, главный редактор журнала «Юность».
Поплавский Борис Юлианович (1903–1935), поэт, прозаик.
Попов Евгений Анатольевич (р. 1946), писатель.
Пруст Марсель (1871–1922), французский писатель.
Пугачёв Емельян Иванович (1740 или 1742–1775), предводитель крестьянского восстания.
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837), поэт, родоначальник новой русской литературы, создатель русского литературного языка.
Пущин Иван Иванович (1798–1859), лицейский товарищ А. С. Пушкина, один из самых близких его друзей.
Раневская Фаина Григорьевна (1896–1984), актриса театра и кино.
Рафаэль Санти (1483–1520), итальянский живописец и архитектор, один из самых ярких представителей Высокого Возрождения.
Реформатский Александр Александрович (1900–1978), лингвист.
Рильке Райнер Мария (1875–1926), австрийский поэт.
Рипеллино Анджело Мариа, итальянский славист.
Розанов Василий Васильевич (1856–1919), писатель, публицист, философ.
Розов Виктор Сергеевич (р. 1913), драматург.
Россельсы: супруги Владимир Михайлович (р. 1914), переводчик, критик, литературовед, и Елена Юрьевна (1916–1995), переводчица.
Рукавишниковы, семья сибирского золотопромышленника Василия Рукавишникова, отца Е. И. Набоковой.
Рязанов Эльдар Александрович (р. 1927), кинорежиссёр, драматург.
Самойлов (наст. фамилия Кауфман) Давид Самойлович (1920–1990), поэт.
Сапгир Генрих Вениаминович (р. 1928), поэт.
Сахаров Андрей Дмитриевич (1921–1989), академик, общественный деятель, правозащитник.
Светлов Михаил Аркадьевич (1903–1964), поэт.
Селин (наст. фамилия Детуш) Луи Фердинанд (1894–1961), французский писатель.
Семёнов Сергей Терентьевич (1868–1922), писатель.
Сикорская (урожд. Набокова) Елена Владимировна (р. 1906), сестра В. В. Набокова.
Синявский Андрей Донатович (1925–1997), писатель, правозащитник.
Скрябин Александр Николаевич (1871/72–1915), композитор.
Собинов Леонид Витальевич (1872–1934), оперный певец (лирический тенор).
Соколов Саша (Александр Всеволодович) (р. 1943), писатель.
Солженицын Александр Исаевич (р. 1918), писатель, правозащитник.
Сосинский Владимир Брониславович (Сосинский-Семихат Бронислав Брониславович) (1900–1987), писатель, литературный критик.
Старостин Андрей Петрович (1906–1987), футболист, общественный деятель.
Стейнбек Джон Эрнст (1902–1968), американский писатель.
Столыпин Алексей Аркадьевич («Монго») (1816–1858), двоюродный дядя, друг и однополчанин М. Ю. Лермонтова, негласный секундант на последней дуэли пота.
Столярова Наталия Ивановна (1915–1984), литератор, любовь Б. Ю. Поплавского.
Судакевич Анель Алексеевна (р. 1906), актриса немого кино, художница по костюмам, мать Б. А. Мессерера.
Сурков Алексей Александрович (1899–1983), поэт, общественный деятель.
Сыркина Флора Яковлевна, жена А. Г. Тышлера.
Табидзе Галактион Васильевич (1892–1959), грузинский поэт.
Тальони Мария (1804–1871), выдающаяся романтическая балерина, ведущая солистка Парижской «Гранд-Опера».
Тамар (Тамара) (около середины 60-х гг. XII в. — 1207), грузинская царица.
Тамбурер Лидия Александровна («Драконна») (ок. 1870 — ок. 1940), друг семьи Цветаевых.
Тарковский Андрей Арсеньевич (1932–1986), кинорежиссёр.
Татищев Степан Николаевич, русско-французский литератор, дипломат.
Твардовский Александр Трифонович (1910–1971), поэт, общественный деятель, главный редактор журнала «Новый мир».
Твардовский Иван Трифонович (р. 1914), мемуарист, брат А. Т. Твардовского.
Тескова Анна Антоновна (1872–1954), чешская писательница, переводчица.
Тинторетто (наст. фамилия Робусти) Якопо (1518–1594), итальянский живописец.
Толстой Лев Николаевич (1828–1910), писатель, философ.
Триоле (урожд. Каган) Эльза Юрьевна (1896–1970), французская писательница, переводчица.
Трухачёв Андрей Борисович (1912–1993), сын А. И. Цветаевой.
Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883), писатель.
Тушнова Вероника Михайловна (1915–1965), поэтесса.
Тышлер Александр Григорьевич (1898–1980), театральный художник, живописец, график.
Тютчев Фёдор Иванович (1803–1873), поэт.
Уорс Дин, американский славист.
Фадеечев Николай Борисович (р. 1933), артист балета.
Фонвизин Артур Владимирович (1882/83–1973), живописец, акварелист.
Френзель, поставщик лосины в Школу юнкеров.
Хармс (наст. фамилия Ювачев) Даниил Иванович (1905–1942), писатель.
Хемингуэй Эрнест Миллер (1899–1961), американский писатель.
Хлебников Велимир (Виктор Владимирович) (1885–1922), поэт.
Холлидей Джонни (псевдоним Жана-Филиппа Смета) (р. 1943), французский рок-певец.
Хуциев Марлен Мартынович (р. 1925), кинорежиссёр.
Цветаев Иван Владимирович (1847–1913), учёный, специалист в области античной истории, эпиграфики и искусства, создатель и первый директор Музея изящных искусств в Москве, отец М. И. и А. И. Цветаевых.
Цветаева Анастасия Ивановна (1894–1993), писательница, мемуаристка.
Цветаева Валерия Ивановна («Лёра») (1883–1966), дочь И. В. Цветаева и В. Д. Иловайской, сводная сестра М. И. и А И. Цветаевых.
Цветаева (урожд. Мейн) Мария Александровна (1868–1906), мать М. И. и А. И. Цветаевых.
Цветаева Марина Ивановна (1892–1941), поэт, прозаик.
Цветаевы-Эфрон, семья М. И. Цветаевой и Сергея Яковлевича Эфрона (1893–1941).
Чехов Антон Павлович (1860–1904), писатель.
Чиковани Симон Иванович (1902/03–1966), грузинский поэт.
Чирикова (в замужестве Геринг, Ульянищева) Валентина Евгеньевна (1898–1988), художница, дочь писателя Е. Н. Чирикова.
Чирикова (в замужестве Шнитникова) Людмила Евгеньевна (р. 1896), художница-график, дочь писателя Е. Н. Чирикова.
Чичибабин (наст. фамилия Полушин) Борис Алексеевич (1923–1994), поэт.
Чуковская Лидия Корнеевна (1907–1996), писательница.
Шагал Валентина Григорьевна, жена М. З. Шагала.
Шагал Ида (р. 1916), дочь М. З. Шагала.
Шагал Марк Захарович (1887–1985), живописец, график.
Шаляпин Фёдор Иванович (1873–1938), оперный певец (бас).
Шан-Гирей (урожд. Клингенберг) Эмилия Александровна (1815–1891), мемуаристка, сводная сестра Н. П. Верзилиной.
Шекспир Уильям (1564–1616), английский драматург, поэт, актёр.
Шемякин Михаил Михайлович (р. 1943), живописец, график, скульптор.
Шепитько Лариса Ефимовна (1938–1979), кинорежиссёр.
Шлиппенбах Константин Антонович (1795–1859), барон, генерал-майор, начальник Школы юнкеров.
Шопен Фридерик (1810–1849), польский композитор и пианист.
Шукшин Василий Макарович (1929–1974), писатель, кинорежиссёр, актёр кино.
Шуман Роберт (1810–1856), немецкий композитор и музыкальный критик.
Щербатов Дмитрий Алексеевич (1805-после 1853), князь, ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка.
Эдисон Томас Алва (1847–1931), американский изобретатель и предприниматель.
Эйдельман Натан Яковлевич (1930–1989), писатель, историк, публицист.
Эйнштейн Альфред (1880–1952), немецкий музыковед.
Эрдман Николай Робертович (1902–1970), драматург.
Эфрон Ариадна Сергеевна (1912–1975), мемуаристка, дочь М. И. Цветаевой и С. Я. Эфрона.
Иллюстрации[38]
* * *
На встрече с читателями (Москва, 1962 г.).
* * *
С А. Вознесенским на вечере поэзии (Москва, Политехнический музей).
С А. Вознесенским, М. Светловым, М. Хуциевым на събмках фильма «Застава Ильича» (Москва, Политехнический музей, 1960 г.).
С Л. Куравлёвым и В. Шукшиным на съёмках фильма «Живет такой парень» (Москва, 1964 г.).
С М. Хуциевым (Москва, Политехнический музей, 1960 г.).
С В. Аксеновым.
* * *
На вечере поэзии в ЦДЛ: П. Антокольский, А. Межиров, Б. Ахмадулина, М. Луконин.
А. Битов, Б. Мессерер, Б. Ахмадулина, Н. Мандельштам (Москва, 1976 г.).
В мастерской Б. Мессерера (1979 г.).
Слева направо: А. Голяховская, В. Краснопольская, Н. Августинович, Б. Ахмадулина, Б. Мессерер, М. Клячко, В. Ерофеева, А. Битов, А. Искандер, В. Аксёнов, М. Рощин. З. Богуславская, Н. Попов, С. Гинельт, Р. Габриадзэ, А. Смирнов, Л. Смирнова, М. Аксёнова, А. Вознесенский, А. Балчев, М. Жванецкий, Е. Попов, В. Ерофеев, Л. Завальнюк, В. Войнович, А. Серуш, З. Церетели, Л. Окабмова, Ф. Искандер, Г. Хелемская, Г. Горин, И. Былинкин, Т. Кваша, Г. Гинзбург, Л. Кирсанова, А. Мессерер, И. Былинкин, С. Богословский.
С А. Каландадзе (Тбилиси).
На даче В. Высоцкого в Красной Пахре: Ф. Володарская, Э. Володарский, Б. Ахмадулина, М. Влади, Б. Мессерер.
В США (1977 г.).
С Б. Мессерером (Санкт-Петербург, Прачечный мост).
В Санкт-Петербурге.
Авторы альманаха «МетрОполь» (Москва, мастерская Б. Мессерера, апрель 1979 г.).
Слева направо в первом ряду: Б. Мессерер, Ф. Искандер, А. Битов, В. Аксёнов, М. Аксёнова.
Во втором ряду: Е. Попов, В. Ерофеев, Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, З. Богуславская.
М. Аксёнова, Б. Ахмадулина, В. Аксёнов. Б. Мессерер (Переделкино).
Н. Владимова, А. Битов, Л. Хмельницкая, И. Лиснянская, С. Липкин, Б. Ахмадулина, Г. Владимов, Б. Мессерер (Переделкино).
С А. Вознесенским на вечере поэзии (Москва, ЦДЛ).
С Б. Окуджавой.
Проводы В. Войновича (Москва, мастерская Б. Мессерера, декабрь 1980 г.).
С И. С. Козловским.
А. Иванов, О. Иоселиани, Б. Мессерер, Л. Месхишвили, Б. Ахмадулина (Гагра).
Д. Чарквиани, Б. Ахмадулина, Н. Думбадзе (Тбилиси, 1983 г.).
В Болгарии.
В гостях у Г. Владимова (1982 г.).
Переславль-Залесский, 1982 г.
С С. Параджановым в Тбилиси.
В мастерской Б. Мессерера на Поварской: Б. Мессерер, Н. Попов, С. Гинельт, В. Фёдоров, Л. Фёдорова, Г. Владимов, Б. Ахмадулина, Н. Владимова.
* * *
Москва, ресторан «Баку» (1981 г.).
Слева направо в первом ряду: Т. Калатозов, С. Параджанов; во втором ряду: Е. Любимова с сыном, А. Тарковский, Ю. Любимов, И. Кассиль, Б. Ахмадулина, В. Катанян, Б. Мессерер, Р. Цурцумия.
С. Нейгауз, Б. Мессерер, Б. Ахмадулина (Москва, мастерская Б. Мессерера).
С Г. Бёллем (Москва).
А. Тодд, Б. Мессерер, Б. Ахмадулина, К. Воннегут (Нью-Йорк).
В гостях у А. Миллера (Коннектикут, США).
В китайском ресторане (Нью-Йорк).
В гостях у М. Шемякина (Нью-Йорк).
С В. Аксёновым (Красная Парха).
С А. И. Цветаевой (Москва, мастерская Б. Мессерера).
* * *
С Н. Думбадзе и Ч. Амирэджиби (Тбилиси, Парк Победы, 1983 г.).
(Фотограф А. Сааков назвал этот снимок: «У ног Беллы Ахмадулиной»).
На вечере П. Антокольского (Москва, ЦДЛ).
* * *
На вечере А. И. Цветаевой (Москва, Литературный музей).
А. Битов, Б. Ахмадулина, Ф. Искандер (Москва, ресторан ВТО, приём по случаю открытия выставки Б. Мессерера).
В Репино.
* * *
29 января 1984 г. (Ленинград, ДК им. Дзержинского).
С М. Плисецкой.
В Санкт-Петербурге.
В мастерской Б. Мессерера на Поварской: Б. Ахмадулина и Ю. Кублановский.
На открытии выставки Б. Мессерера (Тбилиси, дом художника, декабрь 1984 г.).
С Б. Мессерером (Москва, мастерская Б. Мессерера).
С Б. Мессерером в Тарусе.
В Малеевке (1988 г.).
* * *
С В. Аксёновым (Нью-Йорк, 1987 г.).
С архитектором Ю. Шевердяевым.
Б. Ахмадулина, Б. Окуджава, З. Гердт.
Таллин, 1986 г.
С Ингой и Артуром Миллерами (Москва, мастерская Б. Мессерера).
* * *
В гостях у С. Липкина (Переделкино, 1988 г.).
* * *
С А. Битковым (Переделкино).
С Г. Бёллем и А. Вознесенским (Москва).
* * *
В Санкт-Петербурге.
* * *
Церемония вручения премии «Триумф» (Москва, Большой театр, 7 января 1994 г.).
Слева направо: М. Жванецкий, О. Иоселиани, И. Чурикова, Б. Ахмадулина.
* * *
А. Ширвиндт, Б. Ахмадулина, М. Жванецкий.
* * *
А. Битов вручает Б. Ахмадулиной Пушкинскую премию (Москва, 26 мая 1994 г.).
С З. Гердтом.
С Б. Чичибабиным на вечере поэзии (Москва, киноконцертный зал «Октябрь». 12 ноября 1994).
* * *
На открытии выставки «Поварская, 20» (Санкт-Петербург, Русский музей, 23 ноября 1994 г.).
* * *
С И. Чуриковой после вручения премии «Триумф» (Москва, Большой театр, 7 января 1994 г.).
* * *
В Элбе-хаус (Германия, 1995 г.).
* * *
В Ялте.
* * *
* * *
Примечания
1
«На днях буду читать о Вас — в первый раз в жизни: питаю отвращение к докладам, но не могу уступить этой чести другому. Впрочем, всё, что я имею сказать, — осанна!» (Марина Цветаева. Собрание сочинений. В 7-ми т. М.: Эллис Лак, 1994–1995 (далее — СС), т. 6, с. 203).
(обратно)2
СС, т. 2, с. 258.
(обратно)3
«Ум (дар) не есть личная принадлежность, не есть взятое на откуп, не есть именное. Есть вообще — дар; во мне и в сосне» (СС, т. 7, с. 396).
(обратно)4
СС, т. 6, с. 750. Речь идёт об Анне Ильиничне Андреевой (1883–1948), жене писателя Л. Н. Андреева.
(обратно)5
«Из меня, вообще, можно было бы выделить по крайней мере семь поэтов, не говоря уже о прозаиках, родах прозы, от сушайшей мысли до ярчайшего живописания. Потому-то я так и трудна — как целое, для охвата и осознания. А ключ прост. Просто поверить, просто понять, что — чудо» (СС, т. 7, с. 394).
(обратно)6
«…мозг. (О бессмертии мозга никто не заботится: мозг — грех, от Дьявола. А может быть мозгом заведует Дог?)» (СС, т. 6, с. 669).
(обратно)7
«…ни с теми, ни с этими, ни с третьими, ни с сотыми, и не только с „политиками“, а я и с писателями, — не, ни с кем, одна, всю жизнь, без книг, без читателей, без друзей, — без круга, без среды, без всякой защиты, причастности, хуже, чем собака, а зато —
А зато — всё» (СС, т. 7, с. 384).
(обратно)8
«Сестра моя Жизнь, так люди — жизни не зовут» (СС, т. 5, с 381).
(обратно)9
«…Сон 23 апреля 39 г. Иду вверх по узкой тропинке горной — ландшафт Св. Елены: слева пропасть, справа отвес скалы. Разойтись негде. Навстречу — сверху лев. Огромный. С огромным даже для льва лицом. Крещу триоды. Лев, ложась на живот, проползает мимо со стороны пропасти. Иду дальше» (СС, т. 4, с. 608).
(обратно)10
«Рабочий после завода идёт в кабак — и прав. Я — рабочий без кабака, вечный завод» (СС, т. 6, с. 702).
(обратно)11
«…для меня каждый поэт — умерший или живой — действующее лицо в моей жизни. Я не делаю никакой разницы между книгой и человеком, закатом и картиной. — Всё, что люблю, люблю одной любовью» (СС, т. 6, с 120).
(обратно)12
«Я никогда не хочу на грудь, всегда в грудь! Никогда — припасть! Всегда пропасть! (В пропасть)» (СС, т. 4, с. 525).
(обратно)13
«…враждебность, исконная отвратительность воды» (СС, т. 4, с. 610).
(обратно)14
«…я не люблю моря. Не могу. Столько места, а ходить нельзя».
«А знаешь, Борис, когда я сейчас ходила по пляжу, волна явно подлизывалась» (СС, т. 6, с. 252, 256).
(обратно)15
«Знаете, что меня особенно восхищает в нём, это его презрение к нам как писателям. Иногда он хвалит Мопассана, Куприна, Семёнова, меня… Почему? Потому что он смотрит на нас, как на детей, Наши рассказы, повести и романы для него детская игра, поэтому-то он в один мешок укладывает Мопассана с Семёновым. Другое дело Шекспир: это уже взрослый, его раздражающий, ибо пишет не по-толстовски…» (Бунин И. А. Собрание сочинений: В 9-ти т. М.: Худож. лит., 1967, т. 9, с. 203).
(обратно)16
«Почему именно за мной ходила, передо мной вставала, — именно мной из всех тех, которые ещё так недавно за тобой и вокруг?
Может быть, милая Надя, ты, оттуда сразу увидев всё будущее, за мной, маленькой девочкой, ходя — ходила за своим поэтом, тем, кто воскрешает тебя ныне, без малого тридцать лет спустя?» (СС, т. 5, с. 133).
(обратно)17
СС, т. 1,с. 178.
(обратно)18
«„Драгоценные вина“ относятся к 1913 г. Формула — наперёд — всей моей писательской (и человеческой) судьбы. Я всё знала — отродясь».
«И — главное — я ведь знаю, как меня будут любить (читать — что!) через сто лет!» (СС, т. 7, с. 383; т. 6, с. 684).
(обратно)19
«Я не знаю судьбы страшнее, чем Марины Цветаевой» (Мандельштам Н. Вторая книга. Paris: YMCA-PRESS, 1972, с. 523).
(обратно)20
Поэтесса Ирина Владимировна Одоевцева скончалась в Санкт-Петербурге в 1990 г.
(обратно)21
Не думай, что здесь — могила, Что я появлюсь, грозя… Я слишком сама любила Смеяться, когда нельзя! (СС, т. 1, с. 177). (обратно)22
«Боюсь, что беда (судьба) во мне, я ничего по-настоящему, до конца, т. е. без конца, не люблю, не умею любить, кроме своей души, т. е. тоски; расплёсканной и расхлёстанной по всему миру и за его пределами. Мне во всём — в каждом человеке и чувстве — тесно, как во всякой комнате, будь то нора или дворец. Я не могу жить, т. е. длить, не умею жить во днях, каждый день, — всегда живу вне себя. Эта болезнь неизлечима и зовётся: душа» (СС, т. 6, с. 708).
(обратно)23
СС, т. 2, с. 185–186.
(обратно)24
«И ещё — сама фигура рояля, в детстве мнившаяся мне окаменелым звериным чудовищем, гиппопотамом, помнится, не из-за вида, — я их никогда не видала! — а из-за звука: гиппопо (само тулово), а хвост — там».
«…ведь рояль только вблизи неповоротлив, на вес — непомерен. Но отойди в глубину, положи между ним и собой всё необходимое для звучания пространство, дай ему, как всякой большой вещи, место стать собой, и рояль выйдет не менее изящным, чем стрекоза в полёте» (СС, т. 5, с. 29).
(обратно)25
«Что до меня — вернусь в Россию не допущенным „пережитком“, а желанным и жданным гостем» (СС, т. 4, с. 619).
(обратно)26
«Абсолютная гармоничность, духовная пластичность Ахматовой, столь пленившие вначале Цветаеву, впоследствии стали ей казаться качествами, ограничивавшими ахматовское творчество и развитие её поэтической личности. „Она — совершенство, и в этом, увы, её предел“, — сказала об Ахматовой Цветаева» (Эфрон А. Страницы воспоминаний. — Звезда, 1973, № 3, с. 177).
(обратно)27
«Вы [Ахматова] относитесь к Цветаевой так, как Шопен относился к Шуману. — Шуман боготворил Шопена, а тот отделывался вежливыми, уклончивыми замечаниями» (Адамович Г. Мои встречи с Анной Ахматовой. — Воздушные пути, 1967, V, с. 110).
(обратно)28
«Волны, Марина, мы море! Звёзды, Марина, мы небо!» (Рильке Р. М. Новые стихотворения. М.: Наука, 1977, с. 322).
(обратно)29
«Второе и главное: признай, минуй, отвергни Революцию — всё равно она уже в тебе — и извечно (стихия) и с русского 1918 г., который хочешь не хочешь — был. Всё старое могла оставить Революция в поэте, кроме масштаба и темпа».
«Ни одного крупного русского поэта современности, у которого после Революции не дрогнул и не вырос голос — нет» (СС, т. 5, с. 338).
(обратно)30
«— Что Вы любите в Германии?
— Гете и Рейн.
— Ну, а современную Германию?
— Страстно.
— Как, несмотря на…
— Не только не смотря — не видя!
— Вы слепы?
— Зряча.
— Вы глухи?
— Абсолютный слух.
— Что же Вы видите?
— Гётевский лоб над тысячелетьями».
(СС, т. 4, с. 550. Дневниковая запись сделана в 1919 г. «Несмотря на…» — это о первой мировой войне, а не о Гитлере).
(обратно)31
«Я: — „Не поняли? Те, кто вместо еврей говорят жид и прерывают оратора, те — хамы. (Паузы и, созерцательно:) ХАМ-ЛО“. Засим удаляюсь. (С КАЖДЫМ говорю на ЕГО языке!)» (СС, т. 7, с. 384).
(обратно)32
«Беглый взблеск зелёных глаз, какая-то, я бы сказала звериная, роскось — в сторону: видит вас, но как будто смеясь, как будто прячась от вас, — очень светлых и очень зелёных прозрачных глаз. Это её повадка (звериная), обижавшая некоторых людей: не смотрит на вас, когда разговаривает» (Колбасина-Чернова О. Марина Цветаева. — Мосты. Мюнхен, 1970, № 15, с. 311).
«У неё [Цветаевой] было два взгляда и две улыбки. Один взгляд, как будто сверху — тогда она шутливо подсмеивалась. Другой взгляд — внутрь и в суть и — улыбка разгадки, улыбка мгновенно сотворённому образу» (Чирикова В. Костёр Марины Цветаевой. — Новый журнал. Нью-Йорк, 1976, № 124, с. 141).
(обратно)33
«…я совсем не верю в существование Бога и загробной жизни.
…Безумная любовь к жизни, судорожная, лихорадочная жадность жить» (СС, т. 6, с. 120).
(обратно)34
«Вы верите в другой мир? Я — да. Но в грозный. Возмездия! В мир, где царствуют Умыслы. В мир, где будут судимы судьи. Это будет день моего оправдания, нет, мало: ликования! Я буду стоять и ликовать. Потому что там будут судить не по платью, которое у всех здесь лучше, чем у меня, и за которое меня в жизни так ненавидели, а по сущности, которая здесь мне и мешала заняться платьем» (СС, т. 6, с. 307).
(обратно)35
«Жаль, что Вас нет. С Вами бы я охотно ходила — вечером, вдоль фонарей, этой уходящей и уводящей линией, которая тоже говорит о бессмертии» (СС, т. 6, с. 309).
(обратно)36
Глава из новеллы «Лермонтов. Из архива семейства Р.»
(обратно)37
Составитель О. Грушников.
(обратно)38
Приносим наши извинения за качество иллюстраций с использованием архивных фотографий. (Изд.).
(обратно)




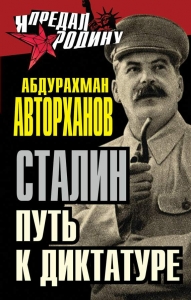
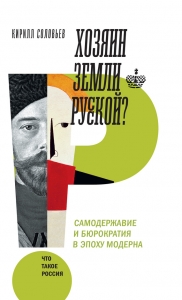

Комментарии к книге «Миг бытия», Белла Ахатовна Ахмадулина
Всего 0 комментариев