Исроэл-Иешуа Зингер О мире, которого больше нет
Торжества в местечке: коронация Николая II Пер. И. Булатовский
Удивительна и непостижима способность человеческой памяти отбирать и впитывать незначительные подробности, пренебрегая при этом важными деталями так, что они уже никогда больше не вспомнятся.
Прошло сорок восемь лет, но перед моими глазами до сих пор стоит первая яркая картина, засевшая в моей памяти с двухлетнего возраста: большое, просторное здание, освещенное множеством свечей и битком набитое людьми. Играет музыка. Я сижу на плече высокого бородатого человека. С ноги у меня сползает чулок, на меня сердятся и шикают, чтобы я не плакал.
Когда через много лет я спросил маму, что же это такое происходило со мной в раннем детстве, она рассказала, что большое освещенное здание — это синагога в городе Билгорае[1] Люблинской губернии, в котором я родился. Музыканты в битком набитой синагоге — городские клезмеры из капеллы Гимпла-скрипача. Торжество в синагоге — в честь коронации царя Николая II[2], российского императора и польского короля. Бородатый человек, державший меня на плече, — Шмуэл-шамес, служивший в суде моего деда, билгорайского раввина. Он взял меня с собой в синагогу, чтобы я мог посмотреть на церемонию и увидеть, как мой дед читает Га-носен тшуе[3] в честь нового государя в присутствии еврейской общины и русских городских чиновников. Люди, которые шикали на меня, — это мои дядья Йойсеф и Иче: они беспокоились, что я своим плачем испорчу торжественность момента.
В придачу к этой мама рассказала мне еще одну историю — о том, как я, двухлетний, чуть было не отправил деда в Сибирь своей выходкой против самодержца всероссийского. Дело было так: начальник уездной билгорайской полиции вручил моему деду прошнурованную книгу, в которую дед собрал подписи всех билгорайских евреев под верноподданническим адресом их новому государю. Зачем помазаннику Божьему и самодержцу всероссийскому непременно нужен был адрес от билгорайских евреев, я не знаю. Но таково было требование русской полиции. Понятное дело, что билгорайские обыватели немедленно поставили свои подписи. Вечером накануне коронации эта книга лежала на столе у моего деда. Мама заглянула в нее. Посреди чтения подписей она задремала, а проснувшись, к своему ужасу, увидела, как ее единственный сын ухватил рукой несколько страниц и изо всех сил старается их выдрать. С великой осторожностью вызволила она из беды подписи билгорайцев. Мама и с ней весь дом были уверены, что это ангел небесный вовремя разбудил ее, потому что за подобное оскорбление величества моего деда могли сослать в Сибирь.
Но этого я не запомнил. Запомнился мне только вид синагоги. Вторая картина того времени, засевшая в моей памяти, такова: на белой заснеженной площади стоят мужчины и женщины, одетые в черное. Маму, меня и мою старшую сестру[4], которая крепко держит меня за руку, усаживают на подводу. Люди идут вслед за подводой. Потом мы все оказываемся в каком-то доме, в подсвечниках горят свечи; мой дядя Иче держит в руке бокал с вином и произносит кидуш.
Как рассказывала мне мама, это было в тот день, когда мой отец, молодой человек двадцати семи лет, вступил в должность раввина в маленьком местечке Ленчин[5] Варшавской губернии. Мужчины и женщины вышли приветствовать своего первого раввина и его домочадцев. Это была пятница незадолго до Пейсаха. Почему я запомнил кидуш моего дяди Иче, который поехал провожать нас из Билгорая, а не кидуш собственного отца, который к тому же был тогда более заметной фигурой из-за своего первого «раввинского кресла», — на этот вопрос у меня нет ответа.
Вслед за этими двумя обособленными картинами самого раннего детства перед моими глазами встают другие, одни — подробные, другие — неясные.
Местечко Ленчин, где мой отец получил место раввина, — крошечное, почти что деревня, но островерхие крыши приземистых домишек, на которых любили сидеть птицы, были крыты не соломой, как у мужиков, а гонтом. Только один дом имел высокое крыльцо. Благодаря песчаной почве на немощеных улицах никогда не было грязи. Песок глубокий и белый, потому что местечко расположено недалеко от Вислы. На лавках Ленчина красовались маленькие вывески с нарисованными товарами. На мануфактурных — два отреза ткани, один поверх другого, крест-накрест. На бакалейных — большие сахарные головы в синей обертке. На скобяных — кастрюли, котелки и связки свечей, а на дверях к тому же висели цепи, подковы и серпы. В окнах лавки, продававшей табак и папиросы, был выставлен кот в лакированных сапогах, курящий папиросу с длинным мундштуком. Как мама ни старалась ответить на вопросы, которыми я ее мучил — например, зачем коту носить сапоги и курить папиросы, — ей это не удавалось. Мое чувство реальности, кажется, уже тогда не могло смириться с такой фикцией.
Рядом с лавочками находились мастерские еврейских ремесленников: портных, сапожников и пекарей. На вывеске у пекарей был намалеван огромный бурый рогалик, похожий на полумесяц, но при этом казавшийся сделанным скорее из дерева, чем из теста. У сапожников были выставлены негнущиеся сапоги со шпорами. У портных никакой вывески не висело. Была еще кожевенная лавка с намалеванной на вывеске подошвой, совсем не похожей на подошву, и поэтому рядом была старательно пририсована швейная машинка, на которой маленький человечек сшивал огромный башмак. Это был знак того, что торговец кожами заодно строчит голенища. Единственная в местечке фабрика производила квас, темный напиток, который имел обыкновение выстреливать пробкой, когда ее вынимали из бутылки. На квасной фабрике всё постоянно двигалось и шумело. Вокруг нее была разбрызгана густая белая жидкость, внешне похожая на сливки, валялись осколки разбитых бутылок, зеленые, красноватые и бурые, сквозь которые мы, мальчики, смотрели на мир и видели его окрашенным то в один, то в другой красивый цвет. Из использованных проволочек, которые удерживали пробки на бутылках с квасом, мы делали себе очки. Рядом с фабрикой, чуть в стороне, был склад, где один еврей держал всевозможные сельскохозяйственные машины, например молотилки и плуги. Швабы, немецкие колонисты, жившие в окрестных деревнях, время от времени покупали эти машины. В местечке были также две гойские лавки, торговавшие свининой, пивом и водкой. Бесмедреш и миква стояли в стороне, рядом с лугом, на котором паслись коровы и гуси, прямо на берегу стоячего, заболоченного пруда, где был водопой для скотины и плавали утки. Лягушки кишмя кишели в густо поросшей ряской воде. Поодаль от местечка стояли большая усадьба помещика Христовского и тифле[6] — красное здание с двумя высокими башнями, которые были увенчаны крестами, вонзавшимися в просторный купол небес.
Местечко было новым, «с иголочки», а его обитатели — в основном деревенскими евреями из окрестных сел.
Дело в том, что за несколько лет до нашего приезда в Ленчин русская полиция начала изгонять из окрестных деревень евреев[7], которые жили там издавна. А так как по закону евреи имели право жить в местечках, изгнанники купили клочок песчаной земли у помещика Христовского и построили местечко. Помещик, который к тому же занимал должность судьи в волостном суде, был рад продать свои пески за хорошие деньги и добился, где следует, чтобы его местечко признали законным. Евреи построили домишки, открыли лавки, наладили мастерские и зажили, как все польские евреи. Евреи-лесоторговцы, владевшие густыми окрестными лесами, подарили жителям Ленчина бревна, из которых те построили маленький бесмедреш с миквой, а помещик подарил им клочок земли для этих святых зданий. За это евреи решили назвать свое местечко в честь помещика. Из его имени Леон они сделали название Леончин, по-еврейски — Ленчин[8]. Всего евреев в местечке насчитывалось сорок семей, или около двух сотен душ.
Как моего отца занесло в захолустный Ленчин, за добрых четыреста верст от Билгорая, расположенного близ австрийской границы, — запутанная история, которую мама всегда рассказывала с горечью.
Дело было так.
Мой дед, реб Янкев-Мордхе, билгорайский раввин, очень любил свою дочь — мою маму Башеву, потому что она была весьма образованной девицей, сама выучилась читать на святом языке и читала даже Гемору. Танах она знала буквально наизусть. Поэтому дед искал для нее в мужья человека ученого, который смог бы стать раввином в каком-нибудь городе. Шадхены знали, что в соседнем городе Томашове[9] Люблинской губернии у тамошнего даена реб Шмуэла есть сын Пинхас-Мендл, человек ученый и богобоязненный. Они сговорили молодых людей и сосватали их. Маме ко дню свадьбы исполнилось семнадцать, отцу — двадцать один, он только что получил освобождение от воинской службы. Мой дед назначил зятю пятилетнее содержание[10] в своем доме, чтобы тот смог за это время подготовиться к раввинской карьере, то есть получить смиху, а также выучить русский язык и сдать экзамен, потому что закон в то время требовал, чтобы у еврейских общин в Польше было не два раввина, духовный и казенный, а только один, который мог бы исполнять обе функции — религиозную и гражданскую. Отец, сын даена, потомок поколений талмудистов, зять раввина и сам ученый человек, получил смиху с легкостью. Для него было пустяком изучить Иоре деа[11] и Шулхан орех[12]. Однако он ни за что не хотел учить русскую грамматику, чтобы сдать как положено экзамен за четыре класса русской гимназии. Дед нанял для него учителя русского языка, но вместо того, чтобы идти на урок, отец с большим удовольствием шел в хасидский штибл поговорить о хасидизме с молодыми людьми, зятьями на содержании, участвовал в хасидских застольях, а по праздникам ездил к ребе[13] в Шиняву[14], расположенную в Галиции, по ту сторону границы[15]. Эти поездки затягивались на недели, кроме того, отец частенько заезжал к своим родителям в Томашов и проводил там время среди хасидской молодежи.
Из-за всего этого отец вскоре лишился расположения деда, который не мог принять такого образа жизни.
Отец был чужим в его доме. Во-первых, потому, что дед был «русским»[16], то есть с Волыни[17], как и все его домочадцы. Некоторое время он был раввином в волынских местечках Порицк[18] и Мациев[19]. Мама родилась на Волыни и переехала в Польшу, в Билгорай, когда ее отец, «мациевский илуй», получил там место раввина. Отец мой, напротив, был потомком «поляков»[20]. Он говорил на раскатистом польском идише, а мама и ее семья говорили на волынском диалекте[21]. Уже одно это было поводом для взаимных насмешек и вышучивания. К тому же мой дед был миснагедом, который выше всего ставил ученость и терпеть не мог хасидов, которые вместо того, чтобы учить Тору, верят в «добрых евреев», поют, пляшут и болтают о чудесах. В юности, когда дед еще был «мациевским илуем», хасиды обманом затащили его к трискскому ребе[22], чтобы дед посмотрел на него, проникся его величием и стал его последователем. Но «мациевский илуй» поморщил нос и вернулся домой, чтобы никогда больше не тратить время на подобные вещи. После этого он еще глубже погрузился в учение. Отец, наоборот, был пламенным хасидом, сыном хасида и потомком хасидов.
Мой дед был человеком рациональным. Он был убежден, что заниматься следует либо Торой, либо торговлей. А отец был фантазером, вечным оптимистом, человеком, которому претило обременять себя заботами о будущем. Его философия была такая: все, с Божьей помощью, уладится. Живя в доме моего деда зятем на содержании, он стал отцом двоих детей, не считая умершего ребенка, но при этом думать не думал ни о каком деле и ни за что не хотел заглядывать в русские книжки, которые считал нечистыми, запретными. Ему хватало его ребе, его хасидов и Торы, а в свободное время он записывал свои комментарии к Геморе и свои толкования Пятикнижия. Мой дед ни во что не ставил ни его толкований, ни его хасидских комментариев, ни его ребе, ни его веселья. После серьезных препирательств дед потребовал от моего отца, чтобы тот поехал в Замостье[23] и там выучил русский у опытного учителя, специалиста по подготовке раввинов к экзамену. Однако, просидев несколько недель в Замостье, отец бросил учителя вместе с деньгами, которые дед заплатил вперед, и уехал к своим родителям в Томашов, боясь показаться на глаза строгому тестю, который требовал от него заняться, наконец, делом. В качестве одной из причин, заставивших его сбежать от учителя, отец называл ходившие по городу слухи о том, что жена учителя не носит парик, а ходит в собственных волосах[24].
Дед убедился, что толку от зятя не будет, и приказал моей маме развестись. Но мама и слышать об этом не хотела. Мой отец пробыл некоторое время у своих родителей в Томашове, где его никто ни в чем не упрекал. Его мать, моя бабушка Темеле, была праведницей, которая никогда не требовала от своего мужа, даена, никаких заработков. Она давала ему заниматься Торой и каббалой, сколько его душе было угодно. Бабушка сама вела торговлю, моталась на повозке в Варшаву, закупала товары и обеспечивала мужа и детей, потому что доходов даена хватало только на «воду для каши». Она так и родила моего отца во время одной из своих поездок, прямо в повозке, когда вдруг на седьмом месяце у нее начались схватки. Из-за того что мой отец родился семимесячным, он был маленьким, слабым, и бабушка его особенно баловала. Ей даже в голову не приходило, что ее сыну придется беспокоиться о заработке. Это, считала она, женское дело. Бабушка встречала отца с распростертыми объятиями всякий раз, когда он убегал от тестя-миснагеда, который требовал заняться делом. Она готовила для сына бульончики, пекла для него булочки и повязывала ему шею теплым шерстяным платком зимой и летом, чтобы он, не дай Бог, не простудился.
Однако моя мама написала моему отцу письмо, приехала к нему и попросила сделать что-нибудь, поскольку пятилетнее содержание, которое назначил им мой дед, уже заканчивается. Пришлось отцу в поисках заработка пуститься в дорогу. Чтобы покрыть путевые расходы, он читал проповеди в еврейских местечках. Его проповеди, которые были смесью остроумных толкований и известных комментариев к Торе, хасидских историй и чудесных преданий, имели большой успех у слушателей. В придачу к этому он пробовал набрать подписчиков на книгу[25], которую перевел на ивре-тайч, то есть на маме-лошн[26]. Несмотря на то что отец был ученым и хасидом, он, человек мягкий и открытый, хорошо понимал простых людей и поэтому перевел книгу «Мивхар а-пниним»[27], собрание мудрых речений, на простонародный язык, чтобы и ремесленники, и женщины могли извлечь из нее уроки нравственности.
Однако отец никогда не был силен в денежных делах и не преуспел со своей подпиской. Так, разъезжая со своими проповедями, он добрался до маленького местечка Ленчин. Тамошние евреи были настолько захвачены проповедями моего отца, что попросили его стать у них раввином. В местечке был один-единственный стражник, который за злотый[28], данный ему на лапу, закрывал глаза на любые еврейские грехи, так что не заметил, что ленчинский раввин не держал экзамена по русскому языку. Получив место раввина в Ленчине, отец, гордый собой, приехал к тестю и забрал к себе жену и детей.
Мой дед повесил нос, когда увидел раввинский договор зятя, под которым подписалось всего сорок обывателей — все главы семейств общины Ленчина. Тем не менее выбора не было. Отец ясно дал понять, что ни в коем случае не станет сдавать экзамен. «Все это напрасно, тесть. Я уже не буду разговаривать с губернатором!» — сказал он. (Было принято, чтобы раввин, прежде чем держать экзамен, представлялся губернатору.)
Перед Пейсахом наняли повозку, в которую сели отец и мать вместе с двумя детьми: моей шестилетней сестрой и мной, трехлетним. С нами отправился дядя Иче, мамин младший брат. Это дед приказал дяде поехать и посмотреть, что за местечко этот Ленчин, а также послужить чем-то вроде сопровождающего, «свиты», которая должна была придать моему отцу больший вес в глазах ленчинских евреев. Ни на какой официальный прием отец не мог рассчитывать, потому что из-за несданного экзамена официально он не был раввином.
Формально Ленчин относился к Сохачеву[29] и должен был платить налог тамошней общине. Однако сорок обывателей решили платить моему отцу четыре рубля в неделю, помимо того, что будет перепадать ему за ведение судебных тяжб, свадьбы, продажу квасного[30], а также из других подобных раввинских источников. К тому же они передали моей маме право продажи дрожжей, которые женщины используют при изготовлении субботних хал[31]. Моя мама, привыкшая к уездному городу своего отца и его видному положению тамошнего раввина, чувствовала себя униженной незначительным и неофициальным положением мужа. Но отец, вечный мечтатель и оптимист, был счастлив. «Все, с Божьей помощью, уладится», — радостно утверждал он.
Меня, трехлетнего, заворачивают в талес и впрягают в ярмо Торы Пер. И. Булатовский
Однажды утром отец завернул меня, трехлетнего, в свой талес, желтоватый турецкий талес с двумя серебряными аторами, сверху и посередине, взял меня на руки и понес к реб Мееру-меламеду в хедер.
Все мужчины и женщины Ленчина высыпали из дверей, чтобы посмотреть, как раввин сам несет своего единственного сына в хедер. Завернутый с головой в большой талес, я видел, как некоторые мужчины подходят к нам и желают счастья. Женщины кричали мне вслед, чтобы я учил Тору с охотой. Поднявшись по ступеням крыльца в дом с мезонином, единственный такой дом в местечке, отец развернул меня и поставил на скамью, на которой сидели мальчики моего возраста и постарше. Они оглядели меня и рассмеялись. Реб Меер-меламед, с желтым лицом, желтой бородой и большими, черными, меланхолическими глазами взял в руку канчик[32] из лисьей лапки с кожаными хвостами и хлестнул по столу.
— Что за галдеж, наглецы? — вопросил он. — Уважение к раввину!
Мальчики оборвали смех, но девочки, которые учили азбуку с женой меламеда в углу комнаты, около кухни, не могли удержаться от смеха, несмотря на то что учительница погрозила им спицей, вынутой из недовязанного чулка. Меламед показал им лисью лапку, и они притихли. Отец договорился платить четыре рубля за «срок» и ударил с меламедом по рукам. Меламед сказал «в добрый час» и тут же начал учить со мной Тору. Ведя острой указкой по заляпанной азбуке, наклеенной на доску, он начал учить меня нараспев:
— Видишь, мальчик, первая буква «алеф»… Вторая буква, которая похожа на домик с тремя стеночками, это «бейс»… Дальше, мальчик, идет «гимел»… Четвертая буква, похожая на топорик, чтобы рубить дрова, это «далет»… Скажи «далет», мальчик, «далет»…
После каждой буквы, которую я повторял, реб Меер-меламед награждал меня щипком за щеку. Пальцы у него были костлявые и холодные. Дойдя со мной до буквы «юд», он приказал закрыть глаза. Когда я их открыл, заляпанная азбука была усыпана изюмом с миндалем.
— Это ангел небесный насыпал тебе за то, что ты учишь Тору, — сказал реб Меер-меламед, — возьми и ешь…
Мальчики, которые не закрывали глаза и видели, что это не ангел небесный насыпал изюм с миндалем, а мой отец, корчились от смеха надо мной, легковерным. Отец оделил их всех, раздав из бумажного кулька по горсточке изюма, миндаля и конфет. Потом он поправил у меня на голове новую, обшитую золотым галуном ермолку, которую купил мне на праздник у коробейника, и наказал быть хорошим мальчиком и прилежно учить Тору.
— Ешиеле[33], дитя мое, да вырастешь ты таким же гоеном[34], как реб Иешуа Кутнер[35], благословенной памяти[36], в честь которого ты назван Исроэлом-Иешуа, — пожелал мне отец. — Слышишь, что я тебе говорю?
— Скажи да, Шиеле[37] Кутнер, — подсказал мне меламед.
Как только отец вышел из хедера, мальчики сразу стали толкать меня и называть Шиеле Кутнером.
Я был испуган и очень стеснялся имени великого гоена, в честь которого меня назвали. Мне захотелось домой к папе с мамой. Реб Меер посмотрел на меня большими, черными, меланхолическими глазами и ущипнул за щеку костлявыми холодными пальцами.
— Видишь этот канчик с шестью хвостами, — показал он. — Это чтобы пороть мальчиков, которые не хотят ходить в хедер. Поэтому сиди тихо на скамье и внимай Торе, которую я буду с тобой учить… Видишь эту букву, похожую на столик с подрубленной ножкой, это «гей», скажи «гей», «гей»…
Плача, я сказал: «Гей, гей…»
Мальчики и девочки не переставали давиться от смеха.
На следующее утро я ни за что не хотел идти в хедер. Сын меламеда, Касриэл, парень с острым, постоянно бегающим вверх-вниз кадыком, пришел, чтобы отвести меня в хедер. Мама попробовала было убедить отца, чтобы меня оставили в покое еще на день, потому что я трясся от страха перед этим парнем с кадыком. Отец сказал, что придется меня приучить к хедеру силой.
— Мальчику должно нравиться ходить в хедер, — заключил он. — Тора сладостна.
Но я не почувствовал этой сладости, когда Касриэл взял меня за руки и за ноги и закинул себе на плечи, как зарезанного теленка. Я царапал его ногтями, бил ногами, вопил на все местечко. Обыватели не могли нарадоваться, глядя на это зрелище из дверей своих домишек.
— Молодец, Касриэл, — подбадривали они сына меламеда, который был белфером в хедере у своего отца, — шлепни-ка его, этого раввинского сыночка…
Касриэл крепко держал меня одной рукой; в другой он нес деревянный ящичек, в котором лежали краюхи для учеников его отца.
Это повторялось изо дня в день. С исключительным, редким для трехлетнего мальчика упорством я воевал против ненавистного хедера.
В принадлежавшем меламеду низеньком доме с мезонином окна всегда, и зимой и летом, были закрыты. В комнате, где шли занятия, кроме того, стояли кровати. На черной печке, которая буквально кишела «французами» — так у нас называли тараканов — меламедша варила, пекла, стирала, штопала чулки, натянутые на стакан, чистила картошку, уча при этом азбуку и правила чтения с ватагой девочек. Вокруг стола, над которым висела керосиновая лампа с вечно треснутым и заклеенным бумагой закопченным стеклом, теснилось несколько десятков учеников, от трехлетних до десятилетних. Реб Меер вел занятия и с младшими, и со старшими, которые уже учили Пятикнижие с Раши. Старшие допекали младших, которых наградили почтенным прозвищем «вонючки». Меламед, в засаленной ермолке, вечно без капоты, в одной жилетке, которую он носил не снимая и летом и зимой и из прорех которой торчали клочья грязной ваты, не расставался с канчиком из лисьей лапки с кожаными хвостами. Лисью лапку он использовал также в качестве указки, водя ею по строчкам молитвенника. Лицо у меламеда было желтым, словно от желтухи. Его большие, черные глаза были сама меланхолия. Дрожь пробирала того, в кого он вперял свои страшные, полные скорби глаза, заключавшие в себе все страдание, всю тщету этого мира со всем, что в нем есть.
Меламедша была женщиной добродушной, но больной. Из-за скрюченных пальцев она толком не могла ничего делать и причиняла постоянный ущерб: то разобьет глиняную миску, то опрокинет горшок, вытаскивая его ухватом из печи, то у нее убежит какое-нибудь варево. Меламед приходил в ярость всякий раз, когда она что-нибудь портила.
— В добрый час, Фейга-Малка, — выкрикивал он нараспев, как плакальщицы над покойником, — в добрый час.
Фейга-Малка смотрела на него такими виноватыми глазами, какими нашкодившая собака смотрит на своего хозяина.
— Меер, дети… — лепетала она.
Реб Меер не считался с учениками и ученицами и расходился еще пуще.
— Я из-за тебя скоро по дворам пойду побираться, коза безмозглая! — неистовствовал он. — От тебя одно разорение, сука!..
Иногда, когда убежавшее молоко попадало в кашу с мясом и делало еду трефной[38], меламед приходил в такое бешенство, что ему было недостаточно обозвать жену безмозглой козой или сукой и он вымещал свой гнев на жениной ротонде, оставшейся у нее со свадьбы — длинной бархатной накидке без рукавов, в которой она круглый год ходила молиться по субботам в вайбер-шул. Эта накидка, позеленевшая от времени, висела на стене, накрытая простыней. Ничего дороже у меламедши не было. И поэтому реб Мееру-меламеду доставляло особое удовольствие вымещать на ротонде свой безудержный гнев. С безумным смехом срывал он простыню с ротонды, расстилал бархатную накидку на полу и топтал ее ногами, танцевал на ней, нелепо подпрыгивая, к испугу девочек и радости мальчиков, которые уже изучали Пятикнижие. Меламедша каменела от страха, глядя, как топчут ее ротонду. Ее пальцы еще больше скрючивались. Единственный ее сын Касриэл, не в силах выносить материнские страдания, вступался за нее. Желтое лицо реб Меера становилось черным от этой наглости: как это так, его сын-белфер отважился выступить против отца.
— Молчать, безмозглый мальчишка! — орал он. — Теленок бешеный, я тебе кадык вырву!..
Меламедша вцеплялась своими скрюченными пальцами в сына, чтобы тот замолчал.
— Касриэл, молчи, — молила она и крутила пальцем у виска, как делают, когда дают понять, что кто-то не в своем уме…
После этого меламед спешно накидывал халат и убегал из дома на некоторое время. От гнева у него разыгрывался его вечно больной желудок. Потом он так печально затягивал Ашер-йоцер[39], словно это были кинес[40]. Когда меламед возвращался к ученикам, скорбный взгляд его глаз становился еще меланхоличнее, а звуки голоса, толкующего Тору, отражались диким эхом от потемневших стен и закопченной печи, кишащей «французами».
Нет, в этом хедере Тора, вопреки словам моего отца, не была сладостна. Я видел, что ничто мне не поможет, что Касриэл сильнее меня, но каждое утро снова и снова вступал с ним в жестокое сражение, когда он приходил, чтобы тащить меня в хедер. Моя мама едва сдерживала слезы, глядя, как меня силой отрывают от подола ее платья, за который я хватался, ища защиты от белфера. Но мама не защищала меня, хотя для этого ей было достаточно сказать всего одно слово. Ничто на свете не могло встать между заветом изучения Торы и мальчиком, которому уже исполнилось три года.
В конце концов Касриэл укротил меня, но я так и не смог полюбить хедер. Так же я никогда не полюбил Тору, которую там учили.
Несколько месяцев реб Меер зубрил со мной слоги, то есть то, как читать огласовки. Он научил меня, что каждая огласовка под буквой должна произноситься, даже «шва»[41]. Но когда я уже знал слоги и умел произносить все огласовки, он стал мне втолковывать, что «шва» не произносится. Я был удивлен: почему это раньше «шва» следовало произносить, а теперь вдруг его нужно проглатывать. Однако я воспринял приказ меламеда как непреложный закон и никаких вопросов не задавал. Привычка, однако, делала свое дело. Несколько месяцев работы не прошли даром, и каждый раз, видя «шва» под буквой, я произносил эту букву так, как будто под ней стояло «цейре»[42]. Меламед неистовствовал.
— Тупая башка, я же сказал тебе, что мы больше не учим слоги, мы учимся читать, и ты не должен произносить «шва»! — кричал он.
Меня он не бил, только тыкал лисьей лапкой, потому что моя мама запретила ему поднимать на меня руку и отец кивнул в знак согласия. Но другим мальчикам меламед раздавал своей холодной ладонью горячие оплеухи за то, что те произносили «шва», точно так же, как раньше они получали их за то, что не произносили его.
Учились с восьми утра до восьми вечера. Собственно говоря, не учились, а просто сидели в хедере. Пока меламед занимался с одной группой, другая должна была сидеть без дела и молчать. Молчать было самой большой мукой для детей, которым хотелось двигаться, играть, говорить, смеяться. В полдень меламед иногда отпускал детей домой на полчаса, но часто он не давал им и этого получаса, а требовал, чтобы поесть детям приносили в хедер. Только девочки после нескольких часов учения у меламедши шли домой. Как я завидовал девочкам и жаловался на Бога, зачем Он сотворил меня мальчиком[43].
После двух лет обучения я мог свободно читать молитвенник. Как только мне исполнилось пять, меламед начал учить со мной Пятикнижие — недельный раздел Ваикро[44].
Я очень гордился тем, что перестал быть мальчиком, который учится читать, и буду отныне мальчиком, изучающим Пятикнижие. Кроме того, я готовился к трапезе, которую должен был устроить в честь меня мой отец, чтобы я сказал на ней речь, вызубренную со мной реб Меером-меламедом в течение нескольких недель.
Среди прочих праздников, отмечавшихся в хедере, были чтение «Кришме» перед роженицами[45] и празднование в честь начала изучения Пятикнижия. Каждый раз, когда в местечке рождался мальчик, Касриэл забирал учеников из хедера и отводил их в дом роженицы читать «Кришме». Роженица лежала за занавеской, увешанной шир а-майлес[46]. Вокруг занавески сидели женщины. Касриэл ставил нас перед занавеской и читал «Кришме», а мы должны были повторять за ним слово в слово. После этого каждый мальчик получал подарок: изюм, миндаль, орехи и конфеты. Такая радость случалась нечасто, потому что местечко было маленькое.
Еще радостнее были редкие празднования в честь начала изучения Пятикнижия. Когда мальчик начинал учить Пятикнижие, его родители устраивали трапезу, приглашая взрослых и мальчиков из хедера. Меламед ставил нового ученика на стол и вел с ним такой диалог:
— Мальчик, мальчик, какой раздел ты начал учить? — распевал он на мотив, немного напоминавший «Акдомес»[47].
— Ваикро, — отвечал мальчик.
— Что значит Ваикро?
— И воззвал.
— Кто воззвал?
— Господь Бог, Бог воззвал.
— К кому воззвал Бог?
— Эл-Мойше[48]… к Моисею, Мойше-рабейну. Леймор[49]… Говоря…
И так далее и тому подобное.
Если мальчик помнил все ответы, что случалось не всегда, его отец с матерью радовались, гости говорили «мазл-тов» и всеобщему веселью не было конца, особенно для мальчиков из хедера, которые уже учили Пятикнижие, и их товарищей помоложе. Со мной реб Меер тоже вызубрил эти ответы. Кроме того, он подготовил со мной отдельное толкование. Оно заключалось в том, что в слове «ваикро» в Пятикнижии алеф не такой, как остальные буквы, — он меньше[50]. Почему алеф маленький? Мой меламед велел мне отвечать на это так: алеф в «ваикро» маленький, потому что он, первый в азбуке, гордился этим перед другими буквами. Бог сказал ему: за свою гордыню будешь наказан тем, что в «ваикро» будешь начертан меньше размером, чем другие буквы. С великим усердием выучил я все ответы по Ваикро вместе с толкованием про маленький алеф, чтобы показать себя перед собравшимися на трапезу, которую мои папа и мама должны были устроить для меня.
Однако папа и мама не устроили для меня никакой трапезы, и я не знаю, было ли это из-за того, что на заработок четыре рубля в неделю мои родители не могли позволить себе такое застолье, или из-за того, что мой ученый отец не считал начало изучения Пятикнижия чем-то значительным, в отличие от простых людей, считавших, что изучить раздел Пятикнижия — уже великое достижение, как бы там ни было, трапезы в честь начала изучения Пятикнижия мне не устроили. Только меламед пришел в субботу после дневного сна[51] проэкзаменовать меня перед отцом.
Это стало первым большим разочарованием моего детства. Еще сильнее был позор перед мальчиками в хедере, которые дразнили меня за это и поднимали на смех.
— Шиеле Кутнер, не устроили тебе никакой трапезы, — распевали они и тыкали мне пальцем в лицо.
Я горько плакал перед отцом. Он смеялся над моей детской трагедией.
— Будешь учиться лучше, чем они, — убеждал он меня, — вырастешь ученым человеком, вторым реб Иешуа Кутнером…
Я не хотел становиться никаким Иешуа Кутнером. Я хотел праздник, хотел стоять на столе, держать речь, получать подарки. Сколько бы отец ни утирал своим красным носовым платком мои слезы, они все текли и текли.
Трагедия из-за путаницы на небесах Пер. И. Булатовский
Дома у нас было тоскливо, и поэтому я с детства любил не дом, а улицу.
Во-первых, виновата в этой тоске была Тора, которая заполняла собой каждый уголок и сковывала человеческие чувства. Наш дом походил на бесмедреш: это был дом для Бога, а не для людей. Во-вторых, в этом была виновата полная несовместимость моих папы и мамы.
Они могли бы быть идеальной парой, если бы мама была папой, а папа — мамой. Однако все было наоборот.
Даже внешне каждый из них не подходил для своей роли. Папа был маленького роста, кругленький, с добрым, нежным и красивым лицом, с теплым взглядом голубых глаз, пухлыми румяными щеками, точеным маленьким носиком, мягкими женскими кистями рук, — так что, если бы не его довольно-таки густая рыжевато-бурая борода и темные, кудрявые, вьющиеся штопором пейсы, он казался бы совсем женственным и хрупким. Мама была высокого роста, немного сутулая, с холодными, большими, пронзительными серыми глазами, острым носом, с чуть выдающимся вперед подбородком, костлявая, угловатая, с резкими движениями. Вылитый мужчина.
Насколько родители не походили друг на друга физически, настолько же они отличались душевным складом. Мой отец, безусловно, был человеком ученым, размышляющим над комментариями, однако острым умом не отличался. Он жил скорее сердцем, чем умом. Все происходящее принимал с благодарностью, и ему не нравилось слишком углубляться в подробности. Больше всего он не любил излишне напрягаться. Кроме того, он никогда ни в чем не сомневался. Он верил в людей и еще больше — в Бога. Его вера в Бога, в Его Тору и в цадиков была поистине безгранична. Он никогда не задумывался над путями Господними, ни на что не обижался, не ведал сомнений. Достаточно и того, что так написано в Торе. О заработках он тоже не особенно заботился. Полагался на Бога, верил в то, что Бог прокормит его, как всякое свое творение, от зубра до самой мелкой твари. Его упование доходило до наивности.
— Все, с Божьей помощью, уладится, — любил он повторять в трудную минуту.
Моя мама, как и ее отец, билгорайский раввин, была человеком очень дельным, озабоченным, сомневающимся, умным, все обдумывающим, во все вникающим, предусмотрительным, любила доискиваться до причин, брать на себя ответственность, размышлять о людях, о мире, о Господе и Его путях, во все углубляться. Одним словом, она была интеллектуалом до мозга костей, женщиной с мужской головой.
Мама любила отца, и, если он порой чувствовал себя неважно, она с ним нянчилась, буквально вынимая последний кусок у себя изо рта. Однако она не могла простить ему его ребячливого упования, легкомыслия, беззаботности, нежелания подумать о деле ради пропитания жены и детей. Она никогда не простила ему того, что он не захотел сдать экзамен и стать раввином в большой общине, где у него были бы и почет, и доход, а вместо этого притащил ее в этот захолустный Ленчин, где ей приходится жить в нужде, в тоске, вдали от ее Билгорая, среди простых невежественных деревенских баб, с которыми ей не о чем было говорить.
Как мама ни старалась держаться приветливо с этими домашними хозяйками, ей не удавалось установить с ними по-настоящему дружеских отношений. Хозяйки беседовали о кухне, платьях и прочих женских делах, в то время как мою маму интересовали более высокие материи. Ее любимыми книгами были[52] «Ховес га-лвовес»[53], «Месилас ешорим»[54], «Рейшис хохме»[55], «Бхинес ойлем»[56], «Сефер га-йошер»[57] и другие. К тому же она постоянно изучала Тору, Книги Пророков и Писания, которые знала наизусть. Мой отец, хасид, не был большим знатоком Пророков и Писаний[58]. Он помнил каждый стих и его место в Торе, но, когда ему было необходимо найти какой-нибудь стих в Пророках или Писаниях, он спрашивал маму, и она точно отвечала ему, в какой главе этот стих находится. Еще мама любила изучать современные книги, которые иногда попадали к нам, к примеру: «Сейфер а-брис»[59] — смесь научных знаний и бабкиных сказок, «Швилей ойлем»[60], «Иосифон»[61] и подобные им. Занятая ученостью, она понятия не имела, о чем говорить с хозяйками. В их делах она мало что понимала, поскольку в доме своего отца никогда не готовила, не шила, не прибиралась, и когда ей пришлось делать это самой, то все делала неумело, без желания, спустя рукава. Мой отец никогда не жаловался на кушанья, приготовленные мамой, но я замечал, что они ему не слишком нравятся. Даже я, ребенок с хорошим аппетитом, все равно чувствовал, что другие хозяйки готовят лучше, чем моя мама. Я каждый раз, когда отец брал меня с собой на обрезание или другую церемонию, понимал, какими вкусными могут быть фаршированная рыба, морковный цимес, жареное мясо и другая еда. Однажды я сказал об этом моей маме в пятницу вечером за столом. Отец приказал мне замолчать, но я заметил, что он при этом улыбался, как будто чувствовал то же самое. Чтобы замять это дело, он начал пересказывать маме попавшееся ему толкование на недельный раздел. Мама слушала, но особого воодушевления не выказывала. Сколько бы ни было у отца толкований на Пятикнижие, она знала их все, поэтому увлечь ее новым толкованием было не так-то просто. Отец был краснобаем, он любил толковать многословно, часто по несколько раз повторяя одно и то же. Эта его привычка распространялась и на обыденные разговоры. К тому же у него была манера переспрашивать: «Вы меня слышите?» — даже когда он разговаривал с тем, с кем был на «ты». Моя мама, наоборот, всегда говорила коротко и ясно, по червонцу за слово; разглагольствования и длинноты был ей чужды.
— Слышу, слышу, — произнесла она с легким нетерпением, не выражая ни малейшего восторга, потому что любая экзальтация была ей чужда, а изображать то, чего она не чувствовала, мама не могла. Правда была для нее превыше всего. И если она не могла сказать всю правду, то предпочитала молчать. Мой отец, энтузиаст, любивший говорить людям приятное и слышать приятное в ответ, почувствовал себя не в своей тарелке из-за маминого молчания и строгого взгляда ее больших серых глаз, видевших людей насквозь. Поэтому он поскорее перешел к своим змирес.
— Йо рибон ойлем ве-олмайо[62], — запел он с жаром каббалистический гимн, соответствовавший его настроению.
С чужими людьми мама вела себя еще сдержаннее. Простые местечковые хозяйки любили похваляться своими отцами и дедами — тот был на посылках у помещика, этот меламедом или шойхетом — и ждали от жены раввина восхищения их родовитостью, а также рассказа о ее происхождении и родовитости. Однако мама обычно помалкивала. Она сторонилась общества на свадьбах и обрезаниях, не пыталась верховодить в синагоге и во время торжеств, когда женщины, сидя отдельно от мужчин, устраивали застолье со всевозможными затеями, ничуть не уступавшее мужскому. Женщинам было неуютно с ней, чужой и скрытной. Это использовала одна хозяйка, которую звали Трейтлиха, по имени ее мужа реб Трейтла. Эта Трейтлиха была низкорослой жирной теткой, что называется, поперек себя шире, чернявой, с бородавками. При этом, потому что ее отец был даеном в местечке под названием Пьонтек[63], она держала себя как какая-нибудь раввинша. О своем отце, пьонтекском даене, Трейтлиха постоянно рассказывала всякую небывальщину. Сколько бы раз она ни приходила к моей маме, только и было слышно: Пьонтек да Пьонтек. Эта тетка верховодила местными женщинами, обо всем высказывала свое мнение, во все вмешивалась, всем давала советы, разрешала женские вопросы, при том что едва знала молитвы, и так крепко держала всех женщин в своих коротких пухлых руках, словно это она была женой раввина, а мою ученую мать было не видно, не слышно.
Мама всегда сетовала на свое неумение уживаться с людьми. Она чувствовала себя всем чужой, одинокой. Кроме того, она знала, что этим вредит положению моего отца-раввина, ведь вместо того, чтоб завести подруг, как полагается раввинше, она наживала недоброжелательниц. И все-таки она не могла подружиться с людьми, чуждыми ей. Мама пробовала бороться с собой, но тщетно. Местечковые хозяйки, добродушные, простые, по-деревенски здоровые, не понимали, почему это раввинша не платит им дружбой за дружбу, и считали ее слишком гордой, высокомерной, какой она на самом деле не была ни в малейшей степени. Наоборот, она всегда была робкой. Никогда не заносилась, вечно была недовольна собой. Никогда ничем не хвасталась, никогда не выставляла свою ученость напоказ, более того — даже скрывала свои познания. От своего одиночества в захолустье мама страдала больше, чем от работы по дому, к которой не привыкла и на которую у нее не хватало сил. Одиночество было ей невыносимо, и поэтому она все глубже погружалась в книги. Мама изучила все книги, которые были в нашем доме, от нравоучительных до всевозможных толкований, а также мидраши, «Эйн-Янкев»[64] и даже книги по каббале. Как только у нее появлялось свободное время, она ложилась на кровать и читала. Время от времени на маму находило благочестивое настроение, и тогда она не выпускала из рук «Шевес мусер»[65]. Книга эта была старая, с пожелтевшими страницами, с пятнами от слез, которые мама выплакала над ней. В детстве я иногда заглядывал в эту книгу, в ту ее часть, которая была на ивре-тайч и располагалась под текстом на святом языке. Книга была полна историй о геенне, о том, как в ней поджаривают, сжигают, варят и укладывают на утыканные гвоздями кровати грешников, при жизни не соблюдавших все законы и не выполнявших все заповеди. Автор «Шевес мусер» чувствовал себя в геенне как дома, во всех ее закоулках, во всех ее пределах, будто он там родился и вырос. Его описания пыток и мучений, которым там подвергаются нечестивцы, были просто феерическими. Достаточно, чтобы женщина забыла прикрыть грудь перед мужчиной во время кормления ребенка, и в аду ее уже подвешивают за груди на раскаленных крючьях. Пропустил одну букву в молитве — поджаривайся на огне, который в тысячу тысяч раз горячее земного. Даже за грешные мысли подвешивают за язык и швыряют туда-сюда из одного конца ада в другой.
Моя мама часто читала вслух на святом языке обо всех этих ужасах, горько плакала и орошала страницы своими горючими слезами. Бывало, она так зачитывалась, что забывала приготовить еду для домашних. Я кровно ненавидел автора «Шевес мусер». Я его себе представлял злым, чернявым, с носом как у колдуньи, горбатым, уродливым, оборванным и грязным типом, который не переставая проклинает, поносит и преследует людей. Если встречу его, разорву в клочья, думал я. Больше всего я ненавидел его за то, что из-за него моя мама так часто плачет, а также за его рассказы об адских муках за пропущенные в молитвах буквы. Я много чего пропускал в молитвах, сколько получалось, столько и пропускал, и если за пропуск всего одной буквы полагается такое тяжкое наказание, то для меня, пропускавшего целые страницы, и геенны мало.
От злости я однажды взял чернила и перо моего отца, которым он писал свои толкования, нарисовал на титульном листе «Шевес мусер» комичного злого человечка и сказал маме, что это и есть Шевес-мусер. Мама была очень огорчена.
— Шевес-мусер[66] был праведником, — сказала она. — Сотри это немедленно, потому что писать в книгах — грех.
Все было грехом: сказать про Меера-меламеда, что он чокнутый, — грех; ловить мух в субботу — грех; бегать — грех, потому что еврейские мальчики так себя не ведут; спать без ермолки, даже в жаркую летнюю ночь, — грех; вставать коленями на скамью — грех; рисовать человечков — грех. Что ни сделаешь, все грех. Безделье тоже, разумеется, было грехом.
— Что ты все лодырничаешь? — стыдил меня отец каждый раз, когда видел, что я играю. — Человеку подобает не слоняться без дела, а хорошенько учиться.
«Человеком» был ребенок, который по десять часов в день просиживал в хедере, но и этого было мало. Даже если у него было несколько свободных часов, и те ему следовало посвятить изучению Торы. Тора лежала тяжким грузом на нашем доме. Тору все время учила моя мама. Тору все время учил отец. Целыми днями он сидел в своем бархатном, подбитом ватой шлафроке и читал или писал толкования. Свои толкования он писал на клочках бумаги, в тетрадках, но чаще всего — на полях книг. Повсюду были его мелкие, бисерные, раввинские буковки, которые складывались в изогнутые полукругом строчки. Работая над комментариями, отец выпивал море чая, при этом попыхивая трубкой, длинной трубкой с большой чашкой. Лишь когда трубка засорялась, он просил у мамы шпильку из ее светлого парика из козьей шерсти и прочищал длинный чубук.
И даже в субботу, день отдохновения, не было покоя от Торы и ее законов. Наоборот, суббота была еще мучительнее будней, несмотря на то что по субботам я был избавлен от хедера. (Я был уверен, что Бог сотворил субботы и праздники, чтобы в эти дни еврейские мальчики могли не ходить в хедер.) Кроме того, на столе были рыба, мясо, цимес и изюмное вино. Однако суббота в нашем доме не была такой же радостной и приятной, как в других домах. Рыба, приготовленная моей мамой, была не особенно вкусной, цимес — недотушенным, мясо — жестким. И мы никогда не приглашали к субботнему столу солдата из соседнего форта[67], как другие обыватели, у которых за субботним столом всегда был такой гость. Моя зависть к мальчикам, у которых за столом бывал солдат, не знала пределов. Возможность посмотреть на солдата вблизи, потрогать его погоны, пуговицы была большим удовольствием. К тому же эти солдаты рассказывали всевозможные удивительные истории о России, откуда они были родом: истории об армии, об офицерах и офицершах. Некоторые из них были хорошими певцами. Мой отец никогда не звал к себе солдат на субботу, потому что большинство из них брили бороды[68] и ели трефное, а ему не хотелось видеть безбородых и «трефняков» за своим столом. Лишь однажды отец привел-таки к себе домой солдата, но это был ешиботник с бороденкой, горе-солдатик, на котором форма болталась и пузырилась, и к тому же ни о чем веселом он не рассказывал — лишь об унижениях, которым подвергался в полку за то, что отказывался есть трефное из общего котла и работать в субботу. Закончив жаловаться на судьбу, он заговорил с моим отцом об изучении Торы. В этом солдате для меня не было ничего привлекательного.
Пятничные вечера — еще куда ни шло, но субботнее утро превращалось для меня в пытку. Мой отец выпивал целый ушат чая, который оставляли с пятницы у пекаря в духовке, и учил, учил, учил Тору и даже не думал о том, чтобы пойти молиться. В нашем бесмедреше молились в два захода. Простые евреи, так называемые миснагеды, начинали молиться в восемь утра. Они всегда посылали за моим отцом:
— Раввин, просим Вас пожаловать на молитву.
Отец всегда отвечал одно и то же:
— Благодарю, молитесь без меня.
Когда миснагеды заканчивали молиться, была уже половина одиннадцатого. Теперь хасиды посылали за отцом, чтобы он пришел на вторую молитву, но отец все еще не был готов. К этому времени он еще не успевал ни сходить в уборную[69], ни справиться с изучением «Тикуней Зогар»[70], ни с недельным разделом, ни со множеством других молитв, которые он должен был читать и читать. Чаще всего он приходил к чтению Торы[71]. Только когда все расходились по домам, отец начинал молиться в одиночестве, расхаживая взад-вперед по пустому бесмедрешу, хлопая в ладоши и все больше воодушевляясь. Этот безлюдный бесмедреш с оплывшими сальными свечами в шестисвечниках нагонял тоску. С утра я успевал проголодаться и с завистью смотрел на мальчиков из простых семей, которые после сытной трапезы уже высыпали играть на поле рядом с бесмедрешом. Но мой отец все молился и молился. У него был огромный молитвенник, составленный ребе Янкевом Эмденом[72]. В нем содержалось множество молитв, которых не было ни в одном другом молитвеннике, и отец читал все эти молитвы. Я ненавидел ребе Янкева Эмдена за то, что из-за него я чуть не падал в обморок от голода.
Мы возвращались домой из бесмедреша заполдень. Чолнт, за которым я ходил к пекарю, к тому времени уже был вынут из печи, потому что подмастерья пекаря не хотели ждать так долго. Чолнт был холодный и безвкусный. Мой отец был занят лишь пением и молитвой и хотел, чтобы я пел вместе с ним. Петь мне не хотелось. Сразу же после благословения[73] отец ложился в свою постель, мама — в свою, и требовалось, чтобы я ложился с отцом, потому что, по обычаю, в субботу днем необходимо спать, чтобы получать удовольствие. Для меня это было сущим адом.
— Если ты не хочешь ложиться, загляни в душеполезную книгу, — советовал отец.
Я смотрел в книгу, которая говорила о том, что в этом мире все суета сует, и ненавидел ее за это. Меня тянуло играть, тянуло в широкие поля, к солнцу и к ветру, к воде и к ребятам. Мир не был суетой сует, он был невероятно красив и полон радости. Каждое дерево, каждая лошадь, которая паслась на лугу, каждый жеребенок, каждый стог сена, каждый аист, каждая гусыня с гусятами — все звало меня, наполняло радостью и жаждой жизни. Я дожидался, пока папа и мама уснут, и тут же, словно вор, прокрадывался наружу из темницы Торы, богобоязненности и веры.
Быстро-быстро, чтобы папа и мама не проснулись и не задержали меня, бежал я в свободный, просторный, залитый солнечным светом мир, который все праведники изо всех сил пытались опорочить в моих глазах, но тем самым делали его только прекраснее и притягательнее.
Мальчики на пастбище, лежавшем за местечком, принимали меня как своего.
Война между Израилем и Амалеком по субботам после чолнта Пер. И. Булатовский
Среди моих приятелей не было хороших, приличных мальчиков из зажиточных хасидских семей — только дети ремесленников, извозчиков и простолюдинов, с которыми я, единственный сын раввина, честно говоря, не должен был водиться.
Даже в бесмедреше я обычно норовил ускользнуть от восточной стены, где рядом с местами хазана и людей родовитых стоял штендер моего отца, и пробраться к западной стене, поближе к дверям, где молились невежды, самые простые и малопочтенные люди.
Там, на почетных местах у восточной стены, имели обыкновение перед молитвой, после молитвы и в перерыве между минхой и майревом говорить либо о Торе, либо о хасидизме. И того и другого мне и так хватало. Люди у дверей разговаривали о коровах, лошадях, ярмарках, драках, пожарах, эпидемиях, лесных разбойниках, силачах, которые могли гнуть на груди ободья, конокрадах, солдатах, цыганах и прочем подобном. Кроме того, у дверей обычно толпились нищие, которые побродили по свету и без конца рассказывали о том, что где случилось и приключилось. Иногда в бесмедреш заходил солдат-еврей, или посыльный, или коробейник из другого города. Частенько заявлялись и местные парни, работавшие в Варшаве: их называли «подмастерья». Они приезжали домой разодетые: в тесных бумажных воротничках, манишках и манжетах и в сияющих ботинках с декоративной строчкой. Рассказывали всякие небылицы о Варшаве, где кареты разъезжают без лошадей, воду можно нацедить из стены, лампы горят без керосина, и о прочих подобных чудесах. Я, разинув рот, слушал эти рассказы вместе с детьми ремесленников. Но больше всего удовольствия доставляли нам выходки и озорство Йойсефа-портного. Бородатый отец большого семейства, этот Йойсеф-портной якшался с мальчишками и любил озорничать вместе с ними. Было ли это оттого, что взрослые постоянно стыдили его за легкомыслие, лень и нежелание обеспечивать семью, или оттого, что он так и не повзрослел и в свои тридцать оставался ребенком, — не знаю. Но я помню, что этот бородатый отец семейства все время болтался среди мальчиков из хедера и откалывал самые глупые номера, то в бесмедреше во время молитвы, то в поле, где было место для игр.
В бесмедреше он болтал и кривлялся, чтобы рассмешить молящихся мальчиков. Он связывал цицес на талесах прихожан, причем как раз во время Шмоне эсре. Забрасывая талес на плечо, он всегда старался стегнуть кого-нибудь цицес по глазам; или, накрывая талесом свою голову, заодно накрывал им и парочку чужих. Кроме того, он отпускал всякие неприличные шуточки во время свадеб и обрезаний. На него сердились, ругали его, вызывали к Торе разве что на Симхастойре[74] — под одним талесом вместе с детьми. Жена Йойсефа костерила его прилюдно, понося и проклиная за безделье, хотя портным он был хорошим, мастер золотые руки. Он же все пропускал мимо ушей, продолжал водиться с мальчишками, проказничал и безобразничал. Какая-то неизбывная радость и жажда баловства была в этом высоком, плотном человеке с густой темной бородой и такими же бровями, из-под которых выглядывали шкодливые глазки, полные веселья и детской игривости. Даже в Дни трепета, когда рыба в воде и та дрожит от страха, Йойсеф-портной устраивал свои шуточки в бесмедреше. Он коверкал слова махзора и превращал их в смешные, зачастую неприличные, словечки на идише. Во время Шмоне эсре он наступал кому-нибудь на ногу или вместо того, чтобы во время покаянной молитвы бить себя в грудь[75], бил в грудь своего соседа. Он высмеивал тех, кто учил Тору в бесмедреше, или на комический лад переиначивал имена во время помолвок. Когда коэны готовились к благословению[76], он плескал водой им на чулки, прятал снятую ими обувь. На Симхастойре, Пурим и Тишебов[77] он совсем распоясывался. Не раз ленчинские обыватели вышвыривали его в гневе из бесмедреша во время молитвы, но он возвращался и вновь брался за старое.
Мой отец всякий раз выходил из себя, когда замечал, что я нахожусь не на почетном месте рядом с его штендером, а у дверей, рядом с детьми портных и сапожников, там, где безобразничал Йойсеф-портной.
— Шиеле, где ты? — слышал я его голос.
— Шиеле Кутнер, папа тебя зовет, — сообщали мне со всех сторон, хотя я и сам отлично слышал оклик отца, полный укоризны.
Целый град упреков и порицаний обрушивался на мою голову, но никакое наказание не могло удержать меня от того, чтобы снова протиснуться к дверям. С еще большей охотой и нетерпением бежал я на пустырь за местечком, где евреи, державшие скотину, пасли своих коров, лошадей и коз, а мальчики играли в свои игры.
Пустырь был большим, вытоптанным, общипанным пасшимися там животными, загаженным лошадиным, коровьим и козьим навозом и гусиным пометом, но залитым солнцем и усеянным желтыми и белыми полевыми цветочками, метелками, сорняками, которые мы называли безумной кашкой, и травой с белой ватой внутри, и другими растениями всех форм и расцветок. Хозяева скотины лежали в траве, чаще всего лицом вниз, и сладко спали. Их лошадки, у которых в субботу был выходной, паслись рядом, перескакивая на стреноженных ногах от выщипанного места к нетронутой граве. Коровы мычали, обращаясь к своим телятам, которые беззаботно бегали вокруг, полные телячьего восторга; клячи ржали, призывая жеребят, в дикой радости носившихся друг за другом по полю. Несмотря на то что хозяева скотины лежали лицом вниз, по их субботним капотам в рубчик я узнавал, кто есть кто. Так, я знал, что широкие плечи, на которых субботняя капота едва не трещит по швам, принадлежат Гершлу-арендатору — таких, как он, у нас называли доярами. Вот он лежит себе и спит по-субботнему, после тяжелой работы: всю неделю возил в Варшаву молочные продукты. Пара его лошадей, таких же больших и сильных, как он сам, пасется неподалеку. Чуть поодаль от него виднеется пара суконных штанов, белая рубашка и маленький арбоканфес, а капоты нет. Хотя лица не видно, а затылок прикрыт небольшой суконной шапочкой, я точно знаю, что это Лейбуш-пекарь, в чьей русой бороде всегда полно муки. Весь в муке и его Каштан, который с аппетитом ест ничейную травку. В стороне лежит Ицик-возчик, по прозвищу Самоволка, потому что он часто использует это словечко, которое выучил, служа у «фонек». Ицик — худой, измученный нелегкой работой человек, он доставляет товары из Варшавы торговцам и лавочникам. Так же измучена и его лошаденка, она покрыта пылью и грязью, а ноздри у нее всегда заложены. Хаскла-пекаря не видать, потому что он иногда читает шахрис перед омудом и пасти лошадь ему не пристало. Она пасется под присмотром его сына Носн-Меера, высокого парня с жидкой русой бороденкой и длинными стройными ногами в синих суконных штанах и высоких сапогах с начищенными до блеска, как у офицеров, голенищами. Вон он лежит, зарывшись в траву и для проформы прикрыв голову не шапкой, а маленьким носовым платком. На его начищенных голенищах играет солнце. Поодаль от него сидит его высокая, худая, сутулая сестра Неха в окружении своих гусей и гусят, пасущихся на травке. Среди доброго десятка сестер, девок здоровых, веселых и красивых, она одна такая сутулая и болезненная и всегда летом пасет гусей. Целые стада гусей пасет она на пустыре и щиплет при этом перо. Костлявая, угловатая, с длинными руками и ногами, Неха сидит, согнувшись, окруженная гусаками, гусынями и гусятами, так что к ней и не подойдешь. Чуть только приблизишься к ней, гусаки и гусыни начинают шипеть и бегать, вытянув вперед шеи и раскрыв клювы. Маленькие гусята поднимают страшный шум. Портновские подмастерья, которые любят пошутить с девушками, не отваживаются подойти к Нехе, опасаясь ее сердитых гусей. В субботу она не щиплет перо и не собирает перья, потерянные гусями на поле, хотя обычно целую неделю занята тем, что собирает перья для перины себе в приданое, которым ей, засидевшейся в девках, возможно, никогда не придется воспользоваться. От нечего делать она все время грызет мыльный корень[78] да покрикивает на гусей и гусят.
— Носн-Меер, — то и дело будит она своего красавца-брата, — Носн-Меер, лошадь уходит с поля, пригони ее обратно…
Носн-Меер сладко спит и не слышит того, что говорит ему сестра, но мальчики не ждут, пока он пригонит обратно свою лошадь. Они уже гонят ее обратно на пустырь, это еврейское владение. Я бегу с ними и тоже гоню лошадь Хаскла-пекаря, которую так и тянет на мужицкие поля.
Все мальчики из простонародья — на пустыре. Некоторые одеты в субботние капоты, но большинство — в будничных халатах, и только суконные шапочки у них субботние. Двое даже в субботу ходят босиком[79]. Это братья Файвешл и Шлоймеле, сыновья самого бедного и презренного в местечке человека по имени Гершл-Палка. Никто из обывателей не хочет иметь дела с этой семьей, все запрещают своим детям водиться с Файвешлом и Шлоймеле, которых зовут уменьшительными именами не из любви, а в насмешку. Их внешний вид ничем не намекает на святой день. Халаты у них рваные, штаны разодраны, их арбоканфесы засалены до черноты, а вместо цицес к ним привязаны связки хлопчатых нитей[80]. В их шапочках дыры прямо на лбу, и сквозь эти дыры видны жесткие черные волосы. Их ноги покрыты грязью, порезаны осколками стекла, по которым они ходят босиком. Их руки и лица всегда изодраны и расцарапаны — результат постоянных войн, которые они ведут и друг с другом, и с другими мальчиками, как еврейскими, так и крестьянскими. Мальчикам приходится водиться с Файвешлом и Шлоймеле и принимать их в свои игры: тех, кто им откажет, братья бьют смертным боем. Они такие ловкие и так чертовски здорово дерутся, что могут вдвоем выстоять в драке против всех мальчиков. Они — беспризорники, им что бить, что быть побитыми. Они умеют выкидывать всякие штуки: стоять на голове, пройтись на руках через все поле. Могут перепрыгнуть изгородь и самую широкую канаву. Наперегонки бегают так быстро, что никто не может их догнать. Кроме того, они, в отличие от большинства еврейских мальчиков, не боятся собак. Не боятся они и крестьянских детей, которые устраивают жестокие потасовки с еврейскими, чтобы прогнать их с находящегося в еврейском владении пустыря.
Они редко ходят в хедер, потому что их отец не может регулярно вносить плату за обучение, и реб Меер-меламед отсылает их домой, потому что «мужик задарма пахать не будет». Это наказание не слишком беспокоит братьев, и они знай себе рыщут, как бродячие собаки. Файвешл и Шлоймеле поспевают везде. У кого-нибудь рубят дрова — они тут как тут, чтобы первыми подобрать упавшие из-под топора щепки. Это их право, никто не может их прогнать. Где-нибудь строят дом — они прибирают к рукам несколько дранок, бревнышко, досточку. Они перемахивают через чужие изгороди и срывают стручки гороха, выкапывают картошку, морковку, редьку — все, что под руку попадет. Они сбивают камнями яблоки и груши. Стоит кому-нибудь забыть топор у дверей, мотыгу для окучивания картофеля в поле или ведро у колодца — может с ними попрощаться. Хотя никто никогда не ловил их с поличным, всем известно, что это дело рук Файвешла и Шлоймеле. По пятницам они накапывают желтого песка и продают его — ящик за грош — зажиточным обывателям для посыпания полов в честь субботы. Когда в местечко приходит живодер ловить собак, они ему помогают. Они даже умеют то, чего не умеет ни один еврейский мальчик, — ставить силки на птиц. Одним словом, не падают духом, несмотря на свою дурную славу, оборванную одежду, невежество и нищету. Играют или дерутся, как два веселых, игривых пса, то лаская, то кусая друг друга. Они верховодят на пустыре, куда мальчики приходят поиграть в свободное время и по будням, и по субботам и праздникам. Играют ли в прятки или в пятнашки, в солдат или в хаперов[81], бегают наперегонки или играют в войну, везде они первые, самые ловкие, везде — заводилы. Приходится их слушаться, а то, чего доброго, прибьют. Еще у них есть «клопики»[82] — такие крестьянские ножички, которые, хоть Файвешл и Шлоймеле не пускают их в дело в драках, на всех наводят страх: а вдруг когда-нибудь да пустят, поэтому все избегают с ними связываться. Смеются они громко и заразительно, говорят смачно — заслушаешься, их истории о бандитах и лесных разбойниках — яркие, невероятные, их похвальбы богатырской силой своего отца потрясают других мальчиков. Еще цветистее рассказы Файвешла и Шлоймеле об их старшем брате Ирме, который работает подмастерьем пекаря в Варшаве и приезжает домой только на Пейсах. Они не выпрашивают, а требуют куски халы у мальчиков, которые принесли их с собой из дома, чтобы перекусить на пустыре, и мальчики отдают им свои куски.
Но все это стоит того, ведь они на нашей стороне в войнах с крестьянскими мальчишками.
Хотя пустырь принадлежит помещику Христовскому, который отдал его ленчинским евреям под выгон, мальчишки из окрестных деревень не могут вынести того, что мы, еврейские мальчики, устраиваем здесь свои игры, — и нападают на нас. Их предводитель Болек, сын сапожника Росцака, всегда вырастает как из-под земли со своим войском и с несколькими собаками, чтобы напасть на войско Израиля. Несмотря на то что его войско меньше нашего, он берет верх, потому как, во-первых, эти крестьянские мальчишки — большие драчуны, а во-вторых, им помогают собаки, которых еврейские мальчики боятся до смерти. Однако крестьянские мальчишки с позором отступают, если с нами Файвешл и Шлоймеле. Никакие драчуны и собаки не производят на них впечатления. У них есть для нас и крепость из сложенного на пустыре леса. Реб Иешуа-лесоторговец, ленчинский богач, всегда складывает здесь штабели строительных материалов: бревна, балки, доски и дранку. Пространство между штабелями не слишком чистое, потому что обыватели ходят сюда справлять нужду, невзирая на упреки богача. Но именно здесь единственное укрытие от наступающих крестьянских мальчишек. У Файвешла и Шлоймеле здесь на случай войны всегда заготовлены целые горы камней, и каждый раз, когда на нас нападают, мы укрываемся в крепости, откуда забрасываем врага камнями. Никто не бросает камни так далеко и метко, как Файвешл и Шлоймеле. Они производят опустошение во вражеских рядах. И даже если крестьянские мальчишки выпускают на нас собак, братья не теряются и встречают псов голыми руками, как будто они вовсе и не сыны Израилевы[83]. После этого мы славим нашу победу над Амалеком[84], смеемся над его богами и громко поем:
Деревянный болван, гойский бог, Руки есть, а схватить нас не смог, Ноги есть, а не смог нас догнать, Потаскухи тебя будут таскать…[85].В качестве награды за их геройство мы отдаем двум братьям все свои куски субботней халы, и булочки, и пуговицы, и всякие другие вещи. Они забирают наше, как свое, даже не говоря спасибо, и опускают в глубокие карманы своих драных штанов. В этих карманах у них есть все: кусочки проволоки, гвозди, ключики, кремешки, железки, медные стреляные гильзы, которые они собирают на стрельбище соседнего форта, кусочки цветного стекла, обрезки кожи и мягкая замазка, которой пользуются стекольщики, вставляя стекла, — чего там только нет. Настойчивее всего они требуют у нас куски халы, которые съедают с волчьим аппетитом, а также спички — для стрельбы. У Файвешла и Шлоймеле есть собственные «револьверы», сделанные из ключа и привязанного к нему гвоздя. Они наполняют полость ключа серой, соскобленной со спичек, вставляют туда гвоздь и ударяют его шляпкой о стену, как только она попадается им на пути. Сера выстреливает с громким хлопком, выплевывая огонь и дым. Женщины пугаются хлопка, куры, собаки и даже лошади в страхе разбегаются. Это для братьев самое любимое развлечение.
У меня, единственного среди мальчиков, была бархатная шапочка, раввинская жупица и длинные светло-русые пейсы, которые не свисали по щекам, как пейсы моего папы, а торчали поверх ушей наподобие двух пучков льна. Я резко выделялся в компании мальчиков из семей ремесленников: они ходили с подстриженными пейсами, носили суконные шапочки и халатики из дерюги. Мне часто доставалось из-за моих пейсов, потому что каждый раз, когда мне приходилось драться, мой противник не упускал возможности ухватиться за эти льняные пучки и оттаскать меня за них изо всех сил. Длинная жупица мешала бегать. Доставалось мне и из-за моего прозвища Шиеле Кутнер. Я знал, что мне не место в компании детей портных и сапожников, тем более рядом с Файвешлом и Шлоймеле, которые считались позором местечка. Даже в субботу братья рвали траву, копали ямки в песке и убивали кротов, которых вытаскивали из их потайных норок. Я знал, что грешу тем, что вожусь с этими мальчиками, слышу их ругательства, гоняю с ними в святой день, бешусь, швыряю камни и дотрагиваюсь до нечистых вещей, но не мог удержаться от того, чтобы не провести несколько свободных часов на воле, в чудесном, солнечном и вольном Божьем мире.
Возвращался я всегда поздно, когда хасиды уже справили в нашем доме третью трапезу[86], уже отмолились майрев и мой отец приготовился к гавдоле. Разгоряченный, возбужденный, распаленный после целого дня игр, прыжков, погонь, драк и сражений, я виновато прокрадывался в дом. Мне никогда не удавалось скрыть мои проделки, потому что от беготни щеки у меня горели огнем. Это было моей слабой стороной: любая шалость была предательски написана на лице. Отец хотел знать, где же это я, например, помолился минху. Ладно, майрев я еще успею сказать до полуночи, но минху так поздно молиться уже нельзя.
— Минху? — переспрашивал я и пробовал соврать, но у меня не получалось.
Мама хотела знать, где я ел третью трапезу.
Я дорого расплачивался за несколько часов счастья. Правда, не тумаками, отец редко поднимал на меня руку, но его выговоры были хуже тумаков. Не только папа и мама, но и чужие люди стыдили меня за то, что я вожусь с такими плохими мальчиками, позоря себя и свою семью.
— Прекрасно, просто прекрасно для раввинского сына, — упрекали они меня, — вот ведь сокровище растет, Шиеле Кутнер…
Отец разглядывал пылающие щеки, к которым приливала вся моя кровь, и никак не мог понять, откуда у него, потомка многих поколений раввинов, духовных писателей и праведников, такой отпрыск.
— Господи помилуй! У мальчика же нееврейское лицо, — говорил он обычно маме. — Погляди на него, Исава[87] этакого…
Немец возводит на евреев кровавый навет, за что его на глазах у всех порют рядом с баней Пер. И. Булатовский
Как ручейки, мелкие и невзрачные в летнюю пору, почти пересохшие от жары, весной вдруг наполняются водой и превращаются в бурные реки, которые смывают мосты и затопляют деревни, так маленькое местечко Ленчин, долго дремавшее от скуки и монотонности жизни, вдруг всколыхнулось.
Первый скандал в местечке, насколько я помню, произошел из-за кровавого навета. Разумеется, случилось это, как нередко бывает, перед Пейсахом, ведь это самое время для таких вещей. Все произошло из-за миквы.
В один прекрасный день между Пуримом и Пейсахом хромой банщик со странным именем Эвер протапливал микву, потому что какой-то бабенке потребовалось совершить омовение. Неожиданно огонь вырвался из печки и миква начала гореть. Реб Эвер тут же принялся черпать ведром воду из миквы и потушил пожар, прежде чем тот успел распространиться. Поскольку банщик вычерпал слишком много воды из миквы, он долил ее из соседнего стоячего пруда, в котором «совершали омовение» утки. Когда мой отец назавтра узнал об этом, он запретил использовать микву, потому что в ней осталось недостаточно проточной воды, а долитая из пруда вода не была кошерной для омовений. Что стало с той бабенкой, которая совершила омовение в некошерной воде, я не знаю. Я был тогда еще слишком мал, чтобы знать о таких вещах. Но я точно знаю, что микву пришлось вычерпать полностью. Заодно перестелили пол на дне миквы. Что еще там происходило с этой миквой, мне неизвестно, но я знаю, что ее надо было откошеровать, а для этого требовалось, чтобы в микву вылили молоко[88]. Так как коровы в местечке в это время были по большей части стельные и молока не давали, пришлось купить у соседских крестьянок несколько ведер молока, чтобы откошеровать микву. Это очень удивило окрестных мужиков. Когда миква снова стала кошерной, ее подкрасили и замазали окна красной краской, чтобы крестьянские и еврейские мальчишки не подглядывали за тем, как женщины совершают омовение.
В это же время начали печь мацу у Хаскла-пекаря, а так как местные хасиды хотели использовать для пасхальной муки маим шелону[89], то есть воду, которую черпают только после захода солнца, они запрягли лошадь, поставили на телегу пасхальный бочонок, поехали на ближайшую речку и начерпали там воды. Святую воду доставили в местечко с большой помпой. Бочонок был завернут в пасхальные скатерти, а хасиды следовали за ним с превеликой радостью. Несколько мужиков с изумлением наблюдали за этой еврейской церемонией. Среди мужиков, затесавшихся в толпу евреев, были два брата-шваба по фамилии Шмидт, самые бедные из немецких колонистов, живших в наших местах. Между этими самыми братьями Шмидт всегда была острая конкуренция за место шабес-гоя. Каждому из них хотелось гасить свечи, топить печи и колоть дрова в обывательских домах. Однако старший Шмидт, великан с налитыми, будто каменными, ножищами, забирал себе все еврейские дома, а младшему не давал заработать ни гроша. Евреи охотнее пользовались услугами старшего Шмидта, потому что он говорил не на швабском диалекте, как другие немецкие колонисты, а на идише, причем не хуже евреев. К тому же он знал все еврейские обычаи и праздники и даже произносил «шеакол»[90] над каждым стаканчиком водки, который ему наливали. Он также знал, что такое яин-несех[91], и предупреждал женщин, чтобы они убрали со стола вино для кидуша, дабы он, поглядев на него, не сделал его трефным[92].
— Женщины, прячьте вино, — предупреждал он, стоя за дверью, — необрезанный идет…
Младший Шмидт имел зуб на ленчинских евреев, которые не брали его в шабес-гои, и поэтому стал распространять среди мужиков историю о том, что евреи обманом заманили христианское дитя в микву, где собралась вся община вместе с раввином. Шойхет, реб Иче, зарезал ребенка своим ритуальным ножом[93], а банщик Эвер отнес христианскую кровь в специальном сосуде к Хасклу-пекарю, который смешал ее со святой водой, специально начерпанной в реке, и замесил мацу. Эту историю младший Шмидт распустил не только среди швабов в колониях, но и в польских деревнях. Весть стала стремительно распространяться от деревни к деревне. Был как раз канун христианской Пасхи, когда мужики особенно злы на евреев за то, что те распяли их бога, и крестьянская кровь закипела. Вскоре среди мужиков тоже нашлись свидетели, которые видели, как заманивали христианское дитя. Однажды Янкл-бродяга, который ходил по деревням, скупая свиную щетину, вернулся в местечко с разбитой головой. Так где-то на дороге мужики отомстили ему за пролитую христианскую кровь. Когда Лейбуш-пекарь поехал по деревням на своей подводе, груженной хлебом, его забросали камнями. Реб Иче-шойхет боялся показаться в окрестных деревнях, куда евреи-арендаторы приглашали его зарезать теленка или курицу. Мужики грозились, что во время ярмарки, как раз перед Пейсахом, они явятся с засапожными ножами и перережут евреев, которые пьют христианскую кровь.
Евреи жили в страхе. На ночь закладывали двери и ворота. Почтенные обыватели отправились к помещику Христовскому искать защиты. Помещика, который к тому же был судьей, вся эта история только рассмешила. Христовский был безбожником, никогда не ходил в костел и говорил евреям, что все хотят денег, кроме Йойзла[94], потому что тому взять нечем: руки приколочены… Но как судья он счел своим долгом выяснить, не пропадал ли у кого из христиан ребенок. Ни у кого ребенок не пропадал. Мужики, однако, продолжали настаивать на том, что евреи зарезали христианского младенца. Положение становилось угрожающим. Поэтому ленчинский богач реб Иешуа-лесоторговец запряг свою бричку парой лошадей, надел широкую бурку с капюшоном и помчался в Сохачев к русскому начальнику просить, чтобы тот прибыл в Ленчин со стражниками и защитил евреев от разгневанной толпы.
Рыжебородый начальник и не думал спешить. Однако, когда реб Иешуа дал ему на лапу, смягчился, уселся в бричку реб Иешуа, приказал десятку полицейских следовать за ним на подводе и отправился в путь. Явились они накануне ярмарки. В местечко уже начали группами собираться крестьяне. Начальник направился к микве, у которой как раз толпились мужики. Евреи тоже пришли туда. Все стояли, обнажив головы перед рыжебородым начальником. Привели немца, младшего Шмидта, и стали его допрашивать.
Шваб гладко, со всеми подробностями, рассказал, как на его глазах Эвер-банщик нес ведро с красной жидкостью.
— Где это ведро? — строго спросил начальник.
— Вот оно, ясновельможный пан, — ответил Эвер и принес ведро, красное от краски, которой замазывали окна.
Начальник со смехом показал ведро толпе.
— Крестьяне, это кровь или краска? — спросил он.
— Краска, ясновельможный пан! — сказали крестьяне.
— У кого-нибудь ребенок пропадал, крестьяне? — снова спросил начальник.
— Ни у кого не пропадал, ясновельможный пан! — хором ответили крестьяне.
— Как же тогда могли зарезать ребенка, если все ваши дети живы и здоровы, а, крестьяне? — спросил начальник.
— Не знаем, ясновельможный пан! — испуганно отозвались крестьяне. — Только этот шваб Шмидт сказал, что он своими глазами видел, как евреи зарезали христианское дитя в микве…
Начальник схватил долговязого шваба за отвороты его тесноватой куртки и встряхнул его:
— Что ты видел, сукин ты сын? Когда ты это видел? Где ты это видел?
Мужик что-то залепетал. Начальник наградил его такой оплеухой, что долговязый покатился кубарем.
— Я с тебя шкуру спущу, сукин ты сын, если правду не скажешь! — загремел начальник.
Немец упал на колени и принялся бить себя кулаками в грудь.
— Выдумал я, ясновельможный пан! — заплакал он. — Не дают они мне работы, эти евреи. Все дают моему брату, а я с голоду помираю.
Начальник выпятил увешанную медалями грудь.
— В Сибирь тебя упеку за то, что народ бунтуешь! — закричал он. — В цепях у меня сгниешь, сукин ты сын!..
Стражники уже приготовили было веревку, чтобы вязать стоящего на коленях немца, но начальник приказал им убрать ее.
— Разложите-ка этого сукина сына и отсчитайте ему дюжину горячих по голой заднице, — приказал он стражникам, — а потом пусть проваливает.
Не успели мы глазом моргнуть, как долговязый мужик уже лежал вверх своим тощим задом перед толпой.
— Езус! — воззвал он по-немецки.
Стражники с оттяжкой прошлись своими ремнями по его костлявому заду, медленно считая удары.
Каждый удар начальник сопровождал порцией нравоучений.
— Так будет с каждым, кто станет бунтовать народ, распространять враки, — грозил он. — Я требую, чтобы в моем уезде был порядок, крестьяне.
С трудом передвигая ноги, пошатываясь, выпоротый шваб побрел домой, в свою клетушку, которую снимал у крестьянина. А начальник посетил бесмедреш и лавки, чтобы проверить, поддерживается ли в местечке чистота. Однако никогда еще Ленчин не был таким чистым, как в тот раз. Мужчины спешно завалили землей мусор под стенами. Женщины перед входной дверью засыпали желтым песком то место, куда они круглый год выливали помои. Эвер-банщик, который заодно был шамесом в бесмедреше, по такому случаю подмел святое место, начистил шестисвечники и протер полой своего халата закопченные стекла керосиновых ламп. Начальник торопился к помещику Христовскому на обед. К тому же реб Иешуа-лесоторговец не отходил от начальника ни на минуту и с улыбкой заглядывал ему в лицо, чтобы тот смягчился и не судил строго. Начальник смягчился.
— Должен быть порядок, — предупредил он, поглаживая свою рыжую бороду.
Он задал только один трудный вопрос. Из расспросов он понял, что в местечке имеется раввин, и он хотел знать, как это могло случиться без того, чтобы власть была поставлена в известность, потому как официально община Ленчина относилась к Сохачеву и находилась в ведении тамошнего раввина.
Мой отец с заложенными за уши пейсами, потому что официально он не был раввином и по закону не имел права носить пейсы и раввинскую одежду[95], в страхе предстал перед начальником. Ко всему прочему, он не понимал ни слова по-гойски: ни по-русски, ни по-польски. Реб Иешуа-лесоторговец вышел из положения.
— Мы называем его раввином, потому что он умеет разрешать трудные вопросы, ваше высокородие, — объяснил он рыжебородому начальнику. — Ничего официального он не делает[96]. За этим мы ездим к раввину в Сохачев… Пусть ясновельможный пан не гневается. Мы не можем ездить с каждым своим еврейским вопросом в Сохачев, потому что это далеко, а еда тем временем испортится…[97]
Ясновельможный пан хитро глянул на реб Иешуа-лесоторговца, как бы говоря, что дело тут нечисто, что это еврейский шахер-махер, но он может закрыть на это глаза, если его как следует подмажут.
— Твоей еврейской Торе можешь учить, сколько влезет, — сказал он моему отцу, — но ничего официального не делать… За это — накажу. Понял?
Мой отец стоял без шляпы, в одной ермолке и дрожал от страха.
Никогда еще мне не было так стыдно за моего покорного отца. Однако я быстро забыл об этом случае во время веселого Пейсаха, который евреи справляли с особой радостью ввиду благополучного избавления от кровавого навета.
Крестьяне, которые собирались перерезать всех евреев, снова стали торговать с ними, как ни в чем не бывало.
Вскоре настал черед других событий.
На Пурим меламед решает стать ангелом и, бедолага, лишается глаза Пер. И. Булатовский
Каждый раз, когда кончался «срок», в холамоед праздников Суккес или Пейсах, я горячо надеялся на то, что меня заберут у одного меламеда и отправят к другому, веря, что новый будет лучше старого. И каждый раз я снова обманывался в своих надеждах. Новый был ничуть не лучше. Первые несколько дней очередного «срока» каждый из них был хорош, явно руководствуясь тем принципом, что новая метла должна хорошо мести. Как только эти дни заканчивались, они показывали, что они такое на самом деле.
Нет, нашему местечку не везло на приличных меламедов. Было ли это из-за того, что приличные до такой глуши не добирались, или из-за того, что приличных меламедов вообще не существовало, потому что только растяпы и никудышники, не пригодные ни к чему другому, становились в то время меламедами[98]. Как бы там ни было, мой опыт общения с ними был скверным.
Мой первый меламед, реб Меер, был не в своем уме. Мальчики из хедера это видели и рассказывали своим родителям, но родители не обращали внимания на то, что рассказывали дети, и продолжали доверять воспитание своих сыновей больному человеку.
Уже по глазам реб Меера, большим, черным и печальным, можно было догадаться о его глубокой, граничащей с безумием меланхолии. Еще больше это безумие проявлялось в поведении меламеда. Он часто разговаривал сам с собой, произнося при этом какие-то странные слова голосом, напоминавшим мяуканье. Посреди учебы он задумывался и долго смотрел перед собой выпученными глазами, будто видел что-то фантастическое, чего не видел никто, а потом разражался диким смехом. К тому же он часто бормотал что-то такое невнятное вроде:
— Минютин-микутин… микутин-минютин…
Мы давились со смеху от этих безумных речей, но еще больше от тона, которым они произносились. Однако открыто смеяться не отваживались, так как знали, что, если реб Меер начинает бормотать и смеяться своим безумным смехом, значит, он не в духе. Его ссоры с женой и единственным сыном Касриэлом тоже имели все признаки безумия. Что бы ни сказала его жена, меламеда раздражали даже не сами ее слова, а тон, которым они были произнесены. Также его раздражал острый, ходивший вверх-вниз кадык сына.
— Безмозглый мальчишка, кадычок! — звал он своего несчастного отпрыска.
Реб Меер зверел от злости, когда его соседка, жена Эвера-банщика, жившая над ним в мезонине, подавала голос. У этой женщины, следившей за омовениями в микве, голос был очень писклявый. Особенно пронзительно она пищала, когда звала со двора свою дочь Хаву, чернявую, как цыганка, девчонку, которая обычно бегала и играла, вместо того чтобы помогать матери по дому.
— Хава, чтоб тебя разразило, где ты? Хава, домой, Хава! — кричала банщица.
И каждый раз реб Меер-меламед закрывал уши руками и подпрыгивал на месте, будто его укололи иголкой.
— Хава, какава, пава, лава, ява, канава, — пищал он, подражая в рифму голосу банщицы.
Но окончательно реб Меер выходил из себя, когда на высокую худую банщицу нападала икота. В местечке говорили, что она страдает «крупом» и поэтому вынуждена громко икать, когда ее разбирает этот круп. Что такое круп, я так и не знаю, но икоту банщицы помню до сих пор. Она испускала долгие истерические взвизгивания, что-то вроде спазмов, — наполовину рыдания, наполовину смех. Вот эта женская икота и доводила реб Меера до полного умопомрачения. Он корчил страшные гримасы, дрожал и трясся всем телом, наконец его желудок не выдерживал, и ему приходилось бежать на двор. При этом он требовал, чтобы все ученики отправлялись в верхнюю комнатушку, примыкавшую к мезонину. В комнатке было тесно и душно, но мы все набивались в нее и ждали, когда меламед вернется и скажет «Ашер-йойцер». На самом деле мы были признательны банщице за ее «круп», потому что благодаря ее болезни нам иногда удавалось ненадолго освободиться от нашего ребе и его Торы.
Со временем безумие меламеда становилось все заметнее. Даже сын реб Меера не смог больше его выносить, уехал в Варшаву и стал позументщиком.
Однажды после Суккес наш ребе надел свою субботнюю капоту, взял в руку зонт и начал ходить от одного обывателя к другому, прощаясь со всеми жителями Ленчина. Когда его спрашивали, куда это он так далеко собрался, что даже пришел попрощаться, реб Меер отвечал, что отправляется в лес покупать дрова на зиму.
Лес был в получасе ходьбы от местечка.
В другой раз он послал меня с целым войском «французов» к местному богачу реб Иешуа-лесоторговцу.
«Французами», как я уже говорил, у нас называли тараканов, которых поляки называют «пруссаками», немцы — «русаками», а здесь, в Америке, их зовут кокрочес[99]. Этими «французами» кишел хедер, и ребе вел с ними героическую войну. Убивал он их с великой страстью. Реб Меер расставлял для них разбитые бутылки, наполненные серветкой[100], как у нас называли белую жидкостью, которая течет, когда из кислого молока делают творог. «Французы» забирались в бутылки, чтобы напиться, и тонули. Как-то раз улов «французов» был так велик, что меламед решил послать бутылку с тараканами в подарок местному богачу реб Иешуа-лесоторговцу, своему домохозяину. Посыльным он выбрал меня.
Был как раз полдень, богач вместе со своей женой, дочерью, сыновьями и невестками сидел за столом, уставленным всякими яствами, и обедал. Я все еще помню запах жареного гуся на кухне реб Иешуа, увешанной сияющими медными кастрюлями и сковородками. Как ни мал я был, я знал, что являться с подарком меламеда в этот час нехорошо. Однако выполнил приказ ребе и прошел в столовую. Богач решил, что я явился с поручением от моего отца, раввина.
— Что скажешь хорошего, Шиеле? — спросил он.
— Наш ребе, реб Меер-меламед, посылает вам «французов», — сказал я и поставил на стол бутылку с утонувшими тараканами.
Жена богача, Тирца, высокая почтенная женщина в завитом парике, завопила от страха. Дочь и невестки завизжали. Сыновья рассмеялись. Реб Иешуа вскипел. Если бы я не был раввинским сыном, меня за этот чудесный подарок служанка выгнала бы поганой метлой.
Люди стали поговаривать, что меламед явно не в своем уме. К тому же реб Меер начал лечить желудок у закрочимского сойфера: он перестал есть хлеб и питался только ржаными лепешками, которые сам замешивал и пек. Еще он пил касторовое масло, называя его ласково «касторохен» и при этом причмокивая так, будто это было вино. Он часто заканчивал слова немецким «хен». «Шиселе»[101] было у него «шислхен», «мейдл»[102] — «медхен», «капотке»[103] — «капотхен». Даже свой канчик он именовал «фуксн-фислхен»[104]… История с «французами» оказалась последней каплей, после нее у реб Меера стали забирать учеников.
Другие мои меламеды не были сумасшедшими, но у каждого имелись свои странности.
Один из них, реб Довид, приехав с сыном из Вышегрода[105], провел в нашем местечке всего один «срок». Он оставил семью в Вышегроде, поэтому «ел дни»[106] у родителей своих учеников и имел обыкновение обходиться с ними в зависимости от того, как его кормили. Когда ему выпадал удачный «день», то есть еда была вкусной, он обращался с учеником этого «дня» ласково, даже если тот не знал ни слова из Торы. Когда выпадал неудачный «день», реб Довид жить не давал ученику этого «дня», цеплялся к нему. Моя мама не была умелой кухаркой, поэтому я был на плохом счету у меламеда. Больше всего на свете реб Довид не любил фасоль. Он просто ненавидел ее. Однако в Ленчине клецки с фасолью были очень популярны. Увидев фасоль, реб Довид начинал злиться, быстро выбирал фасолины из своей тарелки и скидывал их в тарелку сына, которого приводил с собой к хозяевам в свой «день». Из-за этой фасоли он, судя по всему, и продержался у нас всего один «срок», после чего на его место пришел другой.
Новый меламед, высокорослый человек, которого звали реб Ошер, был тихим, молчаливым, слов зря не тратил. Он часто писал своей жене и детям в другое местечко. Письма посылал с возчиком Ициком-Самоволкой. Реб Ошер так искусно складывал и запечатывал их, что казалось, будто они лежат в конверте. На внешней стороне он выводил круглыми буквами «леквойд зугоси аякоре вэцнуэ морес…»[107] и четыре буквы «хес», «далет», «рейш» и «гимел», сокращение от «хейрем де-рабейну Гершом»[108], что означало, что рабейну Гершом[109]запретил открывать и читать чужие письма. Реб Ошер был уверен, что этой припиской его письмо защищено надежнее, чем сургучной печатью.
Этот реб Ошер, который первый раз работал меламедом и для этого впервые покинул свой дом, никогда не поднимал руку на учеников. Обыватели считали, что ученики садятся ему на шею и поэтому меламед из него — никакой. Реб Ошер часто терял пуговицы от своей одежды, отчего ему приходилось все время придерживать обеими руками штаны и разъезжающиеся полы халата. Об этом меламеде у меня сохранились самые хорошие воспоминания. Я помню свой испуг, когда год спустя, во время поездки с мамой к деду в Билгорай, я вдруг узнал в одном из нищих, просивших милостыню, моего бывшего меламеда реб Ошера. Было лето, и он ходил по дворам босиком. Вид его босых ног ужаснул меня. В своем нищенстве реб Ошер был так же тих и неуклюж, как и в своем учительстве.
Потом приехал меламед, имени которого я не помню, потому что он исчез так же внезапно, как появился, в самом начале «срока». Это был бледный молодой человек с черной как смоль бородой, худой и черноглазый. Он умел преподавать и всем нравился. И тоже не бил учеников. Но у него была странная манера: среди бела дня он занавешивал окно своего хедера и приказывал мальчикам лечь на скамьи, но ничего плохого при этом с ними не делал. Он не бил улегшихся мальчиков, а, наоборот, гладил и ласкал их, смотря при этом горящими черными глазами прямо перед собой. Мальчики стали рассказывать дома о странном меламеде, который гладит вместо того, чтобы сечь. Обыватели стали тайком шептаться об этом. Однажды утром бледный чернобородый молодой человек исчез. Несколько дней мы были свободны, но вскоре нам наняли другого меламеда, реб Мойше Маковера, вместе с сыном, невысоким, светловолосым, коренастым парнем, который служил у него белфером.
Реб Мойше Маковер был уже стар, с белой бородой, которую он все время теребил: то кусал, то дергал, то жевал ее. Он просто не мог оставить свою бороду в покое. Он пожирал ее с огромным аппетитом, разбрасывая вырванные волосы по страницам книг. Борода выглядела ощипанной, истерзанной, как поле ржи после жатвы. Больше всего неприятностей борода доставляла реб Мойше по субботам. Он снова и снова по привычке хватался за бороду, собираясь вгрызться в нее, но каждый раз вспоминал, что по субботам такие вещи делать нельзя, и в гневе отпускал ее. Все смотрели на его бороду с удивлением. Реб Мойше не позволял думать о своей бороде ничего дурного.
— Она не подстрижена, не дай Бог, она обкусана, — быстро оправдывался он.
Это был горячий человек, который все делал очень бурно. Он молился в голос, а трубку курил с присвистом, пуская всем в глаза клубы едкого дыма. Учил же с такой страстью и шумом, что не слышал ни учеников, ни самого себя. Он пылал как огонь, наставляя нас в мусере[110]. Он очень высоко ценил мусер и не жалел для нас этого добра, а в своей осведомленности о геенне перещеголял даже «Шевес мусер». Этот человек с ощипанной бородой знал каждый уголок геенны так, будто гам родился и вырос.
— Слышите вы, глухие сердца, закоснелые упрямцы! — восклицал он, размахивая дымящимся чубуком. — Не думайте, что в мире нет хозяина и можно повсюду проявлять злонравие и творить несправедливость! Геенна разверста, лает — гав, гав, гав — и требует нечестивцев, непокорных Богу и Его заветам. И ангелы-мучители, у которых тысяча глаз, видят и слышат всё, стоят наготове и ждут, чтобы схватить нечестивца и швырнуть его в пасть геенны, простершуюся на четыре сотни миль в длину и четыре сотни миль в ширину. Так что грешите, грешите, закоснелые упрямцы…
Закоснелые упрямцы, мальчики от семи до десяти лет, пользовались погруженностью меламеда в геенну и тем временем потихоньку резались в фантики. На кон ставились пуговицы, найденные на улице или срезанные со штанов и халатов. Солдатская пуговица («моняк») стоила дюжину простых пуговиц.
— У меня тридцать один, — слышался тихий шепот как раз в тот момент, когда ребе разорялся об ангеле Преисподней, который стоит с пылающей розгой над могилой только что погребенного покойника и кричит: «Злодей, как твое имя?»
В своей погруженности в геенну реб Мойше не видел, что мальчики делали у него под носом. Его трубка дымилась, как пасть геенны. Его сын не стыдил нас, потому что мы откупались от него кусками хлеба, которые он мог поглощать без счету.
— О, ужас, ужас, ужас! — вопил меламед, потрясая чубуком и расходясь все больше и больше до тех пор, пока не уставал и опустошенный не падал на свое ободранное кресло, из сиденья которого во все стороны торчали пружины и конский волос. Только тогда реб Мойше замечал, что мы захвачены игрой в фантики, и грозил нам чубуком, обещая, что вот сейчас он встанет и всех нас растерзает. Но он уже не мог подняться с дырявого сиденья, потому что у него, бедняги, была большая грыжа, и, когда он усаживался в низкое кресло, ему было не так-то просто оттуда выползти. Мы знали про эту его слабую сторону. Да реб Мойше ее и не скрывал. Он даже снимал и клал на стол свой кожаный бандаж, украшенный медными заклепками… Так что мы не очень боялись быть растерзанными.
Жителям Ленчина реб Мойше очень нравился и своей ученостью, и своим благочестием. Каждую субботу он созывал простых людей в бесмедреш и рассказывал им о геенне и загробных муках. Люди плакали, слушая о том, что предстоит им через сто двадцать лет[111], но тем не менее ходили на проповеди реб Мойше и даже платили ему за них. Каждую пятницу реб Мойше отправлял двух учеников пройтись по домам своих слушателей, чтобы собрать пожертвования — кто сколько сможет: шесть, три, а то и два гроша. Мне тоже время от времени выпадало отправляться за гонораром ребе, и такие дни были для меня самыми счастливыми…
Далеко не так счастлив бывал я в субботу днем, когда, до того как реб Мойше отправлялся проповедовать простым людям, я должен был приходить в хедер и вместе с другими учениками изучать с ним главу[112] из Пиркей Овес[113]. Мечась по хедеру в своей шерстяной капоте — он носил ее еще со свадьбы, и она была такой плотной, что ее называли не шерстяной, а «жестяной» капотой — реб Мойше читал очередную главу с такой интонацией, что кровь стыла в жилах. Особенно доставляло ему удовольствие произносить перед нами слова Акавии, сына Махалалеля.
— Ми-аин босо, откуда ты идешь, ми-типо срухо, из капли зловонной… Л-айн ато голех, куда ты идешь, ли-мком офор ве-римо, в то место, где прах, ве-соело, и черви…[114] — стенал реб Мойше.
Вдобавок он еще учил Пиркей Овес с комментариями Бартануро[115], так что занятиям конца края не было. Мы, мальчики, люто ненавидели реб Мойше за то, что он отнимал у нас наши единственные свободные часы. Так же мы ненавидели и Бартануро за его комментарии…
Покой наступал для нас только тогда, когда реб Мойше ссорился со своими детьми. Прежде всего, он часто ссорился с сыном, коренастым светловолосым юношей, который ел с большим аппетитом, а учил Тору без всякого аппетита. Кроме того, к нему время от времени приезжали из другого местечка дочери, которые состояли в прислугах в приличных семьях и день-деньской были заняты сватовством, помолвками, расстроившимися помолвками и так далее и тому подобное. Они засиделись в девках и — хоть и дочери меламеда — были согласны выйти замуж даже за ремесленника[116] — сапожника или портного, но сватовство у них не ладилось, возможно, потому, что они никак не могли скопить себе приданое. Обычно все ограничивалось смотринами, иногда даже случался сговор, потом вдруг что-то расстраивалось и все шло насмарку. Каждый раз после этого они приезжали к отцу в Ленчин, говорили с ним, плакали, требовали, умоляли, причем прямо на глазах у нас, мальчиков. Реб Мойше только нервно кусал бороду и вопил, что все это из-за того, что его дети не ходят путями Божьими… Время от времени ему тоже приходилось уезжать на день или два, чтобы устроить сговор с очередным женихом одной из дочерей. В таких случаях он оставлял все на своего сына, коренастого блондина с хорошим аппетитом. Тогда мы переворачивали хедер вверх дном. Сын ребе при этом спокойно поедал куски хлеба, которыми мы его подкупали…
Реб Мойше задержался бы у нас надолго, если бы не его грыжа, которая однажды так его прихватила, что он лег и не встал, так что его пришлось уложить в телегу на солому и отвезти домой, в его местечко.
После него появился меламед реб Михл-Довид, веселый человек, который, бедняга, закончил свой «срок» совсем не весело.
Реб Михл-Довид был маленький, шустрый как ртуть, с редкой светлой бороденкой. Во время занятий он любил вырезать что-нибудь ножиком. То он вырезал из коры табакерки, которые раздаривал всем любителям нюхать табак; то из дерева — коробочку для эсрега. Руки у него были золотые. Он чинил часы, мог соединить порвавшуюся цепочку. Из глины лепил шахматные фигурки, которые дарил игравшим в шахматы молодым людям из бесмедреша. Особенно он любил вырезать мундштуки для своих самокруток, которые курил одну за другой. Его умелые руки были желтыми от табака и дыма. Для нас он делал из цветной бумаги фонарики, с которыми мы возвращались домой из хедера зимними вечерами. Учил он с веселым напевом, часто прищелкивая от радости пальцами. Хозяйки, у которых он «ел дни», были им довольны, так как все ему нравилось, любая пища была по душе. Хасиды готовы были на руках его носить, потому что он умел рассказывать удивительные истории о цадиках и «добрых евреях». Во время хасидских застолий и торжеств реб Михл был главным заводилой. Он пел высоким пронзительным голосом, много, как и положено хасиду, пил и танцевал без устали. Больше всего он любил танцевать на столе.
Нам, мальчикам, он тоже рассказывал бездну фантастических историй о цадиках и чудотворцах, которые владели кфицас а-дерех[117], могли становиться невидимыми и устраивать всякие прочие подобные штуки. Эти чудотворцы постоянно вели войну с гойскими колдунами и попами-волколаками[118] — те хотели навредить евреям, но цадики окружали их святыми именами и магическими кругами и тем побеждали. Истории были — пальчики оближешь. В субботу днем он тоже учил нас час-другой, но и эти его уроки были одно удовольствие. Он рассказывал нам о подвигах двенадцати сыновей праотца Иакова. Неффалим так быстро бегал по полям, что даже олени не могли догнать его. Симеон и Левий, соратники, своими мечами одни могли истребить всех врагов своего отца. Иуда рычал как лев. Когда Иосиф задержал Вениамина в Египте и не хотел отдавать его обратно, Иуда пришел к Иосифу и сказал: «Я прошу тебя, господин мой, не распаляй гнева своего, ты ведь как фараон, а я не боюсь фараона, потому что могу убить его одним мизинцем, так же как тебя». И разодрал Иуда свою рубаху, и показал свою могучую, как у льва, грудь, и волосы на его груди вздыбились, как иглы, и закричал он страшным голосом, и слуги фараона и советники его подумали, что рычит лев, а когда они увидели, что это Иуда, их сердца охватил страх, и они встали пред ним на колени, и склонились пред ним, и припали лицом к земле…[119]
Такие истории он рассказывал каждую субботу.
Учиться у этого Михл-Довида было весело. Но веселье это продлилось недолго.
Перед Пуримом реб Михл-Довид совсем забросил Гемору и стал готовиться к празднику. На восточной стене бесмедреша он написал с помощью сальной свечи большие буквы и что-то еще нарисовал. Сначала белый жир не был виден на белой стене. Но потом меламед обмакнул тряпку в золу из печки, которая была в бесмедреше, прошелся тряпкой по жиру, буквы сразу же почернели, и мы увидели большую надпись «Ми-шенихнас одор марбим бе-симхе»[120], что значит: «Как только начинается месяц одор, надо начинать радоваться». Под этой красивой надписью была нарисована бутылка водки и две руки, поднимающие рюмки. Следуя им же самим начертанной надписи, реб Михл-Довид хорошенько выпил с хасидами. А в хедере он разучивал с нами Мегилу, вырезая при этом замечательные трещотки[121] для всех учеников.
За два дня — Пурим и Шушан Пурим[122] — реб Михл-Довид буквально перевернул местечко. Когда в бесмедреше читали мегилу, он собрал всех мальчиков, не только своих учеников, но и чужих, и дал нам команду трещать каждый раз, когда упоминалось имя Амана. Для себя самого он сделал самую большую трещотку. К тому же он еще топал ногами, и не только при упоминании Амана, но и его жены Зереш и десяти их сыновей[123]. Особенно он старался при упоминании Ваиезафы[124], младшего сына Амана… То, что мужчина с бородой трещит в трещотку в бесмедреше, нам, детям, очень нравилось. Мы едва не разнесли бесмедреш. Мой отец был слегка недоволен, потому что мы мешали чтецу, но не сердился. На веселого Михл-Довида нельзя было сердиться. Кроме того, был Пурим, когда нужно радоваться.
После чтения мегилы Михл-Довид пошел по домам, от одного хозяина к другому — выпивать с ними. В Шушан Пурим он собрал хасидов и устроил гулянку. Хасидов не надо было долго упрашивать. Они всегда были готовы к застолью и веселью. Купили бочонок пива и напились в стельку. Вдобавок натаскали у хозяек жареных гусей, пирогов, маринованной рыбы и прочей снеди[125]. Ходили от дома к дому и везде пили, ели и плясали. Мальчики бежали вслед и, уцепившись за кушаки своих отцов, присоединялись к хороводу пляшущих мужчин. Простонародье, миснагеды, косо посматривали на хасидскую гулянку, но хасиды обращали на них внимания не больше, чем Аман — на трещотку[126], и им назло еще громче пели и отплясывали. Михл-Довид плясал на улице. Он не уставал ни от питья, ни от пляски, ни от пения, ни от ликования. Наконец хасиды ввалились к моему отцу.
— Ребецин, подавайте сливовый цимес! — закричал Михл-Довид. — Люди хотят есть, черт подери Амана, Зереш и их десятерых ублюдков!..
Моя мама подала сливовый цимес. Михл-Довид крикнул, что нужен еще один бочонок пива. Двое гуляк, Трейтл-мануфактурщик и Мойше-Мендл-мясник, которые водились с хасидами, ушли и вернулись с новым бочонком пива. После этого оба сдвинули шляпы на левое ухо, взяли в руки по палке, уселись на пол и принялись петь нищенские песни, причем по-польски. Когда после этого они выставили свои тарелки, им туда насыпали милостыню в счет бочонка пива. Трейтл и Мойше-Мендл взяли деньги и поблагодарили на манер гоев-попрошаек, смешно подражая их благословениям. Это вызвало всеобщий смех. Михл-Довид махом вскочил на стол и принялся отплясывать казачок. Моя мама хотела снять скатерть, но Михл-Довид не позволил.
— Ребецин, в Пурим можно плясать на скатерти, черт бы подрал Амана и батек его батьки до самого Амалека![127] — воскликнул он, притопнув ногой.
Потом спрыгнул со стола, завернулся в скатерть, как в талес, и стал изображать ангела.
— Ребецин, я ангел Михл, — закричал Михл-Довид. — Дайте мне две сметки, я их прилажу себе вместо крыльев.
Мама, из миснагедской семьи, не хотела давать сметки разошедшемуся хасиду. Но он сам не поленился и сбегал на кухню. Там Михл-Довид нашел два гусиных крыла, которые привязал веревкой к скатерти, чтобы выглядеть как настоящий ангел. Потом он взял горсть муки и выбелил себе лицо. Почему у ангела должно было быть вымазанное мукой лицо, я не знаю. Но реб Михл-Довид сделал именно так. В таком виде он вбежал в комнату моего отца и стал там отплясывать ангельский танец. Он парил как привидение. Хасиды хлопали в ладоши и радостно приговаривали:
— Вылитый ангел Михл!
Вдруг ангел Михл расставил руки, будто крылья, и вылетел прямо в окно.
Вернулся он в дом уже не на своих ногах. Его внесли. Его живые глаза были закрыты. Из одного текла кровь.
Увечье он получил не от падения, потому что окно было низко, почти над самой землей. Но от прыжка разбилось стекло, и осколок попал в левый глаз. Обмякшего, едва живого, с перепачканным мукой лицом, Михл-Довида внесли на скатерти с гусиными крыльями и положили на кровать, покрытую зеленым одеялом, на котором были вышиты желтые сказочные львы. Сразу же позвали фельдшера-гоя Павловского, жившего по соседству. Фельдшер, научившийся своим медицинским премудростям на военной службе во время турецкой войны и знавший всего два средства от всех болезней — клистир и йод, стоял, согнувшись, над простертым человеком с перепачканным мукой лицом и разводил руками.
— Я ничего не могу поделать, глаз вытекает, — сказал он.
Мужчины, вмиг протрезвевшие, стояли с опущенными головами. Мой отец обращался к меламеду, вытянувшемуся на кровати:
— Реб Михл-Довид, вы видите меня, реб Михл-Довид?.. Ответьте, реб Михл-Довид…
Реб Михл-Довид не отвечал. Его лицо, вымазанное мукой, напоминало лицо покойника. Из левого глаза продолжала бежать тонкая ниточка крови. Простые люди, сбежавшиеся в наш дом, стыдили хасидов.
— Хасидищи, пьяницы вы, а не евреи, — бормотали они, — такое несчастье…
Отец был мрачнее тучи. Мать плакала. Вдруг она вспомнила, что пора зажигать свечи, потому что Шушан Пурим тогда выпал на пятницу. Плача, она благословила субботние свечи, как всегда, раньше, чем следовало.
Я смотрел на своего меламеда, лежащего на зеленом одеяле с желтыми сказочными львами, лежащего молча, с выбеленным лицом, по которому тянулась тонкая ниточка крови, смотрел и злился на Бога, допустившего такую несправедливость, да еще и в праздник.
Это была черная суббота.
Отец приказал одному из подмастерьев пекаря запрячь лошадь и отвезти изувеченного меламеда в Закрочим[128], где был доктор.
Реб Михл-Довид не вернулся в Ленчин. Как мы узнали от людей, которые его впоследствии видели, он ослеп на левый глаз.
Я в первый раз еду на поезде, и со мной происходят всякие чудеса Пер. И. Булатовский
Для нас — меня и моей старшей сестры — было великим событием, когда мама летом отправлялась с нами в Билгорай навестить своих родителей.
Причин для поездки было несколько. Во-первых, маме хотелось повидаться с семьей; во-вторых, ей хотелось на время избавиться от своего одиночества в Ленчине; в-третьих, такое путешествие было выгодно при нашей бедности. Мама обычно проводила у деда несколько месяцев, а папа мог сэкономить часть своей платы в четыре рубля в неделю и заплатить долги, сделанные за зиму.
Кажется, папа ничего не имел против нашего отъезда. Ему слишком тяжело давались и заботы о заработке, и вечные мамины попреки из-за несданного экзамена. Ему хотелось хоть на несколько месяцев сбросить с себя это ярмо. Когда отец оставался один, местные хозяйки с удовольствием готовили и прибирали в нашем доме. Насколько они не могли сойтись с мамой из-за ее сдержанности и отчужденности, настолько же они симпатизировали отцу за его добродушие и открытость. Отец всегда ходил на торжества ко всем, кто бы его ни пригласил, даже к самым малопочтенным жителям Ленчина. Он со всеми беседовал, всем выказывал свою дружбу. И не для того, чтобы понравиться и добиться расположения, а вследствие своей безграничной простоты и добродушия. Люди платили ему той же монетой. Женщинам отец нравился еще и своей миловидностью и детской беспомощностью, и они готовили ему и присматривали за ним, когда мамы не было дома. Хасиды, которые при маме, происходившей из миснагедской семьи, чувствовали себя в нашем доме неуютно, в ее отсутствие устраивали в нем свои застолья. Трейтл-мануфактурщик и Мойше-Мендл-мясник, водившиеся с хасидами, варили на всю компанию каши и борщ с чесноком. Местный богач, реб Иешуа-лесоторговец, буквально затаскивал отца к себе домой каждую субботу и усаживал за стол на самое почетное место.
Мама знала, что оставляет папу в надежных руках, и поэтому почти каждое лето уезжала в Билгорай. Как только устанавливались погожие летние дни, она нанимала подводу, которая довозила нас до Вислы. Там мы переправлялись на крестьянской лодке на другой берег, где приставали пароходы, и на пароходе добирались до Варшавы. Оттуда ехали на поезде до Люблина или прямо до местечка Рейовец[129] Люблинской губернии, а уж оттуда тащились на повозке балаголы до Билгорая. В Билгорае, как в большинстве местечек Люблинской губернии, не было железной дороги из-за близости австрийской границы, так как царские генералы считали, что на случай войны с Австрией этой территории лучше оставаться без железных дорог. Поэтому дальше Рейовца поезда в Люблинской губернии не ходили. Дороги в Люблинской губернии, которую евреи называли «владения царя нищих», были скверные, все в рытвинах и колдобинах, так что проехать по ним удавалось только чудом. Однако на все это я не обращал внимания и был на седьмом небе просто оттого, что мы едем.
Уже сам переезд от Ленчина до парохода стоил всех сокровищ мира. С детства я безумно любил лошадей. Запах конюшни был мне приятнее любых благовоний. И я просто дрожал от счастья, если мне удавалось погладить мягкие дрожащие лошадиные ноздри или перебрать пальцами гриву. Как только балагола подъезжал к нашему дому, я бросался к лошади, гладил и ласкал ее. Запах сена, которым были набиты сиденья, казался райским. Если нас вез Ицик-Самоволка, он не разрешал мне садиться рядом с ним на козлы и брать в руки вожжи, так как считал, что это не подобает сыну раввина. Если же балаголой был Гершл-скотник, толстый краснощекий молочник, он позволял мне править. Держать в руках жесткие кожаные вожжи, смотреть на лошадь, прядающую ушами, встряхивающую на бегу гривой, упряжью и хвостом, было слаще меда. Как хорошо было понукать лошадь свистом, когда она останавливалась, чтобы сделать по-маленькому, или подносить ей ведро воды, когда она хотела пить. Сколько жизни было в струйках воды, выливавшихся из мягких лошадиных ноздрей. Мама видеть не могла, как я радуюсь лошади, слышать не могла моего свиста, который, честно говоря, не очень-то у меня получался.
— Шие, стыдно! — одергивала она меня. — Ты ведь уже учишь Гемору…
Мне не было стыдно. Я был готов отдать все Геморы на свете за одно только ржание моей лошадки.
Местность, по которой шел песчаный польский шлях, была однообразной, равнинной, но мне она казалась самой прекрасной в мире. Вдоль дороги паслись коровы, по лугам скакали жеребята. На залитых солнцем полях трудились крестьяне. Мы приветствовали их громким польским благословением:
— Шченшч Боже![130] (Бог в помощь!)
А они отвечали:
— Буг заплач![131] (Бог заплатит!)
Красные платки на головах крестьянок, белые гуси, кудрявые овечки, пятнистые телята, собаки, птицы — все купалось в солнечных лучах. Над низенькими крестьянскими хатами, крытыми соломой, вились дымки. Во многих хатах оконные рамы были разных цветов. Даже пугала, стоявшие на полях, чтобы отпугивать ворон, были чудо как хороши. Только кресты с голым Йойзлом, украшенные увядшими цветами, и святые матери, стоявшие вдоль дороги, казались мне чуждыми истуканами в прекрасном Божьем мире.
— Мама, смотри! — показывал я пальцем. — Смотри, аист на одной ноге! Смотри, белочка скачет на дереве!
Мама смотрела большими серыми глазами, в которых вместо радости была печаль.
— А вы знаете, что когда-то, в Земле Израиля, до того, как был разрушен Храм, у нас были свои поля? Евреи пахали и сеяли, женщины пасли овечек… Наши праотцы и праматери были пастухами. Пастухами были и Моисей, и большинство евреев в Земле Израиля. Теперь гои живут каждый под своей лозой и под своей смоковницей, а мы, евреи, в изгнании и отданы, несчастные, на поругание народам…
Так говорила она с болью в голосе, и в ее больших серых глазах стояли слезы.
Никогда я не видел, чтобы мамины серые проницательные глаза были такими мягкими, как тогда, когда она, сидя на подводе, так красиво описывала нам поля и овечек Земли Израиля. Однако я не мог забыть о радости, переполнявшей меня. Вскоре мы останавливались в деревне Сенцемин, где жило несколько евреев, помещичьих арендаторов. Изголодавшись по общению с соплеменниками, они радостно встречали нас, расспрашивали о своей родне в Ленчине и подносили нам свежее молоко в глиняных крынках.
— Пусть ребецин с детьми выпьет на здоровье, — просили они. — Для нас честь принимать таких гостей…
Неспокойные воды Вислы, через которую мы переправлялись на лодке, отливали серебром. Мама начинала тихо бормотать молитвы всякий раз, когда крестьянская лодка кренилась или раскачивалась на волнах, а мне это жутко нравилось. Это напоминало рассказ из Пятикнижия о Чермном море, которое перешли евреи. Воодушевлению моему не было предела, когда мы, наконец, садились на пароход, полный разных людей — и гоев, и евреев. Уже через несколько часов становились видны высокие здания и мосты Варшавы. Наш пароход входил под мост. Меня охватывал страх, потому что издалека казалось, что пароход заденет его трубами. Но он проскальзывал под мостом, дрожавшим от движения фур, омнибусов, трамваев и людей. По берегам реки мы видели скакавших на конях черкесов, под ярким солнцем их длинные черные накидки и косматые шапки выглядели очень странно.
В первый раз, когда мы подъезжали к Варшаве, я слегка забеспокоился. Всегда, когда мы, мальчики, просились в Варшаву, взрослые говорили, что нам туда нельзя, потому что у ворот города стоит большая женщина, сделанная из железа, и каждый мальчик, который проходит мимо нее, должен ее поцеловать, и к тому же в неприличное место… Поэтому я все спрашивал маму, где железная женщина. Мама улыбнулась и сказала, что об этой женщине мальчикам рассказывают, чтобы они не просили взять их с собой. Я почувствовал облегчение. Когда мы сошли на берег и взяли дрожки до Надвислянского вокзала, я был буквально ошарашен красотой большого города и, не зная, на что смотреть раньше, вертел головой во все стороны. На вокзале была суета и давка. Люди толпились, толкались, кричали. Важно ходили огромные жандармы. Я дрожал от их взглядов. Особенно я боялся за свои льняные, торчавшие пучками пейсы, потому что случалось, что жандармы отрезали евреям пейсы, которые по закону было запрещено носить. Меня беспокоили не сами пейсы, которые мне не слишком-то и нравились, а то, что жандармы, по слухам, отрезали их не ножницами, а ножом, что было очень больно[132]. Однако жандармы не тронули мои пейсы. Мама приказала нам — мне и моей сестре — держаться за руки и ни на секунду не отходить от вещей, пока она будет стоять в очереди за билетами.
— Если кто-нибудь предложит вам на что-нибудь посмотреть или за чем-нибудь пошлет, не ходите, потому что в городе полно воров! — предупредила она. — И держитесь за руки, чтобы не потеряться в толпе.
Понятное дело, что я не мог удержаться и все-таки пошел осматривать все закоулки, невзирая на предостережения сестры.
В вагоне третьего класса было темно. Все толкались, запихивали поклажу, ругались. Жандармы и кондукторы сердились. Женщины постоянно теряли детей и кричали в истерике. Пассажиры старались занять сидячие места и верхние полки. Евреи и гои препирались из-за мест. Одетые на немецкий манер литваки[133], у нас таких никогда не было, таскали бессчетные чемоданы и чайники с кипятком. Женщины кормили грудью младенцев, ели сами. Евреи сразу же собрали миньен и стали молиться. Литваки играли в карты, пили чай и потешались над польскими чмайерами[134]. Те в ответ обзывали их крестоголовыми[135]. Моя мама всего этого терпеть не могла. А мне все доставляло столько удовольствия! Я не упускал возможности смотреть в вагонное окошко, за которым леса, поля, деревни, телеграфные столбы и крестьянские домишки уносились назад как сумасшедшие.
По дороге мама всегда ругалась с «погонщиками». «Погонщики» эти заключали сделку с кондукторами и требовали денег с пассажиров, которые ехали без билета. Один такой «погонщик» до сих пор как живой стоит у меня перед глазами. Это был человечек с бурой бороденкой, одетый в бурый халатик, поверх которого болталась бурая кожаная мошна. Этот бурый человечек все время торопливо протягивал свои поросшие бурым волосом руки, требуя деньги.
— Отправляемся, отправляемся, по полтине с каждого, мужчины, женщины, што ка цаат, што ка цаат[136], — говорил он и собирал полтинники.
Громко пересчитав маму, сестру и меня, он потребовал заплатить полтора рубля…
— Поживее, тетенька, поскорее, што ка цаат, малахамовес[137] сейчас придет… Гони монету…
Когда мама показала ему билеты, свой полный и наши детские за полцены, человечек ее грубо обругал.
— Тоже мне, благодетельница фоньки-вора![138] — закричал он. — Не стыдно тебе! Отняла у еврея копейку…
Кондуктор, которого называли «малахамовес», злобно проштемпелевал наши билеты, но придрался к тому, что мы, дети, слишком велики для билетов за полцены…
Остальные пассажиры, не купившие билетов, его не интересовали. Неприятности были только у тех, кто прятался под скамьями. Мама всегда ворчала, что евреи не должны так поступать, потому что это некрасиво. Безбилетники смеялись над ней.
— Вы могли сэкономить пару рубликов, — заявляли они. — Фонька-вор не обеднеет…
Мама всегда предупреждала нас, чтобы мы никуда не уходили, держались за руки, а то потеряемся. Однако, несмотря на все ее предостережения, однажды мы все-таки потерялись. Я точно не помню, как это было, то ли мы пересаживались, то ли сломался паровоз, только вдруг все начали толкаться и куда-то бежать. Какой-то человек велел моей маме нести наши узлы, а сам взял нас, детей, на руки и протолкнулся в вагон. Когда поезд уже тронулся, мы огляделись и поняли, что мамы с нами нет. Сестра заплакала. Я не плакал, потому что мне не свойственно плакать даже в большом горе. Собрались люди и стали нас расспрашивать. На какой-то станции нас высадили из вагона и передали высокому жандарму. Я дрожал за свои пейсы и за свою жизнь, потому что с детства меня пугали полицейскими. Однако жандарм просто взял нас за руку и перевел через рельсы, над которыми мигали красные и зеленые огоньки. Потом он привел нас в комнату, где мужчины с металлическими пуговицами на одежде стучали по каким-то машинкам и часто упоминали мамино имя — Шева Зингер. Затем нас опять посадили в поезд. На какой-то станции жандарм высадил нас в темноту и стал кричать у параллельно стоящего поезда: «Шева Зингер! Шева Зингер!»
Вдруг мы увидели маму. Она обняла нас, плача и смеясь одновременно.
Добравшись до Рейовца, мы попадали в руки билгорайских балагол. Целое войско евреев с кнутами в руках набрасывалось на нас. Они рвали у нас из рук наши узлы, и каждый тянул в сторону своей буды.
— Когда едем? — спрашивала мама.
— Вот только напоим лошадей — и гайда! — заявляли балаголы, забрасывая наши узлы в буду, которая была уже битком набита тюками и мешками, бочками и бочонками.
— Пойдемте, дети, в заезд[139], — говорила мама, не веря обещаниям балагол поехать, как только они напоят лошадей.
На постоялом дворе толпились люди, которых никто не спрашивал, кто они такие и чего они хотят. Кто-то раздувал голенищем дымящийся самовар. Мама спросила какую-то тетку, нельзя ли достать для нас горячей еды. Тетка, кормя ребенка грудью, ответила, что если мы хотим бульона, то можно послать за шойхетом и зарезать для нас курицу.
— У вас довольно времени, — успокаивала она. — Они до захода солнца с места не сдвинутся…
Она не обманула. Балаголы продолжали грузить все новые и новые мешки, тюки и бочки. Потом они бежали за пассажирами, снова уходили и возвращались. Потом им надо было перековать лошадь, у которой ослабла подкова; поправить упряжь; все перевязать, упаковать и перепаковать. Буда была длинная, высокая, вся залатанная, увешанная ведрами и фонарями и до того набитая, что казалось, будто в нее и шпильку-то уже нельзя впихнуть. Но балаголы все продолжали набивать ее пассажирами и поклажей. Три костлявые лошади, запряженные в ряд, были перетянуты кожаными подпругами и веревками. После долгих приготовлений слышался наконец хриплый окрик балаголы:
— Вьо, дохлятины, гайда, слепая, пошла!
Буда сразу же затряслась по дороге, полной выбоин, колдобин, бугров и ям. В воздух поднялось и все окутало облако белой пыли. Пассажиры, прижатые друг к другу, тряслись, подпрыгивали, препирались, охали и вздыхали. Бочки с керосином воняли, мешки с мукой и солью пылили. Мама часто спрашивала, не жестко ли мне. Ее вопрос меня смешил. Кому жестко? Где жестко? Я был готов сидеть хоть на мешке с солью, хоть на втулке бочонка, лишь бы ехать в этой буде, слышать стук лошадиных подков, скрип колес, посвист балаголы и его частые хриплые окрики:
— Вьо, дохлятины, черт бы побрал на том свете ваших мамаш-кобыл… Вишто[140], слепая, шкуру спущу, если не будешь ровно идти в упряжке… Гайда, гайда, пошевеливайтесь…
Всю дорогу он был недоволен слепой лошадью и крыл ее на чем свет стоит.
Вскоре въехали в глухие леса графа Потоцкого. Поговаривали, что в них укрываются разбойники, было боязно, но при этом страсть как хотелось ехать и ехать этими лесами, и вдыхать их аромат, и слушать щебет птиц. Лесное таинство наполняло меня сладким ужасом.
Утром просыпались в каком-то местечке, по которому евреи с мешочками для талеса шли в синагогу. Пить чай в корчме и закусывать горячими лепешками с маком и луком — такие вкусные готовят только в Люблинской губернии — было лучше всего на свете.
Потом тряслись дальше, слезали с буды, когда она поднималась в гору, и залезали обратно, когда она спускалась с горы. Однажды буду занесло, и она перевернулась вверх колесами. Мужчины охали, женщины, запутавшись в своих платьях, вопили. Я был на седьмом небе от счастья. Потом снова погрузились, привязали поклажу, уселись, и балагола чуть не спустил шкуру со слепой лошади, которая перевернула повозку. Во всем была виновата слепая…
Так, трясясь и подпрыгивая, переворачиваясь и поднимаясь, тащились мы мимо еврейских местечек. В каждом у жителей было свое прозвище, и балаголы приветствовали их этим прозвищем. Когда они выезжали из Рейовца, то кричали: «Эй, тихо, как в Рейовце». Так в народе говорили об этом местечке. Жители Рейовца обзывали их в ответ «билгорайскими конскими хвостами», потому что в Билгорае обрабатывают конский волос. Когда проезжали мимо Пясок[141], было уже темно. Билгорайские балаголы начинали выкрикивать: «Пясковские воры, пясковские ма-ёкарники». Это был намек на то, что в пясковском бесмедреше нельзя произносить «Ма-ёкар»[142], накидывая талес на голову, потому что, прежде чем вы успеете закончить «Ма-ёкар», у вас украдут тфилн. Пясковские обыватели не оставались в долгу и называли балагол «билгорайскими кротиками» (контрабандистами). Подобное происходило и в других городах: в Красноставе[143] и Шебжешине[144], в Замостье и Янове[145]. Наши балаголы перебрасывались прозвищами и с другими балаголами, препираясь с ними о том, кто кому должен уступить дорогу; подтрунивали над проезжавшими крестьянами и приставали к крестьянкам. При этом они уступали дорогу скачущим мимо казакам и благодарили Бога, когда те уносились прочь с миром. Не всегда, правда, случалось благодарить Бога, потому что то и дело казаки ради удовольствия награждали балагол и даже пассажиров ударами своих нагаек.
Разные люди встречались на этих разбитых пыльных дорогах, по которым мы ехали и днем и ночью.
Наконец добирались до Билгорая. Женщины узнавали маму и радовались встрече.
— Быть не может, кого я вижу, раввинская Шевеле[146]! — восклицали они, щипля себя за щеки от удивления.
Мальчики из хедера пускались бежать к бабушке, чтобы сообщить ей о приезде гостей.
Начинались поцелуи и объятия. Все меня целовали — бабушка, тети, другие родственники, даже Этл-Неха, вечная служанка в дедушкином доме. Потом из своего кабинета на кухню выходил дед, который здоровался со мной и спрашивал меня что-нибудь из Торы. Потом приходили дяди, тети и их дети. Разговорам и расспросам не было конца. Бабушка, маленькая, с шелковым платком на голове, с длинными болтающимися серьгами и со связкой звенящих ключей и ключиков в кармане фартука, все не могла успокоиться, все суетилась, открывала шкафы и доставала из них разные угощения: лекех, тминный хлеб, печенье, медовые тейглех, слойки с вареньем и бутылки сока… Я готов был съесть все сразу, но мама просила меня вести себя прилично и не есть слишком много, потому что это может мне повредить или перебьет аппетит перед обедом — кашей с бульоном. Ну и придумает же мама! После такого длинного тряского пути я мог есть без конца…
Потом приходили гости, женщины в шелковых платках, которые хотели повидать маму… А в пятницу вечером начиналось настоящее веселье. Каждую минуту прибегала очередная девочка с тарелкой, на которой лежал кугл или изюм, миндаль или штрудель, и говорила бабушке:
— Поздравляем, ребецин, с гостями, мама посылает вам угощение…
Бабушка давала посланнице сластей и желала ей:
— Будь счастлива. Дай Бог тебе радости, девочка…
Девочка заливалась краской и убегала…
Дяди и тети устраивали у себя для нас кидуш, и я все лакомился, лакомился и лакомился. Затем дяди расспрашивали у мамы, как поживает Пинхас-Мендл, то есть мой папа. При этом они посмеивались, как посмеиваются в семье над неудачниками. Мне было досадно оттого, что они называют моего отца, раввина, домашним именем Пинхас-Мендл, как никто в Ленчине никогда его не называл. Но еще больше оттого, что они над ним снисходительно посмеиваются. Однако я не мог на них долго сердиться, потому что меня переполняла радость: ведь я был в новом для себя городе, вокруг новые мальчики, которые возьмут меня в свою компанию, но больше всего меня радовало то, что я был в дедушкином доме, полном его детей и внуков, родственников, гостей и всяких других людей. В этом раввинском доме все бурлило и двигалось, всегда кипел самовар и всегда пили чай с чем-нибудь вкусным.
После нашего безрадостного дома, после Ленчина, этот сытый, полный народа дом казался мне настоящим подарком. Маленькая бабушка, болтая длинными серьгами и позвякивая ключами, все время бегала вокруг короткими, частыми шажками и готовила что-нибудь для домочадцев.
— Этл-Неха! — звала она служанку. — Этл-Неха, присмотри за печкой…
В большой печке всегда что-нибудь пеклось и варилось.
Мой властный дед и бунтующая против него бабушка Пер. И. Булатовский
С первого взгляда личность деда произвела на меня захватывающее впечатление: я хоть еще и не понимал, но уже чувствовал ее значительность.
Осанистый, молчаливый дед был человеком высокого роста, костлявым и угловатым, с темными проницательными глазами, суровым, но благородным лицом, седыми пейсами и седой бородой. Не знаю почему, но я сразу же стал его бояться и в то же время полюбил. Я был не единственным, кто испытывал такие чувства. Большинство жителей Билгорая боялись и любили моего деда. Так же обстояло дело и с его собственными детьми, которые уже обзавелись своими семьями. Не только дочери, но даже сыновья, даже его старший сын, Йойсеф, билгорайский даен, который был всего-навсего на шестнадцать лет моложе своего отца, не отваживался заговорить с ним первым. Каждый раз, когда дяде Йойсефу требовалось зайти в кабинет к деду, он испытывал такой страх и почтение, будто он должен предстать перед справедливым и строгим судьей.
Единственным человеком в доме, а возможно, и во всем городе, который входил в кабинет деда без страха, была бабушка, маленькая проворная женщина в шелковом платке, углы которого вечно порхали под ее подбородком.
— Что он, император, что ли? — подбадривала она дядю Иойсефа, когда тот вертелся на кухне, не решаясь войти к отцу. — Ступай, ступай, он тебя не выпорет.
Всю жизнь она бунтовала против величия своего мужа, которого бабушкин отец, богатый человек, сторговал за большое приданое, когда она еще была двенадцатилетней девочкой. Простая женщина, которая, кроме молитв, тхинес и писания полуграмотных писем на идише, ничего не знала и не умела, бабушка была задавлена своим мужем, его ученостью, умом и мужской суровостью. Больше всего ее обижало его молчание. Дед буквально ни слова не говорил своей маленькой проворной женой, с которой прижил полдюжины детей. Со дня их свадьбы — тогда ему было пятнадцать, а ей четырнадцать — у них не было никакого общения. Дед уже тогда был широко известен как «мациевский илуй», с которым раввины вели ученые споры, а она была простой, маленькой девочкой, которая даже после свадьбы делала себе тряпичных кукол и играла с ними, к ужасу своей матери, которая считала, что молодая жена не имеет нрава быть такой ребячливой. Мужу и жене не о чем было говорить друг с другом. Да и о чем они могли говорить? О Торе? О религии? Так и не начав разговаривать с мужем, бабушка зато начала рожать детей. В пятнадцать лет у нее родился первый сын, а потом каждый год — по ребенку. К восемнадцати годам дед уже был раввином, сперва в Порицке, потом в Мациеве, позднее в Билгорае. Он становился все ученее и мудрее, а она оставалась все той же простой женщиной, которая, кроме кухни и заботы о детях, кроме тхинес и молитв, в которых она не понимала ни слова, ничего больше не знала. У деда был кабинет[147], в котором он занимался Торой, судебными тяжбами, общинными делами, ойрехами, гостями. У бабушки была большая кухня с печью, шкафами, кладовками, закутками. Между кабинетом и кухней были только сени, где стояла большая бочка с водой. Однако даже океан не мог бы разделить мужа и жену сильнее, чем их разделяли эти узкие сени. Мир кабинета не имел ничего общего с миром кухни. Дед упрямо игнорировал этот женский мир. В доме поговаривали, что за последние пару десятков лет он буквально не сказал бабушке ни слова, кроме тех случаев, когда ему требовался ее ответ на какой-нибудь конкретный вопрос. Бабушка терпела, стыдилась и бунтовала против своего мужа. Но ее бунт происходил за его спиной. Она не могла досадовать на деда за то, что он с ней не разговаривает, потому что не знала, о чем таком он мог бы с ней поговорить, да ее сетования и не имели бы никакого результата, потому что дед бы их проигнорировал и не ответил бы на них. Когда бабушка к нему обращалась, он смотрел в книгу и молчал. Поэтому бабушка пыталась взбунтовать против него детей, особенно своего первенца, Йойсефа, который был всего-то на пятнадцать лет моложе нее, он ведь и сам был священнослужителем, билгорайским даеном.
— Что он, император, что ли? — подбадривала она дядю Иойсефа, когда тот боялся войти в кабинет деда. — Ступай, ступай, он тебя не выпорет.
Дядя Йойсеф выслушивал слова бабушки, с которой чувствовал себя очень свободно, как будто она не была его матерью, но продолжал бояться.
— Кто боится, мама? — оправдывался он. — Я просто не хочу заходить в кабинет…
Остальные дети еще больше, чем дядя Йойсеф, боялись заходить к деду. Охотнее всего они проводили время в бабушкиных владениях, на ее большой кухне. Если дед раз в сто лет и заходил туда, чтобы позвать Шмуэля-шамеса, который все время сидел в кухне и гонял чаи вприкуску, все дети и внуки начинали суетиться, как солдаты, когда генерал неожиданно заходит в казарму. Все вскакивали с мест, даже дядя Йойсеф, хотя он уже много лет был городским даеном.
С дочерями дед разговаривал так же мало, как с их матерью. Исключением была моя мама, с которой он время от времени беседовал, когда она приезжала погостить из Ленчина. Среди всех женщин в доме только она одна была ученой и, что называется, с мужским умом. Дед нередко жалел, что мама не родилась мужчиной.
— У Башевы мужская голова, — говорил он. — Жаль, что она женщина.
С мамой дед мог говорить о книгах, о высоких материях. Мама гордилась этим, а сестры ей завидовали. Однако даже с мамой дед не пускался в откровенности. Она все-таки была женщиной. После долгого разговора он коротко спрашивал ее о доходах, о детях. Затем, с усмешкой, — о моем отце.
— Что поделывает Пинхас-Мендл? Он все еще не хочет разговаривать с губернатором? — спрашивал он со скрытой иронией.
— Нет, папа, — вздыхала мама.
— Что ж, надо бы выучиться, — говорил дед, чтобы не сказать невзначай чего-нибудь плохого о своем зяте. — Хватит лениться…
Мама возвращалась на кухню, в женские владения, где царствовала бабушка.
Мне тоже хотелось сидеть на кухне, полной женщин и вкусной еды, но дед не позволял мне этого и вытаскивал к себе в кабинет — к Торе и религии.
— Кухня — не место для мальчика, Иешуа, — говорил он, и я — в отличие от своего поведения в отцовском доме — не осмеливался ослушаться.
На следующий день после нашего приезда дед послал Шмуэля-шамеса за геморе-меламедом реб Йошеле и отдал меня в его хедер на время, которое мы собирались провести в Билгорае.
Ночевал я в кабинете деда, на лавке, на которую днем усаживались билгорайские обыватели, приходившие к нему по делам. На ночь широкая верхняя доска раскладывалась, и на этой лавке мне стелили постель. Дед следовал распорядку дня по часам. В десять — половине одиннадцатого он ложился спать в своей спальне, которую делил с бабушкой. В это же время я должен был идти спать на лавку в его кабинет. Ровно в три часа ночи дед вставал, омывал руки[148], сам ставил самовар, а потом долго, до самого утра, занимался или писал толкования в своем кабинете. За работой он потихоньку пил чай из самовара. Я нередко просыпался и видел, как он сидит за столом, занимается и пьет чай. Я никогда не мог понять, как человек способен поглотить столько чая и Торы. Несмотря на то что просторный кабинет, заставленный книгами по всем стенам от пола до потолка, был погружен в густую тень и только лицо деда и его открытая книга были слабо освещены в окружающем сумраке, я чувствовал себя ночью в безопасности, под защитой моего деда, и снова засыпал с этим спокойным чувством. Ровно в половине восьмого дед будил меня, приказывал омыть руки и одеться. Бабушка, которая тоже вставала засветло и готовила завтрак для всего дома, звала меня в кухню, давала стакан чая с коричневым топленым молоком, которое всю ночь томилось в большой печи.
Ровно в восемь, минута в минуту, дед уходил молиться в синагогу, которая была рядом с домом. Высокая старая синагога с тяжелыми бронзовыми люстрами и круглыми окнами, в которые любили влетать и вылетать птицы, была уже полна простых людей, ремесленников, которые приходили на раннюю молитву. Каждый приветствовал деда: «Доброе утро, раввин!» Дед молился громко, с воодушевлением, которое совсем не вязалось с его миснагедской суровостью. Простые люди смотрели на него с любовью, гордые тем, что он молится не с хасидами и богачами в хасидских штиблах, а с простонародьем в синагоге и к тому же по ашкеназскому нусеху. Утренние молитвы отражались от стен синагоги долгим эхом. Я не отваживался отойти от дедовского штендера.
Сразу же после молитвы, не задерживаясь ни на минуту, дед шел домой завтракать. Бабушка накрывала ему завтрак в кабинете — хлеб с маслом и кашу с молоком. Потихоньку, тайком от бабушки, дед давал мне гривенник. С большой тяжелой монеткой я отправлялся в монопольку[149] и покупал маленькую бутылку водки с зеленой этикеткой. Дед любил выпить за завтраком, но скрывал эту слабость, которой стыдился. Других слабостей у него не было. Он не курил, не нюхал табак. Я гордился тем, что у нас с дедом есть секрет, о котором никто не знает. После завтрака дед ложился на два часа вздремнуть. Он это делал потому, что, во-первых, не высыпался ночью, а во-вторых, потому, что не хотел решать никаких вопросов после стаканчика водки. Если кто-нибудь приходил с вопросом, его отсылали к дяде Йойсефу-даену. Проспав ровно два часа, дед вставал и приступал к своим раввинским обязанностям.
Его кабинет всегда был полон женщин, которые приходили с вопросами[150] или просили его благословения для больного. Хотя дед был миснагедом, он всегда омывал руки и произносил молитву во здравие, называя при этом имена больного и его матери[151]. Мясники приносили окровавленные потроха, которые имели изъян, чтобы раввин установил, кошерно ли мясо забитого животного или нет[152]. Городские шойхеты тоже приходили к деду, чтобы показать свои ножи[153].
В Билгорае было два шойхета: реб Липе и реб Авремл.
Реб Липе был широкоплеч, с широкой бородой и густыми пейсами; он ходил широкими шагами спокойного, важного, медлительного и уверенного в себе человека. Его ножи, которые он приносил в просторных, почтенных футлярах, были такими же сияющими и широкими, как он сам. Реб Липе открывал футляр с великим достоинством, обтирал блестящий нож рваным женским чулком и проходил острием по своему огромному шойхетскому ногтю.
Настолько же, насколько реб Липе был широк, толст, спокоен и самоуверен, настолько же реб Авремл был высок, худ, раним, растерян и беспокоен. Его бороденка была редкой и клочковатой, его длинные руки не находили себе места, его голос был высок и как будто все время дрожал от испуга. При всей своей долговязости реб Авремл носил капоту, которая была ему длинна. Эта капота буквально волочилась у него под ногами. Вдобавок он был весь забрызган кровью и покрыт птичьими перьями. Судя по всему, он не снимал эту капоту во время работы — она была пропитана кровью и хлопала его по ногам так, будто полы у нее были жестяными. Из ее задних карманов всегда торчала целая мясная лавка, потому что у реб Авремла была привычка бросать в эти большие карманы всякие печенки-селезенки, которые мясники отдавали ему для его жены. Мои дяди, насмешники, прозвали реб Авремла петухом, потому что он с ног до головы был покрыт перьями и своей худобой и суетливостью напоминал петуха. Однако в нем не было петушиной боевитости. Наоборот, он был стеснителен, замкнут, вечно неуверен в своих ножах, вечно сомневался, не сделал ли он, не дай Бог, трефной скотину или птицу. Реб Авремл всегда боялся, что он недостаточно хорош для своего святого ремесла. При этом он был человеком очень гостеприимным и, при всей кровавости своего занятия, таким мягкосердечным, что буквально не мог выносить ничьего недовольства. Дед был очень высокого мнения об этом реб Авремле из-за его глубокого благочестия и постоянной боязни неверной шхиты.
Вслед за шойхетами являлись люди с тяжбами и общинными делами. В кабинете всегда было многолюдно. Часто дед надевал субботнюю одежду и в сопровождении Шмуэля-шамеса шел в синагогу на обрезание, куда его приглашали быть сандеком. Обрезания в Билгорае обычно справляли в синагоге, на специальной, покрытой шелком скамье, на которой было начертано: «Кисе шел Элиёгу»[154]. Дед был сандеком на каждом обрезании. Однако на трапезы в честь обрезания он никогда не ходил, даже к весьма ученым или богатым людям[155]. Те, кто устраивал праздник, обычно одаривали Шмуэля-шамеса медовыми пряниками, украшенными надписью «мазл-тов»[156] — для дедовых внуков. Я очень радовался этим пряникам, хотя шамес обычно носил их в кармане штанов вместе с табаком, которым они потом пахли…
Иногда дед очень неохотно ходил в городской суд приводить евреев-свидетелей к присяге на Торе. На столе судьи стояли кресты и распятия, и дед не мог спокойно смотреть на это идолопоклонство. Тем не менее ему приходилось это делать: таковы были его раввинские обязанности.
— Эх, Господи, — вопрошал он после в своем кабинете, — эх, Отец Небесный, сколько же еще нам быть в изгнании?
Я учился в хедере реб Йошеле только до трех часов. Реб Йошеле был тихим старичком, который тихо говорил, тихо учил, никогда никого пальцем не тронул и ладил со всеми своими учениками. Его жена была такой же тихоней. Она называла его Йошеле, а он ее — Ривкеле. Посреди учебы старик мягко просил ее:
— Ривкеле, налей мне стаканчик чаю немного подкрепиться.
И она, еще мягче, отвечала:
— Зараз, Йошеле, уже несу…
Из-за своей старости реб Йошеле учил только до трех часов. Для учеников это было великим счастьем. Мы бежали на Пески, где в длинных казармах квартировал полк казаков с красными лампасами на штанах, с одной свешивающейся с головы «пейсой»[157] и нередко с серьгой в ухе. Ученик из нашего хедера жил там, на Песках, где его родители держали лавку всяких товаров для солдат, от семечек до письменных принадлежностей, кваса, ваксы, зельтерской воды, конфет и тому подобных «редкостей». Поэтому мы ходили с этим мальчиком на Пески смотреть, как офицеры муштруют казаков, как кавалеристы с длинными пиками в руках пускают своих лошадей галопом, спрыгивают с них и вскакивают в седло на всем скаку. Часто казаки пели или играли музыку. Рядом с офицерскими домиками стояли часовые с саблями наголо. Казаки чистили перед конюшнями коней. Иногда на своих лошадях проезжали офицерши в длинных платьях и лакированных сапожках. А в нескольких шагах за госпожой ехал услужающий ей казак. От всего этого я не мог глаз оторвать.
Кроме казаков, в городе стояла часть пограничников, «объездчиков» в зеленых мундирах. Они патрулировали Билгорай, находящийся близ австрийской границы, выслеживая тех, кто нелегально переходит границу[158], и контрабанду из Австрии. Пограничники часто врывались в еврейские дома и прощупывали штырями пол[159] в поисках спрятанных товаров. Разумеется, они искали только у тех, кто не давал им взяток. Тот, кто договаривался с «объездчиками», торговал с австрияками открыто и свободно. Эти пограничники не меньше казаков завораживали нас своими мундирами и своими штырями, которые они всегда носили с собой, готовые воткнуть их в любой мешок, в каждый подозрительный участок пола, чтобы нащупать контрабанду.
Учитель для женщин реб Ихил. В суде моего деда Пер. И. Булатовский
Кроме хедера реб Йошеле, я учился чистописанию у Ихила, билгорайского учителя для женщин.
Насколько далеко простирались знания этого учителя, я не могу сказать. Однако в его доме учились письму все еврейские мальчики и девочки города. Вместе с детьми за столом сидело несколько взрослых девиц, швей и служанок, которые готовились к подписанию помолвки и приходили, чтобы научиться подписывать свое имя. Ихил-учитель сам делал тетради для своих учеников и учениц. Он сшивал нитками длинные листы бумаги, разрезал их, разлиновывал с помощью линейки и карандаша и писал на строчках буквы карандашом, а потом требовал выводить рядом такие же, но уже пером и чернилами. Тем, кто уже умел писать, он диктовал письма из письмовника[160]. Я до сих пор помню письмо, которое должен был написать под диктовку, — от некоего Альфреда к его «хохгешецтер брот»[161] Элизабет. Слова были почти сплошь немецкие, а подписался я «хохахтунгсфоль, дайн бройтигам Альфред»[162]. Я никак не мог понять, почему Элизабет называют «брот», что звучало в моих ушах как «бройт»[163], но Ихил-учитель не позволял задавать вопросы — нужно было только писать и писать красивым почерком.
— Главное, дети, почерк, — говорил он, расхаживая по комнате, полной его дочерей, одна из которых была глухонемая, но при этом очень веселая и шумливая. Никакой шум не мешал ему, этому Ихилу-учителю. В халате с разлетающимися полами, заложив руки за спину или чуть пониже спины, он шагал туда-сюда по комнате, диктуя свои полунемецкие письма, или бился с девицами на выданье, уча их подписывать свое имя. Реб Ихил часто прерывал занятия, чтобы выйти в свою лавочку, примыкавшую к классной комнате, и продать что-нибудь покупателю. Лавочка была крохотной, всего ничего. Весь товар состоял из мешка тыквенных семечек, которые по грошу за меру с гаком продали проезжавшие мимо казаки, бочонка ворвани, которой мужики и простые евреи прямо в лавке смазывали за три гроша свои сапоги, и из нескольких мешочков «благовоний» — лавровых листьев и каперсов, которые хозяйки покупали для засолки огурцов и других заготовок. Время от времени к учителю вбегала какая-нибудь запыхавшаяся девочка и просила:
— Реб Ихил, дайте мне за полгроша оберточной бумаги для бабки и за полгроша кореньев…
— Зараз дам, — говорил Ихил-учитель и прерывал урок.
В Билгорае вместо «на грош» или «на полгроша» говорили «за грош» или «за полгроша», а вместо «сейчас» — «зараз»…
Мне очень нравились уроки Ихила-учителя. Я любил разглядывать девиц на выданье, у которых перо ни за что не хотело держаться в натруженных руках и ломалось или забрызгивало бумагу чернилами. Я любил слушать любовные песни дочерей Ихила, которые они все время пели. Они шили форменные рубахи для казаков, и, хотя работа была тяжелой, однообразной и плохо оплачиваемой, их пение никогда не смолкало. Среди самых любимых песен дочерей реб Ихила была песня о смерти птички; песня о девушке, которая сбежала с хлопцем и крестилась, но все для нее закончилось плохо, и ей пришлось стирать белье у евреев; а также — песня о благочестивой швее:
Как-то раз девушка-швея Шила у окна, Мимо шел ротный офицер, Полюбилась ему она. — Девушка, девушка, как ты хороша! Хочешь быть со мной? Девушка, девушка, ты моя душа, Будь моей женой! — Быть твоей женой, офицер, я не могу, Не велит закон, Быть твоей женой никак я не могу, Ведь ты крещен. Как услышал это ротный офицер, Не на шутку вспылил, Выхватил он сразу свой пистолет И бедняжку застрелил… Встретив пулю, упала она, Выронив шитье, Поднял он снова свой пистолет И выстрелил в сердце свое…[164].Девицы на выданье, которые учились подписывать свое имя, оплакивали участь благочестивой швеи, и их слезы капали на чистую разлинованную бумагу тетрадок, сшитых Ихилом-учителем. Проворнее всех в шитье рубашек и громче всех в пении любовных песен была немая дочь Ихила. Она завывала дико и страстно, словно сука по весне, когда ее не пускают к кобелям.
Освободившись от занятий в хедере и у Ихила-учителя, я пробирался в кабинет деда и с любопытством наблюдал, как он исполняет свои раввинские обязанности.
В кабинете всегда было многолюдно. Там проходили общинные сходы и разрешались тяжбы. Разные люди, порой из дальних мест, приходили к деду: и погорельцы, и зажиточные хозяева, и сборщики денег, и авторы религиозных сочинений[165]. Иногда появлялся какой-нибудь еврей из Святой Земли, одетый в полосатую, как будто женскую, жупицу[166] и разговаривал с дедом на святом языке или даже на языке Таргума. Среди прочих попадались весьма занимательные типы и занимательные разговоры. Больше всего мне нравилось, когда в кабинете деда разводились супруги, не сумевшие ужиться друг с другом. С просьбой о разводе приходили не только из самого Билгорая и его окрестностей, но и из соседних местечек, где не было реки, из-за чего там нельзя было написать разводное письмо. По еврейскому закону, в документе о разводе обязательно должно быть указано, что совершен он в такой-то и такой-то общине на такой-то и такой-то реке[167]. В Билгорае река была, и поэтому туда приходили разводиться из многих лишенных реки местечек. Сойфер вместе со свидетелями садились за стол деда[168]. Разводящаяся пара стояла. Дед задавал одни и те же вопросы мужу и жене:
— Ты, Зеев-Цви, по прозванию Волф-Гирш[169], желаешь ли ты развестись со своей женой Эстер-Адасой, по прозванию Этл-Годл?
— Еще бы! Она у меня что кость в горле, ребе! — отвечал муж.
— Отвечай просто «да», и ни слова больше, а то испортишь весь развод, — сердился Шмуэл-шамес на человека, говорившего больше, чем положено.
Дед спрашивал у женщины, надвинувшей платок на глаза, чтобы не показывать лицо мужчинам:
— Ты, Эстер-Адаса, по прозванию Этл-Годл, желаешь ли ты по доброй воле принять развод от своего мужа Зеева-Цви, по прозванию Волф-Гирш, или принуждена к этому им, его родственниками или кем иным?.. Если у тебя есть сожаление, если у тебя есть малейшая тень сожаления[170], если у тебя есть, что поведать, поведать нам хоть самую малость, если у тебя есть даже малейший помысел о сожалении, не скрывай ничего и выскажи перед судом…
— Говори «нет», женщина, только одно слово, чтобы не испортить развод, — предупреждал ее Шмуэл-шамес.
— Нет, — говорила женщина.
Однако не всегда все проходило так гладко. Нередко женщина, вопреки всем предостережениям, начинала браниться, поносить своего мужа на чем свет стоит, и тогда церемония развода считалась испорченной — приходилось все начинать сначала.
Получить у деда развод было нелегко. Он всеми силами старался помирить супругов. Только когда ничего уже не помогало или, к примеру, в семье через десять лет после свадьбы не было детей[171], дед давал разрешение на развод. Частыми гостями в суде у деда были муж с женой из ближней деревни, которые все время разводились, женились, снова разводились, и так без конца. Я не помню, как их звали и из какой деревни они приезжали. Помню только, что муж делал горшки и продавал их на рынке. Оба были уже в летах. Всех своих детей они поженили и выдали замуж и все-таки продолжали ссориться и ходить к деду разводиться. Дед отсылал их домой на неделю, чтобы они помирились, но через неделю они снова являлись и снова добивались развода.
— Ребе, я видеть больше не могу эту проклятую! — кричал горшечник.
— Лучше уж я пойду побираться, чем стану есть хлеб этого разбойника! — заявляла горшечница.
Ничего не оставалось, как развести их.
Шмуэлю-шамесу не приходилось объяснять им, как отвечать на вопросы. Они и так все знали назубок. Горшечник и его жена являлись разводиться в субботних одеждах, как на праздник. Особенно принаряжался перед разводом горшечник. Только штаны он не менял. На нем всегда были измазанные глиной рабочие штаны, правда, поверх будничных штанов он напяливал субботнюю капоту. Она была ему мала и коротка, наверняка он в ней когда-то женился, но все равно это была субботняя капота, обшитая тесьмой и с белыми костяными пуговицами. В доме деда знали: если горшечник пришел в субботней капоте, значит, он пришел разводиться. В той же капоте он спустя неделю приходил жениться на своей бабе, с которой только что развелся. Шмуэл-шамес, бывший также в некотором роде шадхеном, знал наперед, что дело опять кончится сватовством. Сидя у бабушки на кухне и без конца гоняя чаи с одним куском сахара вприкуску, Шмуэл-шамес с удовольствием рассказывал о том, как ему это удается. Первые несколько дней он горшечника не трогает. Потом идет к нему в пригородную деревню. В доме горшечника беспорядок, печь не топлена, постели не застелены. Горшечник сидит один, печальный и голодный.
— Как поживаете? — спрашивает его Шмуэл-шамес.
— Ох, тяжко мужчине одному, без бабы, — жалуется старик. — Некому картошки сварить, некому прибраться. Не дом, а богадельня.
— Нужно вам жениться, — говорит ему шамес.
— Какая же приличная женщина пойдет за меня, бедняка? — заявляет горшечник. — А возьмешь опять в дом какую-нибудь дрянь, так она тебя со свету сживет, не даст покоя на старости лет.
— А знаете что: возьмите обратно вашу старую жену, — предлагает Шмуэл-шамес. — Она уже привыкла к вашему дому, знает, что вы любите, а что нет, все ваши причуды ей известны… Вы тоже к ней привыкли. Никого лучше все равно не сосватаете…
Поначалу старик, понятное дело, упирается. Ему не хочется просить прежнюю жену вернуться. Однако Шмуэл-шамес, человек красноречивый, совершенно ясно доказывает ему, что так суждено, и продолжает его обрабатывать. Точно так же он обрабатывает старуху. Горшечник снова надевает свою субботнюю капоту и приходит к деду, чтобы договориться о свадьбе. Обручальное кольцо у горшечника есть еще с первой свадьбы. Шмуэл-шамес созывает миньен[172] из числа завсегдатаев бесмедреша, жених ставит водку с лекехом и снова счастлив.
— Но теперь должен быть мир, — говорит мой дед. — Хватит разводиться!
— Ребе, вот вам моя рука! — восклицает горшечник. — Чтоб я так…
Дед не пожимает руку горшечника, потому что заранее знает, что слова своего тот не сдержит. Через несколько недель старик снова является в своей субботней капоте. Сразу ясно, что он пришел разводиться…
Эта пара и другие разводящиеся были для меня источником истинного наслаждения. Я с любопытством вглядывался в их жесты и гримасы, вслушивался в их жалобы и обвинения, оскорбления и крики. Мне не надоедало снова и снова выслушивать тяжбы, бракоразводные процессы и долговые споры. Однажды, помню, пришел один белфер, чтобы расторгнуть помолвку со своей невестой, потому что сват не дал ему приданого, которое обещал. Тяжба была бурной. Сват кипятился, невеста плакала, сватья вопила. Моя бабушка, не в силах видеть страдания невесты и ее семьи, попыталась примирить враждующие стороны, хотя дело происходило в раввинском кабинете, а не в ее кухонных владениях.
— Разве можно так унижать дочь Израилеву? — стыдила она белфера за то, что тот хочет расторгнуть помолвку[173]. — Разве может еврей поступать так вопиюще несправедливо?
Вдобавок к этому бабушка привела в пример белферу праотца Иакова и праматерь Лию, о которых она читала в своем Тайч-Хумеше[174]: «Когда Лаван одурачил Иакова и отдал ему Лию вместо Рахили, Иаков, как говорит рабейну Бехай[175], знал, что это Лия, а не Рахиль, но не подал вида, потому что не хотел позорить Лию». Вот так должен поступать еврей, а не унижать дочь Израилеву, заключила бабушка.
Белфер выслушал историю до конца и рассмеялся.
— Я же не такой дурень, как праотец Иаков, — сказал он. — Меня не одурачишь…
Бабушка заткнула уши, услышав слова, оскорбляющие праотца Иакова.
— Грубиян ты и бесстыдник, — воскликнула она и торопливыми шажками убежала к себе на кухню, звеня при этом всеми своими ключами и ключиками.
Помню, как однажды мой дед и его шамес намучились с одной бабенкой, которая не выговаривала букву «цадик». Этой бабенке требовалось получить халицу у своего деверя, потому что ее муж умер бездетным. Неделями она вела тяжбу с деверем из-за халицы. Деверь, распоследний бедняк, требовал за халицу от невестки вознаграждения: бесплатно он ей халицу не даст, а без халицы она не сможет снова выйти замуж. Бабенка утверждала, что у нее нет ни копейки за душой, потому что она все потратила на лечение мужа. Дед говорил деверю, что требовать денег за доброе дело — освобождение дочери Израилевой — неправедно. Однако молодой человек стоял на своем: если его невестка хочет снова выйти замуж, пусть раскошеливается. Бесплатно он не даст ей никакой халицы. Между двумя бедными, несчастными людьми шла жестокая распря. В конце концов деду удалось добиться, чтобы женщина заплатила своему деверю сто злотых, что, если не ошибаюсь, соответствовало пятнадцати рублям. Первоначально деверь требовал сто рублей. Был назначен день халицы. Однако когда Шмуэл-шамес стал учить эту бабенку произносить стих «холуц генал»[176], которые она должна была произнести на церемонии, оказалось, что женщина не выговаривает букву «цадик» в слове «холуц» и вместо этого слова говорит «холус» — с «самехом» на конце. Из-за этого ей нельзя было дать халицы. Дед отложил свои занятия с Тодресом, весьма ученым молодым человеком, и стал учить эту бабенку произносить букву «цадик».
— Скажи «холуц», — учил он ее, — холуц, холуц…
— Холус, — говорила бабенка.
Шмуэл-шамес тоже старался изо всех сил:
— Скажи «гриц», «хиц», «щвиц»[177]… — кипятился он.
Бабенка повторяла все слова правильно, но, как только дело доходило до слова «холуц», она снова говорила его с ошибкой. Шамес взорвался.
— Дура! Если ты можешь произнести «гриц» и «хиц», почему ты не можешь выговорить «холуц»? — не понимал он.
Дед прервал разгневанного шамеса и заговорил с бабенкой по-доброму, взывая к ее разуму.
— Постарайтесь сказать слово правильно, иначе вы не получите никакой халицы и испортите себе жизнь. Я и так с трудом убедил вашего деверя дать халицу.
Бабенка краснела от стыда, плакала, но никак не могла правильно повторить слово, которое от нее требовалось.
Похоже, Шмуэл-шамес в самом начале очень напугал ее тем, что она может сказать по ошибке «холус» вместо «холуц». Она боялась, что из-за одной буквы останется несвободной на всю жизнь, и это так поразило несчастную, перепуганную бабенку, что у нее разлился комплекс и она, как только должна была произнести букву «цадик», буквально каменела от страха. Но Шмуэл-шамес объяснял это дело по-простому.
— Она тупое животное, — сказал он бабушке, которая тоже пыталась научить бабенку правильно произносить нужное слово. — Жаль ваших стараний, ребецин, она останется вдовой до самой смерти.
Но мой дед не сдавался. Он всегда был очень настойчив, когда речь шла об освобождении дочерей Израилевых, оставшихся, к примеру, агунами. Дед расспрашивал свидетелей, писал письма и респонсы, — все для того, чтобы дело, не дай Бог, не дошло до греха. Вот и сейчас он очень старался, чтобы эта женщина смогла получить халицу и снова выйти замуж. Дед, отложив свои ученые занятия, день за днем сам учил несчастную женщину, беседовал с ней, успокаивал ее добрым словом, пока не добился своего и она не начала, наконец, правильно выговаривать букву «цадик». В вайбер-шул на церемонию халицы собрались все от мала до велика. Сапожник, самый большой в городе портач, принес деду на проверку сделанный им башмак для халицы[178] — огромный, неуклюжий, с кожаными шнурками. То был, наверное, единственный новый башмак, который за всю свою жизнь сшил этот заплаточник. Дед нашел, что башмак соответствует закону, и приказал приступать к церемонии. Шмуэл-шамес принес таз с теплой водой и мыло и на глазах у всех собравшихся в вайбер-шул помыл дающему халицу ту ногу, на которую ему должны были надеть этот башмак. Шамес мыл ногу долго и тщательно, будто покойника, а затем подстриг ногти. Молодой человек явно нуждался в мытье, причем не одной, а обеих ног, однако Шмуэлю-шамесу было приказано помыть только одну ногу, что он и сделал. Другая нога была не его забота. Дающий халицу, с одной помытой ногой и другой — грязной, позволил надеть себе на ногу башмак для халицы, явно гордясь тем, что его моют и обувают. Затем могильщик принес доску для омовения покойников[179] и поставил ее в углу. На собравшихся напал страх. Считалось, что за доской находится душа умершего бездетным мужа, который явился на халицу своей вдовы, и поэтому в угол смотреть нельзя, а то, не дай Бог, навредишь себе. Меня, как всегда, хоть я и дрожал от страха, тянуло взглянуть, пусть и с риском для жизни, туда, куда глядеть не следовало. Дед приказал вести себя тихо и начал обряд. Бабенка, прикрывая лицо шалью в присутствии мужчин, дрожа, повторяла слова за дедом и плакала. На мгновение возникло опасение, что она опять испугается буквы «цадик» и испортит всю церемонию. Однако все обошлось. Лицо моего деда просияло. Женщина «отплевалась» от своего деверя. Потом отбросила башмак для халицы. Все тут же мгновенно расступились, потому что считалось, что тот, кого заденет отброшенный башмак, не проживет и года.
На эти и другие подобные дела я успевал вдоволь наглядеться в доме моего деда в течение летних сезонов, которые мы с мамой проводили в Билгорае.
Так же, как в кабинет деда, в бабушкины владения, на кухню, тоже приходило множество женщин со своими горестями и радостями, ссорами и заботами. И я часто ускользал из дедушкиного кабинета и перебирался на просторную кухню, в женские владения.
Женское царство на кухне Пер. И. Булатовский
Несмотря на то что владения бабушки были на кухне, не слишком-то почетном месте для царствования, бабушка правила своим женским царством с великим достоинством.
Раввинский дом всегда был битком набит народом. Во-первых, там жил дядя Иче со своей женой Рохеле и двумя детьми. Дядя Иче был еще молод. Он без конца курил папиросы, умел писать по-русски каллиграфическим почерком, получил раввинскую смиху и даже заглядывал время от времени в старые русские газеты, которые брал почитать у одного городского чиновника. Также он вел для деда метрические книги и выписывал метрики[180]. Одним словом, он был разносторонне образованным человеком, который знал все. Однако его незадачливость не уступала его образованности. Ему никак не удавалось добиться никакого заработка. Поэтому он пребывал с женой и детьми на вечном содержании у деда. Поскольку дядя Иче был младшим среди своих братьев и сестер и любимчиком бабушки, он капризничал, как единственный ребенок, и, съев что-нибудь, делал этим бабушке большое одолжение. В доме также жили две взрослых девушки — дочери тети Соры, которая после смерти своего первого мужа, снова вышла замуж и уехала ко второму мужу в местечко Тарногрод[181]. Трое ее детей от первого мужа жили у деда. Дед считал своей обязанностью воспитывать сирот Симеле и Тойбеле как своих собственных дочерей, чтобы потом выдать за хорошо образованных людей, дав им приданое и содержание. Вместе с ними в доме жил их брат Эля, парнишка, который все время сидел и учился. Часто на побывку приезжала дочь тети Тойбы, жившей в местечке Горшков[182]. На лето приезжала моя мама со мной и моей сестрой. Всех надо было кормить, одевать, обувать, и моей бабушке, маленькой старушке с большой связкой ключей, приходилось обо всех и обо всем заботиться — у нее было полно хлопот и забот. К тому же на ее кухне и так было полно гостей: ойрехов[183], габетш[184], сборщиков пожертвований, бедняков и просто людей, которые по делу и без дела зашли в дом раввина.
Дом деда принадлежал общине и стоял на общинной земле около синагогального двора[185], где находились бесмедреши, клойзы, богадельня и прочие подобные заведения. Поэтому дом считался своего рода общинной институцией вроде бесмедреша, куда каждый мог зайти по любому поводу. Если кому-то хотелось пить, он заходил в дом раввина, в просторные сени, где стояла бочка с водой, зачерпывал немного воды тяжелым медным ковшом и заодно заглядывал к бабушке на кухню, чтобы сказать ей: «Бог помочь, ребецин». Если у какого-нибудь завсегдатая бесмедреша, засидевшегося за Торой, начинало сосать под ложечкой, он шел на кухню к ребецин и просил стакан чая. Заходить в кабинет деда никто не осмеливался. Обычно пришедший за чаем объяснял, что у него с собой есть кусочек сахара или что он пьет чай без сахара. Однако бабушка и слышать ни о чем таком не хотела, ворчала «не дай Бог» и подносила гостю чай с большим куском сахара. Обычно дело не ограничивалось одним стаканом, выпивалось несколько. Об ойрехах нечего и говорить. Билгорай пользовался большим успехом у ойрехов, которые стекались гуда со всех концов Польши. На бабушкиной кухне всегда можно было увидеть лохматых, оборванных попрошаек, которые сидели за столом и поглощали кашу или картошку с борщом. У этих бродяг был волчий аппетит, и они постоянно просили, чтобы им налили еще пару ложек. Один такой нищий до сих нор стоит у меня перед глазами. Это был обросший чернобородый человек с большой торбой за плечами, ужасный заика. Он часто приходил в Билгорай и всегда наносил визит на бабушкину кухню. Его было трудно накормить. Как правило, бабушка ставила ему две большие миски, одну с картошкой, другую с борщом. Нищий ел быстро, глотал торопливо. Не успевали оглянуться, как он уже говорил:
— Ре-ре-ре-ребецин, мне немного борща не хватает к к-к-к-картошке…
Бабушка наливала ему еще одну миску борща. Через минуту снова слышалось его заикание:
— Ре-ре-ре-ребецин, мне немного к-к-к-картошки не хватает к борщу…
И так далее, без конца…
Из соседней богадельни приходили подкрепиться бедные больные женщины. Они всегда были голодны («сосет под ложечкой», «живот к спине прилип»), и бабушка угощала их вишневым соком или вареньем. Другим требовался бульончик или чуточку чего-нибудь отварного. Женщины без умолку благодарили, плакали, вздыхали и кляли судьбу, так что уши закладывало. Габетши, в шелковых платках на голове, вечно собирающие деньги на добрые дела, на рожениц, на засидевшихся в невестах девушек, на саваны для бедняков и на прочее подобное, тоже были частыми гостьями на бабушкиной кухне. С этими почтенными хозяйками нужно было присесть поболтать, поставить на стол угощение, после чего они сразу начинали кричать, что ничего не хотят, но бабушке в конце концов удавалось их убедить чем-нибудь подкрепиться, и тогда опять начинались благословения, добрые пожелания, охи и ахи. Частенько на кухне засиживались женщины, которые приходили судиться со своими мужьями, агуны и разведенки, которые изливали свои сердечные горести, пили чай и снова желали бабушке счастья, охали и вздыхали.
Женщины, приходившие к деду с вопросами о своих кастрюлях и сковородках, женщины, приходившие по женским делам, — все считали своим долгом зайти на кухню, чтобы просто сказать: «Бог помочь, ребецин», но забалтывались и задерживались. Банщица из миквы, которая была женой шамеса, часто приходила пригласить бабушку на чье-нибудь торжество. Она, вечно возбужденная, входила на кухню и провозглашала:
— Ребецин, голубушка, Ципа-Леина Бейла-Сора покорнейше просит вас на свадьбу ее дочери…
Бабушка редко ходила на свадьбы, но всегда угощала банщицу вареньем и давала ей пару грошей на дорожку. Та, причмокивая, торопливо уплетала варенье и рассказывала обо всех городских происшествиях, в которых она принимала участие как банщица и жена шамеса. Еще эта банщица каждые две недели приходила брить бабушке голову, за что та ее угощала.
С похорон некоторые жители Билгорая тоже заходили в дом раввина. Омыв, по обычаю, руки в сенях, они заглядывали к бабушке сказать: «Упаси Бог город от бед». При этом женщины без конца вздыхали, приговаривая: «Не здесь будь помянуто, не про какой еврейский дом не будь помянуто, пади оно в пустые поля и леса»[186], отплевывались от сглаза и подкреплялись стаканом чая. Но все это не шло ни в какое сравнение с тем, что творилось на бабушкиной кухне, когда на синагогальном дворе ставили хупу и невеста приходила в дом деда с «лащинами».
Хупу ставили обычно под вечер, и все происходило очень весело. Гимпл-клезмер со своей капеллой играл радостные марши. Сватьи с горящими гавдольными свечами[187] в руках все время танцевали. Во всех окнах домов, мимо которых проходили жених и невеста, были выставлены зажженные свечи. Бабушка не только выставляла свечи в окнах — она надевала субботний шелковый платок и поздравляла сватов и сватий, которые приходили просить деда вести свадебную церемонию. Пожеланиям, поцелуям и слезам не было конца. Но еще радостнее были «лащины». В городе был обычай: на другой день после свадьбы капелла Гимпла-клезмера являлась в дом невесты и с музыкой провожала ее к сватам и к раввину. Невеста была наряжена в самое красивое платье. Вместе с ней шли сваты и вся семья. Бабушка надевала субботнее платье и принимала невесту с великим почтением и очень церемонно. Гостям она подавала лекех и вино. Эта церемония и называлась «лащины». Я наслаждался и перепавшим мне угощением, и женскими благословениями, пожеланиями, поцелуями и слезами, и тем, что все это происходило под музыку капеллы Гимпла-клезмера.
Все от мала до велика приходили к бабушке на кухню! Даже Францишек, банный гой, задерживался у дверей раввинского дома, чтобы выпросить кусок халы или стаканчик водки, за которые он рассыпался в благословениях, причем обязательно на идише.
Этот Францишек, служивший в бане помощником банщика, был колоритным типом. Одет он был в старый рваный мундир, выброшенный в помойку русским казачьим полковником, но ходил босым. Его испитое лицо было покрыто царапинами и грязью. Непонятно, почему человек, работавший и живший при бане, не считал необходимым хоть иногда помыться, тем не менее так оно и было. Банный гой хоть и был облачен в мундир казачьего полковника, зато никогда не расчесывал свою кудлатую голову и бороду. Однако при этом он с великой важностью выступал в этом пестром мундире, особенно когда каждую среду бил на рынке в барабан в знак того, что гои и солдаты могут идти париться в еврейскую баню. Францишек говорил на идише со всеми древнееврейскими выражениями и отирался только среди евреев. Он на чем свет стоит ругал гоев за то, что они не звали его к себе в гости так, как евреи зовут в гости на субботу еврейских бедняков. «У них гойские сердца», — говорил Францишек. Это не мешало ему ругать евреев и грозить им местью своих собратьев-христиан всякий раз, когда он выпивал лишнего, что случалось с ним регулярно. Францишек старался затесаться на каждое еврейское торжество, он являлся на каждую свадьбу и «лащины» и стоял у дверей, готовый перехватить чего-нибудь у «милосердных сынов милосердных»[188].
Бабушка с ног валилась от всех этих торжеств, но времени на отдых у нее не было. Большой дом постоянно требовал ее заботы, и она бегала по нему маленькими торопливыми шажками, звенела ключами, рылась в шкафах, копошилась в кладовках, но больше всего времени проводила у большой печи, где всегда что-нибудь пеклось или варилось.
Однако тяжелее всего была для нее вечная зависть и вражда, царившая в ее доме между детьми, внуками и другими родственниками.
Прежде всего мира не было между двумя ее сыновьями и их семьями. Дядя Йойсеф, старший сын, городской даен, был всегда недоволен тем, что все хорошее достается его младшему брату Иче, который ничего не делает и живет на вечном содержании у отца, в то время как он, Йойсеф, должен ломать себе голову над тем, как прокормить жену и детей. У него были основания для ревности. Во-первых, он был старший; во-вторых, он был образованнее и умнее своего младшего брата. Правда, у дяди Иче тоже была раввинская смиха, но особой ученостью он при этом не отличался. Дядя Йойсеф же имел репутацию «светлой головы». Вдобавок его считали мудрецом и приходили к нему за советом. Он хорошо знал математику и отлично считал. Сам, по книгам, он выучил русский язык и высшую математику и всегда носил с собой кусочек мела, записывая решения математических задач на стенах, столах и лавках. Бабушка заявляла, что такому человеку, городскому даену, не подобает ссориться со своим младшим братом, завидовать ему и заглядывать к нему в тарелку. Даен не должен вести себя как баба, он должен вести себя достойно, заниматься Торой и в мыслях не иметь ни зависти, ни вражды. Однако дядя Йойсеф не хотел заниматься Торой и вести себя достойно, как подобает даену, — он любил заходить к бабушке на кухню, во все вмешиваться, во все совать свой крючковатый нос и все время твердить, что его младшему брату Иче золото так и льется в рот.
Дед еще более косо, чем бабушка, смотрел на то, что старший сын, который через сто двадцать лет унаследует его раввинство, не следует отцовскому примеру, а проводит время, сидя на кухне среди женщин.
— Йойсеф, ты себя позоришь, — стыдил его дед. — Помни, ты же даен, веди себя достойно, как человек…
Дядя Йойсеф не желал вести себя достойно. Вместо того чтобы сидеть и учить Тору или заниматься общинными делами, он предпочитал сидеть на кухне и считать. Любые вычисления увлекали его — от задач высшей математики до простых подсчетов. Сколько, к примеру, его брат Иче стоит в год их отцу; сколько куриц пришлось зарезать бабушке за те годы, в течение которых Иче со своими домочадцами сидит у отца на шее; сколько яиц, к примеру, ушло на омлеты, которые за десять лет были приготовлены для этого Иче, для его жены Рохеле, а также для их детей Мойше и Ехезкла.
Маленький и подвижный, как бабушка, с высоким лбом, дядя Йойсеф постоянно курил папироски, расхаживал туда-сюда, морщил лоб и считал, считал, считал. Вычисления, как сложные алгебраические, так и простые, бытовые, он производил одинаково быстро и вслух:
— Если принять, что содержание Иче с женой и детьми стоит, самое малое, рубль в день на еду, жилье, одежду, обувь и другие нужды, то в течение стольких-то и стольких-то лет получается около… Если же подсчитать проценты на эту сумму за столько-то и столько-то лет, то получается около… А если взять проценты на эти проценты, то получается около…
При этом он все глубже погружался в ряды цифр, которые выводил с поразительной аккуратностью и быстротой. Бабушку бесили подсчеты, производимые по поводу ее любимчика Иче.
— Йойсеф, хватит считать, — просила она своего первенца, который был всего на пятнадцать лет моложе ее самой. — Йойсеф, ты же даен, ты должен сидеть у себя дома и отвечать на вопросы или разрешать тяжбы.
Дядя Йойсеф не переставал курить, морщить лоб и вычислять. Он считал не только свое, но и чужое. Стоило проехать мимо дома фурам с бревнами из соседнего леса, принадлежавшего билгорайскому лесоторговцу, как дядя Йойсеф тут же принимался подсчитывать:
— Если принять, что лесоторговец вырубает сто деревьев в день, а в лесу площадью две версты на полверсты должно быть около… Таким образом, из деревьев, вырубленных за один день, выходит около… Что в течение года составляет около…
И так далее и так далее…
Он считал все подряд и все держал в голове. Обо всем, что происходило в городе, дядя Йойсеф узнавал у Шмуэла-шамеса, который всегда сидел на кухне, скручивая папиросы и гоняя чаи с одним куском сахара вприкуску. Ученый и «светлая голова», дядя Йойсеф не имел ни малейшего желания сидеть за Торой, решать общинные вопросы и вести себя, как подобает священнослужителю. Он ни за что не хотел надевать ни раввинскую жупицу, как следовало даену, ни даже бархатную шапочку, а носил, как все, капоту и мятую шелковую ермолку. Его пейсы были едва видны. Молясь в бесмедреше, он заканчивал Шмоне эсре раньше всех, отчего благочестивые хозяйки не хотели ходить к нему с вопросами. Они предпочитали обращаться к деду. Однако по той же причине к дяде Йойсефу охотнее приходили с тяжбами, особенно такими, которые были связаны с запутанными вычислениями. Еще к дяде Йойсефу приходили за советом. Дядя сидел с наморщенным лбом и пускал такие густые облака дыма, что казалось, будто он с головы до ног окутан сложными проблемами. Однако когда пришедший уже рассчитывал наконец получить совет, дядя Йойсеф вдруг поднимал глаза и, уставившись на посетителя, быстро произносил:
— Простите, но не расскажите ли вы мне все еще раз, а то у меня голова была занята числами…
Его прощали, зная, что он говорит это не из высокомерия и не со зла, но от волнения и постоянной погруженности в подсчеты. Более того, все знали, что дядя Йойсеф, который все время считал и держал в голове весь Билгорай, по природе своей человек мягкосердечный, добрый и гостеприимный.
— Реб Йойсеф, послушайте же, что я вам говорю, — взывал к нему посетитель. — Куда же мне еще идти за советом, как не к такому умному человеку, как вы, реб Йойсеф?
Дядя Йойсеф обещал, что теперь услышит каждое слово, закуривал новую папиросу, морщил высокий лоб и снова погружался в свои вечные вычисления.
Мои дяди и тети Пер. И. Булатовский
Дядя Йойсеф никогда не слушал того, что ему говорила жена, высокая чернявая женщина со странным именем Сора-Тжижа, или его дети — полный дом мальчиков и девочек, один другого рыжее. Дом прямо-таки пылал от их рыжины. Тетя Сора-Тжижа всегда что-то варила или пекла для своей большой семьи. Я все время видел ее стоящей у печи и готовящей не покладая рук. Длинная, худая, черная, она сама напоминала печную кочергу. От нее всегда пахло печеным и вареным. Так же, как она все время была занята готовкой, ее дети были все время заняты набиванием папирос для своего отца. Насколько быстро они их набивали, настолько же быстро дядя Йойсеф их выкуривал. Он все время курил и кашлял и снова курил. Поскольку у него постоянно пересыхало в горле, он все время бурчал, обращаясь к тете Соре-Тжиже, стоявшей у плиты:
— Бейме, — так на своем волынском диалекте он выговаривал слово «бегейме»[189], — сделай мне стакан чая…
Но тетя Сора-Тжижа не обижалась на такое обращение. Она знала, что дядя Йойсеф говорит это не со зла и не для того, чтобы, не дай Бог, оскорбить ее, а просто он так разговаривает с бабами. К тому же она была не так родовита, как ее муж, да и женат он был на ней вторым браком. Ведь когда дядя Йойсеф двадцатилетним молодым человеком женился на тете Соре-Тжиже, она была девицей, но он-то уже был до этого женат, его жена умерла, оставив ему дочку, которая жила у родителей его умершей жены в Новограде-Волынском[190], который евреи называют Звиль[191]. И несмотря на то что тетя была старше своего мужа и родила ему немало детей, она — из-за того, что была второй женой, — всегда чувствовала себя несколько приниженно и смотрела на дядю Йойсефа как ребенок — на взрослого. Дядя Йойсеф был ученым и умным человеком, а его жена — простой женщиной, которая только и знала, что варить, печь и рожать детей, и, как в большинстве семей, в которых муж — человек ученый, они почти не общались. Поэтому у дяди Йойсефа не было для своей жены другого обращения, кроме «бейме», а она уже привыкла к этому так, будто этим словом ее прозвали с рождения.
— Бейме, бейме, — торопливо звал жену дядя Йойсеф.
— Что, Йойсеф? — спокойно отвечала тетя Сора-Тжижа.
Бывало, что тете нужно было поговорить с дядей о заработках, о том, чем ей кормить детей, но дядя был погружен в свои вычисления.
— А? Что-что? — торопливо переспрашивал он, не расслышав ни единого слова из того, что она ему говорила.
Дети тоже пытались с ним поговорить. Им нужна была обувь, одежда. Но дядя слушал их не больше, чем свою жену.
— Идите, идите, бейме, идите, — отвечал он им всем, не желая прерывать свои вечные вычисления.
Исключением была моя мама, с которой дядя Йойсеф любил порассуждать. Он часто приглашал нас к себе домой и говорил с мамой обо всем на свете. Мне нравилось у дяди, я любил ораву его рыжих детей, любил тетины булочки с маком и хлебцы с тмином, которыми она меня угощала, но больше всего я любил самого дядю Йойсефа, который был исключением среди взрослых и никогда не пускался в наставления, никогда не заставлял меня учиться — сам не учился и не требовал этого от других. Он, например, никак не отреагировал, когда я однажды набил себе папиросу и попробовал закурить, чихая от дыма. Единственное, что меня раздражало в дяде, это насмешливый тон, которым он говорил о моем отце.
— Ну и ну, Шева, значит, он так и не хочет сдавать экзамен, этот твой Пинхас-Мендл? — спрашивал он с ухмылкой, морща свой крючковатый нос. — Он все сидит и пишет толкования, хе-хе, толкования-толкования?..
Я не мог спокойно слышать насмешки над отцом, но при этом не слишком сердился на дядю Йойсефа. Я все прощал ему за его доброту к моей маме, за легкий нрав, за его терпимость ко всем и каждому. Зато я не так легко спускал насмешки над моим отцом, когда над ним смеялся дядя Иче.
Дядя Иче тоже никому не морочил голову нравоучениями, Торой и благочестием. Он сам не был особенно благочестив и не требовал этого от других. Однако он был озлобленным, колючим человеком и старался выказать свое пренебрежение нам и другим детям и внукам, которые жили в доме деда, словно все в этом доме принадлежало ему, дяде Иче, а другие были его подданными.
Высокий, худой, с редкой светлой бороденкой и тонкими губами, искривленными саркастической усмешкой, дядя Иче был всегда чем-нибудь недоволен. К торговле у него способностей не было, и он даже не пробовал ей заняться. Быть раввином его тоже не тянуло: смиха у него была, но набожностью он не отличался, а строить из себя благочестивца не мог. Никакого желания заниматься Торой он тоже не испытывал. Дядя Иче унаследовал усидчивость своего отца в еще меньшей степени, чем старший брат, дядя Йойсеф. Из-за недостатка благочестия и стремления к Торе он не смог высидеть даже нескольких лет на содержании у своего тестя реб Ешиеле Рахевера, который был раввином в местечке Высоко[192]. Дело в том, что этот реб Ешиеле Рахевер был человеком, полностью погруженным в Тору и очень богобоязненным. Он написал кучу книг, в которых доказывал, что все на свете запрещено. Согласно его книгам, просто не было такой вещи, которую бы еврей мог себе позволить. Особенно реб Ешиеле налегал на святость субботы. В субботу нельзя было делать ничего, так как, что бы ни сделал человек, все — грех. Реб Ешиеле запрещал, к примеру, справлять нужду на снег в субботу, потому что это все равно что пахать в святой день… Короче говоря, согласно реб Ешиеле, евреи в субботу должны связать себе руки и ноги и не шевелиться, чтобы быть уверенными в том, что они не оскверняют, не дай Бог, святой день. Но даже тогда они не должны чувствовать себя полностью застрахованными от греха. Разумеется, дядя Иче не смог долго продержаться в доме такого благочестивого тестя и сбежал домой к папе с мамой в Билгорай. С ним приехала его жена, тетя Рохеле, которая была так же благочестива, как ее отец. Живя у деда, дядя Иче стал отцом одного ребенка, потом другого, но по-прежнему оставался на содержании. Бабушка души в нем не чаяла, готовила ему самые лучшие бульончики, пекла для него самые вкусные булочки. Дядя Иче привык к этой беззаботной жизни, состоявшей из еды, питья, курения папирос, хождения в трискский штибл и бездельничанья с молодыми хасидами, над которыми он втихаря посмеивался, а также вечных ссор со своим старшим братом и всеми прочими домочадцами, завидовавшими его легкой жизни. Чувствуя себя униженным тем, что живет на содержании, он тем не менее не находил в себе ни сил, ни желания покончить с праздностью. Поэтому дядя Иче часто играл в лотерею, хотя ему ни разу не выпал крупный выигрыш, и все время проверял таблицы, разочарованно вздыхая, когда выигрыш опять доставался не ему, и снова играл в надежде на удачу.
Бабушка вечно терзалась из-за дяди Иче. Как бы осмотрительно она ни прятала от дяди Йойсефа и его детей свои бульончики и булочки, приготовленные специально для ее любимчика Ичеле, как бы ловко она ни подсовывала ему тайком всевозможные яства, каких сам дед никогда в глаза не видел, домочадцы все это обнаруживали и заводили речь о золоте, которое бабушка льет в глотку своему любимчику. За все мучения она не получала никакой награды от своего младшенького. Дядя Иче, как всякий закормленный баловень, вечно от всего отворачивался и тем, что соглашался поесть, делал бабушке одолжение. Но еще больше, чем от сына, бабушке доставалось от его жены Рохеле. Тетя Рохеле, чернявая, в шелковом платке, благочестиво надвинутом на глаза, ужасно медлительная, ужасно набожная, ужасно гордая тем, что она — дочь реб Ешиеле Рахевера, Высоковского раввина и автора бесчисленных книг, запрещавших все на свете, ступала медленно в отличие от проворной, подвижной, как ртуть, бабушки. Тетя Рохеле обо всем говорила уменьшительно. Бульон у нее был бульончиком, лепешка — лепешечкой, стакан чая — капелькой водички, тарелка каши — ложечкой чего-нибудь тепленького. Она никогда не говорила, что голодна, а только, что у нее «под сердцем замлело»; никогда не «ела», а только «пробовала»; никогда не «спала», а только «прилегла вздремнуть». О ком бы тетя Рохеле ни говорила, она всегда прибавляла «бедняжка» — и благочестиво вздыхала. Когда ее муж налегал на бульон с четвертью курицы, тетя Рохеле вздыхала, что Ичеле, бедняжка, не притронулся к еде. Когда ее дети уплетали за обе щеки, тетя Рохеле стенала, что они, бедняжки, не съели ни ложечки. У нее была манера все от всех скрывать Она никогда ничего не ела при всех, а только прячась по углам. Даже стакан чая она прикрывала платком. Ее черные благочестивые глаза были полны тайн. Этими глазами она смотрела вслед мужу, от которого ждала, да так и не могла дождаться вечной любви. Дядя Иче терпеть не мог ее благочестия, ее воздыханий, ее набожных речей и покачиваний бритой головой, которая была благочестиво, до самых бровей, повязана серым платком[193]. Чем больше он выказывал ей свое презрение, чем больше над ней насмехался, тем преданнее она заглядывала ему в глаза, тенью следовала за ним по пятам и, доставая припрятанное лакомство, подсовывала ему, приговаривая:
— Ичеле, может, перекусишь булочкой?..
Мы потешались над тетей Рохеле и прятались от нее, потому что она всех подозревала в зависти и опасалась сглаза. Я боялся играть с ее Мойшеле, который был копией своей матери. Стоило его тронуть, он тотчас бежал к ней с таким воплем, будто его убивают. Однажды я подрался с ним из-за нескольких ягод малины и крыжовника. Во дворе дедовского дома, застроенном сараями и кладовками, во дворе, где стояла обложенная дровами сукка с крышей, которая могла подниматься и опускаться, — в этом тесном дворе росли мелкие запущенные кусты малины, крыжовника и смородины. На кустах было много шипов и колючек, которые царапали пальцы, если к ним прикоснуться. К тому же эти кусты росли на не слишком почетном месте, рядом с уборной и у залатанного забора. Однако это не останавливало меня в поисках еще оставшихся ягод, которые прятались среди листьев. Мойшеле, сыну дяди Иче, тоже хотелось полакомиться ягодами, и между нами начиналось соперничество за эти запретные плоды. Не один раз мы расцарапывали друг другу лица ногтями или таскали друг друга за пейсы. После драки Мойшеле сразу же с криком бежал к своей матери. Тетя Рохеле вопила на чем свет стоит, что я своими гойскими лапами переломал бедняжке Мойшеле его ручки.
Больше всех других домочадцев тетя Рохеле донимала бабушку. Что бы ни делала бабушка для Иче и его семьи, тете Рохеле все было мало. Самые тяжелые распри разыгрывались между невесткой и свекровью из-за веника, стоявшего в углу за печью. Дело в том, что ни бабушка, ни тетя Рохеле не хотели во время жарки-варки стоять с той стороны печи, которая была ближе к венику. Тетя Рохеле настаивала на том, что она дочь реб Ешиеле Рахевера, Высоковского раввина и автора бесчисленных книг, и ей не пристало стоять рядом с веником. Эти распри тянулись годами.
Я помню, как во время одной из таких ссор я посоветовал, чтобы причина для них исчезла, вообще убрать веник подальше от печки. Бабушка на некоторое время словно окаменела. Такое простое решение никогда не приходило ей в голову. Потом она с досадой поглядела на меня, мальчика из хедера, который возомнил, что сможет разрешить многолетний спор, и приказала мне уйти.
— Ступай-ка лучше учиться и не лезь в кухонные дела, — сказала она. — Веник всегда стоял в углу за печью и дальше будет стоять…
Распря между невесткой и свекровью из-за веника пошла своим чередом…
Благочестивая кошка, которая любила слушать Тору, а не ловить мышей Пер. М. Бендет
И по будням бабушка была занята готовкой для множества домочадцев и всей общины, но еще больше дел появлялось у нее в канун суббот и праздников.
Канун субботы у бабушки начинался не в пятницу, а днем раньше, в четверг. Сразу после обеда Этл-Неха, вечная наша прислуга, притаскивала в кухню два мешка муки, всегда бывшие наготове, и насыпала муку в два больших корыта: в одном месили тесто для субботних хал и булок, в другом — для хлеба, выпекавшегося на всю неделю[194]. Бабушка набирала горсть муки, просыпала ее между пальцами, пробовала на вкус и привычно сетовала, что торговец ее обманывает и что мука у него уже вовсе не такая хорошая, чистая и сладкая, как прежде. Покончив со всем этим, бабушка оценивающе смотрела на муку в корытах, приходила к выводу, что на неделю ее уходит уж слишком много, и, желая сократить расход, брала из миски горсть и отправляла обратно в мешок с такой энергией, будто экономила этим целое состояние, после чего забирала из мешка полгорсти муки и всыпала обратно в корыто, приговаривая:
— Ну ладно, ладно уж, так и быть, в честь субботы…
Этл-Неха засучивала рукава и принималась лить в муку воду. Бабушка ей помогала: добавляла закваску и произносила молитву, чтобы выпечка удалась.
Вечером в четверг кухня была полна запахом дрожжевого теста. Печь пылала. Этл-Неха орудовала вовсю вместе с бабушкой. Хлебам, халам, лепешкам, маковым булочкам, хлебцам с тмином, песочному печенью и прочей выпечке, которую готовили в доме, не было конца. Бабушка ложилась спать далеко за полночь. На заре она уже снова была на ногах: шла молиться в вайбер-шул, а вернувшись, принималась стряпать к пятничной трапезе тушеное мясо с горячими булочками. Его обязательно готовили каждую пятницу, такова была традиция; и это была правильная традиция, ведь и тушеное мясо, и горячие булочки имели райский вкус. Я, конечно, хотел попробовать еще и «выскребок» — хлебец, сделанный из остатков теста, соскребаемого со стенок корыта; мне он казался вкуснее всего на свете. Но бабушка не давала мне выскребок: он полагался Хаиму-водоносу, который каждый день наполнял водой стоявшую в сенях большую бочку. Этот Хаим-водонос был простоват, всю неделю, с утра до позднего вечера, он носил по домам воду, но никогда не знал, сколько ведер он принес и сколько ему полагается уплатить за неделю.
— Хаим, сколько же ведер воды ты принес за неделю? — спрашивала бабушка, даря ему выскребок.
— Не знаю, ребецин, — отвечал он, пряча хлебец за пазуху.
Бабушка спрашивала и жену водоноса, но та, будучи немногим умнее своего мужа, тоже не знала.
Бабушка упрекала Хаймиху:
— Как же это может быть, чтобы жена не знала, сколько зарабатывает ее муж? Ведь его и обмануть могут!
— А что же, мне его плечи денег стоят? — отвечала та с глуповатой усмешкой. — Он столько воды носит, что может и пару лишних бочек натаскать…
Хотя я и любил этого простака за его вечную улыбку, но все же не мог ему простить, что каждую пятницу он лишает меня выскребка. Взамен я, правда, получал хлебцы с тмином: бабушка давала мне их после тушеного мяса. Едва позавтракав, она тут же принималась убирать дом в честь субботы. Прежде всего нужно было браться за гору хранившегося в шкафу серебра: серебряные подсвечники, вилки и ложки, солонки и перечницы. Все это перетиралось и начищалось. Этл-Неха мыла столы и лавки, чистила и мела полы. И каждый раз снова и снова ей приходилось воевать с кошкой, которая любила сидеть на стуле возле дедушкиного кресла в его кабинете. Бабушка хотела, чтобы кошка была в кухне: во-первых, на кухне нужно ловить мышей, а во-вторых, кошке вообще не пристало сидеть в раввинском суде. Но кошка ни за что не хотела уходить. Странная это была кошка. Казалось бы, кухня должна была ей нравиться гораздо больше, ведь там всегда находилось для нее какое-нибудь лакомство вроде куриных кишок, мяса, молока, жира и прочих приятных вещей. В кабинете же были только книги, Тора и судебные решения — все, что, по здравом размышлении, никакой кошке совершенно не интересно. Однако эта кошка ни за что не уходила на кухню, а сидела возле деда, дремала на стуле, прислушиваясь к Торе и еврейскому закону.
— Не иначе как в нее кто-то вселился[195], — говорила бабушка, локтем сгоняя заупрямившуюся кошку[196] со стула, который нужно было вымыть в честь субботы.
Бабушка, конечно, испытывала к кошке весьма определенные чувства — ведь дед выказывал к этой кошке больше нежности, чем к ней, своей жене, не рядом будь помянута. Дед, правда, к кошке не прикасался — ведь еврею не пристало прикасаться к нечистой твари; однако он позволял ей сидеть возле своего кресла и никому не разрешал ее прогонять. И это притом, что бабушке почти никогда не выпадала честь сидеть с ним за одним столом: такое случалось только раз в году, на сейдере. Во все прочие дни — и в будни, и даже в субботу и в праздники — бабушка не могла во время трапезы сидеть за столом рядом с дедом. Только во время кидуша она входила к нему в кабинет вместе с дочерьми и внучками.
Я очень любил субботу и канун субботы в Билгорае. В этом старом, благочестивом еврейском городе приближение святого дня чувствовалось с самого утра пятницы. На рынке торговки весело расхваливали свою рыбу, зелень и фрукты. Банщик барабанил в знак того, что евреям пора спешить в баню — и вот уже обыватели, держа в руках узелки с бельем, шли мимо дедушкиного дома. Бедные евреи сразу после парной отправлялись в лавку Ихила-учителя и в честь субботы смазывали сапоги ворваныо. От ворвани голенища делались синими. Женщины и девушки суетились, торопясь приготовить дом к субботе. Незадолго до зажигания субботних свечей[197] появлялся шамес со своим деревянным молотком, которым он стучал в двери еврейских домов, выкликая нараспев:
— Мужчины, женщины, пора зажигать свечи…
Этот молоток наводил страх на хозяек.
Раньше, чем во все остальные дома, суббота приходила в дом моего деда. Бабушка надевала шелковое платье, переливающееся разными цветами: только что оно было желтым и вот уже стало зеленым, голубым, опять желтым, и так снова и снова. Она снимала будничный платок и надевала атласный чепец, покрытый гроздьями вишен, смородины, винограда и разных других ягод и украшенный цветными лентами и тесьмой. В ушах у нее качались длинные серьги, усыпанные бриллиантами; на шею она надевала несколько ниток жемчуга[198], о которых говорили, что они стоят целое состояние, и это не считая разных брошек, браслетов и прочих украшений, бывших у нее еще со свадьбы. Она ставила множество серебряных подсвечников со свечами и произносила над ними бесчисленные благословения и тхинес.
Дед возвращался из бани раскрасневшийся, распаренный, с мокрыми пейсами, которые от воды становились в два раза длиннее обычного. На нем была белая рубашка с широкими рукавами и широким воротом, который не застегивался на пуговицы, а завязывался тесемками. Чулки до колен были такими же белыми, как и рубашка, — особенно в сравнении с черной атласной субботней капотой и штраймлом.
— Суббота, суббота! — восклицал дед, заглядывая домой, и торопился дальше, в синагогу.
В старой синагоге, свод которой опирался на столпы, было светло от множества свечей, горящих в бронзовых люстрах и настенных светильниках. Наверху, у открытых окон, летали и пели птицы. И двенадцать знаков зодиака[199], нарисованные на стенах, в том числе и изображенный вместо знака Девы цветок[200], и львы на орн-койдеше[201] весело глядели вниз. Хазан Копл, рослый человек, всю неделю изготовлявший веревки, вместе со своими певчими громко приветствовал субботу. Каждое слово многократным эхом отражалось от стен синагоги. Теснящийся народ подхватывал слова молитвы подобно деревьям в лесу, зашумевшим под ударами налетевшей бури. Не знаю, насколько музыкален был рослый реб Копл, который всю неделю плел веревки, но только я до сих пор помню, как сладко он пел «Лху-неранено»[202].
«Арбоим шоно окут бе-дор в-омар ам тоей левов хем в-хем ло йоду дрохой»[203], — пламенно читал нараспев реб Копл, и все евреи, умытые, причесанные, воодушевленные приходом субботы, подхватывали «Ширу ладойной шир ходеш»[204] с таким пылом, что и стены, и столпы, и бронзовые светильники, и нарисованные знаки зодиака, и львы на орн-койдеше — все дрожало от гула голосов. Громче всех молился мой дед. Был он миснагед и молчун, но молился всегда с невероятным жаром, особенно вечером в пятницу. Молился воодушевленно, радостно, будто черпал силы в молитве, в синагоге, в благочестии молящихся, пастырем которых он был. Прихожане, в основном бедняки-ремесленники — богачи и хасиды ходили молиться в свои хасидские штиблы, — с гордостью смотрели на своего раввина, который всегда молился по ашкеназскому нусеху и только в синагоге, в их синагоге, и с еще большим вдохновением читали молитвы кануна субботы, восхваляя Бога за святой субботний день, которым Он почтил свой народ, Израиль. После молитвы хазан Копл с бимы делал кидуш для всей общины, а шамес Шмуэл давал мальчикам отпить вина из большого серебряного кубка для кидуша. Мальчики едва не дрались за каплю кидушного вина. И конечно же, дедушкин шамес давал мне первому пригубить из кубка. Затем дед проходил по синагоге, и все присутствовавшие с радостью желали ему доброй субботы.
В дедушкином кабинете уже был накрыт стол. Мерцали свечи в серебряных подсвечниках. Ярко светила керосиновая лампа, золотя желтые листочки на обоях. Вино в стеклянном графине, салфетки, прикрывающие халы, серебряные ножи и ложки, бокалы и бокальчики — все сверкало в свете субботних свечей. Ярче всего сверкали бабушкины серьги, брошки, жемчуга и все остальные украшения, переливавшиеся разноцветными огнями. Дед делал кидуш и давал отпить из бокала бабушке и всем жившим в доме женщинам, вплоть до прислуги Этл-Нехи. После этого я приносил ему тяжелую медную кружку для омовения рук[205]. В промежутке между кидушем и благословением на хлеб бабушка разыгрывала целую пантомиму[206]. Оглядев плетенки[207], она оборачивалась к женщинам и всеми способами пыталась показать им свою радость, если халы удались, или же свое огорчение, если оказались неудачными. Я никогда не мог понять, почему бабушка огорчается, если халы не удались. Напротив, я считал особенно вкусными тяжелые, неудавшиеся халы. Но бабушка из-за них очень расстраивалась. К счастью, такое бывало редко, и обычно бабушка ликовала, видя румяные, хорошо поднявшиеся булки. Как только дед произносил благословение над самой большой булкой и, разломав ее на куски, раздавал бабушке и остальным женщинам, те должны были покинуть дедушкину комнату и идти есть в кухню. Они возвращались, чтобы подать еду деду, мне, моему двоюродному брату Эле и ойрехам, которых дед почти всегда приглашал к столу. И именно из-за них женщинам нельзя было сидеть с нами за одним столом. Дед строго следил за тем, чтобы чужие мужчины не находились за одним столом с женщинами. Бабушка была вне себя от злости: из-за каких-то нищих она, ее дочери и ее внучки вынуждены были есть на кухне, как прислуга. Когда у деда бывал почтенный ойрех — составитель книг, ешиботник, странствующий проповедник или еврей из Святой Земли, — бабушка злилась меньше: она понимала, что ради таких гостей женщины могут и не сидеть за общим столом. Особенно же она негодовала, когда ей приходилось отправляться на кухню из-за простых нищих, побирушек, которых дед постоянно приводил с собой из синагоги.
Дед имел привычку выискивать самых отвратительных нищих, самых уродливых калек, которых ни один обыватель не хотел взять к себе в дом, чтобы не испортить субботу жене и детям. Бабушка не могла смотреть на то, как эти грязные, нечесаные нищие усаживались за застеленный чистой скатертью стол, ели серебряными ножами и вилками, пили из серебряных рюмок.
— Не след мне грешить такими речами, — ворчала она на кухне, — но ведь у нас в доме вся богадельня…
Дед же не позволял ни единым словом обидеть своих нищих.
— Ешьте, люди добрые, — подбадривал он их, — не заставляйте себя упрашивать.
Нищие, конечно же, и не думали заставлять себя упрашивать. Они набрасывались на еду, как голодная лошадь набрасывается на ясли с овсом. Чавкали, разрывали куски зубами, пили причмокивая. Во всякое блюдо макали куски халы: в уху, в куриный бульон, в вино, в хрен, в сливовый компот. Съедали все пшеничные булки, подчищали всю еду с тарелок, подбирали все крошки со стола и у себя из бороды. Мне всякий раз делалось дурно от их грязных рук, которыми они брали булки, от их красных глаз и драной одежды, от шедшего от них затхлого запаха. Тогда мне уже не хотелось ни бабушкиной вкусной рыбы, ни бульона, ни куриного мяса, ни цимеса. И уж совсем пропадал у меня аппетит, когда некоторые ойрахи, отложив в сторону столовый нож, доставали свои грязные и ржавые нищенские ножички и отхватывали ими куски булки. Но зато сколько же удовольствия я получал от их диких ужимок, от их ворчания, от разговоров и историй, которые они беспрерывно рассказывали друг другу. Они описывали фантастические случаи и происшествия, говорили о дорогах, о городах, о хозяевах и хозяйках. Но чаще всего обсуждали хорошие и плохие субботы, выпавшие им в городах, через которые они проходили из года в год, следуя своими нищенскими маршрутами.
— Тазрие-Мецойре[208] в Турбине[209] жирная, — хвалился один из нищих перед другим. — Мне там дают и рыбу, и мясо, и холодец, и лук со смальцем, а на мелаве-малку[210] даже борщ с картошкой… Я бы свою Тазрие-Мецойре и за два злотых не отдал.
— Чтоб ей сгореть, моей Бхукосай[211] в Ижбице[212], — жаловался другой нищий. — Халу там дают только на благословение, потом приходится есть хлеб… А третьей трапезы и вовсе не бывает, чтоб им кости переломало…
Дед не мог слушать пустые речи и проклятья за субботним столом, но, не желая стыдить нищих, лишь намекал, чтобы они прекратили.
— Ешьте, люди добрые, ешьте, — приободрял он их, давая понять, что им следует есть, а не разговаривать.
Но нищие притворялись, что не понимают его, и продолжали одновременно и есть, и говорить.
Каждый раз, принося новые блюда, бабушка бросала взгляд на столовое серебро, боясь, как бы кто из побирушек не сунул что-нибудь себе в карман.
Меня увлекали истории и рассказы нищих, равно как и сделки, которые они заключали в субботу. В этот святой день они менялись между собой, продавали сахар, который получали вместо денег от скупых обывателей, покупали друг у друга лохмотья, пару старых голенищ и прочий хлам. Дед осаживал их:
— Суббота, люди добрые!
Однако те не слушали и продолжали вести свою нищенскую торговлю. Они также не хотели доверить деду на субботу узелки с деньгами[213]. Деда задевало, что эти бедняки не хотят отдать ему на хранение свои деньги, чтобы не носить их при себе в святой день.
— Люди добрые, я, слава Богу, пользуюсь доверием, — убеждал он их. — Весь город хранит у меня драгоценности и деньги…
И это не было бахвальством. Весь город хранил в доме моего деда судебные залоги и свадебные украшения — все это лежало в большом, тяжелом сундуке, окованном железом, обитом кожей и закрытом на множество замков. Сундук стоял у деда в спальне: так он мог быть уверен в том, что оттуда ничего не украдут. Дед убеждал нищих, что они тоже могут доверить ему свои узелки с мелочью до окончания субботы. Но те об этом и слышать не хотели.
— У нас ничего нет, ребе, — мрачно и настороженно говорили они. — Честное слово, ребе…
— Ну, ну, не клянитесь, — просил их дед. — Евреям не следует клясться…[214]. Ешьте, ешьте…
Нищие слушались. Еще больше, чем в пятницу вечером, усердствовали они утром в субботу, когда подавали горячее заливное с халой и яичным желтком, лук со смальцем, рыбу, кашу с бульоном, кугл, фаршированные кишки, цимес и другие вкусности. Бороды нищих лоснились от жира. Благочестивая кошка, прислушиваясь к дедушкиным змирес, приоткрывала один глаз, оглядывала расшумевшихся нищих и снова устраивалась поудобней на своем месте рядом с дедушкиным креслом.
Фрадл, черная овца в семействе Пер. М. Бендет
После благословения[215] дед сразу шел спать. Я же уходил в дом к дяде Йойсефу, где не так сильно, как у дедушки, чувствовалось присутствие субботы и где я мог поиграть с целой оравой моих рыжеволосых двоюродных братьев и сестер. Чего только мы ни затевали в святой день — ничто не могло вывести дядю Йойсефа из равновесия. Мы могли играть в орехи[216], в прятки и делать разные другие, совсем не полагающиеся в субботу вещи. Дядя же, поскольку не мог заниматься двумя своими любимыми делами — выписывать подсчеты и курить папиросы, — не переставая пил субботний чай, который ему все время приносила тетя Сора-Тжижа. При этом он беспрерывно беседовал, расспрашивал обо всех и обо всем, все должен был знать. Говорил он быстро, остроумно, насмешливо, мог резковато пошутить.
Вечной темой для разговоров была его старшая дочь от первого брака, Фрадл. Брюнетка с матовой кожей, единственная среди всех своих огненно-рыжих братьев и сестер обладательница темных волос, она жила в основном в Звиле, училась там в женской гимназии, любила говорить по-русски и одеваться как городская барышня. Время от времени, однако, приезжала в Билгорай к отцу, а едва приехав, сразу же принималась с ним ссориться.
Эта Фрадл была в семействе «черной овцой». Хасиды, враждовавшие с дедом из-за того, что он был миснагедом, считали, что именно в наказание за свое миснагедство он и нажил себе такую внучку — гойку, выкрестку, разбойницу, которая говорит по-гойски, носит на голове шляпку, а на ногах — лакированные сапожки. Для меня приехавшая из другого города Фрадл была фантастическим явлением из иного, волшебного мира. Самое большое волшебство состояло в том, что она из дядиной картонной коробки часто брала набитую вручную папиросу, закуривала, выпускала дым изо рта и из ноздрей и при этом продолжала ссориться со своим отцом из-за наследства, оставшегося после ее умершей матери, которое он, ее отец, пустил по ветру, а также из-за того, что он не заботится о ней, о своей дочери, и прочего подобного. Дядя никогда не упрекал ее ни за то, что она говорит по-русски и носит лаковые сапожки, ни за прочие гойские штучки. Он вообще никогда никого ни в чем не упрекал. Но он настаивал на том, что все ее учение в школе в Звиле не имеет никакого смысла и что ей нужно остаться в Билгорае и выйти замуж за какого-нибудь приличного парня.
Фрадл звонко хохотала — в благочестивом Билгорае такого смеха никогда не слышали ни от одной еврейской девушки — и затягивалась папиросой.
— Выйти замуж за «Иче-Маера» и поселиться в Билгорае? — с отвращением говорила она. — Да я лучше с моста брошусь.
— Чего же ты хочешь? — спрашивал ее дядя, выпуская клубы дыма ей в лицо.
— Выучиться и стать зубным врачом, — отвечала Фрадл, выпуская клубы дыма в ответ.
Слово «врач» наводило на меня такой страх и одновременно наполняло такой гордостью, что я даже не осмеливался дышать. Я только смотрел на эту чужую курящую девушку и не мог поверить, что она — моя кровная двоюродная сестра.
По субботам отец и дочь ругались еще яростнее, чем по будням, поскольку оба не могли курить. Я с удовольствием просиживал всю вторую половину субботы в шумном дядином доме, где даже в ссорах не было никакого озлобления, а было только что-то уютное и легкое. Тетя Сора-Тжижа, рослая женщина, от которой всегда пахло кухней и выпечкой, все время приносила мне булочки, рогалики и хлебцы с тмином. На третью трапезу я обычно возвращался в дедушкин дом. Бабушка сидела в большой кухне, которую уже заполняли тени исхода субботы, и произносила свои молитвы и тхинес. Молитвы эти были и на святом языке, и на идише; она с большим чувством читала «Бог Авраама»[217]. Я до сих пор помню этот ее вечерний напев:
Бог Авраама, Исаака и Иакова, Защити ото всякого зла свой народ Израилев…После «Бог Авраама» она переходила к рифмованной песне про Илию-пророка, который должен возвестить о приходе Мессии[218]. Я еще помню часть строк из этой песни:
На горе, горе далекой Да на лестнице высокой Илия из Тишби там стоит И всему Израилю весть трубит. Он трубит, что в самом деле Придет Мессия на той неделе…[219].Закончив петь эту песню, бабушка переходила к другой:
Было у Ханы семь дочерей, Крошечки хлеба не было у ней. Боже, от бедности Ты нас избавь, Ты нам здоровья и жизни прибавь. Пошли нам удачи и крепости в теле, Пусть придет избавленье на этой неделе, Быстрей, быстрей, быстрей, Пусть Илия к нам придет поскорей!..[220].Мои дядья, бывало, посмеивались над бабушкиными виршами на ивре-тайч, но бабушка, не обращая внимания на сыновей, пела эти песни на исходе каждой субботы, перед гавдолой. Мои двоюродные сестры, сироты Симеле и Тойбеле, тихонько напевали девичью песню о любви царя и царевны.
День и ночь, день и ночь Все летела птица. Прилетала, но закрыты Ставни у царицы. Ой, проснись-пробудись, Моя золотая. Тебе весть от царя Из дальнего края[221].Хотя в дедушкином доме женщинам нельзя было петь[222], но эта любовная песня допускалась. Ведь это была не простая песня о любви, а притча о Боге и Его народе, Израиле. Царь олицетворял здесь Бога, а царевна — еврейский народ. Птица олицетворяла посланника Бога к народу Израиля, принесшего благую весть об избавлении. Я не знаю, какое толкование имели в виду девочки-сироты, благочестивое или простое, рассказывающее о любви царя и царевны. Но в любом случае они пели эту песню с большим чувством, с душой. В кабинете у деда звучали совсем другие напевы: в большом помещении суда, заполненном тяжелыми, густыми тенями, вокруг стола сидели и стояли бедняки-решетники, несколько десятков человек, и набожно пели змирес третьей субботней трапезы.
В Билгорае занимались изготовлением решет, которые расходились по всей России и даже продавались заграницу. Местные крестьяне делали решета только зимой, когда у них не было работы в поле. Билгорайские евреи делали их круглый год. Этим ремеслом занималось несколько сотен еврейских семей. Женщины сортировали, чистили и мыли конский волос, из которого плели решета. Такую женскую работу называли мытьем, а самих работниц — мойщицами. Мужчины сидели за станками, среди веревок и поперечин, как мухи в паутине, и занимались плетением решет. Это была вредная для здоровья работа, от которой через пару десятков лет, а то и раньше можно было заболеть чахоткой. Большинство решетников работало от рассвета до поздней ночи. Это были сгорбленные, полуслепые, постоянно кашляющие люди без кровинки в лице. Так же выглядели и «мойщицы». Но этой тяжелой работой люди не могли заработать ни на хлеб с картошкой, чтобы наесться досыта, ни на нормальную одежду. Несколько богачей, дававших работу, платили за этот тяжкий труд гроши. Доходило до того, что у людей, работавших вместе со всеми домочадцами всю неделю, не на что было встретить субботу; случалось даже, что решетники и решетницы вечером в пятницу ходили по домам обывателей и просили халу или хлеб. Я часто видел, как они, стыдясь, заходили к нам. Бабушка давала им целые халы, половины хлебов. Они благословляли ее и желали всякого блага. После этого бабушка часто нападала на хасидов, среди которых были главные кровопийцы. Молодые и крепкие решетники, у которых еще были силы, могли сами заработать себе на хлеб, но даже они прозябали в ужасающей нужде. В переулках, где жили решетники, царили нищета, грязь и болезни. Их работодатели богатели день ото дня.
Бедные, сломленные решетники приходили в дедушкин дом каждую неделю, к исходу субботы, к третьей трапезе: ели халы с селедкой и пели змирес — в горе и нужде они тянулись к своему раввину, который заботился о них, уважал их. Дедушка беседовал с ними, утешал их, собирал для них пожертвования. И они гордились своим раввином. Гордились тем, что он молится не с хасидами, среди которых были и их хозяева, а в синагоге, с простыми людьми. Гордились тем, что он, обращаясь даже к самому незначительному из них, говорит ему «реб такой-то» и приветствует любого входящего в его кабинет словами «Добро пожаловать!». Они также приходили к деду жаловаться, вызывали в раввинский суд своих хозяев, чаще всего — самого большого богача в городе реб Йоше Маймона, на которого почти все они работали.
Обычно такие дела в раввинском суде разбирались после исхода субботы. Дед звал Шмуэла-шамеса и посылал его за тяжущимися сторонами.
— Ступай за реб Йоше, — говорил дед, — и скажи ему, что я вызываю его в раввинский суд.
Шмуэл-шамес уже знал, о каком реб Йоше идет речь. Хуже было, когда дед отправлял шамеса за второй стороной в разбирательстве, за решетником. Дело в том, что никто не знал фамилий этих бедняков-ремесленников. У них были прозвища, которые им давали городские насмешники. Дед не хотел называть человека по прозвищу и потому говорил просто:
— Ступай, Шмуэл, позови реб Берла-решетника.
— В городе будет, наверное, с десяток Берлов-решетников, ребе, — отвечал шамес.
— Он живет в переулке решетников.
— Все они живут в переулке решетников, ребе.
— Он, бедняга, худой, несчастный.
— Все они худые и несчастные, ребе…
— Он работает на реб Йоше…
В конце концов, поняв, что толку не будет, шамес начинал угадывать.
— Берл-Лапша? Берл-Горбун? Берл-Косица? Берл-Девка? Берл-Пархатый?
— Ну, иди же, иди… — говорил дед со вздохом, из чего Шмуэл-шамес понимал, что нужно позвать Берла-Пархатого.
Заседания раввинского суда проходили шумно. Бедные решетники жаловались, кричали, взывали к справедливости, правосудию, Божьему закону.
— Где же Божий закон? — спрашивали они. — У нас уже нет сил работать — ни у меня, ни у жены, ни у детей, и нам нечего есть.
— Я плачу мужикам и того меньше, ребе, — степенно заявлял реб Йоше.
Дедушка говорил о еврейском законе.
— Реб Йоше, у мужиков есть поля, мужики не должны есть кошерное, платить меламеду, отдыхать в субботу… Евреев нельзя сравнивать с гоями, не рядом будь помянуты.
— Это коммерция, ребе, а в коммерции нужно рассчитывать, чтобы товар стоил как можно дешевле, — спокойно и степенно отвечал реб Йоше на все крики и плач ремесленников.
По виду реб Йоше совсем нельзя было догадаться, что он богат. Его капота лоснилась от старости, на козырьке картуза было пятно. Чулки его были заштопаны, а заплаты на пятках виднелись из разношенных хасидских туфель. Но в городе поговаривали, что он был настолько же набит золотом, насколько набожно и бедно выглядел. Его гладкие, набожные, разумные слова, полные Торы и благочестия, выводили из себя несчастных, разгневанных, косноязычных решетников.
Однажды во время раввинского суда один решетник так распалился, что выкрикнул:
— Послушайте, ребе, когда я еще ходил в хедер, я уже работал на реб Йоше и уже тогда не мог, вместе с женой и детьми, заработать даже на кусок хлеба…
Реб Йоше рассмеялся.
— Дурак, когда ты ходил в хедер, у тебя еще не было ни жены, ни детей, — степенно сказал он, набожно оглаживая бороду и пейсы.
Решетник расплакался из-за своего косноязычия.
— Бог — наш Отец милосердный, — успокаивал решетника дед, поглаживая его, как ребенка, по плечу.
Чтобы не унижать участвующих в тяжбе бедняков, дед за рассмотрение таких дел в раввинском суде никогда не брал денег и с богачей.
После одного такого суда я решил разозлиться на Бога, который допускает, чтобы бедняки так страдали.
— Почему Бог не сделает так, чтобы все были хорошими, дедушка? — спросил я.
Дед попробовал объяснить мне это с помощью всевозможных умозаключений, но я не дал себя заговорить и заупрямился. Дед взглянул на меня своими пронзительными глазами.
— Ты слишком мал, чтобы понимать такие вещи, — сказал он мне. — Пойди, прочитай Кришме перед сном и верь в Бога. Все, что он делает, так и должно быть.
Затем он поднял глаза к потолку, тяжело вздохнул и вдруг пылко произнес:
— Я верую, Господи… Я верую, верую…
По тому, как он быстро схватил Гемору и уселся учить ее, я понял, что он хочет уберечься от мучивших его тяжелых раздумий и сомнений.
Я же больше ни о чем не спрашивал и, лежа в постели, только смотрел на деда за Геморой. Большой силой веяло от этого высокого, худощавого, строгого человека, который словно появился на свет, чтобы стать пастырем своей общины. Он управлял городом по справедливости, милосердно, ничего не сглаживал, ничего не забывал, никого не боялся, никого ни перед кем не высмеивал.
Помню, однажды, когда мы были у деда, в Билгорае как раз умер глава городской еврейской общины, человек богатый и пользовавшийся уважением начальства. Если я не ошибаюсь, его звали Довид Люблинер. Сыновья умершего пришли к дедушке просить, чтобы он произнес поминальную речь. Но дед отказался, ведь, хотя умерший и был набожным человеком, он не отличался ученостью или особой богобоязненностью, которые позволили бы выделить его среди других городских жителей. Сыновей это задело, и они выложили перед дедом сначала сто, а потом и двести рублей: в те времена это было целое состояние, особенно для моего деда, которому нужно было содержать такую большую семью. Но он не захотел и слышать об этом, хотя со всех сторон его уверяли, что он тем самым портит отношения с самыми влиятельными людьми в городе, которые могут ему повредить в глазах начальства. И будто этого мало, дед в тот же день произнес поминальную речь об умершем бедняке, который был, однако, большим ученым и благочестивцем. Это еще больше разгневало сыновей богача, но они не решились сказать деду в глаза ни слова. Также не смели ничего ему сказать и городские хасиды, недолюбливавшие его из-за того, что он не верил в «добрых евреев». Я помню, как в городе разразилась большая война между радзинскими хасидами с одной стороны и последователями других цадиков: герского, трискского, белзского, горлицкого, ридницкого, сандзского и прочих[223] — с другой.
Ссора вышла из-за умершего радзинского хасида, которого погребальное братство отказалось хоронить в талесе[224] с голубой нитью в цицес.
Радзинский ребе реб Гершом-Генех[225] очень беспокоился из-за того, что евреи в изгнании не используют тхелес[226], голубую краску, для своих цицес, хотя Тора предписывает ее использование и так поступали евреи в Земле Израиля. Ребе провел большое исследование, посвященное тхелесу, и пришел к выводу, что в Средиземном море живет тварь, называемая «хилазон», у которой голубая кровь: именно ею Тора и предписывает окрашивать нить для цицес. Он привез домой этих морских тварей, убил их и выкрасил их кровью одну нить, называемую «шамес», в цицес каждого своего хасида, как на их талесах, так и на их арбоканфесах. Он также оповестил всех раввинов и хасидских ребе, что они должны воспользоваться его открытием и приказать всем евреям, чтобы те использовали обнаруженный им тхелес. Среди раввинов поднялся шум. Раввины и хасидские ребе считали, что только после прихода Мессии люди узнают, что такое тхелес, а ныне живущие не имеют права решать такие вопросы. Радзинский ребе, ярый полемист, обвинял своих противников в том, что они завидуют его славе и оставляют евреев молиться в цицес, не содержащих нити, окрашенной тхелес, а это, согласно Торе, все равно что вовсе не носить цицес. Хасиды других ребе заявили, что со стороны радзинского ребе это большая наглость — обвинять евреев и цадиков в таком грехе. Они также утверждали, что радзинский ребе заинтересован в этом деле, так как получил монополию на голубые нити и назначил высокую цену за свой тхелес.
Эта война полыхала в среде польских евреев много лег. Противники стыдили друг друга и даже дрались. Из-за голубых цицес расстраивались свадьбы, разводились пары. Как-то летом, когда я был у деда, умер один радзинский хасид. Его сыновья и друзья, радзинские хасиды, хотели похоронить его в талесе, на котором были цицес с голубой нитью. Члены погребального братства, бывшие хасидами других ребе, не захотели должным образом похоронить умершего в таком талесе. В городе начался скандал. Покойник лежал непогребенным. Дед послал за главными скандалистами из числа членов погребального братства и приказал им похоронить покойного в его талесе с голубой нитью в цицес. Для хасидов, особенно герских, это был жестокий удар. Они пробовали возражать:
— Ребе, но это же грех, святотатство…
— Самый большой грех и святотатство — это раздоры между евреями, — ответил дед. — Я беру этот грех на себя…
Ярые хасиды подчинились раввину-миснагеду, не осмелились противостоять ему. Да и не только хасиды — «грешники», просвещенные люди также не решались выступать против деда. В городе был доносчик[227]. Дед его преследовал. Доносчик не смел сказать ни слова, а лишь выслушивал дедушкины нравоучения и угрозы.
Однажды кто-то пришел к дедушке и рассказал, что на свадьбе дочери лекаря с сыном клезмера танцуют «шатнез»[228], то есть парни танцуют с девушками. Люди такого сорта тогда считались среди евреев самыми скверными, ведь что может быть хуже, чем лекарь и клезмер[229]? Но дед не мог потерпеть в своем городе подобного бесстыдства. Он тут же надел атласный халат и бархатную шляпу и в сопровождении Шмуэла-шамеса отправился в дом лекаря, дабы самому убедиться, что такой грех действительно совершается среди народа Израиля. Когда молодые клезмеры и их девицы узнали, что идет раввин, они потушили лампы и попрыгали в окна. Вот как дрожали в Билгорае перед городским раввином.
Из множества других эпизодов, случавшихся в доме моего деда, я хочу напоследок рассказать еще два.
Я помню, как однажды к дедушкиному дому подъехал большой воз, груженный сеном. Из сена торчали раввинская шляпа и большая шаль, обмотанная вокруг скорчившейся под ней фигуры. Извозчик, еврей-арендатор, буквально на руках вынес из сена раввина, одетого в несколько жупиц, хотя стоял теплый летний день. Из кухни выбежала тетя Рохеле и от удивления ущипнула себя за щеку.
— Папа, папа! — закричала она. — Ичеле, смотри, кто приехал, папа!
Это был дедушкин сват, реб Ешиеле Рахевер, раввин Высоко, написавший кучу книг, в которых на все налагался запрет. Едва он выпутался из всех своих одежд и несколько раз вымыл руки, как тут же принялся рассказывать о новых наложенных им запретах.
— Вы знаете, сват, я обнаружил, что в картофеле, возможно, есть квасное, и потому евреям лучше бы не есть картофель в Пейсах…[230]
При этом он принялся приводить толкования, показывая, откуда он взял новый запрет.
— Что же евреи будут есть в Пейсах, реб Ешиеле? — спросил дед, тихо усмехаясь в бороду.
Реб Ешиеле не ответил на этот вопрос и стал говорить о своих новых подозрениях относительно других продуктов, которые евреям также не следует брать в рот. Дед молча выслушивал аргументы свата, которые его мало убеждали, и только тихо улыбался.
— Вы, реб Ешиеле, все стараетесь найти, чего евреям есть нельзя, — сказал он. — Это не фокус. Лучше было бы найти то, что евреям есть можно: беднякам нужна еда, реб Ешиеле…
Тогда реб Ешиеле снова принялся искать аргументы, но дедушка предложил ему лучше попробовать угощения, которые бабушка поставила на стол.
— Ешьте, сват, — подбадривал дедушка. — Ешьте сами и дайте поесть другим…
Простоватый набожный раввин не понял тонкого намека и с энтузиазмом стал объяснять свое учение, из которого он выводил, что все в этом мире должно быть для евреев запрещено…
Дядя Иче, зять реб Ешиеле, часто смеялся над своим тестем-книжником. Он рассказывал на кухне, что однажды реб Ешиеле поехал в Люблин со своей дочерью, тетей Рохеле. А так как реб Ешиеле боялся, что люди заподозрят, что он, не дай Бог, едет в одной подводе с посторонней женщиной, то кричал на всех люблинских улицах: «Люди, знайте, что я еду со своей собственной дочерью…»
Встреча деда и реб Ешиеле меня очень позабавила.
Вторая встреча, которая произвела на меня сильное впечатление, произошла между моим дедом и «добрым евреем».
В Билгорай приехал собирать деньги у своих хасидов цадик реб Мотеле из Казимира, отпрыск чернобыльской династии[231]. Как это было принято, ребе нанес визит городскому раввину. Хотя дедушка был миснагедом, он принял своего гостя, «доброго еврея», очень почтительно и предложил ему свое кресло во главе стола. Ребе уселся рядом с дедушкой. Вокруг стола толпились хасиды и приближенные ребе.
Бабушка принесла угощение — яблоки, груши и сливы. Дед, как обычно, принялся беседовать с гостем на ученые темы. Но «добрый еврей» вовсе не хотел вести ученые разговоры, потому что, вероятно, не был большим знатоком, и стал, гримасничая, напевать, как это в обычае у «добрых евреев». Вместо ученых разговоров он принялся без конца рассуждать о гематриях, то есть о том, как искать числовые значения слов в стихах Торы. Мой дед не слишком хотел обсуждать такого рода науку.
Габе цадика сразу же принялся за торговлю. Как только ребе попробовал сливу, габе тут же начал торговать «кусочками»[232].
— Ровно рубль серебром за сливу! — выпевал он, как при продаже вызовов к Торе[233]. — Ровно рубль с полтиной… Два рубля…
Хасиды перебивали друг у друга цену. Скоро прибежали женщины с детьми и стали просить, чтобы ребе их благословил. Ребе благословлял, но его габе заранее требовал платы за каждое благословение. Прежде чем ребе покинул дедушкин дом, габе продал право проводить его. Ребе прихрамывал на одну ногу, поэтому его нужно было вести под руку. Честь проводить ребе стоила денег…
Когда ребе и его хасиды ушли, дед вытер стол носовым платком, как будто хотел стереть с него все следы присутствия оборотистых хасидов; при этом он ни слова не сказал своему ученику Тодросу, талмудисту и миснагеду, который посмеивался над тем, что только что увидел и услышал.
— Ну же, учись, не сиди без дела! — приказал дедушка и уселся учить Талмуд вместе с парнем, к которому был очень привязан.
В конце лета, в начале месяца элул[234], мать забирала нас с сестрой, и мы возвращались домой, в Ленчин.
Бабушка пекла нам в дорогу горы булочек, давала с собой варенье и несколько бутылок сока. По пути я рвался сесть возле балаголы, вылезал из буды на холмистых участках дороги, свистел лошадям. Мама стыдила меня, внука билгорайского раввина, за такое неподобающее поведение. Когда мы проезжали через город Янов, мама показала мне на здание тюрьмы с зарешеченными окошками и сказала, что, если я не буду вести себя по-людски, а буду думать только о лошадях и балаголах, я однажды окажусь в этой тюрьме, где сидит билгорайский «умник» Ичеле-Шмуэл, Фанин сын, который все возился с лошадьми да водился с конокрадами. И с тех пор всегда, когда я делал что-то неподобающее, мама называла меня «Ичеле-Шмуэл, Фанин сын».
Так мы ехали через местечки, деревни и леса Люблинской губернии, которую называли «владениями царя нищих». Мы проезжали через старинные еврейские города, упомянутые в еврейских книгах со времен «гонений тов-хес»[235]: Замостье, Шебжешин, Горай[236], Юзефов[237] и многие другие. Города со старинными синагогами и еврейскими кладбищами. Города с древними соборами и башнями, с большими круглыми рыночными площадями, окруженными деревянной стеной с навесами, которые называются «починами», под ними сидели лавочники и торговки. Города со стародавними еврейскими обычаями, в которых на рассвете шамес созывал обывателей в синагогу, а белферы, напевая, вели в хедер маленьких детей. Города, в которых глашатаи били в барабан на рыночной площади, объявляя о новых законах и указах, а ученики хедеров украшали в честь праздника окна домов вырезанными из бумаги оленями, львами и птицами. В этих краях не только евреи, но и мужики выглядели самыми традиционными во всей Польше. Ведь ни в какой другой части Польши крестьяне не носили таких длинных — часто по плечи — волос, таких разноцветных квадратных шапочек с кистями, висящими на каждом уголке, таких длинных вышитых сукманов[238], таких пестрых кушаков на бедрах и таких расписных ходоков[239] на ногах. Ни в какой другой области у крестьянок не было таких необычайно высоких, тугих тюрбанов на голове, скрученных из больших разноцветных шалей, которые называли хамулками[240]. Нигде больше в Царстве Польском поляки не были так плотно перемешаны с русинскими крестьянами[241], которые носили рубахи навыпуск, ходили в лаптях или босиком и говорили на «хохлацком» языке — евреи называли его «греческим»[242]. Евреи и мужики в этих «владениях царя нищих» были старомодны, красочны и набожны. Расположенные вдали от железной дороги местечки стояли погруженными в прошлое, не затронутыми ходом времени. Густые леса отделяли этот край от всего остального мира.
Сначала мы тащились в буде, потом ехали поездом, потом — на подводе, и через два дня пути возвращались домой, в Ленчин. Первым нас встречал звук шойфера, в который в исполненные благочестия дни месяца элул на чем свет стоит трубили парни в бесмедреше[243].
Нам бьют окна из-за сыновней почтительности, а потом в чулках приходят просить прощения Пер. М. Бендет
Когда мы вернулись домой из Билгорая, тоска и бедность захолустного Ленчина стали угнетать нас еще больше. Наше заброшенное местечко показалось нам совсем маленьким. Мама, ожившая было в отцовском доме, снова погрузилась в обычное молчание и уныние. Она все еще надеялась преодолеть упрямство моего отца и убедить его сдать экзамен и получить должность раввина в более крупном местечке. Поэтому, проезжая через Варшаву, она выторговала за два рубля составленный на идише самоучитель, по которому можно было самостоятельно выучить русский язык и грамматику. Это была пачка из нескольких десятков тетрадей с разноцветными обложками, на которых был напечатан портрет автора, человека с красиво расчесанной бородой и в ермолке на немецкий манер[244], какие носят бадхены. Под портретом стояло имя: Нафтоле-Герц Нейманович[245] — Гонац[246]. И портрет автора, и его имя произвели на меня большое впечатление, и я тут же принялся учить русские слова — все они были переведены на идиш. Истории из самоучителя, обычно сопровождавшиеся моралью, ужасно мне понравились, а еще больше — моей сестре. Но они совершенно не нравились нашему отцу. Маме удалось с помощью логики на какое-то время убедить отца в том, что ему следует хотя бы на час в день откладывать древнееврейские книги и заглядывать в самоучитель. Чтобы ему было легче, мама сама заранее проходила урок, а потом повторяла его вместе с ним. Я до сих пор помню, как отец мучился, выговаривая такие фантастические слова, как «падеж», «существительное», «сказуемое», «глагол» и другие в этом роде. Но вскоре это дело ему опротивело. Он наотрез отказался учить наизусть русскую песенку, в которой были такие рифмы: «Кот мохнатый, козел бородатый»…[247]
— Все это ни к чему, я не пойду разговаривать с губернатором, — сказал он маме и снова взялся за свои древнееврейские книги, поля которых он снизу доверху усеивал бисерными, изящными полукруглыми строчками толкований.
Мама быстро прошла весь самоучитель. Если бы ей нужно было держать экзамен и получить место раввина, она бы сделала это в два счета. Но она была всего лишь женщина, и потому ее знания становились для нее не достоинством, а, наоборот, недостатком. Вместе с мамой и мы с сестрой зубрили тетрадки самоучителя и изо всех сил старались одолеть премудрости русского языка. Правильно ли мы произносили русские слова — это большой вопрос, зато мы знали наизусть все рассказы и мудрые изречения из самоучителя.
— Учись, учись, — ободряла меня мама. — Когда вырастешь, тебе будет легче сдать раввинский экзамен.
Для мамы было ясно как божий день, что я стану раввином; но ей хотелось, чтобы я стал таким раввином, который не боится разговаривать с губернатором.
Моя сестра спросила у мамы:
— А кем я стану, когда вырасту?
— Кем может стать девочка? — ответила ей мама.
Моя сестра, с детства ревнивая, не могла простить того, что ее способности никто не оценит, поскольку она существо женского пола. Это был источник наших с ней постоянных ссор.
Отец продолжал увлекаться своими толкованиями: он писал их целыми днями. Всякий раз, когда ему удавалось открыть что-то новое в Торе или в Геморе, он светился от счастья. Щеки его пылали, голубые глаза сияли. Так как ему некому было рассказать о своих толкованиях, он рассказывал о них маме; отец, вечный энтузиаст, искавший тепла и признания, зависел от маминого мнения, как ребенок.
— Ты что же, собираешься толкованиями прокормить жену и детей? — спрашивала мама.
Кстати, в это время она была на последнем месяце беременности, готовясь произвести на свет новое существо.
Вскоре женщины стали собираться у нас в доме; они шушукались, секретничали, отсылали меня из дома, ведь мальчику не пристало слушать женские разговоры. Однажды на рассвете мама начала стонать. Собравшиеся женщины тут же завесили мамину кровать простынями, а меня отправили за повитухой — гойкой по имени Пакацова.
— Беги скорее и тащи ее сюда! — наказала мне Трейтлиха.
Ей не нужно было меня просить, потому что в детстве беготня была для меня самым естественным занятием. Я все время бегал. На этот раз я мчался как вихрь. Повитухи не оказалось дома — она была в поле, копала перед зимой последнюю картошку. Невысокая, толстая гойка отложила лопату, повязала фартук и, как была в поле — с грязными, перепачканными землей руками, босая, хотя уже наступили холода, — так и отправилась к маме за простыни.
Через несколько часов родилась девочка с рыжими волосами — вся в маму, которая тоже была рыжеволосой.
Хасиды в бесмедреше шутили и насмешничали, когда в субботу, во время чтения Торы, папа нарек новорожденную дочку Сорой[248]. Среди хасидов рождение дочери почиталось делом непочтенным. Часто даже случалось, что отца девочки молодые люди из хасидских семей хлестали своими кушаками; понятно, что у нас дома не стали устраивать никакого застолья. Обывателей просто угостили во время кидуша водкой и песочным печеньем. Для девочки и этого было достаточно.
У мамы не хватало молока, и поэтому младенец часто плакал. Я постоянно вставал на рассвете и качал колыбельку, стоявшую возле маминой кровати. При этом я сгонял тучи мух, усаживавшихся ребенку прямо на личико…
Жизнь в нашем доме стала еще тяжелее. Кроме детского плача, ничто не нарушало по-прежнему царившей в нем скуки. Но вдруг эта скука оказалась прервана разгоревшейся в местечке распрей. Как всегда бывает в еврейских местечках, вспыхнула она по религиозному вопросу. В тот раз все случилось из-за резника реб Иче-шойхета и его шхиты.
Реб Иче-шойхет был пожилой, благочестивый человек, ученый и умный, такому пристало бы быть резником в городе побольше нашего. Кроме того, он был близким другом моего отца и часто заходил к нам — не только затем, чтобы показать отцу свои ножи, но и просто в гости. По субботам и праздникам он, так же как отец, надевал на голову штраймл. А когда отца не было дома, он даже мог сам вынести решение по галахическому вопросу. Я часто бывал дома у реб Иче-шойхета. Дело в том, что этот реб Иче был не только шойхетом и моелем, но еще и большим знатоком по части заговаривания сглаза. Никто не умел заговорить сглаз такими необыкновенными словами и стихами из Писания, как реб Иче. Женщины в местечке говорили, что от его заговоров сглаз как рукой снимает. Он был мастером заговаривать сглаз, зато его жена, Сора-шойхетша, была мастерицей «сглаживать». Это была старая, морщинистая женщина с темным, как у цыганки, лицом и черными как уголь злыми глазками, с бородавками и волосками на подбородке. Рот ее все время двигался: она постоянно что-то бормотала и нашептывала. Эта старуха в шали, повязанной поверх старого засаленного чепца, беспрерывно разговаривала сама с собой, ругалась и ворчала. Не знаю, было ли дело в том, как она выглядела, или же в ее постоянном бормотании, но только помню, что ее считали очень «глазливой». Когда она показывалась на улице, женщины хватали детей и бросались врассыпную. Стоило в местечке заболеть ребенку, сразу говорили, что это шойхетша его сглазила. Для начала ребенка пытались исцелить так: нужно было подкрасться к шойхетше, оторвать от ее вечной шали ниточку бахромы и сжечь эту ниточку на горячих углях в глиняном горшке. Шойхетша все время ходила в шали с обтрепанной бахромой и гнала от себя женщин, пытавшихся оторвать ниточку.
— Чтоб по тебе надорвали край одежды[249], Господи! — проклинала она. — Чтоб тебя разорвало…
Если сожженная ниточка не помогала, шли к реб Иче, чтобы он заговорил сглаз. Получалось, что реб Иче приходилось заговаривать сглаз, источником которого была его собственная жена. Старуха так и кипела от злости, когда женщины приходили к ее мужу и просили его заговорить сглаз. Считалось, что, если реб Иче зевает после заговаривания[250], значит, это действительно был сглаз, а не какая-то другая болезнь. А реб Иче в таких случаях всегда зевал. Сора-шойхетша, любившая своего мужа и преклонявшаяся перед ним, заявляла, что он, бедняга, зевая, порвет себе рот.
— Идите к кому-нибудь другому, — злилась она. — Ведь не один же он такой в местечке!
Но женщины не хотели идти ни к кому другому. А реб Иче никому не отказывал. Он мыл руки, а потом выкликал фантастические имена добрых и злых ангелов. Говорил долго и серьезно, и при этом часто сплевывал. Затем он принимался зевать. Это означало, что он не напрасно произнес заговор.
— Это сглаз, — уверенно говорил он.
Хотя моя мама и была отчасти просвещенной благодаря своим философским книгам[251], она, несмотря на это, все равно верила в сглаз, и всякий раз, когда моя новорожденная сестричка принималась плакать, мама посылала меня к реб Иче-шойхету.
— Реб Иче, заговорите от сглаза Сору, дочь Башевы, — выпаливал я, едва переводя дух после быстрого бега.
Мне очень нравилось бегать с поручениями к реб Иче-шойхету. Одно удовольствие было глядеть, как он точит свои ножи. Кроме того, он был мастер очинять гусиные перья, которыми потом так же, как мой отец, писал толкования к Торе. Но еще больше мне нравилось рассматривать скобяную лавку шойхетши. Сора-шойхетша держала лавку, полную пил, ящиков с гвоздями, молотков, буравов и прочих железных инструментов; в местечке поговаривали, что эта лавка приносит ей немалые деньги. У меня была слабость ко всем этим железным штукам, особенно к гвоздям.
Зачем, собственно говоря, кому-то нужно было «сглаживать» мою сестренку Сору, я не знаю. В нашей семье никто, не дай Бог, не согрешил чрезмерной красотой, которая могла бы вызвать женское восхищение и тем самым сглаз[252]. Но, несмотря на это, моя мама регулярно посылала меня к реб Иче, чтобы он заговорил сглаз. Реб Иче каждый раз щипал меня за щеку и дарил искусно очиненное гусиное перо.
— А-а-а, — широко зевал он. — Это был настоящий сглаз. Ступай, Йошеле, и передай от меня маме пожелание полного выздоровления для ребенка.
— Порча-корча, — злобно ворчала на меня шойхетша, хотя я не оборвал ни одной ниточки с ее шали.
И как раз между реб Иче-шойхетом и моим отцом, хотя они и были близкими друзьями, вдруг вспыхнула распря.
Все случилось во время обрезания: реб Иче обрезал младенца, и тут мой отец, который был сандеком, заметил, что нож дрожит в руке старого шойхета. Согласно закону, у шойхета должна быть твердая рука; если нож во время шхиты дрогнет, то зарезанная скотина или птица становится трефной. Мой отец позвал к себе реб Иче и, по своему обыкновению, мягко дал понять: поскольку рука реб Иче дрожит от старости, ему придется оставить шхиту.
— Реб Иче, вам не следует подвергать опасности общину и себя самого, — смущаясь, сказал отец. — Боюсь, мясо будет трефным, не дай Бог… Кроме того, у вашей жены есть лавка, которая, слава Богу, дает ей почтенный заработок. Ваши дети женаты… Зачем вам так рисковать?
Реб Иче вспылил.
— Ребе, моя рука тверда, как у молодого, и я не оставлю шхиту, — ответил он сердито. — Если бы я не был уверен в себе, я бы не подвергал опасности свою душу.
Как отец ни старался убедить шойхета, он так и не сумел уговорить его оставить шхиту. Так как речь шла о религиозном деле, отец пренебрег дружбой и в субботу, во время чтения Торы, объявил обывателям, что, поскольку рука реб Иче дрожит, он налагает запрет на его шхиту, а тот, кто впредь будет есть от этой шхиты, будет считаться съевшим трефное или падаль…
Сразу же после этого реб Иче в талесе и в штраймле поднялся на биму и сказал:
— Люди добрые, слова раввина — навет на меня. Я человек ученый и богобоязненный, могу, как и раввин, разрешать галахические вопросы. Молодой человек не смеет запрещать мне, старому и опытному шойхету, совершать шхиту.
В бесмедреше начался скандал. Тут же образовались две партии. Все кричали. Громче всех кричала из вайбер-шул Сора-шойхетша.
— Люди добрые, здесь проливают кровь реб Иче-шойхета!.. — надрывалась она. — Я этого так не оставлю!.. Я весь мир переверну… Я небеса расколю…
Моя мама, не проронив ни слова, тут же отправилась домой, чтобы не видеть склоку в бесмедреше.
Раздор вспыхнул огнем. В нашем доме постоянно собирались обыватели. Они злословили, пересказывали слухи. Мясники в испачканных жиром капотах бегали по местечку и кричали, что они разорятся без шхиты. Обыватели то и дело собирались на сход. Сора-шойхетша все время мелькала у дверей и под окнами нашего дома, размахивала руками, кричала, проклинала, угрожала. Она обвиняла моего отца в том, что ему нужен новый шойхет, чтобы взять с него плату за передачу шхиты. Отец беспомощно, как ребенок, выслушивал этот оговор.
— Люди добрые, даю слово, у меня нет, не дай Бог, никакого дурного намерения, я просто хочу оградить евреев от трефного, — говорил он. — Пусть три раввина посмотрят на реб Иче-шойхета и скажут, не дрожит ли его правая рука во время шхиты.
Сора-шойхегша снова размахивала руками, снова осыпала отца угрозами и страшными проклятиями.
«Рыжий обманщик» — так она прозвала моего отца за его рыжеватую бороду.
Мама уходила в угол комнаты, чтобы не видеть этого позора.
Сора-шойхетша съездила в соседние местечки, где жили ее женатые сыновья, и привезла их всех в Ленчин, чтобы они поддержали своего отца. Сыновья, мужчины с черными как смоль бородами, в субботу перед чтением Торы прервали службу и принялись проповедовать, обвиняя раввина в клевете. Один из сыновей шойхета, черноволосый человек с бельмом на глазу, которого поэтому прозвали Янкл-Бельмо, так разъярился против моего отца, что открыто обвинил его в том, что он взял деньги у нового шойхета, которому пообещал шхиту. Мой отец, стоя у стола для чтения Торы, на котором лежал свиток, ответил, что это ложь[253]. Но Янкл-Бельмо продолжал его обвинять, и тогда мой отец сказал ему, что он говорит дерзко и нечестиво. Тот разъяренно бросил ему в ответ:
— Сам ты нечестивец…
Я вздрогнул, услышав эти слова, адресованные моему отцу-раввину. Вместе со мной вздрогнула вся община. Мойше-Мендл-мясник, знавшийся с хасидами и носивший атласную капоту, забыв о своей набожности, со сжатыми кулаками бросился к биме, готовый разорвать Янкла-Бельмо за то, что тот оскорбил раввина.
— Убить его! Переломать ему руки-ноги! — кричали простые люди.
Мойше-Мендл разорвал бы Янкла на куски своими сильными красными руками, нелепо торчавшими из атласных рукавов хасидской капоты, но мой отец удержал его:
— Реб Мойше-Мендл, сегодня суббота! — воззвал он. — Тора лежит на столе!
С грехом пополам отцу удалось утихомирить разбушевавшегося Мойше-Мендла, в котором, несмотря на хасидскую одежду, проснулся мясник.
На исходе той же субботы, когда отец сидел за столом и после гавдолы произносил «Ва-итен лехо»[254], оконное стекло вдруг разбилось на множество осколков, а в комнату упал камень[255]. Испуганный отец пробормотал:
— Я, несмотря ни на что, огражу евреев от трефного…
В местечке наступил хаос. Никто не торговал, никто не работал: все говорили только о раввине и шойхете. Ненависть к шойхетше, которую продолжали считать источником сглаза и проклятий, разгорелась еще сильнее. Поговаривали, что именно она подзуживала мужа начать эту распрю, что именно она бросала камни нам в окно. Женщины стали рассказывать, что Сора-шойхетша — ведьма, что она занимается колдовством. Вскоре нашлись свидетельницы, которые всячески клялись в том, что сами видели, как старая Сора бродит повсюду, держа в руках дохлых кошек и ворон, лежавших у нее на крыше разрушенного сарая, и при этом произносит всевозможные заговоры и колдует над падалью.
На самом деле женщины не соврали. Шойхетша убирала с крыши своего сарая падаль, которую мы, мальчишки, туда забрасывали. Сарай этот представлял собой развалину, в которой стояла и ржавела гладильная машина. Шойхетша, владевшая скобяной лавкой, когда-то придумала, что сможет заработать денег, установив машину, которая будет «распрямлять», то есть гладить белье для хозяек, чтобы им не нужно было делать это вручную. Она привезла из Варшавы какую-то машину, устройство с множеством колес и колесиков, поставила ее в старом сарае и стала ждать заработков. Но ленчинские хозяйки не собирались зря тратить деньги и предпочитали гладить свое белье так, как они всегда это делали, то есть с помощью валька с насечками. Машина ржавела. Ученики хедера швыряли на плоскую крышу старого сарая то камни, то дохлую ворону или кошку. Шойхетша по-черному кляла мальчишек за то, что они швыряют падаль на ее сарай. Кроме того, она размахивала своими худыми, смуглыми руками, гримасничала, разговаривала сама с собой. По этим приметам женщины и поняли, что старуха имеет дело с бесами и демонами и колдует с помощью костей дохлых животных, призывая на местечко мор. От евреек это узнали деревенские бабы. Скоро стали распространяться слухи о том, что Сора-шойхетша колдует: напустила порчу на коров, чтобы те перестали доиться, на кур, чтобы перестали нестись, и вообще насылает всяческие бедствия. Из-за этого несколько баб даже напали на старуху и избили ее. Мойше-Мендл-мясник клялся своей бородой и пейсами, что своими глазами видел, как старая Сора летела верхом на метле. Он шел в субботу, после гавдолы, через поле и увидел, как Сора-шойхетша собирает какие-то корешки, а потом она уселась верхом на метлу и улетела. Сколько ни пыталась моя мама высмеять небылицы мясника о летающей шойхетше, это совершенно не помогало. Тот утверждал, что хотел бы также удостоиться собственными глазами увидеть Мессию, как он видел шойхетшу, летящей на метле. В местечке стали бояться ходить вечером мимо разрушенного сарая. Женщины начали носить два фартука[256], ведь фартуки — испытанное средство от нечистой силы, мальчики сжимали в руке цицес[257] и три раза произносили, переставляя слова: «Махешейфе лой тихъе, лой тихъе махешейфе, махешейфе тихъе лой…»[258].
Соседки без обиняков говорили мне, чтобы я, не дай Бог, не ходил мимо дома шойхетши, потому что из ненависти к моему отцу она может меня сглазить или наслать мне на глаза бельмо — такое же, как у ее сына Янкла.
Через несколько дней Янкл-Бельмо появился на пороге нашего дома. Не говоря ни слова, он снял сапоги и остался в чулках[259], как коэн перед благословением. Опустив голову, ступая на носках, Янкл приблизился к моему отцу и сказал:
— Ребе, я прошу у вас прощения за то зло, которое причинил вам перед всей общиной.
Отец покраснел и протянул Янклу руку.
Я до сих пор помню чулки Янкла, протершиеся на пальцах и на пятках.
После этого распря утихла. Реб Иче навсегда убрал в футляр свои ножи. Он также перестал обрезать младенцев. Мой отец снова стал дружить с реб Иче, однако прежняя дружба уже не вернулась, чего-то в ней не хватало. И только шойхетша не могла забыть «несправедливости» моего отца. Она так и продолжала за глаза называть его «рыжим обманщиком».
Когда год спустя мама снова родила девочку, снова рыжеволосую, и та тоже стала плакать, вероятно, оттого, что у мамы опять не хватало молока, я вновь стал бегать к реб Иче, чтобы он заговорил от сглаза мою самую младшую сестренку. Реб Иче произносил заговоры, зевал и посылал маме благословения, чтобы ребенок выздоровел. Но шойхетша преследовала меня и беспрерывно ворчала.
— Как резать, так он не годится, а как разрывать себе рот и заговаривать от сглаза — так годится, — бормотала она.
В конце лета в местечке разразилась эпидемия скарлатины, и обе мои младшие сестрички заболели. Заговоры реб Иче не помогали. Привезли фельдшера Павловского. Гой смазал детям горло йодом — но и это не помогло. Через несколько дней в Закрочим, расположенный на другом берегу Вислы, отправили повозку и привезли оттуда доктора. Доктор, гой в цилиндре, пришел к нам в дом, набитый женщинами и мужчинами. Все мужчины сняли шапки. Мой отец остался стоять в ермолке. Доктор взглянул на Павловского, пытавшегося конкурировать с ним в наших краях, и спросил его в шутку, не он ли — знаменитый ленчинский мудрец. Фельдшер снял перед барином шапку и униженно поклонился ему.
У нас в доме запахло лекарствами. Мама беспрерывно читала псалмы и плакала. Отец тоже созвал мужчин в бесмедреш читать псалмы[260]. Но детям становилось все хуже и хуже. Утром в субботу, когда отец, по своему обыкновению, находился уже после богослужения в бесмедреше, потому что еще не закончил молитву, прибежала женщина и принесла дурную весть: дети при смерти. Отец, прервав молитву, пошел домой. Я пошел за ним. Отец кому-то велел, несмотря на субботу, запрячь лошадь и вместе с заплаканной, убитой горем мамой уселся на подводу и отправился в Новый Двор[261], где был знающий доктор. Все местечко плакало, провожая моих папу, маму и сестренок в это субботнее путешествие, предпринятое, чтобы вырвать детей из рук ангела смерти.
Соседка забрала нас с сестрой к себе в дом, усадила за субботний стол и угостила вкусной едой.
— Ешь, мальчик, папа и мама благополучно вернутся домой с детьми, — утешала она меня.
Слова утешения и вкусная еда заставили меня забыть обо всем. Я ни о чем не думал еще и потому, что все время играл без родительского присмотра с другими мальчиками. Восемь дней спустя папа и мама вернулись из Нового Двора одни…
Мама попыталась убедить меня в том, что мои маленькие сестренки на некоторое время остались в Новом Дворе. Но я понял, что они остались там навсегда, и испытал страшный гнев из-за этой двойной потери. Мама рыдала от горя. Я до сих пор помню, как она убивалась по дочерям, умершим в один день.
— Господи, за что мне такое? — спрашивала мама, воздевая руки к небу. — За какие грехи, Отец Небесный?
Отец Небесный молчал. Вместо Него заговорил мой отец.
— Значит, так и должно было случиться, — сказал он печально. — Нельзя роптать на Бога. Бог справедлив, Он добр…
— Нет, Бог плохой, — сердито заявил я, — Он злой.
Отец окаменел.
— Нельзя так говорить, — сказал он, дрожа от страха. — Бог праведен.
— Нет, Бог плохой, плохой! — упорствовал я в своем детском горе.
Я никак не давал убедить себя в том, что тот, кто в один день отдал двух моих маленьких сестер ангелу смерти, праведен. Это не соответствовало моим представлениям о праведности. По этой же причине у меня вышел яростный спор с меламедом во время изучения Книги Иова. Я был на стороне Иова, страдающего, больного чесоткой, а не на стороне его друзей, утешавших его разговорами, и не на стороне Бога, который наслал на Иова ужасные наказания из хвастовства, только для того, чтобы явить свои божественные чудеса и могущество. Я часто высказывал свои претензии к Богу — да так, что набожные люди зажимали уши и стыдили меня, говоря, что моя дерзость до добра не доведет.
Вскоре я нашел утешение в том, что мы начали строить собственный дом.
Из густых окрестных лесов к нам, чтобы разрешить какой-нибудь религиозный вопрос или уточнить, на какой день выпадает йорцайт[262], частенько приезжали «лесные» евреи: лесоторговцы, бракёры, кассиры, учетчики и прочие подобные. От этих здоровых, загорелых, сильных, рослых, смелых и веселых мужчин пахло лесом, землей, ветром, водой и солнцем. Они рассказывали всякие истории о своей жизни в лесу, которые я слушал, раскрыв рот. Для того чтобы мужики могли работать в их лесах по субботам, они «продавали» свои леса шабес-гою Шмидту и оформляли у отца «купчую»[263], за которую щедро платили. Некоторые оставляли мне при этом сдачу, иногда целую серебряную монету, четвертак или даже полтину. Позже мама не раз брала у меня в долг эти монеты, а потом не могла вернуть… Чаще, чем в остальное время, «лесные» евреи появлялись в местечке в Дни трепета, чтобы помолиться в миньене в эти святые дни. Они приезжали на подводах с женами и детьми и привозили множество подарков: овощи, фрукты, живых кур — все это предназначалось для ленчинских жителей, у которых они останавливались. Местные неизменно встречали деревенских насмешливым: «Шолом-алейхем, гнилые енгалки!» — намек на то, что они, эти деревенские евреи, появляются одновременно с мелкими подгнившими грушами, которые как раз поспевали в это время и назывались енгалками; но все равно все радовались чужакам в местечке, а мальчики, в домах у которых останавливались приезжие из деревни, очень этим гордились. Я завидовал мальчикам, у которых жили «гнилые енгалки», и сердился на отца за то, что он не берет к нам в дом на Дни трепета деревенскую семью.
Приезжие много жертвовали на бесмедреш, покупали для себя лучшие вызовы к Торе. Некоторые лесоторговцы были богатые, щедрые и ученые люди; они привносили радость в жизнь местечка. Я особенно хорошо помню одного лесоторговца, реб Яира, человека с серебристо-белой бородой, с красивым, загорелым лицом и царственной осанкой. Серебряная атора была не только на его талесе, но и на китле[264]. На голове он носил белую атласную ермолку, расшитую серебряными листочками[265], а на Йом Кипур надевал на ноги зеленые бархатные пантофли[266], также расшитые серебряными листочками. Кроме того, он носил очки в золотой оправе, а Тору читал с таким сладостным напевом, что от его чтения веяло молоком и медом, которыми течет Земля Ханаанская, данная Богом народу Израиля. Особенно красиво реб Яир читал в Рошашоне отрывок о том, как Бог вспомнил о Саре, жене Авраама, и даровал ей сына. Я до сих пор ощущаю сладостный вкус чтения реб Яира:
— В-адойной пакад эс-соро ка-ашер омор ва-йаас адойной ле-соро ке-ашер дибер…[267].
Этот самый реб Яир в каждый свой приезд в Ленчин приходил к моему отцу с визитом. Однажды, во время такого визита в Дни трепета реб Яир оглядел наше тесное жилище и заявил своим бархатным голосом богача: не годится, дескать, раввину жить на съемной квартире, у него должен быть собственный дом.
— Вы, конечно, правы, реб Яир, — ответил отец, — но что ж поделаешь: местечко у нас маленькое, и несколько десятков человек не могут построить дом для раввина.
Реб Яир закурил сигару, наполнившую своим запахом всю комнату, и сказал:
— Не беспокойтесь, ребе. Я поставлю вам лес для стен и крыши. А об остальном уж вам придется позаботиться самому…
Через несколько дней после того, как реб Яир уехал домой, прибыло несколько телег с бревнами, балками и досками, от совсем толстых до самых тонких, с рейками и дранкой; возчики-мужики сгрузили гладкое, красивое дерево неподалеку от бесмедреша.
— Подпишите, пане рабин, — сказали крестьяне, кончиками пальцев доставая из шляп бумажки, исписанные рукой реб Яира.
Отцу еще нужно было договориться с помещиком о земле, на которой можно было бы построить дом, и потому он попросил тех, кто был вхож к этому «вельможе», поговорить с ним об этом. Как-то раз помещик Христовский подъехал на бричке к нашему дому и позвал отца. Отец стоял перед ним в ермолке, не понимая ни слова из того, что помещик говорил по-польски. Помещик, добавив в свою речь несколько еврейских слов, сообщил, что он разрешает моему отцу построить на его земле небольшой дом, и при этом освобождает этот участок земли от ежегодного налога, который платят остальные евреи[268].
— Судье не следует брать денег с другого судьи, — улыбаясь, заметил он.
Отец сказал маме, что этот гой, конечно же, один из праведников народов мира[269]. Наняли нескольких мужиков, чтобы они построили для нас дом.
Я был на седьмом небе от счастья. Балки и доски благоухали свежесрубленным деревом. Строители отмеряли шпагатом, размечали углем и пилили брусья и балки, копали ямы, укладывали фундамент. Я был вместо сторожа: охранял строительные материалы и дрался с двумя беспризорниками, Файвешлом и Шлоймеле, которые приходили, чтобы стащить то рейку, то дранку. Дом рос как на дрожжах. Еще недавно стояли только стены — и вот уже появились стропила и крыша, были вырезаны проемы для дверей и окон, отверстие для дымохода. Вместе с домом росло и мое счастье. Об учебе не было и речи. Под всеми возможными предлогами я отказывался ходить в хедер.
Как только в нашу семью пришла радость от того, что для нас строят дом, тут же пришло и разочарование. Понадобился кирпич для плиты, печей и дымохода; понадобились дверные ручки, гвозди, оконные стекла и множество всего прочего. Нужно было нанимать печников, а в доме не было ни гроша. Отец уже и так влез в долги, чтобы заплатить строителям и кровельщикам. К тому же скоро должны были начаться дожди и снегопады, а строители сказали, что дом нельзя оставить недостроенным, потому что стены отсыреют. Отец, по своему обыкновению, продолжал уповать на чудо и заявлял:
— Скоро, с Божьей помощью, все получится…
Но мама, вечно обо всем заботившаяся, взяла дело в свои руки. Как всегда бывало в таких случаях, мама написала письмо дедушке с просьбой о помощи; отец отправил открытку своей матери, бабушке Темеле, в Томашов. Те прислали нам немного денег. Богач реб Иешуа тоже подставил плечо. С большим трудом, с хлопотами и головной болью принялись достраивать дом. Только накануне приближавшихся Дней трепета мы переехали в собственное жилье, сиявшее новизной. Я был вне себя от радости. После Суккес я взял заступ и принялся окапывать землю вокруг фундамента нашего домика, как делали все обыватели, стремясь защитить свое жилище от дождя и снега. Я не был приучен к такой тяжелой работе, но не хотел сдаваться и работал через силу до тех пор, пока у меня не закружилась голова. Мне сделалось нехорошо, но было стыдно показать слабость, и потому я улегся на землю, чтобы меня никто не видел. Мама нашла меня в полуобморочном состоянии и отнесла в дом.
Со временем я привык и выполнил всю работу вокруг дома. Мой отец, слабый и изнеженный человек, не умевший даже гвоздя вбить, не мог стерпеть того, что я занимаюсь таким грубым делом.
— Фу, это не для тебя, — говорил он. — Нужно попросить кого-нибудь, чтобы он это сделал для нас.
Мама подбадривала меня.
— Все хорошо. Делай всякую работу, только не забывай о Торе, — говорила она. — Не будь бездельником.
Так она хотела намекнуть папе на то, что он бездельник. Мама не разрешала отцу даже в холодные дни повязывать мне на шею платок, хотя отец на этом очень настаивал.
— Свекровь удавила тебя своим платком, которым всегда повязывала тебе горлышко, — говорила она. — Из-за этого платка мы с детьми так всю жизнь и страдаем…
Я влюбляюсь в женщину в два раза старше себя Пер. В. Федченко
Поворачивая и петляя, словно извилистый ручей между камнями, протекала моя мальчишеская жизнь наперекор всем ожиданиям моих родителей и уважаемых обывателей местечка, желавших видеть во мне образцового ребенка, который пойдет по прямой дороге.
Я был мальчиком не без способностей. В десять лет уже учил тойсфес, и не с простыми меламедами, а с учеными людьми, которые не брали денег за обучение. У меня было несколько таких особенных меламедов, потративших на меня много времени и сил, но я не испытывал к ним никакой благодарности за их старания. У меня в голове не укладывались рассуждения тосафистов, Магаршо[270], Магарама Шиффа[271] и другие толкования, которыми были набиты издания Талмуда, используемые моими меламедами.
Моим первым бесполезным ребе был реб Беришл, муж Гинды.
Уже из того, что его прозвали по имени жены, понятно, что в семье зарабатывала она, а не он. Беришл ничего не понимал в делах принадлежавшей его жене мануфактурной лавки. Он не знал ни слова ни по-польски, ни по-швабски, то есть на тех языках, на которых в наших краях хозяин лавки ведет торговлю со своими покупателями.
Насколько здоровой, проворной и ловкой была Гинда, настолько ее муж Беришл был вялым, худым, иссохшим, с большим кадыком и редкой бороденкой, которая росла неровно, словно кто-то как попало приклеил пучки волос к его щекам. Голос у него был тонкий и слабый, как у больной женщины. Он был таким недотепой, что падал на ровном месте, ударялся о косяки и мебель и мог споткнуться о соломинку. Даже в бесмедреше он не поспевал за чтением молитвы, и когда хазан вместе с молящимися переходили к следующему разделу, было слышно, как Беришл заканчивает предыдущий. При этом он молился фальцетом, плаксиво и по-женски нараспев, так что каждый раз вызывал смех у мальчиков. Обычно он забивался в угол и сильно раскачивался, часто всхлипывая и ударяясь головой о стену, особенно если молитва была грустная. Беришл был великим плаксой, имел «дар слезный», как это тогда называлось. Талес часто сползал с его худых сутулых плеч, ермолка съезжала на сторону, кушак еле держался на узких бедрах.
Только в те времена родители могли выдать замуж эту знойную Гинду, потомственную деревенскую еврейку, за такого размазню и недотепу, как ешиботник Беришл. Я был слишком юн, чтобы представлять себе, как складывается семейная жизнь этой странной пары, впрочем, у них было двое детей, погодки. Их растил отец, а не мать.
У матери не хватало времени на детей, потому что надо было зарабатывать, чтобы прокормить семью. Когда она ездила в Варшаву за товаром или занималась с покупателями в мануфактурной лавке, Беришл сидел в доме и качал детей в колыбельке. Он проделывал это ногой, а его голова тем временем была погружена в Гемору, которую он не переставал учить ни днем ни ночью.
Молодому человеку не надоедало, изучать все время одни и те же трактаты раздела Кедойшим[272], посвященные тому, как забивают храмовую жертву, сжигают и зажаривают быков и овец и тому подобному. Почему хилого юнца, который не мог даже мухи на стене прихлопнуть, потянуло на изучение того, как резать, сжигать, тушить и коптить, я не знаю, но так оно и было: у него была слабость к трактатам Звохим[273], Менохес[274], Хулин[275], Бхойрес[276] и другим подобным. Этот Беришл не довольствовался тем, что учился сам, он хотел выполнить заповедь совместного постижения Торы[277] и предложил моему отцу прислать меня учиться к нему домой. Отец был доволен: хоть он и сам занимался со мной, но не мог уделять мне достаточно времени, потому что был день и ночь занят писанием своих толкований.
— Реб Беришл — человек богобоязненный и преданный учению, — сказал мне отец, — с ним ты достигнешь больших успехов, ты должен быть доволен таким учителем.
Я не был доволен.
Меня не особенно интересовало, как именно две тысячи лет тому назад коэны в Иерусалиме брызгали кровью на алтарь, когда жертву сжигали целиком, а когда наполовину и как вкушали жертвенное мясо. Еще меньше меня волновали вопросы, споры и толкования тосафистов, Магаршо, Магаршаля[278] и всех остальных комментаторов. Обучение было нелегким, потому что у Беришла, как и у большинства меламедов, не было никакой системы, никакой методики. Они не имели представления об эпохе, не владели ни педагогическими подходами, ни логикой для постижения древних текстов. Я понял это много позже, когда начал самостоятельно изучать такие работы, как Дор дор ве-доршав[279] талмудиста Айзика-Гирша Вайса. Но в свои десять лет я понятия не имел о таких книгах, зато видел, что мои меламеды путаются в Геморе, плутают, петляют, усложняют задачу себе и еще больше своим ученикам. При всей своей усидчивости реб Беришл, по-видимому, плохо соображал, потому что он то и дело буквально плакал над сложными местами в трактате Хулин, тер вспотевший от тяжкого труда лоб и умолял меня:
— Ой, горе мне, ты только не переживай, не переживай, не переживай…
А мне даже и в голову не приходило переживать по поводу учения, от которого мне было ни жарко ни холодно. На самом деле я учил трудные листы Геморы, глотая их как горькие пилюли. Всем своим существом я жадно рвался на улицу, к свободе, земле, воде, животным, людям, движению и жизни.
Тем временем реб Беришл нервно укачивал плачущих детей, умоляя их:
— Спите, спите, не отвлекайте меня от Торы.
Дети в колыбельках не хотели засыпать ради Торы. Они стремились выбраться из колыбели, из-под укутывавшего их одеяла. Отец затыкал их плачущие ротики бутылочкой молока, тряпочкой с завернутым в нее сахаром и всем, что попадалось под руку. Когда младенцы писались, реб Беришл выливал немного воды на мокрые пеленки, потому что нельзя было учить Тору у нечистой колыбели. Это все, что приходило ему в голову. Когда дети заходились от плача, он неловко брал их на тощие руки, укачивал, подпевая женским голосом:
— На-на-а-а… Ай-люли-люли-люли…
Если Гинда была в лавке, он звал ее успокоить детей. Гинда очень умело перестилала колыбель, стлала свежие пеленки, распахивала в моем присутствии блузку, скрывавшую ее большие молочно-белые груди и брызгала несколько капель молока из красного набухшего соска в детские ротики, прежде чем они принимались сосать. Женское молочно-белое тело сильно будоражило мои мальчишеские мысли, хотя я имел еще весьма туманное представление о различии полов. Склонившись над колыбелью с детьми, словно самка, кормящая детенышей, Гинда требовала:
— Беришл, пойди к покупателям в лавку.
Беришл шел в лавку, но не знал, о чем говорить с покупателями. Он ни за что не желал расправить платок на плечах у крестьянки, а только к ее неудовольствию набрасывал его издали. Ему не удавалось зазвать в лавку покупательниц так, как его учила Гинда, ведь вместо того, чтобы подзывать их словами, он манил их, как детей, указательным пальцем. Крестьянки потешались над ним, а мужики издевались, пугая собачьим лаем, слыша который, Беришл подпрыгивал от страха, словно видел перед собой настоящую собаку:
— Ой, горе мне! — сетовал он своим женским голоском.
Гинда отправляла его обратно в дом.
— Иди, иди, качай детей, — говорила она, потешаясь над собственным мужем вместе с покупателями, которые заходились от смеха.
Беришл убегал от необрезанных и с новым жаром устремлялся к жертвенным животным, с которыми ему было так просто, как будто они были у него в кармане.
— Горе мне, сосредоточься на Торе, — просил он меня. — Не переживай… Не переживай…
Как он готовил себе еду в те дни, когда его Гинда уезжала в Варшаву за товаром, я не знаю. Я никогда не видел этого человека за едой, только за учебой. Помимо изучения Торы, Беришл, как только предоставлялась возможность, по несколько раз на дню заскакивал в бесмедреш, чтобы помолиться в миньене. И даже если он уже помолился, он охотно проделывал это снова, чтобы «заработать» еще одну мицву[280]. Беришл взял на себя и другую мицву: время от времени он подметал в бесмедреше. Так как Эверу, банщику и шамесу, все его благочестивые труды не приносили ни куска хлеба, он был вынужден ходить по деревням и скупать у крестьян овощи или зерно, поэтому-то Беришл и взял на себя обязанность подметать в бесмедреше. Проделывал он это на свой неуклюжий манер, покрывая все вокруг пылью. Однажды в местечко приехал начальник Сохачевского уезда. Беришл испугался, что высокий чин нанесет визит в бесмедреш и опечатает его, потому что там недостаточно чисто. Поэтому он быстро побежал в «святое место» и подмел пол. В спешке он положил выметенный мусор в полу своего халата, чтобы быстрее его вынести. Когда он стоял с мусором на пороге, подошел начальник. Беришл принялся стягивать шапку перед барином. В смятении он отпустил полу халата и вывалил мусор прямо под лакированные сапоги чиновника. Городскому богачу, реб Иешуа-лесоторговцу, пришлось, понятное дело, раскошелиться, чтобы представитель царской власти простил нарушителя…
У этого Беришла я целиком прошел Кедойшим. Бывало, он заставлял меня сидеть до полуночи над Геморой, потому что очень любил заниматься по ночам.
Он задерживал меня до все более и более позднего часа, так что я не вытерпел и взбунтовался. Я ни за что не хотел идти заниматься к Беришлу и получил нового бесполезного меламеда — Матеса Варшевера.
В то время мой отец стал ездить к радзиминскому ребе[281]. К своему прежнему ребе в Галицию он поехать не мог, так как это было слишком далеко и дорого. Вот он и принялся знакомиться с новыми для него польскими «добрыми евреями». Сперва для пробы он съездил несколько раз в Гер к ребе Лейбеле Алтеру[282] — наиболее почитаемому во всей Польше ребе. Не знаю, по какой причине отец перестал ездить в Гер. Может быть, потому, что в Гере никто даже не смотрел на раввина из маленького местечка, ведь там всё внимание уделяли знаменитым раввинам и богачам. А может быть, дело было в том, что Гер был слишком суров и сух для моего отца, сентиментального энтузиаста, привыкшего к мягкой манере галицийских «добрых евреев». В любом случае отец как-то заехал в Радзимин к ребе Менделе, восходящей звезде хасидского мира. У радзиминского ребе были свои последователи, но их было намного меньше, чем у герского цадика. Кроме того, в Радзимин ездили в основном евреи попроще. Радзиминскому ребе это было не по душе, он-то как раз хотел видеть среди своих хасидов раввинов и ученых людей, как у герского ребе. Когда мой отец приехал в Радзимин, ребе принял его с распростертыми объятиями и выказал такое дружелюбие и радушие, что тут же привлек к себе моего отца, человека доверчивого и легковерного. Еще больше, чем сам ребе, с отцом цацкались радзиминские хасиды, потому что отец, по-видимому, оказался единственным раввином при радзиминском дворе. Радзиминский ребе был не так суров, как герский. Он громко молился, подпевая и жестикулируя на манер галицийских цадиков. При расставании ребе оплатил отцу все его дорожные расходы и попросил приезжать почаще. Ребе пообещал отцу найти для него раввинское место получше, в одном из тех местечек, где было много радзиминских хасидов. Отец вернулся домой вдохновленный, полный веры и упования. Из поездки он привез три подарка: во-первых, раввинскую шляпу, которую ребе купил для него: во-вторых, золотую пятирублевку, оставшуюся у него после всех расходов; и, в-третьих, ешиботника по имени Матес, которого он забрал от радзиминского двора.
Отец с жаром рассказывал маме о великих чудесах радзиминского ребе, о его праведности, дружелюбии, радушии и величии. На маму, происходившую из семьи миснагедов, все эти рассказы не произвели никакого впечатления. Больше всего ее заинтересовала отцовская бархатная шляпа. Как я уже упоминал, мой отец боялся носить раввинское платье, потому что официально он раввином не был, а по русским законам, тот, кто не был раввином, не имел права носить раввинское платье. Поэтому отец носил его только дома или в бесмедреше. На улице или в дороге он носил большой бархатный картуз, закладывая пейсы за уши, и жупицу с карманами сзади, на раввинский манер, и все же это не был настоящий раввинский кафтан. Мама хотела знать, почему радзиминский ребе подарил отцу именно раввинскую шляпу. Отец рассказал, что ребе сказал ему, что не годится раввину ходить без шляпы, и подарил ему новую шляпу, чтобы отец носил ее у него при дворе. Мама чуть улыбнулась и сразу поняла, в чем дело.
— Ребе купил шляпу не для тебя, а для себя, — сказала она отцу. — Дела идут лучше, когда у ребе при дворе крутится сподек…[283].
От такого предположения отец вышел из себя.
Время показало, что была права мама, а не отец. Своим проницательным взглядом она разглядела смысл хасидского радушия. Позже отцу пришлось дорого заплатить за свою доверчивость, но пока он был воодушевлен радзиминским цадиком. В помощь отцу приехал ешиботник Матес, привязавшийся к отцу и отправившийся вместе с ним в Ленчин учить Тору.
Ешиботник Матес был удивительно низкорослым, но коренастым, крепким, как короткое дубовое полено. Он вырос больше вширь, чем в длину. Его полные бледные щеки покрывали юношеская светлая бороденка и пейсы. Пальцы были короткими и пухлыми. Голубые глаза светились огнем энергии и фанатизма. Когда я с ним поздоровался, он сжал мою детскую руку как тисками и сказал:
— Иешуа, бойся Бога, слышишь?!
После рукопожатия он как перышко поднял меня к потолку.
На мою маму он даже не взглянул, только позавтракал с волчьим аппетитом всем, что она выставила на стол, при этом постоянно макал ломти хлеба в соль.
— Радзиминский ребе — ангел, — твердил он все время. — О его величии вскоре узнает весь мир. Я вижу это, ребе…
Он смотрел прямо перед собой, как будто стремился не пропустить тот момент, когда о величии радзиминского ребе узнает мир.
Сразу после еды, не отдохнув ни минуты, он велел мне отвести его в бесмедреш и тут же принялся учить со мной трактат Йевомес[284]. Вечером, во время минхи, отец нашел обывателей, у которых Матес стал «есть дни». В качестве вознаграждения за обучение я должен был сопровождать Матеса и сидеть с ним за столом, пока он «ел дни». Матес боялся ходить один, чтобы не оказаться в комнате наедине с хозяйкой, когда ее мужа нет дома. Он жадно ел, макая ломти хлеба в соль и даже не поднимая глаз на женщин, которые подносили ему кушанья. Для него они не существовали.
Точно так же, как Беришл, муж Гинды, Матес был влюблен в Тору. Он спал по четыре часа, а в остальное время учил Тору или молился. Но вместо того чтобы плакать на молитве, как Беришл, он молился радостно и бурно. Так же проходило и обучение.
— Ой-ой, Тора сладка! — часто вскрикивал он посреди учения. — Слышишь, Иешуа, нет большего удовольствия, чем учить Тору…
Точно так же, как Беришл был увлечен Кедойшим, Матес был увлечен разделом Ношим[285], то есть трактатами, посвященными отношениям между мужчиной и женщиной — Кидушин[286], Гитин[287], Ксувес[288], Йевомес и другим. Больше всего он получал удовольствие от трактата Йевомес, в котором речь идет о законах халицы. Я не знаю, изживал ли низкорослый крепкий парень с помощью Талмуда свои подавленные мужские желания или просто питал слабость к трактатам о женщинах. Знаю только, что он постоянно учил со мною раздел Ношим. В разгар обучения он впадал в экстаз и называл Господа разными ласковыми именами и прозвищами, как влюбленный свою возлюбленную.
— Милый, великий, желанный, милостивый! — увлеченно бормотал он и хлопал своими короткими пухлыми ручками, хватал меня и поднимал над головой. Ни о чем другом, кроме Торы, он понятия не имел, ничего другого не видел. Так, однажды он заметил в поле стога, посмотрел на них и спросил:
— Скажи, для чего такому маленькому местечку столько сена, неужели для колыбелек?
Он думал, что сено используют только для того, чтобы устилать им детские колыбели…
Мой отец не мог нарадоваться на этого Матеса, с которым он мог поговорить, поучиться и поделиться своими толкованиями. Я радовался меньше. Матес измучил меня своими трактатами из Ношим. Меня ни капельки не интересовали все эти законы о разводе, браке, халице, составлении брачного договора, равно как и судебная тяжба между мужем и женой в том случае, если после свадьбы он обнаруживает, что она — не девственница, а она при этом утверждает, что это получилось случайно, а не из-за греха. Я знал наизусть всю дискуссию на эту тему, известную как Мойхес Эц[289], и при этом даже не пытался вникнуть в суть вопроса. Матес мне этого не объяснял.
Суть дела я узнал от своего друга Аврома, сына Гершла-скотника, у которого Матес обедал раз в неделю.
Гершл долгие годы арендовал у помещика скотный двор, в наших краях это называлось «скотник» при «вельможе». Позже он уехал из деревни и поселился в Ленчине, где открыл бакалейную лавку. Кроме того, у него было поле, коровы, лошадь и куры. Он был розовощеким, крепким мужчиной. Таким же крепким был его сын Авром, года на два постарше меня, он выглядел выше и сильнее своих лет. Отец Аврома хотел сделать из него ученого человека и договорился, чтобы тот вместе со мной посещал занятия у Матеса. Но Аврома тянуло к Геморе еще меньше, чем меня. Ему больше нравилось пасти отцовскую лошадь на лугу, править телегой, колоть дрова, готовить пойло для скота и тому подобные занятия. Я полюбил Аврома всем сердцем. Авром разъяснил мне все, что скрывал Матес. Он отвел корову «на случку» к быку на крестьянский двор и взял меня с собой.
— Видишь, примерно так же получаются дети, — сказал он мне.
Я был потрясен. Я не мог в это поверить. Главное, я не мог себе представить, чтобы все — мои близкие, праведники, праотцы и праматери из Торы, занимались подобными вещами. Авром потешался надо мной.
— Даже Мойше-рабейну занимался этим. — сказал он мне.
Масса явлений, которые до сих пор казались мне непостижимыми, вдруг разъяснилась. Кроме того, стали ясны все законы трактата Ношим.
Авром, сын Гершла-скотника, научил меня и другим вещам: как подойти к лошади, чтобы она не лягнула, как взнуздать ее, как сесть в седло и даже как ездить верхом. На одном из таких занятий я чуть не лишился головы. Когда я сидел верхом на кляче Аврома, она, соскучившись по стойлу, вдруг понеслась к его дверям с низкой притолокой. Я едва не разбил голову. В другой раз он учил меня прыгать с сеновала на землю. Я неудачно упал и не сразу пришел в себя. Но все это не мешало моей привязанности к Аврому. Мы придумывали разные фокусы, чтобы отвертеться от Матеса с его учением и проводить время в стойле с лошадьми. Мне нравился скрип жующих лошадиных челюстей и звон цепи на лошадиной шее, а вкусный запах сена и даже запах навоза были для меня лучшими благовониями. Рассказы Аврома о богатырях, которые гнули на груди обручи, о конокрадах и цыганах, а главное, о подвигах его отца-скотника были для меня слаще меда. Валяясь на сеновале, мы передразнивали бурные жесты Матеса и его вскрики во время молитвы.
С гораздо большим уважением относились к Матесу в доме Гершла-скотника, куда он приходил «есть свой день». Гершл-скотник с восхищением невежи смотрел на каждое движение ученого ешиботника, заискивающе подхватывал каждое его слово.
— Леюшка, принеси реб Матесу еще сметаны, — говорил он дочери, девушке на выданье, стыдливо подносившей обед ойреху. — И положи ему побольше масла в картошку. Реб Матесу нужны силы для изучения святой Торы…
Лея, с деревенской застенчивостью заливаясь румянцем, подносила блюда городскому умнику. В присутствии этого ученого парня ее длинный, как шойфер, нос становился еще длиннее от страха и девичьего смущения.
Вскоре Гершл-скотник пришел к моему отцу и попросил его сосватать Лею Матесу.
— Ребе, я его одену с головы до ног, — сказал он. — Я дам ему содержание на столько лет, на сколько он захочет, дам приданое, подарки. Пусть реб Матес живет в нашем доме и учит святую Тору… Моя Леюшка будет заниматься лавкой, а муж пусть учит Тору…
Отец поговорил с Матесом, и тот сразу же согласился. О приданом он и слова не сказал, ему было важно обговорить содержание, вечное содержание. Из подарков он выбрал новое виленское издание Талмуда и штраймл[290]. Скотник дал все, что попросил жених. Он даже оплатил свадебные расходы бедным родителям жениха. После свадьбы Матес словом не обмолвился с Леей. Он приступил к изучению нового виленского Талмуда, подаренного тестем, с таким рвением, что ложился спать всего на пару часов. Лея в большом парике, который совсем не шел ее юному девичьему личику, ходила на цыпочках вокруг своего ученого мужа. От деревенской застенчивости она даже не осмеливалась звать мужа по имени. Так, не произнося ни слова, через год Лея родила ребенка и вскоре уже снова была на сносях. Гершл-скотник был счастлив, но недолго. Матес внезапно бросил жену и детей и сбежал непонятно куда, чтобы сделаться порушем. Это случилось через несколько лет после описываемого времени, но я расскажу об этой истории подробнее в следующих главах. А пока перейду к своему третьему бесполезному ребе, Йоселе Ройзкесу, или, как его прозвали у нас, Йоселе-литваку.
Йоселе Ройзкес был родом из Заблудова[291], местечка в окрестностях Белостока[292], и был у нас единственным литваком.
И раньше к нам в местечко приезжали литваки, но ни один не загостился. Был один меламед, который долго не продержался из-за того, что учил на литвацкий манер, другой был агентом компании, страховавшей от пожара. Он носил пиджак и шляпу — одетого так человека у нас никто никогда раньше не видел. Когда «немец» произносил кадиш в бесмедреше, все поворачивались к нему, словно дивясь: как это гой молится на святом языке?.. Мы, мальчишки, даже не были уверены, надо ли произносить «аминь» после такого литвацкого кадиша. У нас никто не сомневался в том, что Бог говорит на святом языке так, как говорят польские евреи. Мало того, после молитвы человек в гойском платье снял, вопреки всем ожиданиям, с полки Гемору и сел за учение трудного трактата — Нозир[293]. Литвак начал нараспев:
— Горейни нозир, горейни позир, горейни позих, горей зе нозир…[294].
При этом он произносил «зи» как «жи»[295], так что вместо «нозир, позир, позих» выходило «ножир, пожир, пожих». Но это его совершенно не смущало. Ученики хедера так и покатились со смеху. С тех пор, куда бы литвак ни пошел страховать от пожара, мы бежали за ним следом с криком: «Ножир, пожир, пожих». Литваку пришлось вскоре уехать. У нас терпели только странствующих проповедников-литваков[296], собиравших деньги на ешивы[297] и произносивших публичные проповеди. Наоборот, если приезжал польский проповедник, ему ничего не светило. Читать проповеди — литвацкое дело, так же как водить медведей — дело цыганское.
Первым лигваком, постоянно поселившимся в местечке, был Йоселе Ройзкес.
Городской богач Иешуа-лесоторговец взял этого Йосела Ройзкеса в мужья своей дочери Гендл, а против зятя богача никто выступать не смел.
Почему ленчинскому богачу понадобилось искать мужа для своей дочери так далеко, аж в местечке рядом с Белостоком, я не знаю. Этот Йоселе Ройзкес был маленьким и хрупким парнишкой, избалованным, как единственная дочь, с маленьким личиком, тоненькими ножками и ручками, белыми, округлыми и гладкими, в то время как его невеста Гендл была стройной, крепкой девушкой, розовощекой и улыбчивой, с черными, как смоль, волосами и глазами, полными красными губами, которые все время смеялись. Веселье и радость излучала эта богатая энергичная красавица. Она улыбалась всем, старому и малому, мальчикам из хедера и даже подмастерьям, работавшим в пекарне у Ехезкела-пекаря, которым ей, по закону, нельзя было улыбаться. Жених ей вовсе не подходил, но реб Иешуа очень гордился своим зятем, которого привез из такой дали. Свадьбу справили очень торжественно. Мойше-столяр построил огромный навес, чтобы туда поместились все приехавшие гости и сваты. Реб Иешуа привез из Закрочима клезмерскую капеллу, бадхена с подстриженной бородой и поваров в коротких пиджаках. Нищие сбежались отовсюду за сытными булками и подаянием. Надо отдать должное богачу, он пригласил на свадьбу всех: от моего отца, которому он щедро заплатил за проведение обряда венчания, до самого бедного ремесленника и убогого нищего. Богач даже купил к свадьбе новинку — яркую лампу-«молнию»[298]. Народ не мог отвести взгляда от литвацких сватов, носивших укороченные сюртуки, но при этом сыпавших учеными речами. Жених произнес превосходное толкование[299] на самом что ни на есть литвацком идише.
Благодаря своему удачному зятю реб Иешуа удалось затесаться в ученые круги, и он стал носить шелковую капоту вместо прежней суконной, какую обычно носят евреи, не сведущие в Торе. Кроме того, он начал вставлять в речь выражения на святом языке, как это в обычае у ученых людей. На самом деле эти выражения были не к месту, но никто не осмеливался смеяться над богачом. Реб Иешуа так возгордился, что в Рошашоно рано поутру перед молитвой встал за омуд в роскошном талесе с серебряной аторой и белоснежном китле и произнес вслух утренние благословения, которые обычно не читают публично[300]. Он громко и по-праздничному нараспев произносил благословения, но при этом складывал слова, как пекарь. Вместо того чтобы сказать «шело осани гой»[301], он останавливался после «шело», а потом добавлял «осани гой», получалось, будто он славит Бога за то, что Тот создал его гоем. То же самое он проделывал с благословением «шело осани ише»[302], и получалось, будто он женщина. Ученые люди тайком посмеивались над невежеством богача и чувствовали неловкость, произнося «аминь» после таких неумелых благословений. Но никто ничего не осмеливался ему сказать, потому что никто не был так богат, как реб Иешуа, никто не жертвовал столько дров в бесмедреш, сколько жертвовал реб Иешуа, и никто не раздавал бедным на зиму столько картошки, сколько раздавал реб Иешуа. В каждый праздник, когда его вызывали к Торе, к большой, красивой и нарядно убранной Торе[303], которую он сам заказал написать для бесмедреша, он посвящал множество ми-шебейрехов[304] своей жене, сыновьям и дочерям, подкрепляя их большими пожертвованиями.
— Баавур шеитен эйцим ле-бесмедреш[305], — громко распевал габай, произносящий ми-шебейрех. — Баавур шеитен паройхес ле-орн-койдеш, баавур шеитен жареных уток на субботнюю трапезу, баавур шеитен бархатный чехол ле-сейфер-тойре, баавур шеитен нерес ле-бесмедреш, цдоке ле-ониим… ве-ноймар омейн[306].
Реб Иешуа гордился своим зятем особенно потому, что привез его издалека, из России, из-под Белостока[307]. В Ленчине думали, что это под самым Петербургом.
Так вот, этот зять на содержании, реб Йоселе, литвак, носивший брюки поверх туфель[308], короткую капоту и крахмальный воротничок, и стал моим учителем. Матес своим рвением чуть не свел меня с ума. Кроме всего прочего, он принялся изучать со мной респонсы рабби Акивы Эйгера[309], трудные головоломные пассажи, слишком сложные для маленького мальчика. Он так измучил меня этими респонсами, что у меня начались головокружения. Мама, испугавшись за мое здоровье, убедила отца, чтобы я оставил занятия с Матесом и пошел учиться к Йоселе Ройзкесу.
Для меня это была счастливая пора. Йоселе подошел к делу легко. Он занимался недолго, а потом отдыхал. В перерыве между двумя листами Геморы ему с кухни богача приносили всякие вкусности, всевозможные варенья и печенья, которыми мой ребе меня угощал. Потом он располагался на диване, а я тем временем рассматривал все красоты богатого дома: вышивки на стенах, серебро в сервантах, резные львиные головы на дубовых шкафах, а больше всего — молодую жену, цветущую красавицу Гендл.
— Что ты так на меня смотришь, Йешеле? — спрашивала меня Гендл с усмешкой.
Я опускал глаза, стыдясь того, что меня поймали за руку.
Гендл заливалась смехом.
— Тебе милее смотреть на красивых женщин, чем в Гемору, Йешеле? — спрашивала она, ущипнув меня за щеку.
Я помню до сих пор прикосновение ее пальцев к моей пылающей щеке.
При всей своей улыбчивости, она, кажется, не была счастлива. Она заботилась о своем Йоселе, подавала ему свежевыглаженные носовые платки, которыми он имел обыкновение протирать стекла очков в золоченой оправе. Она подносила ему вкусности и подкладывала под голову вышитые подушки всякий раз, когда он ложился на диван, гордилась тем, что он был весь из себя такой цирлих-манирлих, и тем, что он постоянно причесывался и прихорашивался. Все у Йоселе сияло: очки, золотая цепочка от часов, ботинки, крахмальный воротничок, шелковая ермолка, альпаговая[310], укороченная капота, подстриженные ногти и белоснежные женственные ручки. Таким же благородным и нежным, как его изнеженное тело, был его голосок, тонкий, вежливый и благородный. Он даже руки мыл душистым мылом, оставлявшим дразнящий аромат. Хасиды в бесмедреше морщили нос от этого гойского запаха. Да, это был не зять, а конфетка, этот Йоселе Ройзкес, но я заметил, что Гендл, сильная, полнокровная, веселая, смотрела на него, скорее, как на ребенка, а не как на мужа. У себя дома она привыкла к другим мужчинам. Ее братья — они учились у моего отца — Хаим и Гершл, оба были очень высокими, стройными, черноволосыми силачами, один в один. Ее отец, человек хоть и среднего роста, но коренастый, начал со сторожа на лесном складе и дорос до крупного лесоторговца.
Но какими бы ни были отношения в молодой семье, в доме у богача, куда я стал ходить учиться, все было тихо и прилично. Йоселе любил читать газету «Гацфира»[311], и пока он читал, я свободно бегал и играл с мальчишками… Со мною вместе у Йоселе учился внук богача, Носн-Довид, мальчик моего возраста, приехавший из фабричного местечка Лешно[312] на свадьбу к своей тете Гендл и оставшийся у деда учить Гемору с ее мужем-литваком.
Носн-Довид был кровь с молоком, с черными блестящими волосами, черными глазами, как все дети и внуки богача реб Иешуа. Его матерью была дочь реб Иешуа, а отцом — лесоторговец из Лешно, где находился сахарный завод миллионера Матиаса Берсона[313]. Местечко Лешно жило современной жизнью, потому что богачи — лесоторговцы и торговые агенты сахарного завода — подражали гойскому образу жизни миллионера Матиаса Берсона и его служащих. Носн-Довид был очень красиво одет, носил начищенные замшевые сапожки и блестящую шелковую шапочку. В карманах его хорошо пошитой суконной капоты лежали дорогие, отделанные перламутром ножички, карандашики и другие красивые вещицы. Он часто рассказывал мне о своей жизни в Лешно, о каретах, в которых ездит еврейский барин Берсон, о богачах-лесоторговцах и о своем собственном отце, богаче и современном человеке. Фантастические вещи рассказывал мне Носн-Довид. Больше всего он говорил о женщинах, в первую очередь о служанках-гойках, прислуживавших в доме его родителей, и о мужиках-лесорубах, работавших на его отца.
Еще на свадьбе у своей тети Гендл он показал мне нечто, сильно меня потрясшее. После того как жениха и невесту отвели «на ложе» и приглашенные стали расходиться, родственники и гости со стороны невесты, приехавшие из отличавшегося вольными нравами Лешно, принялись веселиться. Поначалу они держали себя в рамках, потому что Ленчин был благочестивым местечком, но когда остались одни, задули керосиновые лампы и парни с девушками принялись танцевать польки и вальсы. Мы с Носн-Довидом забились в угол и все видели. Потом гости из Лешно стали обниматься, целоваться, шутить, смеяться над другими гостями и говорить неприличные вещи о женихе с невестой и об их спальне. Один высокий парень с горящими черными глазами, смуглый, как цыган, даже предложил: давайте прокрадемся к спальне и сорвем закрытые ставни. Публика от такого предложения чуть не лопнула со смеху. Под дощатым навесом, сколоченным по случаю торжества, царила веселая распущенность, которая охватывает людей на свадьбах. Гости из Лешно, вольные, энергичные и беззаботные, опрокинули ограду ленчинской набожности и провинциальности. Носн-Довид рассказал мне, кто за кем ухаживает и о других секретах этих людей, большинство из которых были его родственниками со стороны отца или матери. Чем дальше, тем крепче становилась наша дружба с Носн-Довидом. Мы болтали и секретничали не переставая. Йоселе Ройзкес, хоть и был человеком набожным, не обращал внимания на наше поведение. Он учил нас, но никогда, не дай Бог, не бил. Подходил к учению легко, больше отдыхал, чем учил. Мне нравился этот молодой человек. А еще больше — его жена Гендл. Она была моей первой пламенной мальчишеской любовью. Я заливался краской, когда видел ее, особенно в шерстяном платье, еще больше подчеркивавшем ее необыкновенную женственность. Она между тем загибалась от смеха.
— Чего это ты опускаешь глаза, Йошеле? — спрашивала она меня, надо думать, догадываясь о причинах моих мук и мальчишеского стыда и потешаясь над ними.
Я страдал, тяжело и мучительно, стыдился своих переживаний и от этого страдал еще больше. Однажды, когда никого не было дома, я подошел к висевшему на стуле платью Гендл, тому самому, шерстяному, и горячо его поцеловал, вцепившись пальцами в ткань. Вдруг вошла Гендл и застукала меня с платьем в руках.
— Чего это ты тут делаешь? — спросила она.
— Платье упало… я… поднял его… — промямлил я, покраснев.
Она оглядела меня своими жаркими черными глазами, обрамленными густыми бровями и ресницами, и громко расхохоталась, сгибаясь почти до пола от веселья.
— Ты просто прелесть, Йешеле, сын раввина, — сказала она и поправила съехавший на сторону парик.
Потом осмотрела меня с ног до головы и спросила:
— Ты бабник, Йешеле?
Так у нас звали тех, кто увлекался женщинами.
Мои щеки пылали огнем от ее хохота и насмешек.
Если бы взрослые знали, как серьезно, глубоко и мучительно дети могут любить и страдать!
Евреи читают псалмы за здравие «больной» девицы, а она производит на свет байстрюка Пер. А. Фруман
Байстрюки в наших краях не были редкостью. Многие крестьянские девки, особенно те, которые были в прислугах у помещика, владевшего местечком, рожали байстрюков, и их семьи это не очень-то волновало, особенно если рождался мальчик. Если же девка рожала байстрючку, тут хвалиться было нечем. Но все равно большого значения этому не придавали. А вот чтоб еврейская девица родила вне брака — о таком в нашем местечке не слыхивали.
Тем не менее однажды на исходе субботы некая девица по имени Песя родила, и в Ленчине поднялся переполох.
Во-первых, никто не думал, что эта самая Песя беременна. Она была служанкой в Варшаве и, вернувшись домой, так ловко скрывала все признаки того, что она на сносях, что не то что соседи, даже ее родители ничего не заметили. Когда в субботу после чолнта она почувствовала боли и, охая, прилегла, родители не заподозрили неладное. Песя сказала, что у нее спазмы в животе. Боли не прекращались, и тогда ее отец Гершл по прозвищу Палка собрал миньен и отправился в бесмедреш читать псалмы во здравие дочери. Мужчины читали псалмы ради исцеления Песи, дочери Эты[314]. Когда собравшиеся для чтения псалмов уже были готовы произнести ми-шебейрах[315], в святое место ворвалась толпа женщин с криком:
— Люди добрые, кончайте читать псалмы за шлюху! Песя родила байстрюка…
Мужчины замерли с недосказанным стихом на устах. Гершл выбежал из бесмедреша со сжатыми кулаками, готовый убить дочь, опозорившую его.
Целую неделю местечко ходило ходуном. В бесмедреше и в микве, в мясных лавках и на рынке, даже в хедерах говорили о Песе и о ее прижитом в Варшаве байстрюке.
Эти разговоры шли не потому, что Песины родители были люди почтенные. Напротив, Гершл-Палка считался в общине самым скверным человеком. Он был драчун — стоило его задеть, как он бросался на обидчика и бил его смертным боем. Поговаривали, будто он не гнушается покупать кур у цыган, хотя знает, что у них куры кормятся по помойкам. Всякое говорили о семействе Палки. Но все-таки Гершл соблюдал субботу, не пропускал ни одной молитвы и, хоть был отчаянно беден, беднее всех в местечке, но экономил на еде, чтобы заплатить за учебу своих сыновей, Файвешла и Шлоймеле, в хедере. Кроме того, он молился вслух в бесмедреше, а в Дни трепета во время чтения «Ал~хет»[316], бил себя под сердце с такой силой, что удары разносились по всему святому месту. Он следил за тем, чтобы его сыновья, беспутные Файвешл и Шлоймеле, молились и к месту отвечали «борух-гу у-борух-шмой, омейн»[317]. Когда в местечко приезжал проповедник и начинал вещать об аде, о том, как там жгут и жарят грешников, из широкой мощной груди Гершла вырывались такие тяжкие вздохи, что камень бы растрогался. Поэтому, чем бы ни занимался Гершл, чтобы заработать на кусок хлеба жене и детям, все-таки он был евреем, пусть невежественным, но богобоязненным и исполняющим множество заповедей, — грех дочери страшно его потряс. Позор был велик, потому что женщины повсюду судачили, бранились и злословили, мужчины смеялись, а мальчики из хедера, издеваясь, читали кришме под окном у Песи. Само собой, это было не кришме, а насмешка, с переиначенными словами:
— Бог, Царь, утку зажарь, мне хлеб, тебе нет, мне юшку, тебе шишку…[318].
В прежнее время Гершл вместе с сыновьями прибили бы любого, кто посмел бы издеваться над ним и его домашними, но из-за случившегося несчастья он забился в свой дом и даже дверь не открывал.
После нескольких дней взаперти Гершл, сгорбившись, пришел к моему отцу. Густые борода и усы, придававшие его облику львиную свирепость, свалялись. Его могучее тело согнулось, сильный голос звучал надтреснуто.
— Ребе, — вздохнул он, — этот… этот… ребенок — мальчик. Можно ли его обрезать или нет?
— Конечно, его надо обрезать и справить все как следует, — постановил отец. — Я приду на обрезание, приведу с собой моеля и миньен.
— Ребе, позвольте поцеловать вам руку, — сказал Гершл. — Ребе, я недостоин…
— Не дай Бог, реб Гершл! — ответил отец. — Еврей еврею руку не целует. И не плачьте, реб Гершл. Я обязательно приду к вам с моелем и миньеном на обрезание…
Я пошел на это необычное обрезание вместе с отцом. Роженица лежала за простыней, в бедной комнате, где только и было, что пустой стол, лавка и две некрашеные деревянные кровати, а на стенах — множество фотографий Гершла в солдатском мундире, оставшихся с тех времен, когда он служил у «фонек». Пришедшие торопились. Они не были уверены, должны ли они отвечать «аминь» после благословения на «трефном» обрезании. Когда нужно было дать байстрюку имя, Гершл запнулся. В конце концов мой отец выбрал имя сам: Авром, как именуют геров[319].
— В-йикоре шмой б-исроэл авром бен[320], э-э-э… — произнес моел и не смог назвать имя отца, потому что не знал, кто был отцом ребенка.
Но тут Гершл внезапно выпрямился и назвал отца.
— Авром бен Зале[321], — громко сказал он. — Да-да, бен Зале.
Заля, жених Песи-роженицы, портновский подмастерье, был коренастый и смуглый отставной солдат; его щеки, которые он брил раз в неделю, в канун субботы, отливали синевой из-за черной щетины. Он был сыном Биньомина-портного, за смуглую масть прозванного Цыганом. Когда его невеста Песя заявила, что ребенок — от жениха, Заля стал клятвенно все отрицать и тут же послал передать сватам, что расторгает помолвку с невестой, которая «принесла в подоле» ребенка из Варшавы, где была в прислугах. Так началась яростная война между двумя семьями — Палками и Цыганами.
Сперва пришли в раввинский суд к моему отцу… Вечером после Суккес, после минхи-майрева к нам явились оба многочисленных семейства. С одной стороны сидел Гершл-Палка в короткой капоте, которая была ему мала. Эту капоту бедняк Г'ершл получил в подарок от местечкового богача, реб Иешуа. Но поскольку Гершл был намного выше и шире в плечах, чем богач реб Иешуа, изношенная капота треснула по швам на широких плечах бедняка. Рукава были коротки, так что из них нелепо торчали волосатые руки Гершла. Смешнее всего смотрелся разрез сзади. Обычно разрез начинается ниже спины, но у верзилы Гершла он начинался между лопатками. Две костяные пуговицы над разрезом еще сильнее подчеркивали, что капота — с чужого плеча. Между Гершлом и его женой — изможденной несчастной бабой, покрытой морщинами от многочисленных беременностей, родов и вечной нужды — сидела Песя, их дочь, навлекшая позор на семью, рослая, здоровая, пышная девка. На ней по городской моде был надет длинный плисовый, расшитый блестящим бисером жакет с широкими буфами на рукавах. Из-под шали, накинутой на голову из скромности, необходимой в доме раввина, выглядывали отливающие густой чернотой волосы. Песя была еще бледна после родов, но бледность делала ее еще привлекательнее. Ее крепкие зубы сияли удивительной белизной. Бедно одетая мать, выглядевшая еще жальче рядом с нарядной дочерью, все время поглаживала свою Песю по плечу, будто подчеркивая свое материнское сочувствие к обманутой женихом бедняжке-дочери.
С другой стороны сидел Биньомин-портной, с темным, словно шоколад, лицом, черной как смоль бородой и жгучими как огонь глазами. Таким же смуглым был и его сын Заля, и остальные взрослые сыновья, пришедшие вместе с ним в раввинский суд. Биньоминиха все время успокаивала своих пылких мужчин, мужа и сыновей, кипевших гневом и ненавистью.
Отовсюду сбежавшиеся женщины заглядывали в окна, чтоб уловить хоть слово из этой необычной тяжбы. Файвешл и Шлоймеле, сыновья Гершла, с одной стороны, и «цыганята» Биньомина — с другой, то и дело врывались в наш дом, несмотря на то что их выгоняли, ведь мальчикам нечего лезть в такие дела.
Отец начал выслушивать стороны, но понять что-либо было невозможно, потому что все перебивали друг друга, шумели, галдели, потрясали кулаками. Слишком уж много накопилось в тяжущихся ненависти и гнева.
— Люди добрые, только не в суде, — взмолился отец. — Сейчас я каждому дам высказаться, только пусть никто никого не перебивает. Человек предстает перед судом, как перед Богом, говорит Тора[322]. Ведите себя прилично.
Жена Биньомина всеми силами пыталась успокоить своего раскипятившегося мужа, но ничто не могло унять огонь, разгоревшийся в этом смуглом черноглазом человеке с темпераментом вулкана. Такими же были и его сыновья, работавшие с отцом в его мастерской по перелицовке старого платья.
— Нечего дурачить моего Залю, — кричал Биньомин. — Она прижила байстрюка на немецкой кухне, там, где служила, в Варшаве…
Немецкой кухней у нас называли всякий некошерный еврейский дом.
— Нет, это твой ребенок, Залечка, — кричала Песя, — ты поторопился, улестил меня своими трефными речами… А сейчас отвертеться хочешь… Не выйдет… Ты со мной помолвлен…
— Я не позволю позорить дочь, которую я берег как зеницу ока! — закричал в свою очередь Гершл. — Сам кашу заварил, сам и расхлебывай! Я требую свадьбы! Будь отцом своему ребенку, разбойник!
Все остальные члены двух семей стали орать друг на друга, сцепились, начали драться. Так они кричали несколько часов и разошлись ни с чем. Не было никакой возможности уладить распрю между этими упрямыми, вспыльчивыми и нищими семействами.
В конце концов Песя уехала в Варшаву, устроившись кормилицей в богатом доме. Незаконный ребенок остался у ее родителей, которые все время отсылали его Зале, а Заля возвращал его обратно.
В первый раз Гершл прислал своего внука в подарок сватам на Пурим. Когда Биньомин-портной сидел со своей многочисленной семьей вокруг верстака за праздничной трапезой, отворилась дверь, Файвешл со Шлоймеле внесли сверток и положили его в комнате.
— Папа прислал вам шалахмонес, — быстро проговорили они и убежали, пока Заля не переломал им кости.
«Шалахмонес» разразился отчаянным детским плачем. Биньомин тут же взял сверток и отослал его Гершлу. Так как дверь была заперта, шалахмонес положили на пороге. Пурим кончился, а они все продолжали посылать этот «шалахмонес» туда-сюда до тех пор, пока он не простудился и не умер. Гершл положил детское тельце в корзину и пешком отнес за Вислу на кладбище в Закрочим, потому что в Ленчине еврейского кладбища не было.
После несчастья с байстрюком Палки распоясались, стали вести себя совсем бессовестно, не так как раньше. Казалось, горечь и позор довели их до предела, за которым уже нечего терять, и им теперь было наплевать на все. Гершл уже больше не присматривал за сыновьями и не оплачивал их учебу в хедере. Не заботило его и то, что люди начали сплетничать и о его второй дочери, которая, как и старшая, была прислугой в Варшаве. Младшая дочь, Шоша, которая жила с родителями, тоже делала что хотела. Помню, однажды, когда мы, мальчики, купались в речке за местечком, появилась Шоша и пошла вброд через речку. При этом она стянула платье через голову, обнажив все тело у нас на глазах. Мы засмеялись, закричали, а она развернулась и велела нам поцеловать ее в зад.
— Хасидики, чтоб вам шею сломать, — ругалась она, с ненавистью глядя на нас.
Не братья, Файвешл и Шлоймеле, избивали всех мальчиков, которые попадались им под руку, ругались и обзывались. Они крали дрова из сараев, сперли у соседей петуха, тащили все, что плохо лежит. Они корчили рожи приличным девицам на выданье. Однажды даже впустили в дом цыганскую семью, которую никто к себе не пускал. Гершл редко бывал дома: таскался по деревням — искал, где бы заработать на пропитание себе и своим домашним. Домой возвращался только на субботу и праздники. Вскоре в местечке заговорили о том, что он стал «вечным свидетелем».
Когда какой-нибудь крестьянин затевал судебный процесс против своего соседа и нужен был свидетель, то истец нанимал Гершла и тот за рубль давал такие показания, какие нужны были нанимателю.
Местный судья, помещик Христовский, шутил насчет частых свидетельских показаний Гершла.
— Гершко уже присягу наизусть знает, мне и подсказывать не нужно, — говорил помещик знакомым евреям.
Однако судья терпел свидетельства Гершла. Остряк, транжира и безбожник, Христовский все обращал в шутку.
— Все берут деньги, кроме Йойзла: у него руки прибиты, — говорил он евреям, подмигивая.
Из-за этого богохульства евреи вообще не считали помещика за гоя и говорили даже, будто он не ест свинины…
Мой отец к показаниям Гершла относился совсем иначе, чем судья. Он послал за ним и стал расспрашивать. Гершл ничего не отрицал.
— Ребе, это ничего не значит, — отвечал он. — Я это делаю для гаем[323] (гоев).
Отец не принял этого оправдания.
— Для евреев или для гоев, еврей не должен приносить ложные клятвы. Это одна из десяти заповедей. Мир содрогнулся, когда Бог сказал на горе Синай: «Не клянись ложно».
Гершл отмахнулся.
— Ребе, я даже присягу неправильно говорю, — сообщил он. — Когда сендже[324] говорит «клянусь», я повторяю за ним «кланяюсь»…
Когда отец стал пугать его адом, из могучей груди Гершла вырвались тяжкие вздохи.
— Ребе, я больше не буду, — сказал он. — Я это делал ради жены и детей…
Но вскоре в местечке опять заговорили о «свидетельствах» Гершла.
Чем больше судачили о Гершле, тем горше становилась его обида на всех и вся. У него были причины обижаться. Он хотел колоть дрова, чтобы заработать на хлеб, был готов на любую другую тяжелую работу, но евреи нанимали шваба Шмидта, а не его — под тем предлогом, что это дело мужицкое, а не еврейское. Помню, как-то в пятницу на заре Гершл пошел к Висле и наловил рыбы. Он вернулся в местечко в мокрых, закатанных до колен штанах, босиком; кроме штанов и рубахи, на нем ничего не было — совсем как мужик.
В руке он держал несколько прутьев, на которых трепыхались серебристые щучки.
— Ребецин, купите живых щучек, — предложил он.
Мама купила. Он пожаловался, что ходит по домам, а никто не хочет ничего у него покупать.
— У мужиков покупают, а у меня нет… — с горечью сказал он.
Его жена Эта хотела наняться в прачки, но ее тоже не брали — брали только крестьянских баб, считая, что это работа не для еврейки.
Семья Гершла была вынуждена искать средства на пропитание любыми способами, поэтому о них судачили, их сторонились, а их обида росла. Вражда Палок с Биньомином-портным ничуть не утихла, и вдобавок они переругались с другими семьями — с Мордхе-портным, с Йойсефом-портным. Ссорились из-за горшка, из-за ведра воды, из-за полена, из-за злословия и сплетен. Больше всего свар случалось в праздничные дни, когда было свободное время. Однажды на Симхастойре[325] между этими семьями разгорелось такое побоище, что в ход пошли не только руки, но и камни, и даже ножи. Жены и дети дрались между собой так, что чуть не поубивали друг друга. Мой отец сидел бледный и пристыженный, слушая рассказы о том, что вытворяют в его общине. Потом начинались жалобы в суд, свидетельские показания, обвинения в лжесвидетельстве, и так без конца.
Кроме Гершла, было еще несколько евреев, которые не делали чести общине. Больше всего хлопот было с кривым Меером-конокрадом, который то и дело уводил из стойла хозяйских лошадей. Этот бедняга Меер, высокий одноглазый парень — второй глаз он потерял в драке с крестьянами, — плохо кончил: когда однажды швабы поймали его за кражей лошади, то устроили над ним самосуд и бросили его живьем в котел с кипятком, в котором ошпаривали заколотых свиней. Полиция провела следствие, но деревенские никого не выдали. На похороны кривого Меера пришла его сестра, жена Мордхе-портного, и оплакивала его так же, как благочестивые жены оплакивают своих благочестивых мужей.
— Ой, что это был за праведник, — голосила она.
Как ни велико было несчастье, а люди не могли удержаться от смеха, слыша такие восхваления кривого Меера.
Кривой Меер был не один такой в семье. Сын его сестры, Берл, пошел по стопам дяди. Этот Берл, вместе с которым я учился в хедере, с самого детства был чертенком, вспыльчивым и драчливым, перед ним дрожали все мальчики. В кармане он всегда носил «клопик» — ножик, который он имел обыкновение точить о каждый камень на дороге. Однажды в праздник он, выполняя заповедь «чти отца своего», вынул ножик и пырнул им в бесмедреше левита Аврома Кацапа.
Дело было в том, что в нашем местечке все буяны были коэнами. Гершл был коэном, и Мордхе-портной был коэном, и даже кривой Меер тоже был коэном. Народ в бесмедреше всякий раз вздыхал, когда эти коэны снимали сапоги, омывали руки и благословляли общину.
— Эдакие, да благословляют… — говорили люди.
Шутники же после благословения, вместо того чтобы, как полагается, сказать коэну «Шкоэх, коэн»[326], быстро бормотали «Штох, коэн»[327]. Когда коэны это обнаружили, то стали платить им той же монетой и вместо «Борех тигъе»[328] отвечать «А брох дир»[329]…
Больше всех от таких расчудесных коэнов страдали левиты, в основном почтенные, ученые люди, которые должны были омывать коэнам руки. Это претило левитам. Поэтому они с радостью омывали руки моему отцу, который тоже был коэном. Мне всегда было стыдно, когда отец стоял рядом с остальными коэнами, благословляя общину.
Однажды в праздник левит Авром, прозванный Кацапом, потому что служил у «фонек», отказался омывать руки коэну Мордхе-портному, шурину кривого Меера, потому что, по словам Аврома, этот Мордхе-портной лжесвидетельствовал против него в суде.
— Нельзя, чтобы лжесвидетель благословлял общину, и я ему руки мыть не стану, — заявил Авром Кацап, человек простой, но порядочный.
Сын Мордхе, Берл, так близко к сердцу принял то, что его отца перед всеми осрамили, что он, как тигр, кинулся на высокого крепкого Аврома Кацапа и всадил ножик ему в шею, исполняя заповедь «чти отца своего»…
Но эти несколько семей в нашем местечке были исключением из правила. Прочие евреи, хоть родились и воспитывались в деревнях среди крестьян, большей частью были тихими набожными людьми, из тех, что и мухи не обидят. Они жаждали слов Торы. Некоторые пытались выучить сыновей, другие, не считаясь с расходами, содержали своих ученых зятьев.
Коробейник Лейзер всю неделю мыкался по деревням, но к субботе возвращался домой и целый день учил Тору. Он сам навострился учить «Хок»[330], сборник, состоящий из отрывков Танаха, Мишны и Геморы. И всю субботу он сидел и наверстывал «Хок» за всю неделю, хоть был утомлен и измучен неделей скитаний по деревням с мешком за плечами.
Рябой портной Йойносн так долго крутился возле ученых людей, прислуживая им и прислушиваясь к их разговорам, что постепенно выучил не только Хумеш с Раши, но даже несколько параграфов Мишны. Поскольку у него был хороший голос, он стал молиться за омудом, и молился без ошибок, потому что понимал смысл каждого слова. Со временем он стал надевать по субботам атласную капоту и ездить к хасидскому ребе. Портные смеялись над ним, что вот, дескать, был портной, а стал хасид, но Йойносн не обращал внимания на насмешки. Он и свою дочь, Сореле-швею, выдал за ученого парня и взял зятя на содержание.
Гирш-Лейба, молодого человека из простых, обладавшего прямо-таки богатырской силой, тоже охватила жажда знаний. Он подходил к людям и просил поучить с ним недельный раздел. Даже мальчиков просил с ним позаниматься. В свободное время он с головой погружался в Тору и дошел до того, что мог даже сам разобрать лист Геморы. Его брат Иешуа-портной, отставной солдат, вечно рассказывавший всякие чудеса о своей службе у «фонек» где-то в глубине «Рассеи», смеялся над Гирш-Лейбом, который вдруг подался в ученые. Но Гирш-Лейб молчал в ответ и упорно продолжал учиться. Мы, мальчики, просили Гирш-Лейба показать нам свою силу. Но он не соглашался, потому что хотел забыть свою прошлую простую жизнь, в которой сила считалась достоинством. Ему бы, скорее, хотелось быть хилым, как все остальные ученые люди, зятья на содержании. Лишь однажды, на Пурим, пропустив стаканчик, он забыл о своей учености и показал себя: встал в дверях дома, где кутили хасиды, и никого не выпускал. Десяток ученых людей не смогли сдвинуть его с места.
Мясник Мойше-Мендл тоже немного подучился и знался с учеными людьми и хасидами, хотя из него по-прежнему частенько проглядывал мясник.
Он так хотел сделать из своих сыновей ученых людей, что бил их смертным боем за нежелание учиться. Прямо-таки ногами топтал.
Прочие простые люди, не проявлявшие такого усердия, соборно читали псалмы и ходили слушать как заезжих проповедников, так и проповеди моего отца в Субботу Раскаянья[331] и Великую Субботу[332].
Типы и фигуры нашего местечка сорок лет тому назад Пер. А. Фруман
Одной из самых красочных фигур в нашем местечке был реб Борех-Волф, прозванный Коцким, потому что в молодости он ездил к старому коцкому ребе реб Менделе[333].
Реб Борех-Волф, высокий, тощий, жилистый и широкий в кости старик, очень важничал из-за того, что юношей ездил к коцкому ребе, и без конца рассказывал всякие чудеса о своих путешествиях в Коцк. Он очень любил рассказывать истории, и все они были связаны с Коцком. Даже то, что его лицо было перекошено — одна половина выше, другая ниже, — тоже имело отношение к Коцку.
— Это я в молодости себе заработал, когда поехал в Коцк в сильный мороз и простудился, — объяснял реб Борех-Волф. — Мороз был такой, что даже бочонок оковиты[334], который я вез с собой, замерз[335]: каждый раз, когда я хотел отхлебнуть водки, приходилось откалывать кусочек льда и сосать…
Молодые хасиды из бесмедреша, которым реб Борех-Волф рассказывал об этих чудесах, прерывали его:
— Реб Борех-Волф, как такое может быть? Ведь всем известно, что спирт не замерзает даже в самый сильный мороз.
— Дурачье! Да разве ваши нынешние морозы можно сравнить с лютыми морозами тех времен? — сердился реб Борех-Волф. — Нынешние морозы и понюшки табаку не стоят…
Все, что было не из былых времен, для реб Борех-Волфа не стоило и понюшки табаку. Нынешняя водка — не водка, цадики — не цадики, жареные гуси — не гуси, карпы — не рыба, хасидские нигуны потеряли всякий смак, и силачи теперешние — не силачи. Вот взять, к примеру, его, реб Борех-Волфа: однажды в молодости он поехал в Коцк, и в лесу на него напали двенадцать разбойников, хотели ограбить и убить. И что же он сделал? Он схватил одного разбойника за ноги и принялся так молотить им по головам оставшихся одиннадцати, что те кинулись врассыпную, как мыши, а он, Борех-Волф, поехал себе спокойно дальше в Коцк…
Молодежь из бесмедреша пыталась было усомниться в истории реб Борех-Волфа.
— Реб Борех-Волф, может, вы немного скостите число разбойников? Ну, скажем, их было только шестеро…
— Ослы, болваны, дурачье! Раз я говорю «двенадцать разбойников», значит, двенадцать, — сердился реб Борех-Волф. — Где вам знать, какие были силачи в мое время!..
Я очень любил слушать его фантастические истории: о стаях волков, которые нападали на него по пути в Коцк, а он одолевал их голыми руками; о том, как он состязался в корчмах с коцкими хасидами, кто больше выпьет оковиты, и одним глотком осушал ковш водки крепостью в сто градусов. В молодые годы реб Борех-Волф был так богат, что однажды, когда он устроил пир для коцких хасидов, то лук заправляли не смальцем, а оливковым маслом, маленькая бутылочка которого стоила целый золотой, а людей на пиру было так много, что потратили по меньшей мере сотню таких бутылочек… Как ни старались молодые люди хоть немного сбить цену этих бутылочек с маслом, переубедить старика было невозможно; точно так же не позволял он усомниться в силе певческого голоса, который был у него в молодости. У него был такой мощный голос, что однажды, когда на Йом Кипур он молился мусеф за омудом в Найштетле[336], то на словах «ве-тогор бе-сотн…»[337] испустил такой вопль, что у помещика, жившего в миле от местечка, лопнула барабанная перепонка… Молодежь хотела было сократить расстояние до полумили, но реб Борех-Волф не уступал ни на волос.
— Чтоб вам пусто было, сопляки! — кипятился он. — Раз я говорю миля, значит миля…
Из-за этих историй старик забросил свою лавку, хоть и был отчаянно беден. Его старуха часто приходила и звала мужа из бесмедреша:
— Ра борех[338], — звала она, — сколько можно языком трепать? Иди постой за прилавком. Мне же нужно что-нибудь сварить…
Но реб Борех-Волф ее не слушал. Он продолжал одну за другой рассказывать чудесные истории. Так же невысоко, как заработок, ставил он молитву и учение. «Глоток водки и танец для коцких хасидов дороже, чем целый мешок молитв и учения», — говаривал реб Борех-Волф. Он все время рассказывал, что сам коцкий ребе смеялся над своими благочестивыми хасидами, которые чересчур много молились. А однажды ребе сказал хасиду, который не снимал талеса и тфилн[339], чтобы тот снял эту «кожаную сбрую»… Моего отца трясло от таких слов. Но реб Борех-Волф поклялся своей бородой и пейсами, что лично слышал эти слова в Коцке. Однажды реб Борех-Волф отпустил шутку по адресу Виленского гоена[340], сказав, что, конечно, гоен в раю, но за то, что он преследовал «добрых евреев», сидит отдельно от всех остальных праведников и к тому же с засморканной бородой…
Мой отец сказал, что после таких слов о Виленском гоене надо «надорвать край одежды»[341].
Реб Борех-Волф расхохотался:
— Гоен-гонор… — сказал он. — Один глоток водки в Коцке стоил всей гоенской учености в Вильне…
Вечером в Йом Кипур, непосредственно перед кол-нидре[342], реб Борех-Волфу приспичило учить Гемору. Люди всполошились:
— Реб Борех-Волф, ну… э… кол-нидре…[343].
Реб Борех-Вольф не дал себя сбить.
— Кол-нидре… кол-нидре… — пробурчал он и принялся, назло всем, учить вслух[344]: «Шор шеногах эс га-поре…»[345].
Никто не мог ничего поделать — во-первых, он был человеком престарелым, а во-вторых, он ведь когда-то ездил к самому ребе Менделе в Коцк…
Он прямо-таки жил своими историями, своим упрямством, привычкой делать все назло, а главное, тем, что парился на верхнем полке в бане, где никто другой не выдержал бы и минуты из-за страшного жара. Сколько бы банщик ни лил ведер горячей воды на каменку, реб Борех-Волф всегда кричал, чтобы еще поддали пару. Костлявое стариковское тело становилось красным, будто обваренным. Не было такого жара, которого бы старик не вынес. Лежа в одиночестве наверху, он продолжал шутить свои шуточки:
— Эй, разбойники, я сейчас окоченею!.. — вопил он.
Молодежь диву давалась.
— Реб Борех-Волф, как вы можете лежать в таком пекле?
— Болваны! В молодости я однажды купался в микве в кипящем котле, — кричал реб Борех-Волф с верхней полки.
Это было уж слишком, и голые мужчины покатывались со смеху.
— Реб Борех-Волф, скиньте хоть немного, — просили они, — признайте, что котел не кипел…
— Дурачье! Он не просто кипел, он бурлил… — заявлял он.
Таков был реб Борех-Волф. Я любил его и с наслаждением слушал увлекательные истории, которые он так красочно рассказывал. Когда его старуха умерла, реб Борех-Волф, а ему тогда уже стукнуло восемьдесят, женился снова — на женщине вдвое моложе себя. Она привела ему падчерицу, которую в местечке тут же прозвали Додатек, что на польском означает «добавка»… Новый брак не принес старику счастья. Он, бедолага, быстро сдал, перестал рассказывать свои истории, а вскоре отправился к своей первой жене в мир иной…
Другой занятной особой была Хана-Рохл, любившая портить жизнь женщинам и ссорить супругов, настраивая мужей против жен.
Хана-Рохл — энергичная, болтливая, злоязычная, насмешливая бабенка — была большая мастерица готовить. Ее коржики и штрудели, ее жаркое, фаршированная рыба и куглы славились на все местечко. Но она не ограничивалась тем, что готовила вкусности для себя и своих домашних. Она любила посылать лакомства в подарок соседям. У нее было две дочки, которых она часто, особенно по субботам, отправляла к соседям с тарелками угощения.
— Ребецин, мамочка прислала вам кугл, — тараторила девочка. — Мамочка прислала рыбу…
У нас дома эти вкусные блюда никогда не вызывали никаких обсуждений. Отец, конечно, любил их больше, чем мамины, ведь моя мама совсем не умела готовить, но ничего не говорил. В других же семьях, где жены плохо готовили, все было иначе. Хана-Рохл рассылала свои яства именно этим соседкам. И часто случалось так, что муж такой неумехи, отведав кугла Ханы-Рохл, начинал ворчать, почему, мол, у других женщин кугл — это кугл, а у его растяпы кугл вечно сделан не по-человечески. В одной семье куглы Ханы-Рохл вызвали такую ссору, что дело чуть не дошло до развода. Тогда мой отец вызвал к себе Хану-Рохл и запретил ей посылать соседям подарки. Только я один был не слишком рад этому запрету. Я скучал по ее вкусной рыбе и куглам…
Интересными типами были и два Мендла, одного из которых прозвали Мендл-большой, а другого — Менделе-малый.
Эти двое были самыми видными обывателями в местечке, но друг с другом никак не могли поладить. Мендл-большой служил управляющим в лесном хозяйстве. Он был высоким, широкоплечим мужчиной, ученым-талмудистом и пламенным герским хасидом. Но Мендл был еще и настоящим силачом: когда ему случалось поймать в лесу крестьянина, ворующего дрова, он хватал его за шиворот и вел к себе в «канцелярию», где держал под арестом до тех пор, пока семья крестьянина не выкупала его за рубль — обычный штраф за воровство. Возле его дома всегда стояли мужики и пилили бревна на доски: один стоял над бревном, другой — под, и пилили с утра до вечера. Другие работавшие на него мужики возили бревна из леса к Висле, где их связывали в плоты и сплавляли в Данциг[346]. Каждый вечер перед наступлением субботы десятки крестьян собирались в доме Мендла, рассаживались на полу, курили, плевали, беседовали и ждали платы за неделю. Со своими пилами и топорами они выглядели как шайка разбойников. А Мендл сновал между ними в своей атласной капоте, производил расчет и платил, и если кто-то пытался затеять драку с другими крестьянами, то Мендл брал буяна за шкирку и вышвыривал за дверь. Мужики души не чаяли в своем Мендле, почитали и боялись его. Еще больше боялись Мендла его жена и дети. Его слово было законом. Человек он был влиятельный, но при этом честный и справедливый. Он красиво вел молитву и искусно читал Тору с бимы. Ко всему прочему, Мендл отличался веселым нравом и острым умом. От него всегда пахло лесом и ветром. Я помню, как однажды в пятницу с этим самым Мендлом произошел трагический случай.
Обычно он всю неделю проводил в лесу, где служил управляющим у богатых лесопромышленников, а в пятницу возвращался домой. Однажды, когда он был в лесу, у него заболел ребенок и в одночасье умер. Те, кого послали с этой вестью, не смогли отыскать Мендла. Поскольку в нашем местечке не было еврейского кладбища, то люди взяли умершего ребенка и повезли в пятницу утром в Закрочим, чтобы успеть похоронить до наступления субботы. И как раз на дороге похоронная процессия столкнулась с Мендлом-большим. Это была трагическая встреча. Но он, сильный человек, не сказал ни слова и молча отправился провожать своего ребенка в мир иной. Ничто не могло сломить эту могучую, стойкую натуру. Меньше чем через год жена родила ему другого ребенка.
Насколько высоким, крепким и жизнерадостным был Мендл-большой, настолько же щуплым, неказистым, сердитым и угрюмым был Менделе-малый, который вечно соревновался с Мендлом-большим в том, чье мнение имеет больший вес в общинных делах.
Менделе-малый считался богачом, самым крупным торговцем мануфактурой в местечке. Он был из тех, кто все время сидит и учится, и был чрезвычайно благочестив. Но Мендл-большой подавлял его своим ростом и силой. У них были вечные нелады, шла постоянная борьба. Менделе-малый был крохотным чернявым человечком, с пронзительными черными глазками, маленькой угольно-черной бородкой, которая росла не на щеках, а только на подбородке. Казалось, он весь состоит из носа. Нос у него был горбатый и острый, как клюв хищной птицы. Этот человечек никогда не улыбался и, несмотря на малый рост, держал в страхе свою рослую жену и детей. Он был так благочестив, что не позволял жене носить парик — только атласный чепец, какой носили одни старухи. А она не смела пойти против воли своего низкорослого муженька. Точно так же он держал в страхе обывателей местечка, но ничего не мог поделать с Мендлом-большим, который подшучивал над ним при каждом удобном случае. Чаще всего Мендл-большой насмехался над ребе Менделе-малого, ребе из Ворки[347].
Мендл-большой вообще насмехался над всеми ребе. Единственным настоящим ребе был его собственный, герский. Мендл хвастался, что у герского ребе тысячи хасидов и среди них немало людей ученых и раввинов. Раввинов среди них столько, что не все получают место за столом у ребе и стоят вместе с остальными хасидами[348]. Герский ребе — величайший ученый, мудрец и праведник. Понять его учение никому не под силу. Герские нигуны — самые красивые. Одним словом, у нас один Бог и один ребе — герский. Остальные «добрые евреи» ведут себя просто глупо. Будь у них разум, они бы сложили свои полномочия и поехали в Гер. Мой отец, бывало, спорил с Мендлом.
— Почему у императора может быть много генералов, а Всевышнему нельзя иметь больше одного генерала? — спрашивал отец.
Но на Мендла-большого эта притча не производила никакого впечатления. Он прямо слышать не мог ни о каких ребе, кроме герского. Самые едкие насмешки он отпускал в адрес ребе из Ворки, к которому ездил Менделе-малый. Дело в том, что этот ребе, живший в местечке Отвоцк[349] под Варшавой, не отличался — да простит он меня — особой ученостью. Говорили, будто он не только ни одного листа Геморы не выучил, но даже в Хумеше не больно-то разбирается. Зато он был чрезвычайно богобоязненным, благочестивым до ужаса, и так же благочестивы были его хасиды. Они много молились, плакали, причитали, пребывали в унынии. Их нигуны были печальными, их учение — скорбным. Мендл-большой горел желанием услышать что-нибудь яркое из того, чему учил ребе из Ворки. Но Менделе-малому было нечего рассказать об учении своего ребе, поэтому он рассказывал о его чрезвычайном благочестии. У ребе во дворе два колодца — молочный и мясной. Воду для мясных блюд черпают из мясного колодца, воду для молочных — из молочного. Кроме того, ребе не позволяет своим хасидам носить пуговицы на воротниках рубашек, потому что это немецкая мода[350], и они завязывают воротники тесемками. Хасидам запрещено являться в дом ребе в картузах, какие носят польские евреи, — они должны носить раввинские шляпы. Но поскольку ни у кого такой шляпы нет, у ребе во дворе висит одна шляпа, которую надевает каждый хасид, когда входит в дом к ребе, чтобы отдать ему «записку»[351]. При дворе у ребе запрещено появляться чужим хасидам. Но наибольшее внимание цадик из Ворки уделяет женам своих хасидов. Этим женщинам нельзя носить парик, потому что это проявление безбожия. Они должны брить голову и носить чепец. В каждом городе у ребе есть свой надзирающий, который следит за поведением жен его хасидов. Если надзирающий прознает, что чья-то жена носит парик, он тут же сообщает об этом ребе, и когда муж этой женщины приезжает к ребе, тот приказывает ему убираться подобру-поздорову.
Вот какие истории рассказывал Менделе-малый о своем ребе. Но Мендл-большой только смеялся над причудами цадика из Ворки.
— Фу-ты ну-ты, молочный колодец, мясной колодец, парики, чепцы — это все чепуха. Я хотел бы знать, реб Менделе, какие премудрости вы слышали от вашего ребе, — твердил он.
Реб Менделе нечего было ответить, и он начинал выкручиваться.
— Мой ребе, чтоб он был здоров, не говорит… — заявлял он. — Ему это не нужно…
— Когда есть что сказать — говорят, — отвечал на это Мендл-большой.
Однажды во время такой стычки Мендл-большой отпустил слишком уж резкую шутку в адрес ребе из Ворки.
— Ну, реб Менделе, ваш… ребе уже нашел новые толкования… для женских чепцов? — спросил он.
В тот же миг Менделе-малый подпрыгнул и залепил Мендлу-большому такую пощечину, что весь бесмедреш обмер.
Мендл-большой не дал сдачи. Пощечина, полученная от этого крохотного человечка, была такой внезапной, что могучий Мендл, справлявшийся с мужиками, остался стоять как вкопанный. Менделе-малый застыл, скорчившись, готовый принять мученическую смерть за своего ребе.
Накануне Йом Кипура, после бичевания[352], Мендл-большой подошел к Менделе-малому и протянул ему руку.
— Реб Менделе, я прошу у вас прощения[353], — сказал он и протянул стаканчик водки с лекехом[354].
Мендл-большой не мог ни к кому долго питать вражду. В этом «лесном» еврее бурлили сила и радость. Кроме того, он любил пропустить стаканчик с хасидами в бесмедреше либо по поводу йорцайт[355], либо, наоборот, какого-нибудь радостного события, например, если кто-нибудь завершит изучать трактат Талмуда[356].
На Пейсах Мендл-большой приносил моему отцу в подарок бутылку хорошего вина. Когда он приходил к нам, вместе с ним в дом входила радость, так же как с Менделе-малым — уныние. Этот-то вечно был недоволен, вечно озабочен благочестием, которого, по его мнению, жителям местечка недоставало. Он стыдил меня за то, что я бегаю с мальчиками из простых и ставил мне в пример своего Ицикла, который ведет себя прилично и набожно. Этот Ицикл с юных лет уже был святошей и плаксой — настоящим хасидом ребе из Ворки. Я терпеть не мог его манеру раскачиваться взад-вперед и таращить глаза. А больше всего меня бесило, что этого Ицикла по любому поводу мне ставили в пример.
— Ицикл не стоит у дверей среди ремесленников, — стыдили меня. — Ицикл не носится по полям… Ицикл не порвал капоту…
Только и свету в окошке, что Ицикл!
Еще одним ярким персонажем нашего местечка был Йойне Подгура, углежог и смолокур. Йойне жил за местечком и вечно судился у раввина со своей женой, Йойнихой. Эта деревенская семья выглядела как заправские крестьяне. Йойниха носила сапоги, а голову повязывала деревенским платком. Йойне зимой носил бурый овчинный тулуп, подпоясанный ремнем. Когда в местечке была ярмарка, он приходил вместе с крестьянами. И во время ярмарки заходил к нам, протягивал подарок — немного меда или сыра — и заявлял своим хриплым голосом, полным раскатистых «р»:
— Р-р-ребе, р-р-разведите меня с моей стер-р-рвой… Она меня в гр-р-роб молодым сведет…
Йойниха жаловалась:
— Ребе, он меня бьет, понаставил мне синяков по всему телу…
И, не давая никому опомниться, она распахивала блузку перед отцом, показывая свои синяки. Отец отворачивался, чтобы не смотреть на женщину.
— Ну… а… э… — бормотал он, — дщерь Израилева не должна так… э…
Но та гнула свое. Йойне стоял с кнутом за поясом, еле держась на ногах от водки, выпитой вместе со знакомыми крестьянами.
— Р-р-ребе, попр-р-робовали бы вы ее стр-р-ряпню, — жаловался он. — Свиньи, я извиняюсь, и те бы не стали есть… Мне от нее житья нет.
Отец всякий раз отправлял Йойне домой, чтобы тот пришел, когда протрезвеет. Однажды он таки развелся, но не с женой, а с мужчиной, и притом бородатым…
Это случилось на обрезании его внука. Сын Йойне, служивший лесным сторожем у Элиезера Фальца, справлял обрезание. Дело было зимой, в морозный день, и хозяин праздника послал крестьянина на санях за моим отцом и моелем, реб Генехлом-шойхетом. Я попросился с ними, и отец взял меня с собой в лес. Крестьянин укрыл своих седоков соломой и погнал лошадей по смерзшемуся снегу, глубиной не меньше локтя. Мороз был жгучий. Усы мужика превратились в ледышки. Из лошадиных ноздрей свисали сосульки. Пар, валивший изо рта, мгновенно замерзал. Генехл-шойхет, маленький человечек с маленькой бородкой, все время охал:
— Холодно, ребе, холодно… Холодно…
Отец уговаривал:
— На обрезании согреетесь, реб Генехл. И потом, вам ведь заплатят за труды.
— Да какое там заплатят, смех один, — вздыхал реб Генехл.
Он вечно вздыхал, этот реб Генехл. Когда он резал корову, то говорил, что это коровенка. Когда резал гуся — говорил, что это куренок. Когда ему платили рубль, он говорил, что заработал злотый.
— Смех один, ребе, смех один, — любил он вздыхать, чтобы не пришлось платить раввину процент с выручки за убой, как того требовала община.
Он говорил «смех один» и тогда, когда возникал вопрос о коровьих потрохах, и отец находил повреждение…[357] При этом шойхет вздыхал, охал, шлепал рукой по потрохам и плевал на них…
От его вздохов, охов и возгласов «Смех один!» жгучий морозный день становился еще холоднее. Тепло окутало нас, когда мы приехали на обрезание в лесную сторожку, утопавшую в снегу. В доме было натоплено, в медных подсвечниках горели свечи. Собравшиеся, сплошь здоровые, загорелые, веселые «лесные» евреи с женами, радовались от души. Хозяин праздника, крепкий малый, без устали разносил угощение. Гости не столько ели, сколько пили. Йойне Подгура, дед младенца, пил больше всех. Он вливал в себя водку буквально целыми бутылками. Пел и плясал как настоящий крестьянин. Больше всех веселился лесопромышленник Элиезер Фальц. Это был богач, благообразный, краснолицый человек, с золотистой подстриженной бородой. Одевался он на полунемецкий манер, носил накрахмаленное белье и вместо бархатной ермолки — шелковую, как немцы. Был большой шутник и немного безбожник. Говорили, будто он учит Хумеш с «Биуром» Мойше Мендельсона[358]. Я его очень любил, потому что, приходя к нам совершать «купчую», он всегда оставлял отцу трешницу, а мне отдавал сдачу: серебряный двугривенный.
На празднике Элиезер Фальц сыпал шутками, рассказывал истории, высмеивал все на свете. Вдруг он заговорил женским голосом, подражая жене Йойне Подгуры, и стал ругаться с Йойне. Тот был так пьян, что принял мужчину с золотистой подстриженной бородой за собственную жену. Слово за слово, Йойне Подгура начал требовать развода. «Жена» согласилась, и мой отец развел «ее» с Йойне. Отец, видно, тоже был малость под хмельком, коли допустил такую шалость… Никогда еще я так не веселился, как на этом деревенском празднике.
Среди разных историй, которые звучали за столом, была и история моего отца про Йоше-Телка. Это случилось с сыном ребе из Каменки[359], Мойше-Хаимом, который ушел от жены, дочери ребе из Шинявы. Когда много лет спустя Мойше-Хаим вернулся к своей агуне, люди заявили, что он вовсе не зять ребе, а нищий по имени Йоше-Телок, который оставил агуной свою придурковатую жену… Мой отец знавал Йоше-Телка и великолепно рассказывал собравшимся о путанице, которая приключилась из-за него…
Народ слушал, разинув рот и навострив уши, захваченный загадкой, которую никто не мог разгадать. Я тоже был весьма озадачен.
Вечером, когда мы ехали домой, мороз стал еще сильнее. Крестьянин предупредил нас, что нельзя дремать, а то замерзнем. Реб Генехл вздохнул:
— Холодно, ребе, холодно… Зря мы сюда тащились…
— Вам, кажется, заплатили трешницу? — спросил отец.
— Куда там, разве что пару злотых заработал, — ответил реб Генехл, по обыкновению превращая рубли в злотые. — Смех один, ребе, смех один…
Об этом шойхете в местечке ходила занятная сплетня: когда его взяли к нам шойхетом, то потребовали, чтобы он научился также делать обрезание. Но Генехл, который мог с легкостью зарезать корову, боялся дотронуться ножом до ребенка. Тогда ему велели учиться на петрушке. Но он был так напуган, что отдернул руку от петрушки.
— Ой, люди добрые, я на такое не отважусь, — взмолился он.
Из-за этого шутники прозвали его «реб Генехл-Петрушка». Реб Генехл всю эту историю отрицал.
— Куда там, смех один, — бормотал он.
«Зеленый Четверг» и выкрест с распятием во главе католической процессии Пер. А. Полян
Чем больше мой отец хотел оградить меня от реальной жизни, засадив за священные книги, тем больше я рвался к ней, впитывая ее с нетерпеливой страстью. Того хуже: сама жизнь врывалась к моему отцу в его раввинский кабинет, где я должен был сидеть и учить Тору.
Все началось с женщин, которые приходили к отцу с «женскими» вопросами. Обычно он отсылал меня в другую комнату, когда очередная бабенка краснела и медлила с ответом, по какому, собственно, делу она пришла. Но я и так знал, о чем речь, и с любопытством прикладывал ухо к двери, чтобы услышать секретные вопросы и ответы в папином кабинете. Слышал я, например, жалобы одной невысокой женщины, часто приходившей к папе плакаться на то, что ее муж, торговец скотом, бьет ее всякий раз, когда приезжает домой на субботу, а она не может его «поприветствовать»…[360]
— Ребе, — плакала эта женщина, — чем я виновата?
Потом отец послал меня за ее мужем, и я слушал из соседней комнаты, как папа стыдил его за неблагочестивое поведение:
— Разве еврею пристало поднимать руку на жену?! — кипятился отец. — Да еще за то, что она блюдет закон!
Виновный стоял, понурившись, с покрасневшим бычьим загривком.
— Ребе, — бормотал торговец скотом, — всю неделю, в дождь и в холод, бродишь по деревням. В субботу приезжаешь домой, так хочется, в конце концов, немного субботнего покоя, э-э-э…
— Еврей должен быть евреем! — отвечал на это отец.
И человек с бычьим загривком обещал впредь вести себя благочестиво и праведно, но его маленькая жена снова и снова приходила в слезах жаловаться, что муж ее бьет и все за то же прегрешение…
Как-то раз в день праздника Симхастойре, когда евреи танцевали со свитком Торы, к нам пришел некий светловолосый молодой человек (сам он был родом из Плонска[361], но после свадьбы переехал в Ленчин) и прямо при моей маме и при нас, детях, поднял крик, почему, дескать, банщик Эвер не вытопил накануне праздника микву для его жены.
Отец стал его утихомиривать:
— Ну как же так, за столом, при детях?..
Но светловолосый молодой человек, который вечно таскался по ярмаркам с товаром, продолжал вопить:
— Ребе, мне весь праздник испортили…
Однажды наутро после свадьбы к нам домой прибежали сваты, которые еще с помолвки сомневались в честности невесты, и подняли такой крик, что отцу никак не удавалось примирить сватов со стороны жениха со сватами со стороны невесты. Дело было в том, что родню жениха не устраивала репутация семьи невесты. По правде говоря, и женихова семья была не особенно высокого происхождения, но на невестиной родне лежало пятно позора: брат невесты был выкрестом, да к тому же держал свиней. Вместе со своей бабой, ради которой он, собственно говоря, и крестился, этот выкрест приезжал из деревни на каждую ярмарку в нашем местечке и выставлял на продажу свой трефной товар — свиное сало и кишки. Мало того, он выкладывал эту дрянь возле дома своего отца, как будто назло всей семье, которая прокляла его и по нему живому отсидела «шиве»[362]. Ярмарочные дни, для всех полные веселья, для семьи этого выкреста становились днями горя и позора.
Настоящим трауром, вроде Тишебова, для опозоренной семьи, да и для всех остальных евреев местечка, был «Зеленый Четверг»[363], когда этот выкрест шел вместе с мужицкой процессией и нес перед собой изображение Йойзла. «Зеленый Четверг» вообще был тревожным временем для евреев. В местечко съезжались тысячи мужиков и баб, крестьянских девок в белых платьях, девочек с веночками из колосьев в льняных волосах. Попы в белых одеяниях, с крестами и священными разноцветными картинами, с «Йойзлами»[364] и прочими «идолами» науськивали толпу, волновали в ней кровь, и евреи боялись, как бы из этого чего-нибудь, не дай Бог, не вышло. Мужики, которых было очевидное большинство, были хозяевами положения, но все равно чувствовали внутренне беспокойство в присутствии малочисленных беззащитных евреев. Им все время казалось, что евреи над ними смеются, презирают их, и поэтому они то и дело обвиняли евреев в богохульстве, в насмешках над их святынями. И евреи не только наглухо запирали лавки, но и закрывали ставни среди бела дня, запирали на цепь двери и ворота и хоронились по углам. Мне отец строго-настрого наказывал, чтобы я не смел даже сквозь щели в ставнях смотреть на все это идолопоклонство, потому что глаза осквернятся и надо будет поститься сорок дней кряду. Разумеется, дурное побуждение было сильнее моего отца — а оно как раз подзуживало меня посмотреть на запретное. Мне хотелось получше разглядеть огромные цветные знамена и картины, на которых намалеваны фигуры босых мужчин и женщин в красных и голубых одеяниях и с золотыми ободками над головой. А еще было интересно смотреть на крестьянских девок в белом, которые бросали цветы под ноги попу, слушать их визгливое блекотанье. Крестьяне в длинных белых рубашках выглядели комично. К этим праздничным рубашкам как-то не шли тупоносые тяжелые сапоги. Бабы, увешанные черными четками и «Йойзлами», с восковыми свечками в руках, пели истерическими голосами. Попы поминутно звонили в колокольчики, всех кропили святой водой и творили «гакофес»[365] вокруг сидящей на подушках главной фигуры Йойзла, которую несли четыре девки в белом. В воздухе качался лес крестов и знамен. А впереди всех шел выкрест со светлыми усами и нес самый высокий крест, к которому был прибит голый Йойзл. Такая честь ему была оказана за то, что он перешел от евреев к гоям. Я просто трясся, когда видел этого отступника. Женщины проклинали его мать, которой следовало удавить такого сына еще во чреве!
Когда процессия заканчивалась, а мужики и бабы, стряхнув с себя святость, отправлялись в два дешевых шинка пить, танцевать и драться, евреи снова открывали ставни лавок и принимались торговать. И только у родителей выкреста ставни весь день так и оставались закрытыми.
Ясное дело, доброго имени у семьи выкреста-свиновода не было, хотя она была совершенно не виновата в постигшем ее несчастье. Никто не желал породниться с этой семьей. Но как раз в сестру этого выкреста влюбился сын мясника, отставной солдат, и дело дошло до сватовства, хотя его родители были против. Даже за час до хупы отец жениха все пытался расстроить дело. Когда жених и его дружки сидели в доме невесты и веселились[366], отец жениха вдруг вспомнил, что сват не выплатил ему 100 злотых из обещанного приданого в 1000 злотых (150 рублей), схватил жениха за рукав новой капоты «в рубчик» с шелковыми лацканами и потащил его домой. Жениху, который сидел, как полагается, с холостяками и курил дорогие папиросы, совершенно не хотелось уходить из дома невесты прямо перед тем, как ей покроют волосы[367]. Но отец дергал его за рукав:
— Пойдем, сын, не хочу никакой свадьбы! Не хочу…
Мать невесты, несчастная женщина — один сын крестился, двое других некоторое время назад умерли от тифа, — от горя упала в обморок. Невеста рыдала, пока девушки заплетали ей косы и украшали их полевыми цветами. Тут вмешался мой отец: он не разрешил расстраивать празднество. Разгневанные родители жениха повели к хупе сына, выбравшего себе невесту из семьи, в которой есть выкрест. Назавтра родственницы жениха стали цепляться к молодой жене и искать доказательства ее нечестности. В нашем доме было полно баб, которые секретничали, рассматривали простыню и шушукались. Отец нашел, что они попусту придираются, и выгнал их из дому.
— Дщерям Израилевым негоже возводить напраслину на чистое дитя! — сердился он.
И хоть меня вытолкали в другую комнату на все то время, пока продолжались бабьи крики, я все видел и слышал.
— У этого мальчика тысяча глаз, как у Ангела смерти![368] — говорили обо мне бабы. — Где не сеют — там растет[369].
Они были правы. Неуемное любопытство, желание все разузнать о людях и их делах жгло меня с самого детства. Того, что я видел в каждом человеке, было не отыскать и в тысяче святых книг. Свою жажду жизни я не мог утолить книгами и сбегал от них к земле, к растениям, животным, птицам и людям, особенно к простым людям, которые живут полной жизнью.
Я часто заходил к братьям Мееру и Бореху, сыновьям Мойше-столяра. Эти мальчики были мне не ровня: они едва могли прочитать молитву. Но зато они умели пилить, строгать, сверлить, работать штампом, обивать доски льняным полотном, сколачивать столы и скамейки. Они пускали меня в мастерскую своего отца, давали построгать доску, пройти по ней фуганком, забить гвозди. Еще интереснее было смотреть, как мальчики помогают отцу делать гробы для мужиков. Мойше-столяра в основном кормили гробы, которые у него покупали мужики изо всех окрестных деревень. Часто крестьяне заказывали гроб для больного человека, когда он был еще жив. Сначала к больному приводили фельдшера Павловского, который умел делать только две вещи: ставить клистир и мазать йодом. Если больному не становилось лучше, посылали за попом. И всю дорогу, пока поп в своем святом облачении ехал к больному, сопровождавший его костельный органист звонил в колокольчик[370]. Мужики и бабы, заслышав святой колокольчик, тут же падали на колени[371], даже если под ногами был глубокий снег или непролазная грязь, и целовали полу поповского одеяния. А если и святая вода[372] не оказывала целительного действия на больного, то здоровые родственники снимали с него мерку — рост, ширину — и заказывали у Мойше-столяра гроб. Зажиточные крестьяне заказывали дубовые гробы, выкрашенные в коричневый или черный цвет, украшенные серебристыми металлическими крестами, а изнутри выложенные белыми подушками, набитыми стружкой. Бедные — еловые, часто некрашеные, с одним лишь крестом, нарисованным черной краской. Крестьяне по-деловому вручали Мойше мерку — веревку с узелками — и торговались насчет цены.
— Уже были и Павловский, и поп, — говорили они. — Ничего не помогает, надо заранее подготовить гроб, чтобы потом не суетиться… Больной точно умрет…
Мойше-столяр пилил доски, красил крышку и обивал ее металлическими крестами, которые закупал в Варшаве, или рисовал крест черной краской. Отец несколько раз вызывал его к себе и выговаривал ему по поводу крестов на гробах.
— Реб Мойше, разве еврею пристало такое дело? — спрашивал он. — Вы же набожный человек…
— Ребе, иначе мне придется побираться, — возражал реб Мойше. — У меня жена и дети… За каждый грош бьешься…
Мой отец только вздыхал. А мне очень нравилось смотреть на то, как работает Мойше-столяр. Это был рослый здоровый человек, с тяжелыми мозолистыми руками трудяги. От него всегда пахло деревом, краской и льном. Он был добр ко мне, разрешал подержать пилу. Его сыновья, Меер и Борех (которого обычно звали Булей), помогали ему набивать подушки стружками. Часто Мойше приказывал одному из мальчиков лечь в приготовленный гроб, чтобы проверить, правильна ли мерка. Мальчики этого не боялись: они привыкли. Они даже прятались в гробах, когда мачеха звала их, чтобы они помогли ей натаскать воды для лохани с бельем, над которой она стояла, согнувшись, и стирала. Эта женщина, казалось, стирала не переставая.
— Буля, Меер, чтоб вы сгорели! — кричала она. — Сходите к колодцу за водой!
Мальчики лежали, вытянувшись, в гробах, головы — на белых подушках, набитых стружкой, и делали вид, что не слышат. Они терпеть не могли мачеху, хотя она приходилась сестрой их умершей матери, никогда не называли ее мамой, как она того хотела, а только тетей и не желали помогать ей со стиркой. И им было за что на нее обижаться: она плохо с ними обращалась, унижала их. Один из братьев долгое время по ночам мочился в постель, хотя уже учил в хедере Хумеш, и мачеха вывешивала простыню во дворе, чтобы все мальчики видели, что делает ее пасынок… Она ругала Меера и Булю, давала им обидные прозвища, и за это они ее ненавидели и не отзывались на ее крики. Лежали, затаившись, в новых гробах — и веселились от души…
Их отец, бывало, счищал мозоли ножом со своих натруженных рук, и делал это так запросто, как будто, например, чистил картошку.
Часто я ходил в гости к моим друзьям, Калмену и Носну, сыновьям Мойше-Мендла-мясника, который терся среди хасидов и хотел быть среди лучших людей местечка, но его сыновья ни за что не соглашались сидеть и учиться, как он того требовал. Мойше-Мендл-мясник пытался вбить в них Тору изо всех своих мясницких сил. Он просил у меламедов, чтобы те без всякой жалости пороли его сыновей.
— Хоть убейте этих молодчиков за то, что не знают Геморы, — просил он меламедов, которых и так не нужно было упрашивать. — Дерите без всякой жалости!
Частенько он, не надеясь на меламедов, собственными руками учил сыновей любви к Геморе. Он бил их до крови, швырял на землю, пинал ногами.
— Убью, но сделаю вас учеными людьми! — кричал он и продолжал побои.
Мой отец вступался за мальчиков:
— Реб Мойше-Мендл, оплеухами Тору не вобьешь. Не хотят учиться — пусть станут ремесленниками.
Но Мойше-Мендл и слышать о таком не хотел. Он не мог допустить, чтобы сыновья своим невежеством помешали ему играть роль хасида, в которую он вошел. Но побоями он так ничего и не добился. Его дети не захотели выбиться «в люди». Сначала старший парнишка, Липе, забросил Тору и стал бала-голой, но возил не пассажиров, а бревна из леса к Висле. Среди крестьянских парней, которые занималась этим промыслом, он был единственным евреем. Блондин невысокого роста, крепкий, как дубовый кряж, он шагал за бревном, лежащим на четырех колесах, соединенных жердями. Тяжело ступая по песчаным улицам местечка, Липе погонял свою лошадку:
— Вьо, гайда, вьо!..
Крестьянские парни пытались ему досадить, но Липе не позволял плевать себе в кашу. Он мог любому дать сдачи своими короткими сильными руками.
Потом и младший брат, Калмен, рыжий и веснушчатый, тоже забросил Гемору и стал помогать отцу рубить мясо и перегонять бычков из деревни в местечко. Однажды с Калменом случилось несчастье. Его отец рубил мясо на колоде, а Калмен случайно поднес руку слишком близко к топору, и отец нечаянно отрубил ему два пальца. У парня была не по летам железная выдержка: он закусил губу и даже не заплакал. Фельдшер Павловский намазал ему культи йодом. Мне этот парень очень нравился своей простотой. Мне нравилось, как он краснеет из-за своего невежества, стыдится его. Хотя Калмен был на добрых несколько лет старше меня, это не мешало нашей дружбе. Он рассказывал мне всякие мальчишеские истории и вообще вел себя как ребенок.
Еще больше я любил их самого младшего брата, Носна — тоже рыжего, веснушчатого и ужасно застенчивого: он всегда заливался краской, когда кто-нибудь с ним заговаривал. В отличие от отца, который старался втереться в круг ученых людей и хасидов и очень хотел казаться чем-то большим, чем был на самом деле, дети держались скромно, тихо, стеснялись людей. Так же тихо и скромно держалась их мать, Мирл, маленькая измученная заботами женщина, которая, хотя ей было за сорок, рожала не переставая: каждый год по ребенку. Она всегда или была беременной, или кормила, или рожала. При этом она успевала готовить, стирать, штопать, ставить заплаты и заботиться обо всей своей огромной семье. В доме было полно детей. Когда рождался мальчик, Мирл лежала в постели до обрезания[373], слушая из-за простыни, как ученики хедера ежедневно читают Кришме. Но когда на свет появлялась девочка, она вела себя иначе. На третий день после родов Мирл уже готовила и стирала, как ни в чем не бывало. Как-то раз я сам видел, как эта маленькая белокурая женщина лазила на чердак за сеном для коровы на второй день после того, как родила очередную дочь. Еще она всегда варила большие горшки для всей семьи, и не только для своих, но и для посторонних: у нее за столом всегда сидели бедняки, в доме было полно знакомых, соседок, родственников и родственниц, приезжавших изо всех ближайших деревень и лесов. И для всех Мирл варила и пекла. В доме всегда пахло жареным луком, борщом с чесноком, кашей, заправленной зеленым луком. Ее еда просто таяла во рту. Меня она тоже все время угощала и умоляла не отказываться. Эта женщина радовалась, когда у нее ели.
Я обязан был попробовать приготовленную ею жареную печенку, вымя, которое она жарила на вертеле[374], фаршированную селезенку, потрошки, легкие и шкварки. Больше всего мне нравился ее черный ржаной хлеб и просо с молоком. У нас в доме такого не было: это считалось крестьянской едой, а мне нравилась простая пища. Как-то раз у Мирл мне даже довелось есть мясо нерожденного теленка: в корове, которую Мойше-Мендл отвел на бойню, обнаружили теленка. Такого теленка не нужно нести к шойхету[375], и было странно вкушать мясо, которое было кошерным без шхиты.
Такой же милой и дружелюбной, как Мирл, была и ее старшая дочка, Фрейдл. Имя ей очень подходило. Эта невысокая светловолосая и живая девушка, как две капли воды похожая на мать, так и лучилась радостью[376]. И хотя она работала день и ночь, помогала матери по дому (а дом был большой!) да еще доила корову, кормила кур, колола дрова и даже, когда нужно, погоняла лошадку брата, она все равно не переставала смеяться, петь и радоваться. Достаточно было на нее взглянуть, как она опускалась на землю и заливалась хохотом.
— Фрейдл, что смешного? — спрашивала мать и сама начинала хохотать.
— Не знаю, просто смех разбирает, — отвечала Фрейдл.
Так она веселилась, чистя и скобля медную посуду, обручи бочек для воды, субботние подсвечники и полы. В мытье полов она вкладывала столько сил, что полы сверкали белизной. На стенах она развесила всякие вышивки: изобразила, например, как Авраам ведет Исаака на заклание, как братья продают Иосифа измаильтянам. Из соломы она плела корзиночки, которыми тоже украшала стены. Одно огорчало отца: Фрейдл не желала выходить замуж за ешиботника, как он того хотел, зато частенько останавливалась у колодца поболтать, пошутить и посмеяться с подмастерьями. В субботу днем она посыпала отдраенные полы песком, ставила на стол большую тарелку тыквенных семечек и приглашала всех дочерей ремесленников к себе на кухню потанцевать. При Мойше-Мендле подмастерья побаивались танцевать с девушками и потому стояли у двери, лузгали семечки и с наслаждением смотрели, как девушки танцуют друг с другом.
А мы с Носном сидели, спрятавшись, в уголке, и оттуда глазели на девичьи польки, вальсы и шеры[377]. Носн, веснушчатый и застенчивый, готовый залиться краской, скажи ему только слово или даже посмотри на него, рассказывал мне всякие невероятные истории о своих многочисленных дядьях, тетках, двоюродных братьях и сестрах, об их свадьбах, помолвках, романах, ссорах, делах с мужиками, бедах и радостях. Еще он знал множество историй о разбойниках, ведьмах и звездочетах. Мои папа и мама меня постоянно пилили за дружбу с этим Носном:
— Какой смысл шататься с пустым мальчишкой? — никак не мог понять мой отец.
Я не мог объяснить ему этого. Как не мог объяснить, например, зачем кататься на коньках. Но я готов был отдать весь мир за этого рыжего, вечно краснеющего Носна. Мы, бывало, шли мимо деревень, останавливались у ветряка с залатанными крыльями, пробирались к Висле, по которой крестьяне гнали плоты, смотрели на барский двор судьи Христовского, до заката шлялись среди деревьев и холмов. Окна деревенских хат в зареве заката сверкали червонным золотом. Осколки стекла в песке переливались, как драгоценные камни. Мы катались по земле, бегали, гонялись друг за другом — просто так, ни для чего, от избытка молодых сил, которые распирали наши легкие мальчишеские тела.
— Царь Бочан[378], гнездо горит! — кричали мы аистам, которые парили в небесной синеве.
Еще больше я оживлялся, когда в нашем местечке происходили «отпусты»[379] (святые для католиков дни, называемые так потому, что попы отпускают грехи верующим), ярмарки и мобилизация лошадей.
«Отпусты» выпадали на лето, и тысячи крестьян со всей округи стекались в местечко к костелу и там, под открытым небом, распевая и крестясь, преклоняли колени и просили прощения за свои грехи. Сразу после молитв, чистые как агнцы, они отравлялись пьянствовать, плясать и драться из-за жен и невест. Для евреев местечка мужицкие святые дни были источником заработка. В лавках от покупателей не было отбоя. Сапожники выкладывали на прилавок башмаки, портные — крестьянские рубахи, штаны и кафтаны. Бедняки, а также женщины и дети выставляли столы с пряниками, конфетами и прочими лакомствами; иные разносили бутылки кваса. В двух мужицких шинках крестьяне со своими девками танцевали краковяк и мазурку, стуча подкованными сапогами так, что аж дома тряслись. Девки визжали и смеялись.
Ярмарки в нашем местечке бывали четыре раза в год. На них к нам съезжались евреи — торговцы и перелицовщики — со всех окрестных городов и местечек: из Нового Двора, Закрочима, Червинска[380], Блоне[381], Сохачева и даже из далекого Вышегрода. Сапожники и шапочники, скорняки и портные, торговцы скотом, барышники и мясники, продавцы тулупов и скупщики щетины; стар и млад, бородатые мужчины и подмастерья в коротких пиджаках, женщины, девушки — все съезжались в будах и повозках, быстро расставляли свои столы и прилавки на рынке, дрались и ссорились из-за каждого клочка земли, из-за хазоки[382], из-за места. Все старались занять место с вечера, а потом сидели на захваченных позициях до утра, до открытия ярмарки. При этом торговцы осыпали друг друга бранью, прозвищами, припоминали друг другу родословную. Каждый приезжий держался своих земляков. Допекали в основном вышегродцев, которые говорили на немецкий манер[383] и каждое слово заканчивали на «хе»[384].
— Эй, вышегродские эхе-мехе-дехе! — смеялись закрочимские перелицовщики над вышегродцами за их онемеченный идиш.
— Вышегродские лукоеды — дым столбом! — дразнились новодворские шапочники.
Считалось, что в Вышегроде хозяйки жарят так много лука, что над местечком поднимается дым…
Вышегродские, со своей стороны, не уступали обидчикам и смеялись над их местечками.
Кто-то укладывался на мешках и спал под открытым небом. Кто-то жег костер, чтобы согреться в холодную ночь. На рассвете, с первым лучом зари, приезжие евреи торопились в бесмедреш, наспех набрасывали свои или одолженные талес и тфилн и наскоро молились. По всем дорогам тянулись крестьяне: зажиточные — на телеге, к которой сзади была привязана корова, бедные — пешком, со свиньей, которую тащили на веревке. Бондари с новыми ведрами, лоханями, корытами и бочонками; торговцы свининой с кишками; нищие, обвешанные четками, крестами и «Йойзлами»; крестьянские бабы с курами и яйцами в кошелках; музыканты с волынками; веселые еврейские старьевщики с тележками, полными тряпья, костей и игрушек[385]; фокусник; вожатый с обезьянкой; продавцы горшков и решет — все по разным дорогам тянулись в местечко. Торговля кипела. Еврейские лавочники зазывали покупателей, мужики и бабы торговались, били с лавочниками по рукам, коровы мычали, лошади ржали, свиньи визжали, куры и гуси квохтали и гоготали, музыканты играли, пьяные пели, девки смеялись. Все ходило ходуном от жизни и движения.
Время от времени между пьяными крестьянами вспыхивали драки и они принимались разбивать друг другу головы дрючками и «клоницами», жердями, которыми закреплены тележные доски. Но местечковый стражник, носивший смешное прозвище Капенос, то есть «нос, из которого капает», с несколькими деревенскими стражниками утихомиривал драчунов своей шашкой. Во время любой крестьянской драки перепуганные еврейские торговцы начинали запаковывать товар: боялись, что вот-вот «начнется». Но вскоре снова все распаковывали и торговали дальше…
Источником дохода для местечка была и мобилизация лошадей. Раз в год было положено приводить всех лошадей на комиссию: проверяли, годны ли они к строевой службе в случае войны. Крестьяне приводили тысячи лошадей на комиссию, которая состояла из сохачевского начальника и нескольких кавалерийских офицеров. Ржание слышалось издалека. Крестьянин, чьей лошади ставили на круп печать в знак того, что она признана годной, гордился этим и смеялся над соседом, чья тщедушная кляча была забракована. Мужики, хозяева забракованных лошадей, страшно этого стыдились, в отличие евреев, которых не очень трогало, если их лошадок не признавали годными. Во время этих мобилизаций тысячи съехавшихся крестьян тратили в местечке немало денег, а еще они пили и плясали в мужицких шинках и съедали кучу свинины. Наш сосед Пясецкий, толстый белокурый мужик, курносый, с маленькими глазками и жесткой щеткой льняных волос — он и сам был похож на свинью, — в эти дни закалывал великое множество свиней. Видимо, ему страшно нравилось колоть свиней, забивая их, он причинял им невероятные мучения. Он их резал и жег живьем, устраивал какие-то оргии со своими ножами и топорами, так что визг убиваемых животных разносился по всему местечку. Мой папа, слыша это, ходил бледный от жалости к несчастным животным, тварям хоть и нечистым, но все-таки Божьим.
— Ой, батюшки, когда же, наконец, кончится эта грязь! — бормотал отец, слыша душераздирающие вопли хрюшек и звуки распутных песен и плясок пьяных мужиков и баб.
После «отпустов», ярмарок и мобилизаций лошадей в местечко приходили еврейских нищие и требовали щедрого подаяния у обывателей, которые только что неплохо заработали. Время от времени в местечке появлялся возок «внука»[386], странствующего мелкого «бабского» ребе. Возком правил балагола, заодно выполнявший обязанности шамеса. «Внуки» всегда подъезжали к нашему дому, чтобы нанести визит раввину. Мама, родившаяся в миснагедской семье, посмеивалась над этими мелкими ребе в сподеках, с длинными пейсами и в шелковых жупицах, невеждами, которые выдавали себя за чудотворцев и праведников. Но папа принимал их с почетом: как-никак потомки святых людей, «внуки» великих цадиков, ведь все они утверждали, что происходят от Бешта[387], Козеницкого магида[388] или Святого Еврея[389]. Они с удовольствием пили чай, которым их потчевала мама, а в процессе чаепития высчитывали ее невероятную родовитость, как с отцовской, так и с материнской стороны, и жаловались на свою долю: хасиды, дескать, к ним не ездят, они сами вынуждены ездить к хасидам, таскаться по всему свету. Вечно у них были претензии к другим отпрыскам своей династии, которые захватили власть и наследственный титул «деда», а они остались на бобах и вынуждены скитаться по свету.
— Ой, раввин, скверная это вещь — таскаться в кибитке, — вздыхали они. — Вечно ты бездомный, без жены и без детей, и заработков тоже нет. Все уходит на лошадку и на шамеса, не рядом будь помянут…
Шамесы, люди маленькие, оставались во дворе при исхудавших лошадках своего ребе, клали им в торбы сено и, как и подобает священнослужителям, говорили, вставляя в речь слова на «святом языке», но так, что только демонстрировали этим свое невежество.
— Ребецин, я бы желал омыть руки, — просили они, что по-простому значило: есть хочется[390].
Конечно, хасиды в местечке и смотреть не хотели на этих мелких цадиков для баб и простаков, но женщины и ремесленники как раз уважали таких простых ребе, приходили к ним за благословением и покупали у них всякие амулеты, заговоренные корешки, «дьяволову кожу»[391], святую траву, которую те называли красивым словом «иссоп»[392], волчьи зубы, заговоренный янтарь, елей, медные трехгрошовые монеты и тому подобное. Шамес, он же балагола, отводил женщин к цадику, чтобы тот благословил их самих и их детей. Он упаковывал проданные по дешевке священные предметы и собирал «выкупы»[393]:
— Женщина, с вас дважды «хай»[394], и ни копейкой меньше, — заявлял он. — И мне что-нибудь прибавьте, а вам за это Бог поможет.
Мелкий ребе таращил глаза, корчил гримасы и на месте изготовлял амулеты: писал их гусиным пером и чернилами для свитка Торы на клочках пергамента. Эти амулеты он клал в маленькие красные мешочки и наказывал своим хасидам и их женам носить их на шее не снимая и ни в коем случае не открывать…
Среди женщин, которые приходили к мелкому ребе, были жены хасидов и ученых людей. Мужья их обычно не пускали, но жены украдкой пробирались к «внукам» и изливали им все свои сердечные горести. Они не хотели мириться с тем, что мужья испрашивают для них благословения у своих великих «добрых евреев». Им хотелось, чтобы у них были собственные цадики, которые понимают женское сердце. Нередко им потом доставалось от мужей за веру в этих цадиков, разъезжающих в возках…
Большой поклонницей «внуков» была Цирл, жена торговца мануфактурой Рефоэла. Эта Цирл, высокая, красивая, румяная женщина, никак не могла родить своему Рефоэлу ребенка и потому все время ездила к разным цадикам в надежде добиться помощи. Из-за того что у нее не было детей, она чувствовала постоянное унижение, хотя была богата. Она вечно краснела, стыдясь своего бесплодия, боялась смотреть людям в глаза, особенно мужчинам. Цирл буквально осыпала золотом «внуков» за их благословения, амулеты, советы и снадобья. Она до дрожи боялась, что муж с ней разведется, как того требует закон[395]. Однако долгие годы Рефоэл, ее муж, с ней не разводился. Он, видимо, любил ее, эту яркую рослую женщину, и, вместо того чтобы развестись, снова и снова ездил вместе с ней ко всевозможным цадикам. Когда ничего не помогло, они развелись, и оба при разводе горько плакали. Интересно, что после оба вступили в брак, он женился на другой, она вышла замуж за другого — и у обоих были дети.
Все «внуки» знали про этих бездетных состоятельных супругов, которые долгие годы не хотели разводиться и были рады все отдать за долгожданное дитя. Мелкие ребе готовы были приезжать в наше местечко уже ради них одних. Цирл платила им золотом, а не медяками. Даже Рефоэл, ее муж, несмотря на то что сам ездил к какому-то важному «доброму еврею», давал «выкупы» мелким ребе — может, они добьются чего-нибудь у Небес.
Один такой мелкий ребе как-то раз подарил мне амулет в награду за то, что я показал ему дорогу к микве.
— Носи, не снимая, даже когда ложишься спать, — наказал он мне, — но, не дай Бог, откроешь: опасно…
Разумеется, как только «бабий» цадик уехал в своем возке, я тут же открыл этот амулет — и прочел несколько строчек длинных непонятных слов на языке Таргума: фантастических имен всяких ангелов, чертей и духов. Ниже была прописана целая строчка букв: «полные» шин[396], «длинные» нун[397] и «закрытые» мем[398]… Я, придя в гости к моему другу Носну, подарил этот амулет его матери Мирл, жене Мойше-Мендла. Мирл была ужасно рада.
— Приходи к нам в сад, мы у попа арендовали, — сказала она. — Там яблок и слив — ешь сколько хочешь. Мой Носн тоже там.
Я не заставлял долго себя упрашивать и стал часто ходить в поповский сад, который Мойше-Мендл арендовал почти каждое лето, так как у него была хазока на эту аренду.
Если на лето мы не уезжали к деду, я пропадал в садах вокруг местечка.
Сразу же после Пейсаха многие ленчинские евреи отправлялись к соседским мужикам-садоводам и арендовали плодовые сады. Аренда происходила на глазок: будущий урожай оценивали по цветению деревьев. Если погода была хорошей и плоды не червивели, то можно было скопить на зиму несколько сотен злотых. Но если урожай был плох, то тяжелая работа летом не приносила никакого вознаграждения, а иногда была даже в убыток.
Из-за этих садов к нам домой частенько приходили судиться: один обвинял другого в том, что тот перехватил аренду у помещика или попа, на которую у первого была хазока. Мой папа вечно стыдил тех, кто пытался захватить участок соседа. Садовники подписывали у моего отца «купчие»[399], в которых «продавали» свои сады Шмидту-шабес-гою, чтоб крестьянские девки могли собирать в них фрукты по субботам. Как только на деревьях появлялись плоды, садовники переезжали в сады. Посередине сада устраивали нечто вроде шалаша, соломенную крышу, поставленную прямо на землю. В этом шалаше ставили кровати, вешали на гвоздь мешок с талесом и жили несколько месяцев, пока не заканчивали собирать урожай. Готовили на улице на костре.
Хотя хасиды и порядочные люди в местечке садами не занимались, Мойше-Мендл-мясник, несмотря на то что он терся среди хасидов, каждый год все-таки арендовал сад. Ему нужны были дополнительные заработки — полон дом едоков. А для меня начиналось счастливое время: я лежал с Носном в саду, ел фрукты прямо с дерева, помогал собирать вишню, складывать фрукты в корзины и бочонки, которые повезут в Варшаву на рынок. Еще лучше, чем дни, были вечера в саду. Мальчики Мойше-Мендла ходили по саду — стерегли его от воров: они свистели и перекликались, а эхо далеко разносило голоса. Фрейдл с подружками, которые нанимались собирать фрукты в ее саду, пели в бархатной черноте ночей грустные песни о любви. С неба падали звезды, блестели огоньки деревенских хат, лаяли собаки. Я сидел в большом поповском саду — и меня переполняло ликование. Я только не хотел целовать попу руку, как это должны были делать дети садовников-арендаторов, и прятался всякий раз, когда поп в своем длинном черном одеянии с медным крестом появлялся в саду. Часто за попом шла толстая смешливая баба. Это была его служанка, или, как ее называли, «господыня»[400]. Носн рассказывал мне всякие неприглядные вещи про эту толстую бабу, которая живет в одном доме с католическим «порушем»[401], которому не положено жениться…
Если мне становилось скучно у Мойше-Мендла, я уходил к другому приятелю — Гершлу, сыну Йойносна-портного, который тоже жил в саду в ближней деревне. Вместе со мной приходил еще один мальчик, Йойл, его отец держал бакалейную лавку и был стекольщиком, поэтому у Йойла карманы были полны сахарными пряниками в форме человечков и лошадок, которые он таскал из отцовской лавки, и кусками оконной замазки. Из этой замазки я лепил человечков и зверюшек. Кроме того, мы лепили фигурки из глины, которым вместо глаз вставляли жуков и божьих коровок.
За несколько часов, проведенных в садах, мне приходилось дорого платить — выслушивать папины поучения и, что еще хуже, жесткие и логичные отповеди матери: она ругала меня за то, что я веду себя не по-людски и что из меня вырастет только какой-нибудь Ичеле-Шмуэл, сын Фани[402]. Но стоило вытерпеть любые нравоучения за светлые, славные дни в садах, за темные бархатные ночи, расшитые миллионами звезд, — в их блеске я ощущал тайну мира, жизни и существования.
Хасид поздравляет моего отца со смертью доктора Герцля Пер. И. Булатовский
Через несколько лет после того, как двое ее детей умерли в один день, мама произвела на свет новое потомство. Сперва — одного мальчика, а через пару лет — другого. В первом случае роды были тяжелыми, и мой отец пошел в бесмедреш читать псалмы. Я последовал было за отцом, но по дороге мной овладело дурное побуждение, и, вместо того чтобы идти молиться, я по его воле направился к своему новому приятелю — псу Бритону.
Как большинство еврейских мальчиков из благочестивых семей, я дрожал при виде собак, которых считал врагами Израиля. Наравне с крестьянскими мальчишками собаки не выносили вида длинных еврейских пол, и я был уверен, что собачья ненависть к евреям — вечная, передаваемая из рода в род, ведь еще тогда, когда народ Израиля выходил из Египта, собаки не лаяли только потому, что Бог сотворил чудо: как сказано в Хумеше: «Не пошевелит пес языком своим»[403]. Да, я боялся вечно враждебных Израилю и дружественных гоям четвероногих. Однако при этом меня неодолимо тянуло к собакам. У моего ровесника Анатоля, сына нашего соседа, фельдшера Павловского, была собака, с которой он часто играл. Он научил свою собаку стоять на задних лапах, подавать переднюю и прочим подобным премудростям. Еще он мог засунуть пальцы этому псу чуть ли не в горло, а тот его не только не кусал, но, наоборот, норовил лизнуть. Я был готов полжизни отдать ради того, чтобы у меня тоже был такой четвероногий друг. И в то же время даже сама мысль об этом пугала меня.
И вот однажды, где-то за местечком, ко мне подошла собака.
В первое мгновение, завидев большого, коричневого, лохматого пса, который направлялся ко мне, я решил убежать. Однако по опыту я знал: ничто так не раззадоривает собаку, как погоня за еврейским мальчиком, который от нее убегает, и поэтому, черпая мужество в собственном страхе, потихоньку продолжил свой путь. Пес пошел следом. Видя, что опасность велика, я попытался защитить себя стихом из Писания.
— Ло ехерац кедев лешойной[404], — бормотал я, поскольку меня научили произносить это заклинание при встрече с собакой.
Однако пес, судя по всему, не знал этого стиха и не отставал от меня ни на шаг. Вдруг он раскрыл пасть, показав острые зубы и розовый язык. Я был уверен, что он собирается схватить меня за длинную полу моего холщового халата, но пес только полизал мои ноги. Его глаза были полны покорности мне, еврейскому мальчику, будто я вовсе и не был сыном Израилевым. Не знаю, какое чувство во мне было сильнее — любовь к собаке или страх перед ней, однако я рискнул жизнью и погладил пса по голове. Он прильнул ко мне с такой радостью и страстью, что едва не сбил меня с ног.
С тех пор пес не отходил от меня. Его, наверное, кто-то бросил. Бездомный и голодный, он искал пищу и хозяина. Когда я, крадучись, вынес ему на улицу хлеб, он лизал мне ноги и скулил, чтобы я пустил его внутрь; однако я не отважился привести собаку в наш раввинский дом. Я дал ему имя Бритон, как звали многих собак в округе.
Когда моя мама рожала, Бритон ждал за дверью. Он скулил, прося впустить его. Меня так растрогал вой Бритона, что я пустил его в наши сени.
Не помню, как долго мама мучилась родами, зато помню, что никогда больше в детстве на мою долю не выпадало таких счастливых часов. Я учил пса стоять на задних лапах и здороваться со мной передней лапой. Эта лохматая лапа и свисающие уши были мягкими, как бархат, и теплыми. Через некоторое время я отважился засунуть свою руку в большую, дрожащую собачью пасть. Собачьи зубы прикоснулись к моей руке нежно и осторожно, не оставив ни царапинки на коже. Розовый язык слюнявил мои пальцы. Кто знает, сколько еще продолжались бы эти взаимные нежности, если бы дверь вдруг не отворилась и на пороге не показался мой отец, окруженный миньеном обывателей, которые вместе с ним читали псалмы до тех пор, пока на свет не появился мой брат.
Бритон тут же бросился на бархатную жупицу моего отца, питая, как все собаки, особую ненависть к длинным еврейским полам. Отец окаменел от страха.
— Ой-ой-ой, — пролепетал он, пятясь, — прогоните собаку!
Я бы, разумеется, прогнал моего лохматого друга, если бы до этого не привязал его к двери сеней, как обычно мужики привязывают собак в деревне. Я начал торопливо отвязывать собаку, но руки дрожали, и веревка еще больше запутывалась. Отец смотрел на собаку с отвращением, но едва ли не с большим отвращением он смотрел на меня, собачьего друга.
— И так ведет себя мальчик, который уже учит Гемору? — спросил он. — Вместо того чтобы читать псалмы ради матери, ты привел в дом собаку, чтобы с ней играть?
Обыватели стали качать головами.
— Красиво, нечего сказать, — говорили они, — подходящее время нашел…
Бритон скулил, когда я выгонял его. В его глазах застыли недоумение и стыд. У меня был вид не лучше, чем у него. Моя репутация в местечке упала предельно низко.
Вскоре я притащил в дом нечто похуже собаки — оспу. Один из моих приятелей заболел оспой. Я решил навестить его и играл с ним в пуговицы около его кровати. В тот же вечер у меня начался жар. Вслед за мной температура поднялась у моей старшей сестры и маленького братика Ичеле[405], рыжеволосого младенца. Фельдшер Павловский сказал, что это оспа, и не ветряная, а настоящая. Моя мама, напуганная несчастьем, случившимся с двумя ее дочками несколько лет назад, велела привезти врача из Закрочима, сколько бы тот ни запросил. Врач прогнал всех мужчин и женщин, которые собрались у нас в доме, открыл настежь окна, которые были плотно закрыты — не дай Бог сквозняк! — и сказал мне на смеси польского и еврейского:
— Покажи животик, сорванец! Высунь язычок, так…
Он выписал рецепт, взял несколько рублей двумя пальцами, как будто ему было совестно брать эти деньги, и велел мне, погрозив пальцем, не расчесывать оспины, иначе я стану рябым и никто за меня не пойдет.
Я был готов вообще никогда не жениться, лишь бы только чесать и чесать свою покрытую оспинами и горевшую адским пламенем кожу. Мама сидела рядом с моей кроватью, держала мои руки и просила:
— Не чешись, дитя мое, а то станешь рябым, как Йойносн-портной…
Через несколько недель кожа с меня слезла, отшелушилась с ног до головы. Встал я с постели уже с новой кожей. Отец снова запряг меня в ярмо Торы и стал учить меня сам — причем трактату «Авойде-зоро»[406], содержащему законы об идолопоклонниках, их божках и прочем подобном. Непонятно, зачем я учил законы об идолопоклонстве, но мой отец был тогда захвачен этим трактатом, он придумывал все новые толкования и даже краснел от удовольствия, когда делился ими со мной. Толкования не лезли мне в голову. Солнце заманивало меня в свои сети.
Во время одного из таких уроков, как раз на главе «Кол-гацломим»[407], отворилась дверь, и вошел Трейтл-мануфактурщик, высокий, худой человек, с причудливо раздвоенной черной бородой: один конец — длинный и кудрявый, а другой — короткий и гладкий. Трейтл-мануфактурщик сиял от радости и громко сказал:
— Мазл-тов, ребе!
— С чем вы меня поздравляете, реб Трейтл? — спросил его отец.
— Доктор Герцль[408] помер! — ответил реб Трейтл, прибавив к фамилии Герцля неприличную рифму.
Отец скривился от неприличного слова и пожелал узнать, о ком это говорит реб Трейтл.
— Кто такой доктор Герцль? — переспросил он.
— Один выкрест, который хотел выкрестить всех евреев, — разъяснил реб Трейтл, — да не успел.
— Хвала Всевышнему, — возблагодарил Бога мой отец и закончил стихом «ваавойд решоим рино»[409], то есть «когда погибают нечестивцы, должно петь…».
Как только реб Трейтл вышел, отец продолжил учить со мной «Авойде-зоро». После урока я побежал к богачу реб Иешуа, чтобы рассказать его внуку из местечка Лешно новость о докторе-выкресте, который хотел выкрестить всех евреев. Мальчик из Лешно стал клясть Трейтла последними словами.
— Доктор Герцль хотел вывести всех евреев в Землю Израиля, — сказал он мне. — Пойдем, покажу тебе его портрет.
В книжечке на святом языке, где были всякие рисунки, был изображен человек с непокрытой головой, но с большой красивой бородой. Ниже было написано его имя — «Д-р Герцль». Человек с бородой сразу же завоевал мое уважение и симпатию. Внук богача рассказал мне много интересного о докторе Герцле и даже научил меня песенке на святом языке, которая начиналась словами:
Хедер катан, цар вехамим, веаль гакира эш,
Шам гаребе эт талмидим море алеф-бейт…[410].
Хотя у песенки было мало общего с доктором Герцлем, я усмотрел между ними некую связь и с тех пор думал не переставая о человеке с красивой бородой, который хотел вывести евреев в Землю Израиля.
Вскоре другие фигуры встревожили мое и без того беспокойное детское воображение.
Как-то раз днем, когда козы дремали на улицах, а евреи — в своих лавках, на дороге поднялась пыль и из ее клубов показались несколько повозок, битком набитых странными людьми, появления которых никто не ожидал. Вид у них был городской: высокие, тесные воротнички, жесткие шляпы, бритые бороды, усы. Один из них играл на губной гармошке, у другого за пазухой было два голубя, выглядывавших из-за отворотов куртки. Двери и окна лавок и домов распахнулись, мужчины, женщины и дети высунули головы, удивленно таращась на загадочных господ. Еще сильнее было всеобщее удивление, когда эти господа начали заговаривать с женщинами и девушками по-еврейски.
— Шан вабел[411], поцелуйте меня, — говорили они на раскатистом варшавском идише.
Я, разумеется, сразу же оказался на улице вместе с другими мальчиками. Мы разглядывали весельчаков, которые обступили лавки, покупая папиросы и заигрывая с продавщицами.
— Глядите-ка, они евреи! — не верили мы своим глазам.
От слуг помещика мы узнали, что их хозяин привез этих людей из самой Варшавы, чтобы они расписали стены и потолки бесчисленных залов его дома. Они также подновят в костеле святые картинки, которые осыпались от старости. Все это время приезжие будут жить у «вельможи» на полном довольствии. Обыватели переглянулись. То, что эти евреи будут есть у помещика трефное, и более того — что они будут малевать «Йойзлов» в «тифле», вконец расстроило ленчинцев. В тот день они молча, понурив головы, шли в бесмедреш на минху-майрев и молились безрадостно.
С тех пор как в местечко приехали чужаки, мальчики стали прогуливать хедер. Я совсем забросил Гемору, часами околачивался возле помещичьего двора и сквозь щели высокой деревянной ограды наблюдал за чужаками и их работой. В шапках, сложенных из бумаги, в заляпанных краской штанах они ползали по лесам — и на стенах появлялись ручейки, мельницы, деревья, пастухи с дудочками, танцующие девушки с распущенными волосами. Разноцветные, причудливые, невиданные птицы вылетали из перепачканных краской рук и садились на своды. С детства я любил рисовать человечков. Я рисовал их мелом на стенах и пером на титульных листах книг, а зимой выцарапывал ногтем на заиндевевших стеклах. Из глины я лепил всевозможных болванчиков и зверей. Поэтому-то мне было глаз не отвести от людей, которые рисовали такую красоту. Они меня не прогоняли, а только весело подмигивали и смеялись.
— Эй, Иче-Маер, у тебя есть красивая сестренка?
Я смущался и краснел.
Пели чужаки так же слаженно, как работали. Песен они знали множество.
Тот, у которого были голуби за пазухой, поспевал всюду: критиковал, требовал переделать. Со своими голубями он не расставался ни на минуту: то они выглядывали у него из-за пазухи, то, когда ему нужно было освободить руки, сидели у него на плечах. Отцы отвешивали оплеухи мальчикам и девочкам, вертевшимся около чужаков, запирали детей дома, грозили геенной за то, что они подходят к выкрестам. Ничего не помогало. Как огонь привлекает мотыльков, хотя они могут опалить свои крылышки, так и приезжие привлекали детей. Папам и мамам оставалось только вздыхать и перешептываться.
Однажды жарким, ясным днем, когда солнце ушатами лило золото на крыши и деревья, нагрянул сохачевский начальник с целой командой вооруженных полицейских. Он шел впереди своей команды быстрым военным шагом. Полицейские держали в руках длинные шашки. За ними следовали солтысы[412] — крестьянские старосты с бляхами на груди и кольями в руках. Начальник отдал приказ. Полицейские и крестьяне быстро окружили двор помещика Христовского. После этого начальник вытащил саблю и парадным шагом вошел во двор. Полицейские следовали за ним. Солнце весело играло на обнаженных саблях и лакированных сапогах начальника. Начальник что-то прокричал работавшим на лесах людям и махнул шашкой. Полицейские зашумели и набросились на чужаков. Вскоре двое полицейских вывели старшего, того, что подновлял в костеле Йойзлов. Он шел лениво и молчал. Как вдруг обеими руками схватился за отвороты своей куртки и резко распахнул ее. Начальник в испуге отпрянул. Заляпанный краской человек громко рассмеялся. Из его куртки вылетели два голубя, белых, посеребренных ясным солнцем. Полицейские стали связывать чужакам руки крестьянской веревкой, а потом связали их попарно друг с другом. Когда все было готово, они окружили связанных. «Солтысы» с кольями пошли по бокам. Начальник маршировал впереди. Солнце по-прежнему играло на его лакированных сапогах. Чужаки шли ровным строем. За ними ехали несколько повозок с их вещами и сундучками. Рядом с лавками стояли и шушукались перепуганные мужчины и женщины. От «солтысов» они узнали, почему чужаков ведут связанными.
— Их закуют в цепи, — шептались обыватели, — они говорили против царя…
Из-под ног связанных людей поднималась пыль, которая шла впереди колонны как вожатый. Прямо над их головами кружили два голубя, чьи крылья, посеребренные солнцем, сопровождали людей, уходивших по пыльной дороге.
— Так им и надо, этим поганцам! — приговаривали благочестивые обыватели.
Я еле сдерживал слезы, душившие меня, и долго еще смотрел вслед уходившим людям, которые растревожили мою детскую душу и поселили в ней беспокойство. Еще в течение многих дней после этого события я, к удивлению и досаде моего отца, был не в состоянии понять даже простейший лист Геморы. Я не переставая думал о человеке с красивой бородой, хотевшем вывести всех евреев в Землю Израиля, о чужаках, которых закуют в цепи за то, что они говорили против царя.
Вскоре я узнал обо всем этом подробнее.
Однажды к нам домой неожиданно приехал один литвак в коротковатой одежде и широкополой «фоняцкой» шляпе. Человек этот говорил по-литвацки и прибыл из-под Гродно[413]. Почему он оказался в Ленчине, я уже не помню. Зато запомнил его одежду и шляпу — так, на немецкий манер, у нас одевались только клезмеры и лекари. Он привез с собой мальчика, одетого в курточку и брюки, выпущенные поверх ботинок, и сказал моему отцу, что хочет оставить у него этого мальчика в короткой одежде, чтобы отец учил его Торе. Кроме того, литвак договорился с моей мамой, что она обеспечит мальчику еду и ночлег, а также будет за ним присматривать. За все это литвак будет платить нам четыре рубля в неделю. Отец взял к себе литвацкого мальчика, но потребовал от литвака, чтобы тот снял со своего сына гойское платье и одел его по-еврейски. Литвак тут же попросил позвать портного и заказал для сына длинный халат, который должны были сшить в тот же день.
Литвак уехал, наказав перед отъездом своему сыну писать письма и учить Тору.
— Шайке, веди себя по-человечески, — сказал он. — Слышишь, Шайкеле?
Шайке обещал. Однако как только его отец уехал, стало ясно, что вести себя по-человечески Шайке не собирается. Во-первых, он не захотел надевать сшитый для него халат. Он насмехался над ним так же, как насмехался над всем и вся. Ничего ему не нравилось у польских евреев. Первые несколько дней он вместе со мной еще как-то учился у моего отца. Однако вскоре стал отлынивать от учебы и болтаться, где его душе было угодно. Шайке часто покупал в лавках сладости, всякие конфеты и пряники и объедался ими. Но больше всего этот парнишка любил рассказывать истории о силачах в своем литвацком местечке под Гродно. Из его историй выходило, что у них в местечке живут сплошь «самсоны» и что мужики не отваживаются показаться на еврейском рынке потому, что евреи-силачи сделают из них котлету. Мой отец не желал слушать эти фантастические истории и приказывал Шайке учить Гемору. Но Шайке не хотел даже заглянуть в Гемору и продолжал рассказывать мне всякую всячину о своей родине.
От него же я узнал о сионистах и социалистах, о забастовках и революционерах, которые стреляют в полицейских, в офицеров и даже в генералов и царей.
Я очень привязался к Шайке. Я смотрел в его горящие черные глаза, полные жизни, страсти и беспокойства. Я тайком примерял его курточку. Во время прогулок за местечком Шайке научил меня еврейской песне, каждый куплет которой заканчивался по-русски: «Гей, гей, гей, долой самодержавец из Расеи…»[414].
На одной их таких прогулок крестьянский мальчишка спустил на нас собаку. Я думал, что Шайке убежит, но он не убежал. С голыми руками он бросился на собаку и прогнал ее. Это еще больше возвысило его в моих глазах. Я готов был идти за Шайке в огонь и воду. Однако он исчез так же неожиданно, как появился. Шайке ни за что не хотел оставаться у нас и сбежал домой. Он оставил мне свой новый халат и маленький перочинный ножик, сделанный в форме сапожка, с множеством лезвий и штопором. Но главное, Шайке оставил в моем сердце беспокойство, тягу к чему-то большому, далекому и необыкновенному.
Вскоре это необыкновенное наступило. Началась война между русскими и япошками[415].
Кто такие эти япошки и где именно они обретаются, никто не знал. Однако было известно, что где-то далеко, за Горами Мрака[416], и что они сражаются с фоньками, среди которых, впрочем, есть и несколько ленчинских парней. Вскоре заговорили о том, что в армию будут забирать отставных солдат, жены которых тут же стали причитать и плакать. Среди крестьян тоже начались разговоры о том, что мужчин будут забирать на войну. На ярмарках стали распространяться слухи о восстаниях и мятежах, о бунте поляков, которые хотят вернуть себе польское государство. Во время одной ярмарки дело и вправду дошло до бунта. Крестьянский парень по фамилии Михалащак, который работал на фабрике в Варшаве, запел насмешливую песню про царя. Еще он стал высмеивать русских солдат и хвалить японцев. Кроме того, он сказал, что япошки называют свою страну Япан, потому что это значит «я — пан, и не позволю кацапам сесть мне на голову». Двое полицейских хотели арестовать его за оскорбление величества, но силач Михалащак сам набросился на них и сорвал с них эполеты и медали. Один из полицейских обнажил шашку, но Михалащак вырвал ее у него голыми руками. Несмотря на то что одна рука у него была порезана и кровоточила, Михалащак прогнал царских слуг. Затем он ворвался в здание суда и сорвал со стены двуглавого орла и портрет царя. Бросив портрет посреди улицы, он помочился на него и призвал крестьян, взяв топоры и вилы, идти за ним и прогнать кацапов из Польши.
Евреи сразу же разбежались от прилавков, закрыли наглухо ворота и двери и попрятались, боясь разбушевавшейся толпы. Михалащак кричал, что евреям не надо бояться, потому как теперь — «едношч»[417], то есть единство, а в его угрозах имеются в виду только кацапы. Однако евреи не покинули своих укрытий. Двое полицейских тоже скрывались на чердаке какого-то еврейского дома. Среди ночи они бежали из нашего местечка в Сохачев, переодевшись в еврейские капоты, а для того, чтобы не были видны бритые щеки, обвязали их носовым платком, будто от зубной боли.
На третий день явился сохачевский начальник с несколькими повозками стражников, вооруженных ружьями. Стражники повязали крестьян. Начальник сам бил бунтовщиков по лицу прямо посреди улицы.
— В цепи закую! — ревел он, топая лакированными сапогами. — Я вас предупреждал, что в моем уезде должно быть тихо!..
Некоторое время действительно было тихо, но недолго. Однажды утром зять богача Йойсеф Ройзкес узнал из своей «Гацфиры», приходившей по меньшей мере с недельным опозданием, о погроме в Белостоке[418].
Где находится Белосток, у нас никто не знал. Известно было только, что там живут литваки. Новости, напечатанные в газете, выходившей на святом языке, были ужасны. Йойсеф Ройзкес, сам литвак, перевел на идиш описание белостокских зверств, во время которых погромщики рубали топорами детей и стариков, вспарывали животы беременным женщинам. Молящиеся, слушавшие эти новости в бесмедреше, стояли бледные, перепуганные, а потом понуро расходились завтракать с мешочками для талесов в руках. Я был настолько потрясен этими страшными новостями, что не стал есть завтрак, который мама для меня приготовила. Я лег на зеленый сундук, стоявший у нас в доме, и стал клясть Бога, еврейского Бога, за то, что Он позволил гоям-злодеям сотворить такую неслыханную жестокость с евреями, со стариками и детьми, с женщинами и младенцами. Папа и мама, сами убитые горем, утешали меня, убеждали, что все это евреям за грехи, и если евреи будут ходить Божьими путями, Бог смилостивится над ними, потому что Бог добрый и справедливый.
— Нет, Бог плохой! — кричал я в муках. — Плохой!..
Папа и мама закрывали руками уши, чтобы не слышать этого богохульства.
Горькие вести стали приходить в местечко все чаще и чаще. Их приносили из Варшавы обыватели, которые покупали там товары. Даже мой отец стал одалживать трефную «Гацфиру» у зятя местного богача и читать плохие новости. Вечером, между минхой и майревом, мужчины сбивались в кучку, как стадо напуганных волком овец, и говорили о еврейских бедах и грядущих опасностях. Деревенские евреи рассказывали о волнениях в деревнях. Другие рассказывали, что кацапы, специально привезенные откуда-то из России, могут напасть на местечко. Ходили всевозможные ужасные слухи.
Как-то утром, когда собравшиеся на молитву хотели достать свиток Торы, они, к своему ужасу, увидели, что там не достает одного маленького свитка с латунными эцей-хаим[419] — по этому свитку обычно читали Тору по будням[420]. В бесмедреше поднялся крик. Всем сразу же стало ясно, что случилось что-то плохое. После нескольких часов поисков обнаружили, что латунный эц-хаим торчит из заболоченного пруда неподалеку от бесмедреша. В этом пруду плавали утки, а свиньи остужали свои распаренные жирные туши.
Свиток, словно утопленника, спешно вытащили из пруда. Все сбежались, как на похороны. Мой отец дрожащими руками взял перепачканный свиток и разложил его на непригодном талесе, расстеленном на биме. Свиток промок и испачкался. Пергамент пропитался гнилью и распространял дурной запах. Отец сказал над свитком «борех дайен га-эмес»[421], как говорят над усопшим. Все плакали. Отец велел положить свиток в гроб и похоронить на кладбище[422] в Закрочиме. В день похорон был объявлен пост. Все постились, в бесмедреше произносили слихес[423] и Вайхал[424].
Вскоре выяснилось, что сделал это сын крестьянина Грушки, свинопас, который кормил своих хрюшек неподалеку от бесмедреша. Однако, боясь крестьянских беспорядков, его не решились тронуть. Только пожаловались попу. Поп обещал, что он осудит свинопаса во время ближайшей проповеди в костеле.
В бесмедреше стали поговаривать о том, что наступают мессианские времена.
Люди не чинят крыши своих домов, потому что со дня на день придет Мессия Пер. И. Булатовский
«Мессия придет в 5666 году»[425] — такая весть стала распространяться повсюду. Эта мысль овладела мужчинами и женщинами, старыми и малыми. Во-первых, в погромах, революции и войне распознали «хевле-мешиех»[426], страдания, связанные с приходом Мессии. Во-вторых, видели знаки: красные всполохи в ночных небесах, которые предвещали не что иное, как пришествие Мессии. В-третьих, было ясно как дважды два, что война между Россией и Японией — это на самом деле война между Гогом и Магогом[427], которая должна разразиться прежде, чем придет Мессия. В-четвертых, и в стихах Торы, и в толкованиях Геморы было множество намеков на 5666 год, как на год избавления. Величайшим специалистом в отыскивании подобных намеков был мой отец. Стоило ему прикоснуться к какой-нибудь книге — к Торе, Геморе, Зогару или любым другим каббалистическим книгам, он повсюду находил и вычислял согласно гематриям, что Мессия придет в 5666 году. Отец, легковерный энтузиаст, сиял от радости, рассказывая маме о новых обнаруженных им намеках, в которых не может быть ни малейшего сомнения. Мама, выросшая в миснагедской семье, не возражала ему, но ее большие, серые, проницательные глаза охлаждали отцовский пыл. Поэтому отец бежал в бесмедреш, чтобы там рассказать о своих очередных открытиях.
— Люди добрые, ясно как Божий день, что конец времен близок, — говорил он, предъявляя стихи и толкования, которые, как ни пересчитывай, как ни читай, хоть задом наперед, указывали на 5666 год. Знатоки Торы смотрели в книги и видели воочию, что это так и есть. Простые люди верили на слово.
Однажды Мендл-большой вернулся из Гера и рассказал, что сам герский ребе упомянул о приближении Мессии. Случилось это так: одного из самых преданных ребе хасидов, человека ученого, забрали в русскую армию и послали на японский фронт. Хасид ни разу не притронулся к горячей пище, сидел на хлебе и воде, чтобы не есть трефного. Однако это было еще не все. Когда этот молодой хасид пал на поле боя, обнаружилось, что под солдатской одеждой он все это время носил тахрихим и талес, чтобы в случае гибели быть погребенным в святом одеянии. Какие-то солдаты-евреи, бывшие на фронте, передали это известие в Гер. Когда герский ребе услышал об этом, он заплакал и сказал, что «наступили времена Мессии»[428].
Какое именно отношение тахрихим этого хасида имел к Мессии, было не совсем ясно. Однако было достаточно того, что герский ребе так сказал. Эти слова ребе стали распространяться по всем еврейским общинам. Другие цадики тоже обронили слово-другое о конце времен. В поражениях русской армии на фронте тоже усматривали мессианские намеки. Прихожане нашего бесмедреша перестали учить Тору и торговать, они только и делали, что вели разговоры об избавлении. Утром, днем, но особенно вечером, между минхой и майревом, они сбивались в кружок и при тусклом свете керосиновых ламп, освещавших бесмедреш, толковали только об одном — о пришествии Мессии. Его ждали со дня на день, с минуты на минуту. Все постоянно к чему-то прислушивались, ловили каждый шорох, словно это был шойфер Мессии[429]. Некоторые так сжились с мыслью о скором избавлении, что совсем забросили свои дела, лавки и дома. Помню, как однажды вечером, между минхой и майревом, один из прихожан, Иешуа-стекольщик, сказал, что не будет чинить к зиме крышу своего дома, потому что ему жаль времени и денег.
— Все равно мы скоро вернемся в Землю Израиля. Чего же мне понапрасну забивать себе голову этой ерундой? — сказал он.
Только один человек, старый Берл, которому было, как говорили, уже далеко за восемьдесят, посмеялся над Иешуа-стеколыциком.
— Тебе еще не раз придется крыть крышу, прежде чем придет Мессия, — заявил старик. — Когда я был мальчиком, все кругом тоже твердили, что скоро придет Мессия, после чего я успел отслужить двадцать пять лет у фонек[430], а он так и не…
Но завсегдатаи бесмедреша не хотели ничего слышать.
— Что он понимает в таких вещах? — говорили они, досадуя на то, что старый Берл хочет лишить их надежды.
Люди были невысокого мнения о старом Берле. Из-за того что Берл двадцать пять лет служил у фонек, ученостью он похвастаться не мог: разве что умел молиться с грехом пополам. К тому же его белая борода была немного закруглена по краям, так что можно было заподозрить, что он ее слегка подстригает. Кроме того, старый Берл всегда потешался над тем шумом, который поднимали евреи, чьи сыновья должны были идти на службу к фонькам. Тоже мне солдаты! — поднимал он на смех тех, кому предстояло отслужить в армии всего-то четыре года[431]. Даже над русско-японской войной он смеялся, у него выходило, что это вовсе никакая не война и она не идет ни в какое сравнение с турецкой войной, на которой он, Берл, воевал и получил медали за свое геройство. Ко всему прочему у Берла был сын в Америке, о котором рассказывали, что он бреет бороду и ведет себя как гой. Фотография этого сына, и в самом деле без бороды и в гойской одежде, висела на стене в комнатке Берла. Из-за всего этого люди и слушать не желали старого николаевского «кашееда»[432], сомневающегося в скором пришествии Мессии. Все книги, все цадики, все «добрые евреи» говорили другое — и им было гораздо больше веры.
В том, что Мессия придет именно в 5666 году, никто не сомневался. Однако простые люди хотели знать, как именно Он придет, как именно все отправятся в Землю Израиля, когда именно воскреснут мертвые и какой именно будет жизнь в Земле Израиля. Обо всем этом они спрашивали моего отца. Весь разгоряченный, сияющий, мой отец в своих страстных речах расписывал все это собравшимся в бесмедреше жителям Ленчина. Ему не все было ясно с деталями пришествия, потому что в книгах встречалось много разных мнений на этот счет, и трудно было решить, чье мнение правильное. Некоторые считали, что с неба опустится большое облако, на которое усядутся все евреи и улетят в Землю Израиля. Другие полагали, что все окажутся там благодаря «кфицас а-дерех». Как бы там ни было, евреи окажутся в Земле Израиля в два счета. Разрушенный Храм, который стоит целехонек на небесах, тут же опустится в Иерусалим. Снова начнутся богослужения, снова будут коэны, левиты и жертвоприношения. Все праведники сойдут с небес на землю и будут восседать с коронами на головах, наслаждаясь светом Шхины[433], и вся Тора станет совершенно ясна каждому, не останется больше трудных вопросов, сомнений и разномыслия, потому что Бог, благословен Он, сам будет учить Тору с евреями.
Лицо моего отца пылало, его голубые глаза воодушевленно сияли в темном бесмедреше.
Я, слушая отцовские речи, был воодушевлен гораздо меньше. Простые люди тоже были не особенно воодушевлены. Измученные тяжелым трудом и бедностью, они хотели другого избавления. Они хотели мяса Шорабора[434], «вина сохраненного»[435], золота, серебра и драгоценных камней, калачей, растущих на деревьях, гойских королей, князей и принцесс, которые будут им прислуживать, и карет, и лошадей, и музыки, и пиршеств, и долгих теплых дней, каждый из которых будет тянуться тысячу лет[436]. Картина того, как праведники сидят и учат с Господом Тору, в которой нет ни трудных вопросов, ни сомнений, вовсе не была для них наградой за вечные муки и унижения изгнания.
— А что, ребе, никакого Шорабора, никакого «вина сохраненного», ничего вкусного совсем не будет? — спрашивали они разочарованно.
Мой отец, как и подобает человеку ученому, посмеивался над фантазиями простых людей, для которых главным было материальное, еда и питье, и успокаивал их.
— Разумеется, разумеется, будут всевозможные яства, — уверял он их, — но это будет ничто по сравнению с великим духовным наслаждением от лицезрения света Шхины. Нашими обычными чувствами не постичь, как велико будет это наслаждение.
Простые люди, и я среди них, вздохнули с облегчением. Я был готов отдать праведникам все их наслаждение от изучения Торы и лицезрения Шхины, только бы мне оставили возможность наслаждаться властью над несколькими слугами-гоями, которые будут меня бояться. За все годы унижений, которые я вытерпел от крестьянских мальчишек, за все их насмешки, за дразнилку «жид-жид-халамид», за все годы страха перед стражниками и начальниками мне очень хотелось превратить всех этих людей в моих слуг, чтобы они увидели величие народа Израиля. Кроме того, у меня руки чесались от желания отомстить тем злодеям, которые мучили стариков, детей и женщин в еврейских городах и местечках России.
Я был так захвачен пришествием Мессии, что думал об этом день и ночь. Качая в колыбели моего младшего брата, я представлял себе, что колыбель — это повозка, на которой сидят папа, мама, сестра и братик вместе с двумя умершими сестренками, которые восстали из мертвых, а я при этом — балагола, который везет их всех в Страну Израиля. Я так сильно раскачивал колыбель, что иногда даже опрокидывал ее и вываливал младенца на пол. Мама смотрела на меня своими большими серыми глазами и заявляла, что не иначе как я, вредитель эдакий, вовсе чокнулся… Моя сестра, такая же фантазерка и энтузиастка, как наш отец, еще больше распаляла мое воображение своими баснями, историями и мечтами о сладкой жизни, которая наступит тогда, когда шойфер Мессии будет звучать три дня подряд, разнося весть о том, что евреи возвращаются в свои пределы.
Как благочестивые евреи — в бесмедреше, так подмастерья собирались за местечком, судачили и ждали своего, совсем другого Мессию.
Еврейские лесоторговцы привезли в Ленчин несколько десятков молодых рабочих-гонтовщиков. За местечком для них построили длинные навесы, под которыми они стали пилить бревна, резать, строгать и шкурить гонт. Гонтовщики привлекли к себе местных подмастерьев, молодежь из портновских и сапожных мастерских, и начали отваживать их от еврейства. Ленчинские подмастерья бросили молиться, начали бриться, носить бумажные воротнички и манишки, украшать шляпы шелковыми лентами, укорачивать капоты до колена. Кроме того, гонтовщики собирались по субботам, пили пиво, танцевали и пели озорные песни. Еще они распространяли всякие книжки и листовки на идише. Среди песенок, которые они пели, была одна, высмеивавшая хасидов, которые радовались арестам забастовщиков. Я помню только один куплет из этой песни:
Сису ве-симху бе-симхастойре[437], Всех забастовщиков арестуют вскоре…[438].Вторая песенка была о самом царе:
Вчера он правил тележкой с углем, А нынче сделался польским царем, Вчера он правил тележкой дерьма, А нынче набиты его закрома…[439].Молодые гонтовщики все время распевали такие песни, так что ленчинские обыватели тряслись от страха, как бы чего не случилось с общиной. Гонтовщики шутили с девушками и уговаривали их пойти с ними погулять и потанцевать. Еще они устраивали всякие шалости и проделки. Как-то раз они одурачили одного деревенского еврея, торговца щетиной, глуповатого и забитого вдовца, сказав ему, что у них есть для него пара. Однако вместо невесты свели его с переодетым в женское платье юным гонтовщиком. Они дали одураченному торговцу прозвище Лейпцигская Невеста, которое к нему так и прилипло. В другой раз они вымазали чернилами белые платья нескольких ленчинских девушек из хороших семей, когда те со свечками стояли около хупы своей подружки. В третий раз дело кончилось бедой. Днем в субботу, когда у гонтовщиков была гулянка, один из этих шутников выбил из-под своего приятеля табуретку. Тот упал так неудачно, что сломал позвоночник и вскоре умер.
В нашем местечке приезжие гонтовщики настраивали против Бога и царя не только парней, но и молодых отцов семейств. Так они взяли в оборот одного благочестивого местного гонтовщика и так его «просветили», что молодой человек уехал в Америку, откуда прислал свою фотографию. На фотографии было видно, что он бреется. Вдобавок он не постыдился написать жене и детям, что работает по субботам. Но хуже всего было то, что его жена уехала в Америку к этому осквернителю субботы.
Безнравственность и распущенность распространились и среди мужиков, причем способствовал этому не кто иной, как владелец местечка, судья Христовский.
Дело было так. Этот помещик, вдовец, влюбился в Варшаве в одну цирковую артистку и женился на ней вопреки воле своей матери и других родственников, знатных шляхтичей. Циркачка привезла к помещику всю свою родню — сплошь таких же, как она, циркачей, а вместе с ними — всяких актеров и шутов. Народ этот любил дурачиться, устраивать разные штуки и безобразия. Они построили себе балаган со всякими цирковыми затеями и забавами, на которые приходили поглазеть крестьянские дети. Местный поп гневался на помещика Христовского и из-за его брака, и за то, что тот отваживает набожную молодежь от церкви, завлекая всякими фокусами и шутовством. Однако помещик-безбожник лишь посмеивался над поповскими проповедями и нравоучениями. Поговаривали также, что судья Христовский заодно с теми, кто выступает против царя, и поэтому привез тогда из Варшавы художников.
На ярмарках в местечке теперь нередко случались драки и вспыхивали бунты. Не обошлось и без смертоубийства. Один раз крестьянский парень зарубил топором своего отца за то, что тот, лесной сторож, не позволил ему украсть тележку дров. Совершив кровавое дело, убийца спрятался в картофельном погребе у себя во дворе. Потом еще какие-то крестьянские парни убили в лесу еврейскую семью. Ночью они залезли в дом учетчика реб Мойше Крука и топорами зарубили его вместе с женой. Это убийство повергло в ужас евреев в местечке и в окрестных деревнях… Все хорошо знали старого реб Мойше и его жену, тихих, спокойных людей, которые жили друг с другом как голубки. Убийц быстро поймали, потому что следы их сапог отпечатались в земле. Однако страх был так велик, что однажды, когда в местечке появилось несколько десятков работавших в соседнем форте русских рабочих в красных рубахах (их у нас называли кацапами), обыватели принялись заколачивать ворота и двери, решив, что началось… Лавочники, которые ездили за товарами в Варшаву, привозили невероятные вести о демонстрациях и баррикадах; о юношах и девушках, которые ходят с красными флагами и распевают песни против царя; о солдатах, которые закалывают людей на улицах; о деве в красном платье, которая стоит во главе всех бунтовщиков; о «заединщиках»[440], которые хоронят своих павших не в тахрихиме, а завернув в красное знамя; о безбожниках, которые говорят, что в человеке нет души, одно электричество, и когда оно заканчивается, человек умирает; о других безбожниках, утверждающих, что Мессия — это не потомок царя Давида, сына Иессеева, а доктор Герцль и что его люди поведут евреев в Землю Израиля.
Люди, слыша об этих страшных делах, еще плотнее жались друг к другу в бесмедреше между минхой и майревом. Из сумрачного дома Божьего доносились охи и вздохи. У моего отца не осталось сомнений в том, что Мессия придет в 5666 году.
— Люди добрые, это настоящие хевле-мешиех, — с надеждой говорил он. — В этом году, если на то будет воля Божья, мы будем избавлены.
Люди смотрели на каждое облако, как будто оно вот-вот прорвется посередине, и глас небесный возвестит из него о конце времен.
Омраченный Рошашоне: Мессия не пришел Пер. И. Булатовский
Наступил последний месяц 5666 года. Шойфер затрубил[441], но не шойфер Мессии, а шойфер, в который обычно трубил в бесмедреше реб Борех-Волф, ленчинский балткие.
Напряжение росло с каждым днем. Мой глубоко верующий отец не терял надежды. Время еще оставалось. Каждый день, каждый час, каждую минуту мог объявиться Мессия. Дни тянулись как вечность. Накануне Рошашоне евреи неотрывно вглядывались в небо, прислушивались к любому шороху. Люди верили, что, как часто бывает с желанными гостями, имеющими обыкновение являться в последнюю минуту, когда хозяева уже все глаза проглядели, так же будет и с самым желанным гостем — Мессией, который придет в последнюю минуту 5666 года. Даже придя в бесмедреш на минху перед Рошашоне, жители Ленчина ждали до тех пор, пока не взойдут три первых звезды[442], потому что это все еще был старый 5666 год и чудо еще могло произойти. Но вот звезды показались на небе, на будничном небе, которое выглядело так же, как оно выглядело каждый вечер. В поле рядом с бесмедрешом свинопас Грушка гнал домой своих хрюшек. Все было буднично, привычно и серо, как в любой из дней изгнания. Мой отец в последний раз бросил взгляд на небо и сломленным голосом велел начинать майрев. Хазан, как и положено в Рошашоне, затянул «Ки хем хаейну»[443], а мальчики помогали ему своими стройными «ай-яй-яй-яй-яй». Но в этом пении не было вкуса настоящего праздника. Как не было его и в том, как люди после молитвы желали друг другу хорошего года. Даже в новогодней «птичке»[444], которую во время праздничной трапезы макали в мед[445], не было сладости. Люди были разочарованы, подавлены. Но сильнее всех был разочарован и подавлен мой отец. Ему было стыдно: стыдно перед обывателями, передо мной, перед мамой, перед самим собой.
Я же был рассержен, обижен. Не будет Земли Израиля, не будет Шорабора и Левиафана[446], не будет рабов и слуг… Будут только пески Ленчина. Будет загаженный пустырь, на котором пасутся свиньи под надзором Грушкиного сына, того самого, который осквернил маленький свиток Торы. Будут только вечные мужики да крестьянские мальчишки со своими собаками — нашими главными врагами. Хазан в бесмедреше заливался рыдающим голосом, выпевая «у-вхэйн тэйн пахдэхо»[447], но я больше не верил тому, что Бог нашлет страх на все народы, а во славу свою — пошлет Мессию, потомка Иессева, вскорости, в наши дни. Во время Шмоне эсре меня одолевали грешные мысли. Когда настала очередь трубления в шойфер и следовало сказать «Йехи роцойн»[448] ангелам, чтобы они отнесли трубные звуки к престолу славы Господней, дурное побуждение заставило меня совершить ужасную вещь. Дело было вот в чем. В моем махзоре было напечатано предостережение: при чтении «Йехи роцойн» необходимо проявить осторожность, чтобы не назвать по имени Князя Огня[449], ангела — повелителя пламени, потому что, если назвать его по имени, можно, не дай Бог, разрушить весь мир. До сих пор я помню это предостережение: «Гизогэйр ве-гизогэйр шэ-ло легазкир эс шэйм сар го-эйш, га-мэлэх га-нойро… шэ-ло легахрив эс го-ойлом»[450]. Меня же давно тянуло все-таки назвать по имени этого огненного ангела. Весь мир был у меня в руках: я мог оставить его стоять, как он стоит уже пять тысяч шестьсот шестьдесят шесть лет и один день, а мог разрушить его в один миг, произнеся трудное имя ангела огня. Но я изо всех сил старался этого не делать. Несмотря на все мое желание увидеть, как рушится мир, я знал, что и мне придется сгореть вместе со всеми в мировом пожаре, и берег свою жизнь. Однако в Рошашоне 5667 года моя вера в то, что написано в святых книгах, сильно пошатнулась. Все книги содержали намеки на пришествие Мессии, а Он не пришел. Из-за этого и жизнь больше не казалась такой хорошей и сладкой, как прежде. И я решился. Я уже не так сильно верил в предостережение, но все-таки еще опасался нарушить его. Тихо, чтобы никто не услышал, полный и страха, и любопытства, я назвал по имени ангела огня и в ожидании худшего зажмурился, чтобы не видеть, как мир рушится в страшных раскатах грома небесного. Я подождал немного, видя перед своими закрытыми глазами алое пламя. Открыв глаза и увидев, что все так, как было прежде, я облегченно вздохнул, будто избежал ужасной катастрофы. Я был цел, евреи в синагоге тоже были целы. Только моя вера в святые книги не уцелела. Мои прежние сомнения из трещинок превратились в глубокие разломы. Я впервые посмотрел на благословляющих коэнов, хотя меня предостерегали от этого, говоря, что я могу ослепнуть[451].
После Дней трепета в местечке началось трудное время. Осенние дожди полили с низкого свинцового неба, цеплявшегося за вершины деревьев. Иешуа-стекольщик, который прежде не хотел чинить свою крышу, веря в скорое пришествие Мессии, теперь под дождем латал в ней дыры гонтом. Он вставлял новые стекла или чинил старые в обывательских домах. Бедняки затыкали разбитые окна тряпками. Несколько парней, которым предстояло идти в армию, читали ночью в бесмедреше псалмы и пели:
Лучше безруким родиться бы мне, Чем ради фонек страдать на войне, Ой-вей, спасения нет, Лучше бы мне не рождаться на свет…[452].Деревенские призывники, которых у нас называли лосовниками[453], пьянствовали, гуляли и цеплялись на улицах к евреям, которые, горбясь, шли в бесмедреш или из него. На местечко навалилась тяжкая меланхолия, которая казалась еще тяжелее и невыносимее после недавних светлых надежд. Согбеннее всех был мой отец. Разумеется, он продолжал верить в Мессию, как прежде, но то, что избавитель не явился в 5666 году, в год «хевле-мешиех», в тот год, на который указывали все намеки, сильно его мучило.
— Ой, Господи, Отец Милосердный, сколько же нам еще страдать? — спрашивал он у клочковатых небес, из которых не переставало лить.
С доходами тоже было плохо, хуже не бывает. Все надежды на то, что население Ленчина увеличится за счет новых переселенцев из деревень, не сбылись. Как только из деревень в местечко переезжало несколько новых семей, так сразу же несколько других уезжало из местечка. Также ничем не кончились вечные надежды на то, что через Ленчин проведут железную дорогу и евреи станут селиться рядом с линией, что для нас станет источником доходов. И, как будто этого всего было мало, местный богач реб Иешуа-лесоторговец переехал в Новый Двор. Вероятно, после убийства реб Мойше Крука и его жены богач побоялся остаться в местечке, которое охранял всего лишь один полицейский. Поэтому он взял жену и детей, невестку и зятьев и перебрался в более многочисленную общину. Я до сих пор помню, каким потерянным выглядел мой отец, когда богач с зятем, оба в новых енотовых шубах и высоких калошах, пришли к нему попрощаться перед отъездом.
— Местечко расползается, — печально сказала мама.
Вслед за богачом разъехались другие, кто в Новый Двор, кто в Закрочим, кто в Варшаву.
Мы остались один на один с нашей тоскливой жизнью. Отец с головой ушел в свои толкования. Он взялся за огромный труд. Так как при обсуждении многих мест в Геморе тосафисты спорят с Раши, задают трудные вопросы и вступают с ним в противоречие, мой отец решил разрешить эти противоречия по всему Талмуду. Работа была тяжелой, большой, но отец был счастлив этим своим предприятием. Для этого у него была своя причина.
— Когда я окажусь на том свете и ангелы-мучители бросят меня в геенну за мои великие грехи, — говорил отец, — Раши будет моим заступником за то, что я за него ответил, и его заслуги будут мне защитой.
Несмотря на то что я был маленьким мальчиком, мне было смешно слышать, как отец говорит о своих великих грехах.
Мама не рассмеялась, она только посмотрела на отца своими большими серыми всевидящими глазами и сказала резко:
— Раши сам за себя постоит. Ты бы лучше подумал о хлебе насущном. Это тоже заповедь…
— Всевышний поможет. Все, с Божьей помощью, уладится, — ответил мой отец, никогда не терявший своего упования.
Вскоре нам немного полегчало.
От бабушки Темеле, матери моего отца, которая жила в Томашове Люблинской губернии, пришло письмо о том, что отец должен срочно к ней приехать, потому что она продала свой дом и лавку и хочет при жизни выделить отцу долю наследства, которая ему причитается.
— Лебни гаякар, гаров гацадик у-бен кдойшим[454], — титуловала бабушка на святом языке своего собственного сына и сразу же переходила на свой домашний маме-лошн[455] — смесь идиша, отдельных слов святого языка и бесконечных благословений и благопожеланий. Подписалась она снова на святом языке, не забыв прибавить свой титул: мимени гаробонис Теме-Блюме бас кдойшим…[456].
Бабушка Темеле очень гордилась и тем, что ее муж был даеном, и тем, что она сама была очень родовита. Один ее дед был знаменитый раввин реб Дов-Бериш Майзельс[457], в честь которого в Кракове даже назвали улицу; другой дед был раввином в Кременце[458]; один прадед был раввином в Станиславе[459], другой — в немецком городе Бамберге[460]; прапрадед, Турей Захав (Таз)[461], был раввином Лемберга[462], и так далее и так далее…
Знатным происхождением гордился и ее муж, томашовский даен, чей отец был раввином в Конске[463]; дед, реб Мойше Хариф[464], — раввином в Варшаве; прадед — в Штетине[465]; другой прадед — в Шварце-Туме[466], и так далее и так далее…
Хотя бабушка Темеле всю жизнь занималась торговлей, зарабатывая на своих домочадцев, она никогда не забывала ни о своей родовитости, ни о родовитости своего мужа. Поэтому бабушка никогда не упускала возможности титуловать себя и своего сына соответственно происхождению. Во всех ее письмах обычно было почти одно и то же: титулы, благословения и благопожелания. Иногда к благословениям прибавлялись несколько слов о том, что она послала «хамише рубл кесеф»[467] или «асоре рубл кесеф»[468], что означало пятерку или червонец. Однако для бабушки Темеле это было так, к слову. Главное было — титулы и родовитость. На этот раз в письме, полном, как обычно, титулов, было написано, что речь идет о большей сумме и отец должен немедленно приехать в Томашов «мипней кама ве-хама тэомим»…[469].
Отца не пришлось долго уговаривать. Он всегда был готов пуститься в путь, чтобы освободиться от ярма зарабатывания денег и от вечных маминых упреков. Поскольку не нашлось ни одного балаголы, который отвез бы отца на станцию за десять верст от местечка, пришлось нанять крестьянина, который как раз ехал туда на телеге, запряженной парой. По дороге отец чуть было не лишился жизни, не сумев удержать лошадей, испугавшихся гудка локомотива.
Как вышло, что отцу пришлось править лошадьми? Дело было так. Крестьянину, который его вез, до смерти захотелось выпить водки. Поэтому он зашел в корчму, а телегу оставил на отца, попросив недолго подержать вожжи и присмотреть за лошадьми, потому как они у него пугливые. Отец не понял ни одного слова на мужицком наречии и, кивая головой в ответ на речь необрезанного, произнес единственное, что знал по-мужицки: «Так, так, пане»[470]. Мужик засиделся в шинке, выпивая и слушая байки других крестьян. Мой отец оставался в телеге и, вероятно, задумался о толковании трудного вопроса, заданного тосафистами Раши, как вдруг приближающийся поезд издал громкий гудок. Крестьянские лошади, дикие, непривычные к железной дороге и гудкам локомотивов, испугались и понесли. Отец не знал, ни что такое вожжи, ни как с ними управляться, ни тем более как удержать взбесившихся лошадей. Поэтому он принялся кричать «Шма Исроэл!»[471], но лошадей это не остановило, и они полетели дальше. Так, в панике, они и неслись по дорогам и полям до тех пор, пока телега не зацепилась дышлом за дерево и не остановилась.
Когда крестьянин вышел из шинка и увидел, что произошло с его лошадьми и телегой, он пришел в такой гнев, что схватил дрючок и хотел на месте прибить моего перепуганного отца.
— Проклятый еврей! Я же тебе велел держать вожжи в руках! — кричал он, грозясь дрючком.
К счастью, рядом оказались несколько евреев, лесных учетчиков, которые спасли отца от разбушевавшегося крестьянина. В письме, которое отец отправил маме с тем же крестьянином, он на святом языке описал случившееся и закончил тем, что если только он, с Божьей помощью, доберется к субботе до Томашова, то скажет в синагоге гоймл[472] и будет писать письма как можно чаще.
Однако писем, кроме этого, больше не было. Прошли дни, недели, а об отце не было ни слуху ни духу. Мама, беспокоясь и ничего не понимая, посылала письмо за письмом. Она читала псалмы, все время жертвовала по восемнадцать грошей Меиру-чудотворцу[473], но ничего не помогало. В доме царил мрак. Мама не готовила, не ела, только плакала, читала псалмы и бегала встречать почтальона, шваба Краузе. Но шваб отвечал ей одно и то же:
— Гибт никс, рабинерше…[474].
Это были для нас тяжелые недели. Мама не сомневалась, что с папой случилось самое страшное. Времена были неспокойные, кругом происходили бунты, злодейства и убийства. Мамины псалмы, которые она читала один за другим, три раза подряд, не произнося при этом ни одного постороннего слова, были полны горя и тоски. Единственным моим утешением оставалось то, что я, наконец, освободился от ярма Торы и целыми днями бегал с моими приятелями и болтался по речным берегам, лесам и полям, уходя на мили от дома.
Примерно через шесть недель отец вернулся — раскрасневшийся, веселый, полный надежд и хороших новостей о том, что «все, с Божьей помощью, уладится»…
Где он был? Почему не писал?
У отца была тысяча ответов. Во-первых, он иногда писал, но письма, видимо, не доходили; во-вторых, он был занят делами, связанными с наследством, из-за которого у него были споры, ссоры и тяжбы с братьями и другими родственниками, потому что они хотели получить долю побольше, но, с Божьей помощью, он со всеми договорился и рассчитался; в-третьих, ему надо было повидать бесчисленных друзей, старых приятелей и хасидов из томашовского штибла реб Йошеле, которые устраивали в честь него пирушки, на которых было очень весело; в-четвертых, он решил заодно уж перебраться через границу, которая находится недалеко от Томашова, и съездить в Галицию, к шинявскому ребе, которого не видел много лет, с тех пор, как уехал из Томашова. При дворе ребе ему были очень рады. Сам ребе усадил его за стол, угостил вином и «кусочками» и побеседовал с ним о Торе. Хасиды в Шиняве очень ему обрадовались, пили с ним водку, пировали и не отпускали обратно. В-пятых, он еще заехал повидать своего брата Ешайю, который бежал из русской Польши, чтобы не служить у фонек, и обосновался в Галиции, где, слава Богу, преуспел, стал богатым купцом и уважаемым человеком. Брат Ешайя, его жена, дети и родственники очень ему обрадовались, принялись устраивать в его честь пиры и приемы и никак не отпускали… Короче говоря, он никак не мог вырваться, и поэтому прошло столько времени, прежде чем он смог уехать домой… А вернулся он домой, не дай Бог, не с пустыми руками, потому что, во-первых, брат Ешайя подарил ему штраймл, какой в целом свете не сыщешь. Вот он, этот большой штраймл, отороченный черным блестящим мехом и с высоким верхом из настоящего бархата. А еще брат подарил ему талес, дорогой талес, который, наверное, стоит не меньше пятидесяти райнишей[475]. Ко всему прочему, он привез еще четыре сотни рублей, свою долю денег, вырученных бабушкой Темеле от продажи лавки на рынке. Деньги, в самых крупных купюрах, бабушка Темеле сама зашила в полу капоты, чтобы воры не стащили их у него по дороге. Мама с горечью смотрела на радостного отца, который за пирушками и хасидскими застольями забыл о ее тревогах и заставил ее понапрасну страдать, но ни в чем его не упрекала:
— Пинхас-Мендл, Бог простит тебя за то горе, которое ты мне причинил, — сказала она. — Пойди, вымой руки перед едой.
Это все, что она сказала мужу, не обняв его и даже до него не дотронувшись, потому что в раввинском доме и это было бы сочтено грехом.
Тайком, чтобы никто не видел, мама распорола ножничками полу отцовской бархатной капоты и вынула купюры, которые были там зашиты. Впервые в жизни я видел столько денег, такие красивые купюры с орлами и царскими портретами. Среди бумажных денег была одна-единственная золотая монетка — десятка. Я взял ее в руку с великим почтением.
— Это червонец, — сказал отец и забрал ее у меня.
Зато он сделал мне подарок — новый молитвенник и пару больших тфилн в мешочке, которые вскоре, в связи с наступающей бар-мицвой, должны были мне понадобиться.
— Знай, эти тфилн написаны самим реб Мойше-сойфером, — благоговейно произнес отец. — Реб Мойше-сойфер был праведником и каждый раз ходил в микву, прежде чем начертать Имя Божье в свитке Торы, в мезузе или в тфилн. Обладать тфилн, изготовленными реб Мойше-сойфером, — большая честь.
Я разглядывал большие, старые, тяжелые тфилн с широкими, засаленными ремнями, но не чувствовал воодушевления от этого великого подарка. Я ждал, что отец привезет мне подарки получше. Кроме того, мне хотелось, чтобы у меня были новые, красивые, маленькие, легкие тфилн, а не пара старых, больших, с засаленными ремнями. То, что реб Мойше-сойфер все время ходил в микву, пока писал эти тфилн, мало меня интересовало. Лучшим из того, что подарил мне отец, была серебряная чернильница. Он получил ее от бабушки Темеле. Это была маленькая, украшенная гравировкой чернильница из серебра 84-й пробы с завинчивающейся крышечкой и ящичком для песка, которым посыпали написанную бумагу.
Мама ни о каких подарках себе даже не спрашивала. А вот сестра хотела знать, что привез ей отец. Отец посмотрел на нее с удивлением.
— Ну какой подарок можно привезти девушке? — спросил он.
Зато он привез ермолки и маленькие арбоканфесы для моих братьев, которые еще были младенцами.
Теперь у нас дома все были озабочены тем, что делать с несколькими сотнями рублей. Сперва думали, что мама откроет лавочку и будет торговать, как большинство благочестивых женщин. Но, во-первых, мама была дочерью раввина, никогда торговлей не занималась и не годилась для этого; во-вторых, в местечке и без того было слишком много лавок; в-третьих, местным лавочникам могло бы не понравиться, что раввин занимается торговлей и отбирает у них хлеб. В результате решили отложить деньги на приданое моей сестре, которую скоро уже будут сватать. Деньги спрятали. Также в тайне держали и всю историю с наследством. Было бы лучше, чтобы никто не узнал об этих деньгах. Однако жители Ленчина вскоре обо всем прознали. Для евреев тайн нет. Нашелся некто Хаим-Йойсеф, муж той самой Ханы-Рохл, которая любила ссорить мужей и жен. У этого Хаим-Йойсефа было множество разных дел; и заводик по производству кваса, и кожевенная лавка, и, кроме того, он шил гамаши да к тому же был хасидом. Так вот, этот Хаим-Йойсеф взял отца в оборот и так долго его уговаривал, что отец согласился вытащить несколько сотен рублей и стать компаньоном в его кожевенной лавке.
План Хаима-Йойсефа очень понравился моему отцу. И в самом деле, какой толк в спрятанных деньгах! И прибыли от них никакой, и воры могут, не дай Бог, прознать о них и залезть ночью в дом, и, не дай Бог, пожар. Всякое может случиться. Не лучше ли стать компаньоном в его, Хаима-Йойсефа, кожевенной лавке? Она уже существует и могла бы стать настоящим золотым дном, только вот у него, у Хаима-Йойсефа, нет денег, чтобы закупить новый товар. Все его деньги сейчас крутятся в квасном заводике. Если бы он смог вложить несколько сотен рублей в кожевенную лавку, она бы приносила чистого дохода не меньше десяти рублей в неделю. К тому же, хотя отец будет компаньоном, работать в лавке ему не придется, потому что он, Хаим-Йойсеф, будет вести дело сам, как и раньше. Однако за то, что отец вложит свои деньги, он будет получать равную долю дохода, а сам сможет сидеть себе спокойно и учить Тору, доход же будет получать каждую неделю, когда пять рублей, а когда и поболе, как Бог даст.
— Ну, вот я и спрашиваю вас, ребе, не грех ли прятать деньги под матрасом, если они могут поправить наши дела, а у нас ведь семьи? — спрашивал Хаим-Йойсеф, поглаживая свою русую бородку. — А за деньги не беспокойтесь, они будут все равно что у вас в кошельке.
— Разумеется, разумеется, реб Хаим-Йойсеф, — кивал головой мой доверчивый отец, вечный оптимист. — Дело выгодное…
У мамы были на этот счет сомнения, и она не советовала отцу торопиться. Однако Хаим-Йойсеф не отставал. Он был сладкоречив, он убеждал, он сулил золотые горы, долго ли, коротко ли, но ему удалось уговорить моего отца. Отец подписал несколько листов бумаги, на которых были указаны взаимные обязательства компаньонов. Обязательства эти содержали столько всяких предосторожностей, что Хаим-Йойсеф даже не захотел дочитать до конца все пункты.
— Ребе, я могу подписать все, что вам еще будет угодно, — сказал он и подписал бумаги кудрявым росчерком. Отец тоже поставил свою подпись и отдал Хаиму-Йойсефу деньги, красивые банкноты с орлами и царскими портретами. Компаньоны пожали руки и пожелали друг другу удачи. На исходе первой после соглашения недели, в пятницу утром, к нам пришла дочь Хаима-Йойсефа и принесла трехрублевую бумажку и несколько медяков. Мама взяла эти деньги и улыбнулась. Это была огромная прибавка к нашим доходам. Еще через неделю, минута в минуту, дочь Хаима-Йойсефа принесла еще несколько рублей. Но на третью неделю девочка не пришла. Отец из деликатности подождал несколько дней. Но, поскольку девочка не приходила, он послал меня к Хаиму-Йойсефу. Но Хаим-Йойсеф не сказал мне ни слова. Он разговаривал с хромым мужиком, сапожником, который покупал у него кожу. Закончив с хромым сапожником, он принялся кроить кожу, потом занялся какой-то другой работой. Я решил его потревожить:
— Реб Хаим-Йойсеф, папа прислал меня к вам…
Хаим-Йойсеф сделал вид, что не слышит, и продолжал заниматься своими делами. Когда я, наконец, потерял терпение и сказал ему, что он все-таки должен мне ответить, Хаим-Йойсеф взглянул на меня так, будто только что заметил, и нехотя произнес:
— А, это ты… Скажи твоему папе, что я был занят, очень занят, и скоро пришлю ему деньги за две недели, без обета[476].
По этому «без обета» я почувствовал, что он ничего не пришлет. Мама тоже сразу же забеспокоилась, когда я передал ответ компаньона. Но отец был настроен оптимистически, как всегда.
— Что на тебя нашло? — удивился он маминому беспокойству. — Мы же ударили по рукам, бумаги подписаны…
Хаим-Йойсеф не прислал к нам свою дочь ни в ближайшую пятницу, ни в следующую. Отец взывал к его совести, говорил о справедливости, о вере, о подписанных бумагах. Хаим-Йойсеф смотрел на отца как на дурачка и потирал руки от желания поскорее закончить разговор.
— У меня ничего нет, ребе. Предприятие ничего не приносит.
— В таком случае отдайте деньги, — потребовал отец.
— Деньги? — переспросил Хаим-Йойсеф, будто не понимая, о чем идет речь. — Денег нет. Я вложил их в сырье и заплатил долги кожевенникам в Варшаве…
Никакие требования не помогали. В доме воцарился мрак. Папе опять было стыдно перед мамой, которая предупреждала его, чтобы он не доверял Хаиму-Йойсефу. В местечке смеялись над отцом из-за его бестолковости, из-за того, что он позволил одурачить себя. Положение становилось хуже день ото дня. Однажды дело дошло до того, что буквально не на что было купить хлеба. Мы и так уже задолжали пекарю. Тогда мама достала припрятанное украшение, единственное, которое еще оставалось у нее после свадьбы, и послала отца в Варшаву, чтобы он его заложил в ломбарде. Это была шпилька с бриллиантиком, которую называли «дрожащей шпилькой», потому что ее золотая ножка была завитой, как пейс, отчего шпилька все время подрагивала. Отец завернул шпильку в угол красного носового платка и уехал в Варшаву. Через два дня он вернулся и сказал маме, что получил в ломбарде за шпильку пятьдесят рублей. Он сунул руку в карман, чтобы вынуть деньги, но денег в кармане не было. Отец побледнел. Обыскали все карманы, но не нашли ни гроша.
— Горе мне! Наверное, воры в поезде вытащили, — запричитал он. — Что делать?
— Иди, умой руки и садись есть, — сказала мама и посмотрела своими большими проницательными глазами на папу, который был в совершеннейшем отчаянии.
— Кто же мог предвидеть? — лепетал отец. — Я был в вагоне среди евреев, евреев с бородами…
— С бородами или без бород, иди за стол, — сказала мама, — еда остынет.
Но отец не пошел есть. Вместо этого он вытащил книгу и уставился в нее.
— Господи, на все воля Твоя!.. — произнес он, глядя в книгу…
Нам становится тошно в Ленчине Пер. И. Булатовский
С каждым днем наша жизнь в Ленчине становилась все более тоскливой. Дошло до того, что даже мой отец, великий оптимист, потеряв упование на то, что все образуется, решил отложить свой большой труд в защиту Раши и искать должность раввина в другом месте. Отец попробовал уговорить маму уехать с детьми к родителям в Билгорай, а когда он, с Божьей помощью, найдет подходящую должность, то честь по чести заберет семью на новое место. Но мама даже слышать не хотела о том, чтобы садиться с четырьмя детьми деду на шею. Поэтому отец оставил нас в Ленчине и отправился в Радзимин в надежде на то, что его друг, радзиминский ребе, поможет ему получить раввинскую должность получше[477]. Уехал он ненадолго, но, по своему обыкновению, встретил по пути множество друзей и приятелей, которые были ему очень рады и отпустили его далеко не сразу.
Люди очень любили моего отца за его дружелюбие, простодушие и доверчивость и так к нему привязывались, что просто не могли отпустить, удерживая всевозможными посулами. Отец очень хотел верить в чудеса и воодушевлялся от всякого обещания. Каждые несколько дней от него приходили письма на святом языке, исписанные бисерными раввинскими буковками, которые складывались в полукруглые строчки, полные восторгов по поводу предполагаемого раввината в разных местечках. В одном местечке радзиминские хасиды обещали ему, с Божьей помощью, составить протекцию; в другом у него есть сторонники, и хотя их противники хотят другого раввина, он надеется, что его сторонники победят, и все будет отлично. Еще в одном местечке он даже прочитал проповедь, которая, хвала Всевышнему, очень понравилась как ученым, так и простым людям. Приняли его с почетом и устроили в честь него царскую трапезу, правда, раввинского договора не предложили, есть некоторые препятствия, но, с Божьей помощью, все должно благополучно завершиться полной победой…
Все отцовские письма заканчивались тем, что пока вернуться домой он не может, потому что ему как раз подвернулось новое место с такими и сякими достоинствами, как только он получит раввинский договор, так сразу вернется, и все, с Божьей помощью, уладится. И так далее и так далее…
Мама прочитывала обнадеживающие письма отца своими большими серыми тоскующими глазами и скептически качала головой.
— Что пишет папа? — спрашивал я.
— Ступай, ступай, учи Гемору, — говорила мама, не желая ничего обсуждать.
Не хотел я учить никакую Гемору! Мне было неспокойно, я чувствовал себя одиноким, покинутым, подавленным, не в ладах с самим собой и был готов броситься на всякого, кто хоть словом упрекнет меня за мое скверное поведение. В ситцевом летнем халате, который я умудрился так разорвать, что маме пришлось сделать заплату в форме буквы «далет»; с льняными пейсами, которые я каждый день украдкой подстригал все короче и короче, я далеко убегал из местечка, увлекаемый беспокойством взрослеющего юнца. Я впадал то в чрезмерную радость, то в чрезмерную печаль и совершал всевозможные глупости. Один раз я прокрался к микве и приник к щели в дверях, чтобы увидеть, как женщины совершают омовение. Вдруг как из-под земли появился не кто иной, как Менделе-малый, длинноносый последователь ребе из Ворки, который повсюду выискивал, вынюхивал и выслеживал грехи. В другой раз я вытащил из кладовки в бесмедреше шойфер и стал трубить посреди года так, что на это лже-чудо сбежался народ, решив, что пришел Мессия. Однажды посреди занятий в бесмедреше я принялся скакать через ограду бимы. И снова меня за этим занятием застукал не кто иной, как Менделе-малый.
— Ну, молодец, реб Ешиеле! — съязвил Менделе-малый, величая меня «реб». — Нечего сказать: отец ездит, сынок скачет…
Это была колкость в адрес моего отца, который в своих разъездах оставил местечко без раввина.
Однажды в пятницу на меня напал такой аппетит, что я набросился на рыбу и съел ее всю, не оставив ни кусочка на субботу. Когда мама увидела пустую кастрюлю, она не прибила меня, даже не отругала, только спросила, глядя на меня своими большими серыми глазами.
— Тебе не стыдно?
Мне стало стыдно, так стыдно, что я был бы счастлив, если бы мама меня ударила. Ее взгляд был хуже всякого наказания. В течение нескольких недель после этого случая я все делал по дому: носил воду из колодца, колол дрова, бегал за покупками, чтоб только искупить свое идиотское обжорство. Как-то раз, когда я колол дрова, полено ударило меня по носу и перебило кость. Несколько часов я мучился от боли, не говоря маме о том, что со мной случилось. Только когда лицо совсем опухло, мама все поняла и отвела меня к фельдшеру Павловскому, который, разумеется, смазал мне нос йодом и взял за это двадцать грошей.
Очень скоро нам пришлось снова обратиться к фельдшеру. У мамы на груди образовался болезненный нарыв, от которого она ужасно страдала. Когда все домашние женские средства не помогли, позвали Павловского. Денег, чтобы поехать к доктору, не было. Фельдшер сказал, что нужно немедленно оперировать. Он вынул из кармана ножик и, даже не помыв его, сделал операцию.
Как моя слабая мама вынесла эту операцию без наркоза, да еще и сделанную немытым крестьянином, освоившим свое врачебное искусство в русской казарме, до сих пор не понимаю. Я ассистировал фельдшеру, потому что моя сестра не выносила вида крови.
Отца не хватало в доме как никогда, но его не было. Он продолжал искать место раввина. Отец вернулся только через несколько недель, полный, как всегда, восторгов и историй о том, как ему обещали то, обещали се… Мама молча выслушала все эти восторги и спросила о главном.
— Ты привез договор?
— Нет, — ответил отец, — но ребе обещал со временем получить для меня место в каком-нибудь местечке, а пока мы будем жить в Радзимине при его дворе.
Мама хотела знать, что отец имеет в виду, говоря о том, что мы будем «жить при дворе». Отец подробно изложил план, придуманный ребе. Ребе приказал своим хасидам раздобыть отцу место раввина. Но поскольку это может занять много времени, отец пока будет проходить «Иоре деа» с ешиботниками в радзиминской ешиве, только что основанной ребе. Кроме того, отец будет просматривать надиктованные ребе поучения и толкования и готовить их к печати. За то и другое отцу будут щедро платить, а когда со временем отыщется хорошее раввинское место, он оставит ешиву и станет раввином в каком-нибудь местечке.
— Ребе заключил с тобой договор? — спросила мама.
— Упаси Боже! Его слова вполне достаточно, — ответил отец.
— И сколько он обещал тебе платить? — поинтересовалась мама.
— Ребе сказал, чтобы о заработке я не беспокоился. С Божьей помощью — хватит, — просиял отец.
— Мне это не нравится, — сказала мама, словно ледяной водой охладив отцовский пыл. — Я люблю, чтобы был договор. Нельзя соглашаться неизвестно на что, когда у тебя дети…
Препирательства между отцом и мамой начались по новой. Мама припомнила отцу его нежелание сдавать экзамен, его вечные фантазии, его непрактичность. Отец не стал ничего отвечать и вернулся к своей старой работе — защите Раши. Но даже эта работа не утешала его. Обыватели посмеивались в бороду над тем, что их раввин не смог подыскать себе места получше, и открыто осуждали его за то, что он их сперва бросил, а потом, ничего не отыскав, снова вернулся. Они не могли допустить, чтобы раввин был все время в отъезде, бросив местечко на произвол судьбы, так что некому даже задать вопрос. Кроме того, в местечке в это время усилились распри между хасидами и простыми евреями. Между эти двумя группами и раньше не было мира. Простые люди, среди которых были в основном ремесленники и коробейники, завидовали хасидам, которые были лавочниками, а некоторые из них — даже богатыми. Хасиды презирали простецов за их невежество. Это была старая вражда между высшим и низшим классами, но выражалась она главным образом в том, что касалось религиозных предметов. Простые люди, называвшие себя миснагедами, молились по ашкеназскому нусеху, хасиды — по сефардскому. Но хасиды, среди которых были хазаны, чтецы Торы[478], балткие, молились перед омудом, и как раз по сефардскому нусеху. Молившиеся по ашкеназскому нусеху всякий раз возмущались тем, что хазан-хасид начинает молиться не с «Мизмор шир ханукас»[479], а сразу с «Гойду»[480]; или начинает «Кдуше»[481] с «Накдишох ве-нарицох»[482], а не с «Некадейш»[483].
— Ну, о, некадейш! — кричали миснагеды и читали свою ашкеназскую «Кдуше», несмотря на то что хазан продолжал молиться по-сефардски.
Еще больше миснагеды кипятились, когда хасиды не произносили текст «Лехо дойди»[484], а пели его с хасидскими коленцами.
Во время каждого богослужения вспыхивали дикие раздоры, и моему отцу приходилось утихомиривать противников. Однако пока его не было, раздоры разгорелись еще пуще. Простецы жаловались, что хасиды забирают себе лучшие алии[485], лучшие гакофес[486], короче говоря, снимают сливки, а миснагедам оставляют кислое молоко — поднимать свиток Торы по завершении чтения[487] и прочие подобные не слишком важные алии. Как-то в субботу к Торе вызвали одного из простых — перелицовщика Шие, прозванного Фоней за то, что он любил рассказывать истории о «фоньках», у которых он служил в армии. Мойше-Мендл-мясник, который крутился среди хасидов, решил подшутить над перелицовщиком и шепнул ему, что его вызывают читать Тойхохе[488]. Это был обман, потому что в ту субботу не читали Тойхохе. Но перелицовщик страшно разозлился, при развернутом свитке Торы стукнул кулаком по столу на биме и по-солдатски послал всех хасидов к такой-то матери. Хасиды обозвали его нечестивцем и невеждой. Простые люди вступились за перелицовщика. Дело дошло до страшной ругани и даже до рукоприкладства. Понятно, что Мойше-Мендл-мясник сразу же засучил рукава своей атласной хасидской капоты и стал отвешивать мясницкие оплеухи простецам. Поскольку моего отца не было в местечке, и те, кто бил, и те, кого били, подали друг на друга в суд[489]. Помещик Христовский никак не мог уразуметь все эти еврейские претензии насчет вызовов к Торе, Тойхохе, а также сефардского и ашкеназского нусехов. Евреи пробовали растолковать ему по-польски, что распря началась из-за того, что они по-разному начинают молитву.
— Те хасидаки мувион гойде напшуд, — объяснял помещику один из простых, — а мы, простаки, мувион мизмор шир ханукас напшуд…[490].
То есть хасиды начинают с Гойде, а ашкеназы — с Мизмор шир ханукас.
Судья послал евреев к раввину, чтобы тот рассудил их. Однако отца не было в местечке. Тогда хасиды забрали из орн-койдеша лучший, подаренный богачом свиток Торы, со всеми его украшениями и указками, и устроили свой собственный хасидский штибл. Простецы остались без хазанов, чтецов и балткие… Вспыхнула война. Обе стороны обвиняли моего отца в том, что все это случилось из-за того, что он не сидит в Ленчине, а разъезжает в поисках должности раввина в другом местечке. Часть хозяек отказалась покупать у мамы дрожжи для халы, что, между прочим, лишило нас дополнительного дохода.
— Если уж нельзя прийти к раввину с вопросом, то и за дрожжи нечего переплачивать, — рассудили хозяйки…
Лучшие люди местечка потихоньку собрали сход и прислали к нам мальчика со списком требований, которые они предъявляли моему отцу. Это был своего рода ультиматум: если мой отец хочет остаться раввином в Ленчине, он должен выполнять предъявленные требования. Бумага была написана на святом языке и содержала длинный список условий, расставленных по порядку.
Первое условие: раввин не разъезжает, а сидит в местечке, чтобы не допускать трений внутри общины. Второе: в том случае, если он решит оставить место раввина, он должен заранее предупредить общину и дать ей время найти нового раввина. Третье: дрожжи, которые продает ребецин, должны быть хорошего качества и свежие, потому что случается, что из-за старых дрожжей тесто плохо поднимается, халы выходят неудачные, и это портит людям субботу.
После целого ряда других условий шли те, которые касались поведения раввина. Обыватели требовали, чтобы раввин не молился за омудом, потому что это право принадлежит не раввину, а обывателям; чтобы после молитвы он не оставался в бесмедреше побеседовать с ремесленниками, а сразу же шел домой, потому что, если раввин не ведет себя с достоинством, он теряет уважение обывателей. Среди прочих было также условие, чтобы раввин не брал понюшек табака у Гершла-Палки, которого все в местечке презирали. Поскольку авторы ультиматума не знали, как на святом языке будет понюшка табака, они написали по-простому: «Таконе юд: ше-гаров ло йиках понюшка табака мин анивзе Хершл, га-мехуне Палка, вэ-дай лехакимо би-рмизо…»[491].
Отец сгорал от стыда, читая условия, которые ему поставили. Больше всего ему было неприятно то, что его учат, как ему следует себя вести. Скромный, дружелюбный, он не мог понять, почему раввину нельзя разговаривать с ремесленниками или взять понюшку табака, когда кто-то его угощает. Мама перечитала условия и гневно сказала:
— Хватит этого Ленчина! Я лучше буду сидеть без куска хлеба, но после этих условий не позволю тебе здесь остаться…
Последняя книга И.-И. Зингера В. Дымшиц
В 1920-1930-х годах Исроэл-Иешуа Зингер (1893–1943) был одним из самых популярных прозаиков в литературе на идише. Не последнюю роль в этом сыграло огромное разнообразие тем и сюжетов его прозы, во многом связанное с богатым жизненным опытом писателя. В его биографии, а потом и в творчестве нашлось место и маленькому традиционному местечку, и шумной Варшаве, и охваченной гражданской войной России, и эмигрантскому Нью-Йорку. Все же по сравнению с другими еврейскими писателями как раз местечко занимало в творчестве И.-И. Зингера сравнительно скромное место. И это молчание симптоматично: слишком трудно, слишком болезненно дался писателю разрыв с семьей и со всей патриархальной средой его детства. И.-И. Зингер был сыном раввина, внуком и правнуком раввинов, он вырос в очень традиционной, очень религиозной семье, получил фундаментальное религиозное образование и воспитание и до 17 лет не видел ни одной светской книги. В юности он порвал с семьей и после долгих лет скитаний, тяжелого труда и голода стал известным писателем.
Во время Второй мировой войны И.-И. Зингер начал искать пути примирения с собственным прошлым. Чем более зловещие слухи о судьбе польских евреев доходили до США, тем сильнее он чувствовал тоску по утраченному миру детства. В 1943 году Зингер начал писать мемуары, которые должны были охватить его жизнь в Польше от рождения до отъезда в США в конце 1920-х годов. Рабочее название будущей книги «О мире, которого больше нет» позволяло в равной степени говорить об уничтоженной религиозной и светской культуре, о погибших местечках и о погибших городах. Однако едва начатую работу над мемуарами оборвала скоропостижная смерть писателя.
Книга не только не была закончена, но даже относительно небольшой по объему написанный фрагмент Зингер не успел подготовить к печати. Опубликованный после смерти писателя текст представляет собой черновик, стилистически во многом более слабый, чем его предыдущие книги. И.-И. Зингер был блестящим стилистом, между тем воспоминания изобилуют повторами, избыточными эпитетами, синтаксически запутанными конструкциями. Писатель явно предполагал продолжить работу над этими набросками. В то же время в них есть блестяще написанные места, напоминающие о лучших страницах прозы Зингера, с которой мемуары то и дело перекликаются. Теперь, когда произведения И.-И. Зингера стали одно за другим появляться в переводах на русский язык, читатель найдет в этих мемуарах развернутый комментарий к сочинениям одного из самых интересных еврейских прозаиков XX века.
Один из героев воспоминаний — новорожденный младший брат повествователя. Это будущий нобелевский лауреат по литературе, прославленный Исаак Башевис Зингер. Именно эти незаконченные воспоминания старшего брата вдохновили Башевиса на его собственные воспоминания о детстве, одну из самых известных его книг — «Майн татенс бес-дин штуб»[492].
Глоссарий В. Дымшиц
Агада — повествовательные, негалахические фрагменты Талмуда.
Агуна (связанная, несвободная, древнеевр.) — женщина, которая вследствие того, что ее муж находится в безвестном отсутствии, обречена на безбрачие.
Алия — вызов к Торе. Во время утренней молитвы в понедельник, четверг и субботу в синагоге с бимы публично по свитку Торы прочитывают соответствующий недельный раздел Пятикнижия. Для этого на биму по очереди вызывают несколько (не меньше семи) прихожан, от имени которых прочитывают соответствующий отрывок.
Арбоканфес (четырехугольник, древнеевр.) — ритуальный элемент мужского костюма. Четырехугольный кусок материи, к углам которого прикреплены цицес. Арбоканфес носят не снимая. Заповедь состоит именно в постоянном ношении цицес, а арбоканфес нужен для того, чтобы было к чему их прикрепить.
Атора — воротник талеса, часто расшитый серебром.
Бадхен — ведущий свадьбы. Во время обряда «покрывания (или усаживания) невесты» он рассказывал невесте о тяготах будущей семейной жизни, заставляя ее плакать; во время свадебного пира представлял гостям жениха, невесту и их родню, объявлял о принесенных гостями подарках и в качестве свадебного шута забавлял публику остроумными рассказами, сценками, шутками и песнями. Свои речи бадхен обычно импровизировал в стихах на более или менее устойчивые рифмы.
Балагола — еврей-извозчик.
Балткие (владеющий трублением, древнеевр.) — тот, кому община поручила трубить в шойфер.
Бар мицва (букв. сын заповеди, арамейский, то есть обязанный выполнять заповеди) — тринадцатилетие, возраст религиозного совершеннолетия для мужчины. По достижении этого возраста на него возлагается вся полнота исполнения религиозных заповедей.
Белфер — помощник меламеда, в обязанности которого входит отводить детей в хедер.
Бесмедреш (дом учения, древнеевр.) — молитвенный дом, место для молитв и ученых занятий, синагога.
Бима — подиум в центре синагоги, на котором на специальном столе разворачивают и читают свиток Торы. С бимы также произносят проповеди, делают объявления и т. п.
Вайбер-шул (женская синагога, идиш) — помещение для женщин в синагоге.
Габе — 1) староста еврейской общины, синагоги или какого-либо братства, цеха или общества; 2) у хасидского цадика — помощник, секретарь, посредник между цадиком и его хасидами.
Габетша — женщина, занимающаяся сбором пожертвований на благотворительность.
Гавдола — обряд отделения субботы от будней. Сопровождается зажиганием специальной свечи, свитой из четырех тонких свечек.
Гакофес (кружения, древнеевр.) — ритуал Симхастойре, семикратный обход прихожанами синагоги бимы со свитками Торы в руках.
Галаха — нормативная часть иудаизма, религиозный закон.
Гемора — см. Талмуд.
Гой — 1) нееврей, иноверец; 2) мужик, крестьянин.
Даен — член раввинского суда, помощник раввина. В раввинском суде кроме самого раввина состоят еще два даена.
Дни трепета — десять дней между Рошашоне и Йом Кипуром, время покаяния.
Добрый еврей — то же, что цадик.
Дурное побуждение — традиционный для иудаизма концепт, объясняющий злое начало в человеческой душе.
Духовный раввин — см. Казенный раввин.
Ешиботник — учащийся ешивы. Слово ешиботник происходит от русского названия ешивы — «ешибот».
Ешива — высшая талмудическая школа (русское название — ешибот, букв. ешивы, слово «ешива» вошло в русский язык в форме множественного числа).
В большинстве городов и местечек ешива представляла собой группу из нескольких десятков молодых людей, которые самостоятельно занимались в бесмедреше. С определенной регулярностью перед этой группой выступали с лекциями городской раввин или просто какой-либо ученый человек. В XIX в. в Литве (современная Западная Белоруссия) появились ешивы нового типа, в которых одновременно училось несколько сот человек, часто приехавших издалека.
Жупица — род кафтана.
Змирес — субботние застольные гимны.
Зогар (букв. сияние, древнеевр.) — основной памятник еврейского мистицизма, содержащий своего рода энциклопедию каббалы в форме комментария на Пятикнижие. Традиция приписывает авторство книги Зогар танаю Шимону бен Иохаю (II в.). Научная критика полагает автором Зогара испанского каббалиста Моше де Леона (XIII в.).
Ивре-тайч (еврейско-немецкий, идиш) — старая книжная форма идиша, на которой создавались религиозные книги и молитвы для женщин.
Илуй — вундеркинд.
Йом Кипур (День искупления, русское название — Судный день) — важнейший религиозный праздник, День покаяния, примирения общины в целом и каждого человека в отдельности с Богом. Отмечается специальной литургией и суточным постом. Этот праздник входит в число Осенних праздников: его справляют через десять дней после Рошашоне.
Йорцайт — годовщина смерти.
Каббала — мистическая традиция в иудаизме.
Кадиш — славословие Всевышнего на арамейском языке, произносимое несколько раз во время публичной молитвы. После смерти родителей сын в течение одиннадцати месяцев произносит кадиш, участвуя в публичном богослужении, а затем делает это каждый раз в йорцайт (годовщину смерти).
Казенный раввин. — В Российской империи, по закону 1857 г., должность раввина мог занимать только человек, окончивший казенное раввинское училище или общеобразовательную школу. Так как еврейские общины подозревали, что кандидаты на должность раввина, отвечающие требованиям правительства, зачастую недостаточно сведущи в еврейском религиозном законе, они стали избирать себе еще одного раввина. Раввин, отвечающий требованиям правительства, стал называться казенным, а традиционный раввин — духовным. Казенный раввин по существу был чиновником, который вел метрические книги, приводил еврейских призывников к присяге и т. п., а духовный раввин выполнял раввинские обязанности: решал галахические проблемы, был главой раввинского суда.
Капелла — клезмерский ансамбль.
Капота — традиционное мужское платье, долгополый кафтан.
Кацап — так в Польше, Белоруссии и на Украине называли русских.
Квасное — см. Пейсах.
Кидуш — освящение субботы или праздника, благословения на вино и хлеб, произносимые перед праздничной трапезой.
Клезмер — еврейский народный музыкант. Клезмерские капеллы играли, как правило, на свадьбах.
Клойз — небольшой молитвенный дом, часто цеховой или принадлежащий какому-либо хасидскому толку.
Кошерный — разрешенный для использования в пищу, антоним к слову «трефной».
Коэн — потомок священников Иерусалимского храма.
Кришме [от «Криес Шма (Чтение Шма)», древнеевр.] — молитва, которая состоит из трех частей: а) Дварим (Втор.), 6:4–9; б) Дварим (Втор.), 11:13–21; в) Бемидбар (Числ.), 15:37–41. Кришме открывается произнесением «Шма», стиха, названного так по первому слову «Шма» («Слушай»): «Слушай, Израиль: Господь наш Бог — Бог единый» [Дварим (Втор.), 6:4]. Этот стих является символом веры в иудаизме. Кришме входит в состав утренней и вечерней молитв, ее также произносят перед отходом ко сну. Этой молитве учат с раннего детства.
Кугл — род запеканки.
Левит — потомок колена Левиева.
Лекех — коржик. Лекех с водкой — традиционное угощение, которое прихожанин приносил в свою синагогу в связи с каким-либо семейным событием, например обрезанием или бар-мицвой сына, годовщиной смерти одного из родителей и т. п.
Мазл-тов (доброй судьбы, древнеевр.) — благопожелание и поздравление.
Майрев — вечерняя молитва, произносимая после заката.
Маскил — приверженец Гаскалы, еврейского Просвещения.
Махзор — сборник молитв для праздников.
Маца — см. Пейсах.
Мегила — см. Пурим.
Мезуза (дверной косяк, древнеевр.) — прямоугольный кусочек пергамента, на котором помещены стихи из Дварим (Втор.), 6:4–9, 11:13–21. Этот пергамент сворачивается в свиток и помещается в специальную коробочку, которая прикрепляется к косяку каждого дверного проема в доме.
Мелаве-малка (проводы царицы, древнеевр.) — специальная трапеза, устраиваемая после окончания субботы. Особенно популярна в хасидской среде.
Меламед — учитель в хедере.
Местечко (городок, польск.) — торгово-ремесленное частновладельческое поселение городского типа в Западном крае и Царстве Польском. Так как большинство населения местечек обычно составляли евреи, то административный по своему происхождению термин приобрел этническую окраску в устойчивом словосочетании «еврейское местечко».
Мидраш — жанр еврейской позднеантичной и раннесредневековой литературы, основанный на внеконтекстном толковании библейских стихов.
Миква — ритуальная купель, погружение в которую предписано для достижения ритуальной чистоты, в частности, замужним женщинам после регул.
Минха — послеполуденная молитва, произносимая до заката.
Минха-майрев — обычно произнесение минхи и майрева объединяли. Минху произносили непосредственно перед закатом, майрев — после некоторого перерыва, после заката. Таким образом, три ежедневных обязательных посещения синагоги в реальности сокращали до двух.
Миньен (число, древнеевр., то есть нужное число) — кворум для публичного богослужения, не менее десяти совершеннолетних (старше 13 лет) мужчин.
Миснагед (противник, древнеевр.) — так хасиды прозвали своих оппонентов. Позднее эта кличка утратила полемическую заостренность: так стали называть всякого религиозного еврея, не являющегося сторонником хасидизма.
Мицва — 1) заповедь; 2) доброе дело.
Мишна — см. Талмуд.
Моел — человек, делающий обрезание.
Мусеф (дополнение, древнеевр.) — дополнительная молитва по праздникам и субботам.
Недельный раздел — часть текста Пятикнижия, прочитываемая в синагоге по свитку Торы и одновременно изучаемая в хедерах. Пятикнижие разбито на недельные разделы таким образом, чтобы за год прочитать его целиком.
Не рядом будь помянуто (легавдил, букв. отделяя, древнеевр.) — выражение, употребляемое тогда, когда в одной фразе упоминаются одновременно священные и профанные, низкие, с точки зрения говорящего, предметы.
Нигун (напев, древнеевр.) — напев без слов, на слоги. Распевание нигунов — принятая в хасидизме медитативная практика. Кроме того, нигуны, заменяя собой инструментальную музыку, позволяют хасидам плясать по субботам и праздникам, когда пользование музыкальными инструментами запрещено. У каждого хасидского ребе и у каждого хасидского направления есть свои нигуны.
Нусех — литургический ритуал. У евреев Центральной и Восточной Европы традиционно был принят «нусех ашкеназ». Хасиды изменили этот нусех и стали молиться по ритуалу, приближенному к сефардскому.
Обрезание — обрезание крайней плоти. Обряд, совершаемый над еврейскими мальчиками на восьмой день от рождения, а также празднество, устраиваемое семьей новорожденного по случаю проведения этого обряда.
Обыватель — представитель одного из двух ключевых сословий в традиционной еврейской общине Восточной Европы: высшее сословие — обыватели (балебатим, ед. число балебос), низшее — ремесленники (балмелохес, ед. число балмелохе). Слово «балебос» означает буквально «домовладелец», но в зависимости от контекста может означать также «хозяин», «работодатель» и, самое главное, определенное сословное положение. Во владельческих местечках домовладельцы платили поземельный налог помещику, и в качестве налогоплательщиков только они были полноправными членами еврейской общины. Наличие дома становилось, таким образом, дифференцирующим социальным признаком. Обыватель был человеком, который производил не конкретную продукцию, а деньги: купцом, арендатором, маклером и т. д. Этот образ жизни оставлял ему свободное время для занятий Торой дома и в бесмедреше: такие занятия считались наиболее достойным времяпрепровождением для порядочного человека. Антагонизм между обывателями и ремесленниками был очень велик.
Огласовки — диакритические знаки, имеющие функцию гласных.
Ойрех — пришлый в общине человек, которому негде провести субботу или праздник. Его забирает к себе домой из синагоги один из прихожан.
Омуд — пюпитр для хазана.
Орн-койдеш — кивот в синагоге, в котором находятся свитки Торы. Расположен у восточной стены молельного зала.
Осенние праздники — череда праздников от Рошашоне до Симхастойре.
Пейсах (еврейская Пасха) — праздник, посвященный исходу из Египта. Важнейшим ритуалом этого праздника является специальная трапеза, сейдер. В течение Пейсаха, который длится восемь дней, запрещено есть и даже держать в доме квасное, то есть хлеб, крупы и любые продукты из зерна. Вместо хлеба едят пресные лепешки, мацу.
Пейсы — локоны на висках, не состригаемые ортодоксальными евреями в соответствии с библейской заповедью.
Погребальное братство — общественное объединение для помощи при похоронах.
Поруш (отделившийся, древнеевр.) — женатый человек, оставивший семью и проводящий все свое время в бесмедреше за книгами, часто в другом городе.
Пурим — веселый праздник, посвященный событиям, описанным в Книге Есфирь. Главный ритуал праздника — публичная рецитация Книги Есфирь но специальному свитку (Мегиле). Сопровождается хмельными пирушками и музыкальными представлениями, разыгрываемыми на библейские сюжеты. Эти представления называются пуримшпилями.
Раввин — лицо, имеющее высшее духовное образование и исполняющее обязанности эксперта по галахическим вопросам и главы раввинского суда.
Раши — акроним выдающегося комментатора Писания и Талмуда раббейну Шломо бен Ицхака (наставник наш Шломо сын Ицхака, 1040–1105, Труа, Франция). Составил комментарий на все книги Писания и большинство трактатов Талмуда. Так как в еврейской традиции имя автора часто является названием его сочинения, то «Раши» стало также названием самих комментариев. Изучение Пятикнижия с Раши составляло основу хедерного образования для мальчиков младшего возраста.
Реб (господин, древнеевр.) — форма вежливого обращения к мужчине, аналогична русскому «господин».
Ребе — 1) учитель в хедере, то же, что меламед; 2) обращение к раввину, даену, другим лицам духовного звания; 3) то же, что цадик.
Ребецин — жена раввина.
Ремесленник — см. Обыватель.
Респонсы (шайлес ве-тшувес, букв. вопросы и ответы, древнеевр.) — особый жанр раввинистической литературы. Сборники ответов и разъяснений, которые тот или иной известный раввин давал на заданные ему галахические вопросы. Респонсы были важным источником с точки зрения прецедентного права и практики правоприменения.
Рошашоне (голова года, древнеевр.) — Новолетие, начало года по еврейскому календарю, религиозный праздник. Открывает череду Осенних праздников.
Сандек — мужчина, который держит на руках младенца во время обрезания. На эту роль приглашали наиболее уважаемых людей.
Свиток Торы — текст Пятикнижия, написанный на пергаменте и используемый во время богослужения. Является необходимым атрибутом синагоги или другого еврейского молитвенного дома.
Святой язык — совокупность различных пластов древнееврейского языка.
Сейдер — см. Пейсах.
Симхастойре (радость Торы, древнеевр.) — праздник в честь окончания годового цикла чтения Пятикнижия и одновременно начала нового цикла. Завершает собой череду Осенних праздников. Отличается буйным весельем и неумеренным употреблением спиртных напитков.
Смиха — посвящение в сан раввина, официальное признание пригодности к занятию раввинской должности, подписываемое несколькими авторитетными раввинами.
Сойфер — писарь, изготовляющий свитки Торы, мезузы и тфилн.
Срок — семестр в хедере. Учебный год в хедере делился на два «срока», зимний и летний. Каждый «срок» длился от четырех до шести месяцев, в зависимости от того, как выпадали еврейские праздники. В течение «срока» ученика нельзя было забрать от одного меламеда к другому.
Стражник — низший чин сельской полиции.
Сукка — см. Суккес.
Суккес (русское название — Кущи) — осенний праздник, в течение которого полагается в течение восьми дней жить или хотя бы трапезничать в сукке, то есть в специальной куще.
Талес — молитвенное покрывало, накидываемое поверх одежды мужчинами во время утренней молитвы. К углам талеса, в соответствии с заповедью, прикреплены четыре кисти, называемые цицес.
Талмуд — собрание устного учения, сформированного во II в. до н. э. — V в. н. э. Состоит из более древней части — Мишны и комментария на Мишну — Гемары. Талмуд содержит в себе как галахические, то есть законоучительные, так и агадические, т. е. повествовательные, фрагменты. Является основным предметом изучения в бесмедрешах и ешивах.
Танаи — законоучители, чьи мнения собраны в Мишне.
Танах — еврейская Библия. Аббревиатура по первым буквам трех разделов, в которые сгруппированы библейские книги: Тора (Пятикнижие), Невиим (Пророки), Ктувим (Писания). Буква «каф», с которой начинается слово «Ктувим», обозначает также звук «х».
Таргумы — переводы библейских книг на арамейский язык, выполненные в начале новой эры. Соответственно язык Таргума — арамейский.
Тахрихим — погребальное одеяние.
Тейглех — кусочки теста, сваренные в меду; традиционное лакомство.
Тишебов («девятый день месяца Ов», древнеевр.) — день разрушения первого и второго Иерусалимского храмов. Отмечается обрядами траура: суточным постом, отказом от кожаной обуви, в некоторых общинах посещением кладбища.
Тойсфес (Тосафот, букв. дополнения, древнеевр.) — корпус глосс и комментариев к Талмуду, созданных в ХII-ХIII вв. в северной Франции и в Германии.
Тора — 1) Пятикнижие Моисеево; 2) вся совокупность иудейского вероучения и его текстов. Отсюда выражение: «учить Тору», что означает изучать какой-либо текст, например Талмуд; 3) учение, принадлежащее какому-либо конкретному законоучителю или духовному лидеру. Отсюда выражение: «в чем его Тора?».
Тосафисты — авторы Тойсфес.
Трефной — запрещенный к использованию в пищу, антоним к слову «кошерный». В переносном смысле: запретный, нечистый.
Тфилн — кожаные коробочки с вложенными в них четырьмя библейскими цитатами (Исх. 13, 10 и 11–16, Втор. 6, 4–9; 11, 13–21), написанными на пергаменте. Тфилн совершеннолетний мужчина должен повязывать на левую руку и лоб во время утренней молитвы.
Тхинес — специальные женские молитвы, составленные на идише. Многие из них носили окказиональный характер.
Фоня (от Афоня, диминутив имени Афанасий) — презрительное прозвище русских на идише.
Хазан — синагогальный певчий, лицо, осуществляющее вокальное ведение публичной молитвы.
Хазока (закрепление, древнеевр.) — право давности, бывшее основным регулятором экономической активности в традиционной еврейской общине.
Хала — часть теста, которая должна быть отделена при замесе. Во времена Храма это тесто отдавали священнику, после его разрушения сжигают. Так как эту заповедь исполняли во время выпечки хлеба на субботу, слово «хала» стало обозначать субботнюю булку, часто пшеничную и плетеную.
Халица (разувание, древнеевр.) — обряд избавления от исполнения заповеди левиратного брака. В Пятикнижие [Дварим (Втор.), 25:5-10] сказано о заповеди левиратного брака, то есть об обязанности неженатого человека жениться на бездетной вдове своего старшего брата. Дабы избавить вдову и деверя от обязанности вступать в левиратный брак, там же в Пятикнижии прописан обряд халицы, впоследствии уточненный мудрецами Талмуда. Обряд состоит в том, что вдова снимает с правой ноги деверя специальную кожаную сандалию, отбрасывает ее, плюет в пол перед разутым и произносит: «Так поступают с человеком, который не созидает дома брату своему, и нарекут ему имя в Израиле: дом разутого» [Дварим (Втор.), 25:9-10].
Хасид (благочестивый, древнеевр.) — приверженец хасидизма.
Хасидизм — мистико-экстатическое направления в иудаизме, возникшее в середине XVIII в. и захватившее существенную часть еврейского мира Восточной Европы. Остается влиятельным до сих пор в кругах ортодоксального еврейства. Основателем хасидизма был р. Исроэл Баал-Шем-Тов. Для хасидов характерно то, что они являются фанатичными приверженцами своих духовных лидеров — цадиков.
Хедер (комната, помещение, древнеевр.) — начальная религиозная школа для мальчиков. В ней учились с трех-четырех и до тринадцати лет, а иногда и дольше.
Холамоед (будни праздника, древнеевр.) — дни между двумя первыми и двумя последними днями праздников Пейсах и Суккес. Эти праздники длятся восемь дней. Соответственно статусом полного праздника обладают только два первых и два последних дня, а в середине между ними холамоед — что-то вроде каникул.
Хумеш — Пятикнижие.
Хупа — балдахин, под которым происходит свадебный обряд. Хупа представляет собой квадратное полотнище, растянутое за углы на четырех шестах. Ее ставят обычно под открытым небом, например, во дворе синагоги.
Цадик (праведник, древнеевр.) — см. Хасидизм.
Цейне-Рейне (пойдите-ка, поглядите-ка, древнеевр.) — пересказ Пятикнижия на идише с включенными в текст мидрашами и комментариями. Эта книга была составлена Янкевом б. Ицхоком из Янова около 1600 г. и пользовалась необыкновенной популярностью, особенно среди женщин.
Цимес — тушеные овощи, чаще всего морковь; блюдо еврейской кухни.
Цицес — специальные кисти, прикрепленные к углам талеса и арбоканфеса. Их ношение является заповедью.
Чолнт — горячее субботнее блюдо, тушеное мясо с картофелем, бобами и т. д. С вечера пятницы чолнт ставили в вытопленную русскую печь, плотно закрыв заслонку. Назавтра, ко второй субботней трапезе, блюдо оставалось горячим.
Шабес-гой — нееврей, которого заранее, до наступления субботы, нанимают для выполнения всяких жизненно необходимых, но запрещенных в субботу действий; гасить свечи в синагоге, топить печи в домах, доить скот и т. п.
Шадхен — профессиональный сват.
Шалахмонес — подарок на Пурим. Обычно состоит из каких-либо лакомств. Такие подарки посылали из семьи в семью.
Шамес — синагогальный служка.
Шахрис — утренняя молитва, произносимая между рассветом и полуднем.
Швуес — праздник, посвященный дарованию Торы на Синае.
Шма (Слушай, <Израиль>, древнеевр.) — иудейский символ веры, представляющий собой библейский стих: «Слушай, Израиль: Господь — Бог наш, Бог один!» (Втор. 6:4). Текст Шма входит во все еврейские молитвы. Его произносят в минуту опасности или перед смертью.
Шмоне эсре (восемнадцать, древнеевр.) — «Восемнадцать славословий», которые входят во все три ежедневные литургии. Этот текст называется так по традиции, так как на самом деле он состоит из девятнадцати славословий. Шмоне эсре произносят стоя, про себя.
Шойфер — бараний рог, в который трубят в синагоге в Рошашоне и Йом Кипур.
Шойхет — резник, который осуществляет забой скота и птицы согласно иудейскому религиозному закону.
Шолом алейхем (Мир вам, древнеевр.) — традиционное приветствие.
Штендер — традиционная синагогальная мебель, род невысокой конторки.
Штибл (домик, идиш) — молитвенный дом, как правило, хасидский.
Штраймл — парадный головной убор женатого мужчины, шапка с бархатной тульей, отороченной мехом. Как правило, штраймл был знаком учености и высокого социального статуса ее обладателя.
Эсрег — цитрон, цитрусовый плод, необходимый атрибут праздника Суккес.
Издано при поддержке Марины и Анатолия Кочановых в рамках Издательской программы семьи Ремпель.
This publication is supported by Marina and Anatoly Kochanov
The Wandering Stars Book Series was inaugurated and is named in honor of The Rempel Family
«Я нашла того, кого любит душа моя…»
Песнь Песней, 3:4Это издание посвящается моему любимому мужу
АНАТОЛИЮ АВСЕЕВИЧУ КОЧАНОВУ
С первого дня нашего знакомства я не перестаю им восхищаться.
Уважаемый и успешный бизнесмен, любящий муж, отец и дедушка, Толя остается моим самым близким другом.
Он любит свою семью, внимателен к друзьям, помогает еврейской общине и всем, кто его окружает.
Пусть дарует ему Господь крепкое здоровье, истинное счастье и много радости и нахоса от детей и внуков.
Мы все тебя очень любим.
МАРИНА КОЧАНОВА
«I found him whom my soul loves…»
Song of Songs 3:4This book is published in honor of my beloved husband
ANATOLY AVSEYEVICH KATCHYANOV
From the first day that I met him, I have never stopped admiring him.
Respected as a successful businessman, always a loving husband, father, and grandfather, Tolya is my best friend.
He loves his family, cares deeply about his friends, the Jewish community and all who surround him.
May G-d bless him with good health, genuine happiness and much nachas from his children and grandchildren.
We all love you very much.
Dedicated by
MARINA KATCHYANOVA
В юности Исроэл-Иешуа Зингер (1893–1943), сын и внук раввинов, порвал, как и многие в его поколении, с традиционным миром и после долгих лет скитаний и тяжелого труда добился литературного признания, став одним из самых популярных прозаиков 1920-х-1930-х годов в литературе на идише. Во время Второй мировой войны И.-И. Зингер начал искать пути примирения с собственным прошлым. Чем более зловещие слухи о судьбе польских евреев доходили до США, тем сильнее он чувствовал тоску по утраченному миру детства. В 1943 году Зингер начал писать мемуары «О мире, которого больше нет». Но едва начатую работу оборвала скоропостижная смерть писателя. Относительно небольшой по объему фрагмент был опубликован уже после смерти писателя.
Мемуары Зингера — не только увлекательная и мастерски написанная картина жизни в традиционном местечке. Теперь, когда произведения И.-И. Зингера стали одно за другим появляться в переводах на русский язык, читатель найдет в этих мемуарах развернутый автокомментарий к сочинениям одного из самых интересных еврейских прозаиков XX века.
Примечания
1
Билгорай — уездный город Люблинской губернии. В нем, по переписи 1897 г., проживало 5800 человек, из них 3500 евреев.
(обратно)2
…в честь коронации царя Николая II… — состоялась 20 октября (1 ноября) 1894 г.
(обратно)3
Даруй милость <Свою царю> (древнеевр.). Начальные слова и название молитвы за царя. — Примечания составлены В. Дымшицем.
Здесь и далее слова на древнееврейском, идише, русском, польском и немецком выделены курсивом. Примечания, обозначенные цифрами, даны в конце книги.
(обратно)4
…мою старшую сестру… — Гинда-Эстер Зингер, в замужестве Крейтман (1891–1954); так же, как ее младшие братья И.-И. Зингер и И. Башевис, стала известным прозаиком. Писала на идише.
(обратно)5
Ленчин — еврейское название деревни Леончин Сохачевского уезда Варшавской губернии. В ней, по переписи 1897 г., проживало около 400 человек, из них около 200 евреев.
(обратно)6
Специальный термин, использовавшийся евреями для обозначения костела.
(обратно)7
…полиция начала изгонять из окрестных деревень евреев… — В конце 1880-х — начале 1890-х гг. в Российской империи происходило массовое выселение евреев из сельской местности.
(обратно)8
Из его имени Леон они сделали название Леончин, по-еврейски — Ленчин. — Эти сведения носят легендарный характер. Деревня Леончин называлась так уже в XVIII в.
(обратно)9
Томашов — уездный город Люблинской губернии. В нем, по переписи 1897 г., проживало 6000 человек, из них 3500 евреев.
(обратно)10
Мой дед назначил зятю пятилетнее содержание… — традиционная форма приданого. После свадьбы молодоженов содержали родители жены в течение оговоренного количества лет. В это время зять должен был продолжать свое образование и одновременно подыскивать источник существования.
(обратно)11
Учитель ведения (древнеевр.). Второй раздел очень авторитетного галахического кодекса Арба турим («Четыре столпа»), составленного Яковом бен Ашером (1270–1343). Посвящен в том числе кашруту и ритуальной чистоте. то есть практическим проблемам, находящимся в ведении раввина.
(обратно)12
Накрытый стол (древнеевр.). Наиболее авторитетный галахический кодекс, служащий основой современного иудаизма. Составлен Иосефом Каро (1488–1575).
(обратно)13
…ездил к ребе… — Посещение двора цадика — важнейшая хасидская практика. Как правило, хасиды отправлялись ко двору своего цадика на Осенние праздники.
(обратно)14
Шинява — еврейское название местечка Синява. Расположено в Западной Галиции между Ярославом и Лежайском. Было резиденцией цадика Ехезкела-Шраги Хальберштама (1815–1898), представителя влиятельной в Галиции Сандзкой династии.
(обратно)15
…по ту сторону границы… — Имеется в виду русско-австрийская граница. Галиция входила в состав Австро-Венгрии.
(обратно)16
…дед был «русским»… — Польские евреи называли «русскими» евреев из губерний черты оседлости.
(обратно)17
Волынь — Волынская губерния непосредственно входила в Российскую империю, в отличие от Царства Польского, которое пользовалось определенной автономией.
(обратно)18
Порицк — местечко Владимир-Волынского уезда Волынской губернии. В нем, по переписи 1897 г., проживало 2264 человека, из них 1300 евреев.
(обратно)19
Мациев — местечко Ковельского уезда Волынской губернии. В нем, по переписи 1897 г., проживало 4000 человек, из них 2337 евреев.
(обратно)20
Отец мой… был потомком «поляков». — То есть евреев — уроженцев Царства Польского.
(обратно)21
…говорили на волынском диалекте… — Различные диалекты идиша отличаются фонетически. В частности, в польском диалекте идиша долгое «а» и «о» соответствуют дифтонгам «ай» и «ой» в волынском диалекте.
(обратно)22
Трискский ребе. — Триск — еврейское название местечка Турийск Ковельского уезда Волынской губернии. В Триске находилась резиденция знаменитого цадика Аврома Тверского (1806–1889), представителя влиятельной на Украине Чернобыльской династии. Двор трискского ребе был местом массового паломничества.
(обратно)23
Замостье — уездный город Люблинской губернии. В конце XIX в. в нем проживало 14 000 жителей, из которых половина — евреи. Замостье было одним из центров Гаскалы (еврейского Просвещения) в Восточной Европе, поэтому там можно было найти еврея, преподающего русский язык.
(обратно)24
…ходит в собственных волосах. — Набожные еврейки коротко стригут волосы, а голову закрывают чепцом или париком.
(обратно)25
…набрать подписчиков на книгу… — Религиозные сочинения часто издавались по подписке, причем автор сам искал подписчиков.
(обратно)26
Материнский язык (идиш). Обиходное название идиша.
(обратно)27
«Отборные жемчуга» (древнеевр.). Средневековый сборник этических афоризмов. Авторство без достаточных оснований приписывается Шломо Ибн Габиролю (1022–1055) — великому поэту и богослову (Испания).
(обратно)28
Злотый — польский злотый равнялся 15 русским копейкам.
(обратно)29
Сохачев — уездный город Варшавской губернии. В нем, по переписи 1897 г., проживало 6000 человек, из них 3800 евреев.
(обратно)30
Продажа квасного. — В обязанности раввина входила ритуальная покупка перед Пейсахом квасного у всех членов общины с последующей перепродажей его определенному нееврею, который из года в год выполнял эту функцию. Смысл этой операции заключается в том, чтобы все квасное, запрещенное в Пейсах, сделать не принадлежащим евреям на время праздника. После Пейсаха сделка расторгается.
(обратно)31
Право продажи дрожжей. — Община контролировала монополию на те или иные виды промыслов и ремесел.
(обратно)32
Канчик — специальная плеточка, использовавшаяся в хедере.
(обратно)33
Диминутив от имени автора — Иешуа.
(обратно)34
Гений (древнеевр.) — титул выдающихся талмудистов.
(обратно)35
Иешуа Кутнер — то есть Иешуа из Кутно. Прозвище автора галахических сочинений и комментатора Писания Исроэла-Иешуа Трунка (1821–1892), который в 1861–1892 гг. был раввином в Кутно, уездном городе Варшавской губернии. И.-И. Трунк поддерживал хасидских цадиков. Полный тезка И.-И. Зингера, который получил в честь него оба имени. В ашкеназской традиции имя дают только в честь умерших. Характерно, что Зингер родился в 1893 г., вскоре после смерти Трунка. Кутно — уездный город Варшавской губернии. В нем, по переписи 1897 г., проживало 5000 евреев (около 50 % населения).
(обратно)36
Благословенной памяти — благословение, добавляемое после упоминания имени умершего.
(обратно)37
Диминутив от имени автора — Иешуа.
(обратно)38
…молоко попадало в кашу с мясом и делало еду трефной. — В иудаизме существует жесткое разделение мясной и молочной пищи, поэтому попадание молока в мясное блюдо делает трефным и блюдо, и посуду, в которой оно готовится.
(обратно)39
Который создал (древнеевр.). Название благословения, которое верующий произносит после посещения уборной. Оно, как и другие благословения. называется по первым словам, произносимым после обшей вводной формулы «Благословен. Ты, Господь. Бог наш. Царь вселенной». Далее следует первая фраза: «Который создал человека мудро, сотворив его тело с необходимыми отверстиями и внутренними полостями…».
(обратно)40
Траурные элегии, читаемые в синагоге в Тишебов.
(обратно)41
Огласовка, которая либо не произносится, либо произносится как краткое «э».
(обратно)42
Огласовка, которая произносится как «э».
(обратно)43
…Он сотворил меня мальчиком. — Пародийное осмысление четвертого из утренних благословений, в котором еврей благодарит Всевышнего за то, что Тог не создал его женщиной.
(обратно)44
И воззвал (древнеевр.). Слова, которыми начинается третья книга Пятикнижия (Левит). В еврейской традиции книги Пятикнижия называют по первым словам. Таким образом, это название и соответствующей книги, и открывающего ее недельного раздела. Изучение Пятикнижия в хедере всегда начинается с Ваикро (Книги Левит).
(обратно)45
Кришме — от «Криес Шма» — «чтение <молитвы> Шма» (древнеевр.). После рождения мальчика ученики хедера читали перед занавешенной постелью роженицы молитву «Шма», за что потом получали сладости. Согласно широко распространенным представлениям, роженице и новорожденному мальчику до обрезания, то есть первые восемь дней после рождения, угрожают зловредные демоны. Чтение «Кришме» выполняло обережную функцию.
(обратно)46
Песнь восхождения (древнеевр.). Первые слова и название 125-го псалма. Считалось, что он оберегает роженицу от сглаза и демонов. Листки с этим псалмом, переписанным от руки или напечатанным, вешали над постелью роженицы.
(обратно)47
Вступления (древнеевр.). Гимн, исполняемый перед началом чтения Торы в праздник Швуес.
(обратно)48
К Моисею (древнеевр.).
(обратно)49
Моисей, наставник наш. Говоря (древнеевр.). Мойше-рабейну — традиционное именование пророка Моисея.
(обратно)50
…алеф… меньше. — Буква «алеф», последняя в слове «ваикро», традиционно пишется и печатается мельче других букв.
(обратно)51
Дневной сон. — Традиционно в субботу после трапезы было принято поспать.
(обратно)52
Ее любимыми книгами были… — Все перечисленные книги много раз переиздавались, в том числе с параллельным переводом на идиш, что сделало их очень популярными среди набожных женщин.
(обратно)53
Обязанности сердца (древнеевр.). Этическое сочинение, написанное в 1080 г. раввином, философом и поэтом Бахьей ибн Пкудой (XI в., Испания) на арабском языке. В 1161 г. оно было переведено на древнееврейский Иегудой ибн Тиббоном.
(обратно)54
Путь праведных (древнеевр.). Этическое сочинение, написанное Моше-Хаим Луццатто (1707, Падуя, Италия — 1747, Акко, Палестина), поэтом, драматургом и мистиком. Была впервые издана в Амстердаме в 1740 г.
(обратно)55
Начала мудрости (древнеевр.). Сочинение Элиягу де Видаса из Цфата (XVI в.), содержащее описания адских мук.
(обратно)56
Критическое познание мира (древнеевр.). Этическое сочинение философа, богослова и поэта Иедаи Бедерси (1270–1340, Прованс).
(обратно)57
Книга праведного (древнеевр.). Анонимное этическое и философское сочинение, написанное, по-видимому, в XIII в.
(обратно)58
Мой отец… не был большим знатоком Пророков и Писаний. — Изучение галахической части традиции — Пятикнижия и Талмуда — было основой еврейского образования. Повествовательным и моралистическим книгам в составе Библии уделялось в ходе учебного процесса гораздо меньше внимания. Происходило это в том числе из-за того, что уже маленьких мальчиков усаживали за Талмуд. В XIX в. маскилы, акцентируя этическую сторону иудаизма, стали обращать особенно большое внимание на Книги Пророков. Реакцией ортодоксальных кругов стал почти полный отказ от изучения Пророков. Человек, специально изучающий Книги Пророков, мог быть заподозрен в маскильской «ереси».
(обратно)59
Книга Завета (древнеевр.). Энциклопедическое сочинение Пинхаса-Эли Гурвича (1765–1821). издано впервые в 1797 г. Эта книга содержит популярно изложенные сведения по естественным наукам, географии и астрономии, а также своеобразную этическую философию, построенную на смешении просветительских и каббалистических воззрений.
(обратно)60
Тропы мира (древнеевр.). Географическое сочинение Шимшона Блоха (1784–1845), изданное в 1822–1827 гг. Содержит описание Азии и Африки, сделанное на основе современных автору европейских знаний.
(обратно)61
Книга по истории евреев от падения Вавилона до разрушения Второго Храма. Написана в X в. в Южной Италии на основе сочинений Иосифа Флавия. Существовал ряд компилятивных переложений этой книги на идиш. Долгое время эта книга была основным источником знаний по истории постбиблейского периода.
(обратно)62
Господь, Владыка мироздания (арамейский). Субботний гимн, сочиненный каббалистом Исраэлем Наджарой (ум. 1819 г.).
(обратно)63
Пьонтек — местечко Ленчицкого уезда Калишской губернии.
(обратно)64
Источник Иакова (древнеевр.). Антология талмудической агады, составленная Яковом ибн Хабибом (1445–1515, Салоники). Переиздавалась свыше ста раз, с различными комментариями.
(обратно)65
Карающая плеть (древнеевр.). Нравоучительное сочинение Элиягу из Смирны (начало XVIII в.), содержащее описания адских мук и структуры ада.
(обратно)66
Шевес-мусер — авторов часто называли по их сочинениям.
(обратно)67
…приглашали к субботнему столу солдата из соседнего форта… — Обычай приглашать к субботнему и праздничному столу евреев — солдат русской армии был широко распространен.
(обратно)68
…большинство из них брили бороды… — Иудаизм запрещает брить бороду.
(обратно)69
…не успевал… сходить в уборную… — Перед молитвой благочестивый еврей старался очистить кишечник.
(обратно)70
Исправление Зогара (древнеевр.) Отдельный трактат, входящий в Книгу Зогар. Посвящен толкованию первого слова Пятикнижия.
(обратно)71
…приходил к чтению Торы. — Во время утренней литургии в субботу происходит публичная рецитация недельного раздела по свитку Торы.
(обратно)72
Янкев Эмден (1698–1776, Германия) — выдающийся раввин, автор галахических сочинений и комментариев к молитвеннику.
(обратно)73
…сразу же после благословения… — Имеется в виду послетрапезное благословение.
(обратно)74
…вызывали к Торе разве что на Симхастойре… — На Симхастойре принято вызывать к чтению Торы всех без исключения мужчин, даже самых маленьких мальчиков. При этом вызывают по нескольку человек сразу.
(обратно)75
…во время покаянной молитвы бить себя в грудь… — Во время произнесения покаянной молитвы в Йом Кипур символически ударяют себя в грудь.
(обратно)76
…коэны готовились к благословению… — Перед произнесением благословения коэны разуваются, а потом им омывают руки.
(обратно)77
Тишебов. — Несмотря на то что Тишебов — день траура, он содержит в себе элементы карнавала. Например, в этот день швыряли репьи, цеплявшиеся за одежду и бороды молящихся. Однако это, как правило, делали дети.
(обратно)78
Мыльный корень — корень растения мыльнянка. Используется в кондитерской промышленности. В народной медицине считается средством от угрей и других дефектов кожи.
(обратно)79
…даже в субботу ходят босиком. — Босиком евреи ходят в знак траура, поэтому в субботу и праздники даже самые бедные, те, кто ходил по будням босиком, носили обувь.
(обратно)80
…вместо цицес к ним привязаны связки хлопчатых нитей. — Для цицес используют шерстяные нити.
(обратно)81
Хаперы. — С 1828 г. евреи Российской империи подлежали рекрутской повинности. В 1853 г. вышел указ о сдаче в рекруты беспаспортных евреев. Согласно этому указу общины могли вместо своих рекрутов поставить в зачет пойманных беспаспортных евреев. Для ловли таких бродяг общинное руководство нанимало специальных людей, «хаперов». В результате в течение нескольких лет происходила настоящая «охота на людей». Ловили не только беспаспортных бродяг, но отнимали паспорта у молодых людей, а потом отдавали их в солдаты. Ловили мальчиков и отдавали их в кантонисты. К описываемому моменту рекрутчина была в далеком прошлом, но сохранилась в народной памяти.
(обратно)82
«Клопик» — маленький, до 10 см, нож, у которого лезвие и рукоять составляют одно целое.
(обратно)83
…братья… встречают псов голыми руками, как будто они вовсе и не сыны Израилевы. — По множеству мемуарных свидетельств, евреи не держали собак, не умели с ними обращаться и очень их боялись. Лучшим средством от собак считался заговор.
(обратно)84
Амалек — согласно Пятикнижию, племя, напавшее на евреев сразу после Исхода, символ абсолютного зла. С амалекитянами воевали цари Саул и Давид.
(обратно)85
Потаскухи тебя будут таскать… — Подстрочный перевод: «Гойский бог из камня, / Ноги есть, а ходить не может, / Руки есть, а дотронуться не может, / Четыре девки должны его водить…».
Последняя строка намекает на особенности крестного хода, описанные в главе «„Зеленый Четверг“ и выкрест с распятием во главе католической процессии». Песенка представляет собой парафраз псалма: «Их идолы — серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них рот, но они не говорят, есть у них глаза, но они не видят, есть у них уши, но они не слышат, есть у них нос, но они не обоняют, есть у них руки, но они не осязают, есть у них ноги, но они не ходят, они не издают звука своей гортанью. Подобны им будут делающие их, все, кто полагается на них» [Тегилим (Пс.), 115:4–8].
(обратно)86
Третья трапеза. — Важной частью субботнего ритуала являются три трапезы. Третья трапеза происходит перед концом субботы. Хасиды превратили третью трапезу в особый общественный ритуал, который происходит не в семье, а в собрании.
(обратно)87
Исав — брат-близнец и враг Иакова, прародителя евреев, считался прародителем христианских народов, поэтому именем «Исав» уничижительно называли неевреев. Кроме того, в Библии у Исава есть прозвище Эдом, что означает «красный» и указывает на рыжий цвет его волос. Отец, называя сына Исавом, намекает одновременно на его недостойное еврея «мужицкое» поведение и на его раскрасневшиеся щеки.
(обратно)88
…в микву вылили молоко. — Непроточная вода, попавшая в микву, сделала ее некошерной. Для того чтобы снова наполнить микву проточной водой, ее следует омыть какой-нибудь жидкостью, не являющейся водой, например молоком.
(обратно)89
«Маим шелону». — Существует обычай изготовлять мацу, предназначенную непосредственно для седера, накануне Пейсаха. В конце дня, предшествующего кануну Пейсаха, после захода солнца, но до наступления ночи идут за водой к колодцу, роднику или реке. В это время вода в них наиболее холодная. Воду оставляют на ночь. Все это делают для того, чтобы, когда на этой воде будут замешивать тесто, оно не сквасилось. Эта вода называется «маим шелону» («вода, которая переночевала», древнеевр.).
(обратно)90
Всё (древнеевр.). Название благословения, произносимого перед вкушением различных продуктов, в том числе водки. Здесь имеется в виду именно благословение на водку. Это благословение называется так потому, что после вводной части говорят: «всё существует по слову Его».
(обратно)91
Вино для возлияний (древнеевр.), то есть идоложертвенное вино. Термин, которым обозначают некошерное вино. Таким является не только всякое вино, которое изготовил иноверец, но и то, до которого он дотронулся.
(обратно)92
…вино для кидуша, дабы он, поглядев на него, не сделал его трефным. — Взгляд иноверца не может сделать вино некошерным, но делает его непригодным для кидуша. Это мнение было высказано раввином, талмудистом и каббалистом Ишаей Горовицем (1565–1630) в его мистико-этическом сочинении «Шней лухот га-брит» («Две скрижали Завета»). Это сочинение было очень популярно и повлияло на идеологию хасидизма.
(обратно)93
Ритуальный нож — шойхет пользуется специально заточенным ножом.
(обратно)94
Насмешливое именование Иисуса в идише.
(обратно)95
…не был раввином и по закону не имел права носить пейсы и раввинскую одежду. — В Российской империи евреям, кроме служителей культа, законодательно было запрещено носить традиционную долгополую одежду и пейсы. Однако на евреев Царства Польского эти запреты не распространялись, поэтому отец автора боялся «на всякий случай».
(обратно)96
Ничего официального он не делает — то есть не выполняет обязанности казенного раввина: не регистрирует рождения, смерти и браки, не приводит солдат к присяге и т. п.
(обратно)97
…еда тем временем испортится… — раввин в спорных случаях определяет кошерность продуктов и посуды.
(обратно)98
…растяпы и никудышники… становились в то время меламедами. — статус и репутация меламедов, особенно для маленьких мальчиков, были очень низкими, так как преподавать молитвы и Пятикнижие мог почти каждый мужчина, и меламедами часто становились люди, ни в чем не преуспевшие.
(обратно)99
От англ. cockroach — таракан.
(обратно)100
От польск. serwatka — сыворотка.
(обратно)101
Миска (идиш).
(обратно)102
Девочка (идиш).
(обратно)103
Маленькая капота (идиш).
(обратно)104
Лисья лапка (идиш/нем.)
(обратно)105
Вышегрод — город Плоцкого уезда и губернии. В нем, по переписи 1897 г., проживало 4200 человека, из них 2700 евреев.
(обратно)106
«Есть дни» — технический термин, означающий, что некто, как правило, учащийся ешивы или, в данном случае, меламед, получает от общины возможность обедать у разных хозяев в соответствии с заранее составленным расписанием.
(обратно)107
Почитаемой супруге, дорогой и скромной, госпоже… (древнеевр.).
(обратно)108
Отлучение рабейну Гершома (древнеевр.).
(обратно)109
Рабейну Гершом (наставник наш Гершом, 960-1028) — первый из крупных галахических авторитетов ашкеназского еврейства. Известно несколько его запретительных установлений, караемых отлучением от общины (херемом), в том числе запрет читать чужие письма. Указанная аббревиатура обычно ставилась на письмах, передаваемых через посланца.
(обратно)110
Этика, мораль (древнеевр.). Здесь имеются в виду правила благочестия, подкрепляемые угрозой загробного воздаяния.
(обратно)111
Сто двадцать лет — после смерти, так как «сто двадцать лет» — традиционное пожелание долгой жизни.
(обратно)112
Пиркей Овес. — Этот трактат часто включают в состав молитвенника и читают по субботам от Пейсаха до Осенних праздников. Таким образом, автор жалуется на то, что его в детстве заставляли учиться по субботам летом, когда особенно хотелось пойти погулять.
(обратно)113
«Главы (или параграфы) „Отцов“» (древнеевр.) часто переводят как «Поучения отцов» — небольшой по объему трактат Мишны, входящий в раздел Незикин (Убытки). Состоит из нравоучительных афоризмов, принадлежащих танаям.
(обратно)114
…где черви… и личинки… — Пиркей Овес, 3:1.
(обратно)115
Бартануро — название базового комментария на Мишну, составленного Овадьей (умер ок. 1500 г. в Иерусалиме) из Бертиноро (Италия).
(обратно)116
…были согласны выйти замуж даже за ремесленника… — Брак дочери меламеда, человека ученого, с ремесленником считался мезальянсом.
(обратно)117
Скачок дороги (древнеевр.). Способность мгновенно пересекать большие расстояния, приписываемая многим хасидским цадикам. Популярный мотив еврейского фольклора.
(обратно)118
Волколак — оборотень, человек, способный оборачиваться волком.
(обратно)119
…и припали лицом к земле… — Эти устные комментарии к Писанию основаны на «Цейне-Рейне».
(обратно)120
Когда наступает адар, увеличивают радость (древнеевр.), Талмуд, трактат Таанит, 29. Традиционное высказывание о месяце одор (адар), на который приходится Пурим.
(обратно)121
Трещотки. — На Пурим для детей изготовляли специальные трещотки, которыми дети «пугали» Амана при каждом упоминании его имени во время чтения Мегилы.
(обратно)122
Шушан Пурим — название, данное дню, следующему за днем праздника Пурим. Согласно Книге Есфирь, 9:18, в Сузах (Шушане) «сделали днем пиршества и веселия день 15-го Адара». В настоящее время празднуют только в тех городах, которые были обнесены стеной во времена Исхода. Во всех остальных еврейских общинах Шушан Пурим, по существу, не празднуют, хотя в этот день все же отменяют траурные обряды: личные посты, оплакивание умерших и т. п. В большей степени этот день отмечают хасиды, которые надевают субботнее платье и устраивают торжественную трапезу.
(обратно)123
Десять сыновей — согласно Книге Есфирь вместе с Аманом были повешены его сыновья, причем имена всех сыновей перечислены.
(обратно)124
Ваиезафа (в ашкеназском произношении Вайзосо) — младший сын Амана. Его именем заканчивается перечисление Амана и членов его семьи.
(обратно)125
…натаскали у хозяек жареных гусей, пирогов, маринованной рыбы и прочей снеди. — Существовала практика, когда веселящиеся компании молодых хасидов вытаскивали «силой» блюда из печей почтенных обывателей.
(обратно)126
…обращали… внимания не больше, чем Аман — на трещотку… — поговорка, близкая по смыслу русской «как об стенку горох».
(обратно)127
…до самого Амалека… — Аман считается потомком амалекитян.
(обратно)128
Закрочим — город Плонского уезда Варшавской губернии. В 1897 г. из 4400 его жителей половину составляли евреи.
(обратно)129
Рейовец — местечко Холмского уезда Люблинской губернии. По переписи 1897 г., из 2200 жителей 1600 составляли евреи.
(обратно)130
Szszęśċ Boze! (польск.)
(обратно)131
Вóg zaplać! (польск.)
(обратно)132
Меня беспокоили не сами пейсы… а то, что жандармы, по слухам, отрезали их не ножницами, а ножом, что было очень больно. — Подобные эксцессы имели место в конце царствования Николая I, когда происходили гонения на традиционное платье и внешний вид евреев. В описываемую эпоху они уже отошли в область фольклорных преданий.
(обратно)133
Литваки — евреи, выходцы из Белоруссии и Литвы. В Царстве Польском так называли всех евреев, приехавших из России. В 1844 г. русское правительство повело наступление на традиционное еврейское платье в целях «сближения» евреев с остальным населением. Ношение долгополой одежды мужчинами было запрещено в 1850 г. Евреям было предписано носить короткие «немецкие» сюртуки. В Царстве Польском эти запреты не действовали, поэтому литваки резко отличались своим внешним видом от польских евреев.
(обратно)134
«Чмайеры» — прозвище польских евреев, основанное на особенностях фонетики польского диалекта идиша. Стяжение «Иче-Маер», так польские евреи произносили мужское имя Ицхок-Меер.
(обратно)135
«Крестоголовые» — прозвище литваков. Смысл этого прозвища в том, что в глазах более традиционных польских евреев литваки — почти выкресты.
(обратно)136
Нет времени (польский диалект идиша).
(обратно)137
Ангел смерти (древнеевр.). Здесь имеется в виду кондуктор.
(обратно)138
Фонька-вор — имеется в виду русское правительство, получающее доход от железной дороги.
(обратно)139
Заезд — тип постоялого двора с помещениями для грузов и телег.
(обратно)140
От польск. wieśće — везите.
(обратно)141
Пяски — местечко Люблинского уезда и губернии. По переписи 1897 г., из 2300 жителей 1800 составляли евреи.
(обратно)142
Как драгоценна (древнеевр.). Первые слова и название молитвы, которую мужчина произносит во время утреннего богослужения после того, как набросит на голову талес, и перед тем, как наденет тфилн. Во время молитвы «Ма-якар» молящийся ничего не видит, так как произносят ее, закутавшись в талес.
(обратно)143
Красностав — уездный город Люблинской губернии. По переписи 1897 г., из 10 000 жителей 2000 составляли евреи.
(обратно)144
Шебжешин — безуездный город Люблинской губернии. По переписи 1897 г., из 6100 жителей 2500 составляли евреи.
(обратно)145
Янов — уездный город Люблинской губернии. По переписи 1897 г., из 8000 жителей 2700 составляли евреи.
(обратно)146
Уменьшительное от Башева.
(обратно)147
У деда был кабинет… — В оригинале автор называет эту комнату «бес-дин штуб», букв. «комната раввинского суда». Это помещение, как видно из дальнейшего, соединяло в себе черты личного и общественного пространства.
(обратно)148
…дед вставал, омывал руки… — После пробуждения еврей должен сразу омыть кончики пальцев, облив их так называемой «негл-васер» (букв. ногтевая вода, идиш).
(обратно)149
Монополька — водочная лавка. Называлась так потому, что в России существовала государственная монополия на водку.
(обратно)150
…женщин, которые приходили с вопросами… — Женские вопросы были посвящены кошерности пищи и посуды и ритуальной чистоте.
(обратно)151
Хотя дед был миснагедом, он… произносил молитву во здравие, называя при этом имена больного и его матери. — Личная, а не публичная молитва во здравие более характерна для хасидов.
(обратно)152
…кошерно ли мясо забитого животного или нет. — Внутренности животного могут иметь изъяны, делающие его мясо некошерным.
(обратно)153
Городские шойхеты… приходили… чтобы показать свои ножи. — В обязанности раввина входит проверка заточки ножей шойхета.
(обратно)154
Кресло Элиягу (древнеевр.), то есть Ильи-пророка. Так называется специальное двухместное кресло, стоящее в синагоге, на котором проводят обрезания. Во время обряда на одном месте сидит сандек, а на другом символически присутствует Илья-пророк.
(обратно)155
Однако на трапезы в честь обрезания он никогда не ходил, даже к весьма ученым или богатым людям. — Дед не участвовал в трапезе, чтобы таким образом не получать вознаграждения за исполненную заповедь.
(обратно)156
…медовыми пряниками, украшенными надписью «мазл-тов». — Печатные пряники с этим традиционным поздравлением и благопожеланием были широко распространены.
(обратно)157
…с одной свешивающейся с головы «пейсой»… — Имеется в виду казацкий чуб.
(обратно)158
…выслеживая тех, кто нелегально переходит границу… — В описываемое время через австрийскую границу проходила массовая еврейская эмиграция из Российской империи. Те евреи, которые по каким-либо причинам не могли получить заграничный паспорт, например, потому, что не отслужили в армии, вынуждены были переходить границу нелегально.
(обратно)159
…прощупывали штырями пол… — речь идет о земляных полах.
(обратно)160
Письмовник. — В XIX в. в еврейской среде были очень распространены письмовники. Так как их составляли маскилы, то эти письмовники были написаны на сильно онемеченном идише.
(обратно)161
Искаженный немецкий: Hochgeschätzte Braut — высокочтимая невеста.
(обратно)162
Искаженный немецкий: Hochachtungsvoll, dein Bräutigam Alfred — с совершенным почтением, твой жених Альфред.
(обратно)163
Хлеб (идиш).
(обратно)164
И выстрелил в сердце свое… — Подстрочный перевод: «Жила-была девушка-швея, / Девушка-швея, / Сидела она дома. / Мимо проходил ротный офицер, / И он влюбился в нее. / — Девушка, девушка, ты очень красива, / Ты мне очень нравишься, / Девушка, девушка, ты прелестна, / Давай поженимся (буквально: поставим хупу). / — Мы не поженимся (буквально: не поставим хупу), офицер, / Поэтому твои речи напрасны, /Мы не сможем пожениться (буквально: поставить хупу), / Потому что ты христианин. / Как услышал это офицер, / Он очень рассердился, / Вытащил пистолет, / Он ее, бедняжку, застрелил… / Как только она встретила пулю, / Она осталась лежать как камень. / Выхватил офицер пистолет / И сам себя застрелил…».
(обратно)165
…авторы религиозных сочинений. — Перед публикацией новых религиозных сочинений авторы обходили уважаемых раввинов, собирая одобрения для своей книги.
(обратно)166
…одетый в полосатую… жупицу… — Начиная с конца XVIII в. в Святой земле возникли устойчивые поселения евреев — выходцев из Восточной Европы. Эти общины были экономически несамостоятельны и посылали своих представителей собирать вспомоществование в европейских общинах. В Святой земле ашкеназы из числа «старых» поселенцев шили свою одежду не из привычной черной ткани, а из бежевой в светлую полоску.
(обратно)167
…в документе о разводе обязательно должно быть указано, что совершен он в такой-то и такой-то общине на такой-то и такой-то реке. — В формуле разводного письма указывают, что развод дан в таком-то городе, стоящем при такой-то реке. Первоначально эта формула была нужна для четкости документа, чтобы не перепутать город. Однако с течением времени ее стали воспринимать как запрещение на составление разводного письма в месте, где нет реки.
(обратно)168
Сойфер… садились за стол деда. — Сойфер составляет разводное письмо, которое муж дает жене.
(обратно)169
Зеев-Цви, по прозванию Волф-Гирш. — При составлении разводного письма должны быть указаны все имена и прозвания разводящихся. При рождении человека ему дают несколько имен, причем иногда германские имена являются переводом древнееврейских. Например, в данном случае имена Зеев-Цви и Волф-Гирш означают «волк-олень» по-древнееврейски и на идише соответственно.
(обратно)170
…если у тебя есть малейшая тень сожаления… — Развод не может состояться без согласия жены.
(обратно)171
…в семье через десять лет после свадьбы не было детей… — Отсутствие детей в течение десяти лег брака является законным основанием для развода.
(обратно)172
Шмуэл-шамес созывает миньен — брачная церемония проводится в присутствии миньена.
(обратно)173
…стыдила… за то, что тот хочет расторгнуть помолвку. — Расторжение помолвки считалось делом более постыдным, чем развод, так как бросало тень на девушку и мешало ей выйти замуж.
(обратно)174
Тайч-Хумеш — Пятикнижие на <языке> тайч, то есть немецком. На самом деле «тайч» — это название старой книжной версии идиша. Тайч-Хумеш — распространенное название «Цейне-Рейне».
(обратно)175
Рабейну Бехай — среди комментариев, которые процитированы в «Цейне-Рейне», часто встречаются толкования рабейну Бехая («наставник наш Бехай»). Так традиция называет Бахью бен Ашера ибн-Халава (Испания, ок. 1250–1340), комментатора, философа и писателя-моралиста.
(обратно)176
Разутый (древнеевр.). При совершении обряда халицы женщина произносит библейский стих, в котором описан сам обряд халицы: «Так поступают с человеком, который не созидает дома брату своему, и нарекут ему имя в Израиле: дом разутого» [Дварим (Втор.), 25:9-10].
(обратно)177
Каша, жар, пот (идиш).
(обратно)178
Башмак для халицы — кожаный башмак для обряда хали-цы шьют по специальным правилам.
(обратно)179
…могильщик принес доску для омовения покойников… — У евреев Восточной Европы было принято, чтобы деверь, проходящий обряд халицы, опирался спиной на доску для омовения покойника.
(обратно)180
…он вел… метрические книги и выписывал метрики — то есть выполнял обязанности казенного раввина.
(обратно)181
Тарногрод — местечко Билгорайского уезда Люблинской губернии. В нем, по переписи 1897 г., проживало 5000 человек, из них 1600 евреев.
(обратно)182
Горшков — местечко Красноставского уезда Люблинской губернии (польское название — Гожкув). В нем, по переписи 1897 г., проживало около 700 человек, из них 400 евреев.
(обратно)183
Пришлый в общине человек, которому негде провести субботу или праздник. Его забирает к себе домой из синагоги один из прихожан.
(обратно)184
Женщина, занимающаяся сбором пожертвований на благотворительность.
(обратно)185
Синагогальный двор — принадлежащий еврейской общине городской квартал, в котором расположены синагога, дом раввина и другие общинные здания и институции.
(обратно)186
…пади оно в пустые поля и леса… — традиционный заговор от сглаза.
(обратно)187
Гавдольная свеча. — Для гавдолы используют специальную свечу, свитую из четырех тонких свечей.
(обратно)188
Милосердные сыны милосердных — традиционное именование евреев.
(обратно)189
Корова, скотина (древнеевр./идиш). В переносном смысле «глупая баба».
(обратно)190
Новоград-Волынский — уездный город Волынской губернии. В нем, по переписи 1897 г., проживало 17 000 человек, из них 9000 евреев.
(обратно)191
Звиль — еврейское название Новоград-Волынского, происходящее от его старого (до вхождения в состав России) названия Звягель.
(обратно)192
Высоко — местечко Брестского уезда Гродненской губернии. По переписи 1897 г., в нем проживало 3400 человек, из них 2900 евреев.
(обратно)193
…повязана… платком. — В описываемый период набожные еврейки уже носили парики. То, что женщина на бритую голову надевала платок без парика, было признаком крайнего благочестия.
(обратно)194
Хлеб, выпекавшийся на всю неделю. — В канун субботы топили большую русскую печь, в которой готовили субботние кушанья и одновременно выпекали хлеб: пшеничную халу для субботы и ржаной хлеб на всю неделю.
(обратно)195
…в нее кто-то вселился. — Вера в переселение душ (гилгл) была широко распространена. Считалось, что если животное ведет себя необычным образом, проявляет «человеческие» наклонности, то в него вселилась душа какого-нибудь умершего человека.
(обратно)196
…локтем сгоняя заупрямившуюся кошку… — чтобы не дотрагиваться рукой до нечистого животного.
(обратно)197
…незадолго до зажигания субботних свечей… — Перед началом субботы зажигают свечи.
(обратно)198
Жемчуг — традиционное украшение замужней женщины.
(обратно)199
Знаки зодиака — традиционный элемент настенной росписи в синагогах.
(обратно)200
…изображенный вместо знака Девы цветок… — В религиозном искусстве евреев Восточной Европы существовало предубеждение против изображения человека, поэтому знак созвездия Девы изображали в виде руки, держащей цветок, или просто цветка.
(обратно)201
Львы на орн-койдеше — геральдические львы, стоящие на задних лапах, — традиционный элемент декора, как правило, увенчивающий орн-койдеш.
(обратно)202
Пойдемте, воспоем (древнеевр.). Первые слова Псалма 95. произнесением которого начинается встреча субботы.
(обратно)203
Сорок лет наказывал Я поколение, странствовавшее по пустыне, говоря: «Они — народ, сердце которого пребывает в заблуждении: не знают они Моих путей» [Тегилим (Пс.), 95:10].
(обратно)204
«Пойте Господу новую песнь» [Тегилим (Пс.), 96:1].
(обратно)205
Медная кружка для омовения рук. — Перед вкушением хлеба ритуально омывают руки. Для этого обычно используют специальную кружку с двумя ручками.
(обратно)206
…бабушка разыгрывала целую пантомиму. — После омовения рук и до вкушения хлеба, по обычаю, нельзя разговаривать.
(обратно)207
Плетенка — субботние халы изготовляют обычно в виде плетенок.
(обратно)208
«Зачнет — О прокаженном» (древнеевр.). Название двух последовательно расположенных недельных разделов в Ваикро (Левит), 12:1-15:33. Субботы называют по соответствующим им недельным разделам. Год, в соответствии с еврейским календарем, может содержать различное количество недель. В случае короткого года определенные недельные разделы соединяют, и суббота получает сдвоенное название.
(обратно)209
Турбин — еврейское название местечка Туробин Красноставского уезда Люблинской губернии. По переписи 1897 г., в нем проживало 2400 человек, из них 1500 евреев.
(обратно)210
Мелаве-малка (древнеевр. «проводы царицы») — специальная трапеза, устраиваемая после завершения субботы. Особенно популярна в хасидской среде.
(обратно)211
«По уставам Моим» (древнеевр.). Название недельного раздела в Ваикро (Левит), 26:3-27:34.
(обратно)212
Ижбица — еврейское название местечка Избица Красноставского уезда Люблинской губернии. По переписи 1897 г., в нем проживало 3200 человек, из них 3000 евреев.
(обратно)213
…не хотели доверить деду на субботу узелки с деньгами. — В субботу нельзя носить при себе деньги. Тот, кто находился в городе проездом, перед наступлением субботы обычно сдавал деньги на хранение городскому раввину.
(обратно)214
Евреям не следует клясться. — Существует религиозный запрет на клятвы. Человек не должен клясться, чтобы не оказаться клятвопреступником.
(обратно)215
После благословения… — Имеется в виду благословение после второй субботней трапезы, происходящей в середине субботнего дня.
(обратно)216
Игра в орехи. — Состояла в том, что один из играющих прятал несколько орехов, а другой должен был угадать, какое, четное или нечетное, число орехов спрятано.
(обратно)217
«Бог Авраама» — очень известная тхина, которую многие религиозные женщины по сей день произносят после окончания субботы. Однако, судя по первым строчкам, бабушка автора произносила ее не в общеизвестном варианте.
(обратно)218
Илия-пророк, который должен возвестить о приходе Мессии. — В книге пророка Малахии сказано, что Бог пошлет пророка Илию назад на землю: «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного» (Мал. 4:5). Этот стих понимают как обетование того, что пророк Илия провозвестит пришествие Мессии.
(обратно)219
Придет Мессия на той неделе… — Подстрочный перевод: «Где-то вдали, на горе, / Между небом и землей стоит лестница. / Илия из Тишби [традиционное прозвание пророка Илии. Тишби (Фисва) — место его рождения] стоит на лестнице / И трубит, сообщая послание народу Израиля. / Илия из Галаада (традиционное прозвание пророка Илии. Галаад — область в Заиорданье, родина Илии) трубит: / Мессия сын Давидов придет на этой неделе…»
(обратно)220
Пусть Илия к нам придет поскорей!.. — Подстрочный перевод: «У Ханы было семь родных дочерей, / Не было у нее ни крошки хлеба, чтобы накормить их. / Боже, сохрани нас от нужды / И от преждевременной смерти. / Да придет к нам счастливая неделя, / Благословение и удача. / Пусть на этой неделе придет избавление, / Быстро, быстро, быстро. / Пусть Илия добьется успеха!..»
(обратно)221
Из дальнего края… — Подстрочный перевод: «Птица летела день и ночь, / День и ночь, / Прилетела к царице, / Увидела закрытые ставни. / Ой, проснись, проснись же, / Золотой лик, / Я принесла тебе / Весть от царя».
(обратно)222
…женщинам нельзя было петь. — Существует религиозный запрет на женское пение в присутствии мужчин.
(обратно)223
…последователями… цадиков: герского, трискского, белзского, горлицкого, ридницкого, сандзского… — Перечислены влиятельные направления польского хасидизма, названные по городам, в которых располагались резиденции их цадиков.
(обратно)224
…отказалось хоронить в талесе… — Женатого мужчину хоронят, покрыв тело талесом.
(обратно)225
Радзинский ребе реб Гершом-Генех — ребе Гершом-Генех Лайнер (1839–1891) — радзинский цадик, влиятельный талмудист, основатель хасидской династии. Хорошо знал европейские языки, интересовался естественными науками. Чтобы открыть тайну тхелес, совершил путешествие в Италию и в Неаполе посетил крупнейшую в Европе морскую биостанцию. Там он пришел к выводу, что тхелес — это чернила каракатицы. Его рекомендации по окрашиванию в голубой цвет нити в цицес были восприняты только его последователями. На сегодняшний день отчетливо понятно, что Радзинский ребе ошибался: тхелес не имеет отношения к чернилам каракатицы.
Радзин — местечко Новоалександрийского уезда Люблинской губернии. В нем, по переписи 1897 г., проживало 3000 человек, из них около 2000 евреев.
(обратно)226
Тхелес — голубой краситель, неоднократно упоминаемый в Писании. В частности, в заповеди о цицес сказано: «И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти (тхелес); и будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни, и исполняли их» [Бемидбар (Числ.), 15:38–39]. В Талмуде разъясняется, что тхелес получали из морского животного, называемого хилазон, живущего у северного побережья Израиля. Начиная с VI в. секрет изготовления краски был утрачен, поэтому евреи перестали окрашивать нить для цицес в голубой цвет. В настоящее время существует обоснованное мнение, что хилазон — это брюхоногий моллюск мурекс обрубленный, из которого также получают пурпур.
(обратно)227
Доносчик — человек, доносивший властям о неисполнении общиной тех или иных предписаний, уклонении от налогов, контрабанде. Характерная фигура в еврейских местечках XIX в., упомянутая во многих мемуарах. Как правило, доносчиками двигали корыстные побуждения, но иногда это были просвещенцы, пытавшиеся, по идейным соображениям, с помощью властей бороться с общинными злоупотреблениями. Именно поэтому автор упоминает о доносчике сразу же после упоминания о просвещенных людях.
(обратно)228
Шатнез — библейский запрет на изготовление тканей из пряжи, в которой смешаны шерсть и растительные волокна. В переносном смысле «запрещенное смешение». Здесь под ним понимаются совместные танцы юношей и девушек, что категорически воспрещено религиозным законом.
(обратно)229
Лекарь и клезмер — клезмеры, как любые артисты в традиционном обществе, стояли в еврейской общине на низкой социальной ступени, их нравственность и религиозность всегда вызывали сомнение. То же относилось и к лекарям, которые должны были изучать медицину, то есть получать светские нееврейские знания.
(обратно)230
…евреям лучше бы не есть картофель в Пейсах… — Действительно, дискуссии о том, можно ли в Пейсах употреблять картофель, имели место. Однако картофель был разрешен именно по тем соображениям, которые приводит дед автора.
(обратно)231
Цадик реб Мотеле из Казимира — ребе Мордехай-Матес (ум. в 1917 г.) из Казимира. Казимир — еврейское название местечка Казимеж Новоалександрийского уезда Люблинской губернии. Сын трискского ребе Аврома Тверского из Чернобыльской династии, очевидно пользовавшегося влиянием в Билгорае, так как выше неоднократно упоминались трискские хасиды.
(обратно)232
«Кусочки». — Получить кусок с тарелки цадика считалось у хасидов большой честью.
(обратно)233
Вызов к Торе — присутствие на биме во время публичной рецитации отрывка из Пятикнижия. Порядок этих «вызовов» продают в синагоге за деньги.
(обратно)234
Элул — месяц еврейского календаря, приходится на вторую половину августа — первую половину сентября.
(обратно)235
«Гонения тов-хес» — сумма числовых значений букв «тов» и «хес» — 408. «Гонениями <5>408 <года>» (соответствует 1648 г.) в еврейской историографической традиции называют восстание Хмельницкого, во время которого повстанцами были жестоко уничтожены еврейские общины Украины и Восточной Польши.
(обратно)236
Горай — местечко Замостского уезда Люблинской губернии. В нем, по переписи 1897 г., проживало 1700 человек, из них 500 евреев.
(обратно)237
Юзефов — местечко Новоалександрийского уезда Люблинской губернии. В нем, по переписи 1897 г., проживало 1100 человек, из них 800 евреев.
(обратно)238
Сукман — суконный кафтан.
(обратно)239
Ходоки — деревянная крестьянская обувь для ходьбы по болотам.
(обратно)240
Хамулка (от польск. Chamielka) — крестьянский головной убор, состоящий из платка, закрепленного лубяным обручем.
(обратно)241
Русинские крестьяне — украинцы. Составляли около 15 % населения Люблинской губернии, жили преимущественно в ее юго-восточных уездах.
(обратно)242
…говорили на «хохлацком» языке — евреи называли его «греческим». — «Хохлацкий» язык — украинский язык. Украинцев (православных и униатов), так же как и русских, евреи часто называли «греками» («явоним»), имея в виду их «греческую» веру.
(обратно)243
…шойфера, в который… трубили парни в бесмедреше. — В элул происходит подготовка к Осенним праздникам, выражающаяся в трублении в шойфер, чтении слихес (специальных покаянных молитв) и посещении кладбищ. Для элула характерна особая атмосфера душевной тревоги, так как он предшествует Осенним праздникам, когда определяется судьба человека.
(обратно)244
Ермолка на немецкий манер — то есть цилиндрической формы с высокой тульей. Такая ермолка выдавала в ее обладателе сторонника идей Гаскалы (Просвещения).
(обратно)245
Нафтоле-Герц Нейманович (1843–1898) — журналист и педагог. Сотрудничал в газетах на иврите, идише и польском. Издал целый ряд руководств для изучения евреями русского, польского и немецкого языков и перевел на иврит и идиш руководство Заменгофа для изучения эсперанто.
(обратно)246
Гонац. — Издавна и вплоть до XIX в. вместо имени известного автора использовали его акроним. Видимо, Нейманович придумал себе такой акроним — Гонац, то есть Г<ерц> Н<ейманови>ц (в старой орфографии идиша звук «ч» изображался с помощью буквы «цадик»). В то же время это слово означает «рассвет» (древнеевр.), ключевое понятие в маскильской (просветительской) пропаганде.
(обратно)247
«Кот мохнатый, козел бородатый» — имеется в виду детское стихотворение В. А. Жуковского «Котик и козлик»: «Там котик усатый / По садику бродит, / А козлик рогатый / За котиком ходит; / И лапочкой котик / Помадит свой ротик; / А козлик седою / Трясет бородою» (1851).
(обратно)248
…во время чтения Торы, папа нарек новорожденную дочку Сорой. — Обряд имянаречения для девочки состоит в том, что ее отец провозглашает имя новорожденной в субботу в синагоге во время чтения Торы.
(обратно)249
Чтоб по тебе надорвали край одежды — то есть «чтоб ты умер». Надрывание края одежды, как правило, лацкана — часть траурного обряда.
(обратно)250
…зевает после заговаривания… — Частое зевание ребенка — верный признак того, что его сглазили. Судя по описанию, в результате заговора сглаз как бы переходил на знахаря. Именно поэтому жена реб Иче так нервничала, когда он начинал зевать.
(обратно)251
Философские книги — имеются в виду средневековые книги этического содержания.
(обратно)252
…не согрешил чрезмерной красотой, которая могла бы вызвать женское восхищение и тем самым сглаз. — Одной из причин невольного сглаза ребенка считается похвала его красоте.
(обратно)253
Мой отец, стоя у стола для чтения Торы, на котором лежал свиток, ответил, что это ложь. — Заявление, сделанное рядом со свитком Торы, является клятвой.
(обратно)254
Да даст тебе (древнеевр.).
(обратно)255
…после гавдолы произносил «Ва-итен лехо»… — название благопожелания на наступившую неделю, произносимого после гавдалы. Этот обычай характерен в основном для хасидов. Текст благопожелания представляет собой компиляцию из различных стихов Писания и открывается благословением Исаака, которое он дал Иакову: «Да даст тебе Бог от росы небесной, и от тука земли, и множество хлеба и вина» [Берешит (Быт.), 27:28].
(обратно)256
Два фартука — два фартука, спереди и сзади, были частью традиционного костюма еврейки и выполняли обережную функцию. К XX в. фартуки вышли из моды, но тут, боясь нечистой силы, женщины снова их надели.
(обратно)257
…мальчики сжимали в руке цицес… — Цицес рассматривали как оберег. Например, считалось, что человек, потерявший цицес, может стать жертвой нечистой силы.
(обратно)258
Ворожеи не оставляй в живых, не оставляй в живых ворожеи, ворожеи в живых не оставляй [Шмот (Исх.), 22:18, древнеевр.]. Один из законов, данных Моисею на горе Синай. Считалось, что троекратное повторение этого стиха с перестановкой слов оберегает от колдунов и ведьм.
(обратно)259
…снял сапоги и остался в чулках… — Без обуви ходит кающийся и скорбящий.
(обратно)260
Отец… созвал мужчин… читать псалмы. — Коллективное чтение Псалмов — традиционная практика помощи тяжелобольному.
(обратно)261
Новый Двор — город Варшавского уезда и губернии. В нем, по переписи 1897 г., проживало 6000 человек, из них около 4000 евреев.
(обратно)262
…уточнить, на какой день выпадает йорцайт… — Евреи, жившие вне общины, в деревне, не следили за календарем. Зная день смерти отца или матери по еврейскому календарю, они не всегда точно знали, когда наступает этот день в текущем году.
(обратно)263
…оформляли у отца «купчую»… — Фиктивная купчая, передающая собственность иноверцу. Ее часто использовали, чтобы не останавливать работу по субботам, так как хозяин-еврей не может заставлять своих работников, в том числе иноверцев, работать по субботам.
(обратно)264
Китл — белый халат, надеваемый на Йом Кипур.
(обратно)265
Белая ермолка — ритуальный головной убор для Йом Кипура.
(обратно)266
Бархатные пантофли. — В Йом Кипур запрещено носить кожаную обувь.
(обратно)267
И вспомнил Господь о Саре, как сказал; и сделал Господь Саре, как говорил [Берешит (Быт.), 21:1, древнеевр.]. Публичная рецитация 21-й главы Книги Бытия входит в литургию первого дня Рошашоне.
(обратно)268
…ежегодного налога, который платят… евреи. — Местечко представляло собой так называемый «владельческий город», так как стояло на помещичьей земле. Жители местечка (не только евреи) платили помещику специальный поземельный налог, называемый чинш. Часто, чтобы привлечь в свой город еврейскую общину, помещики освобождали от чинша участки, занятые общинными зданиями: синагогой, домом раввина и т. п.
(обратно)269
Праведник народов мира — раввинистический термин для обозначения иноверцев, поступающих нравственно. В устной речи употребляется для обозначения тех неевреев, которые доброжелательно относятся к евреям.
(обратно)270
Магаршо — акроним Шмуеля-Элиезера Эдельса (1555–1631) — выдающегося польского талмудиста и литургического поэта. Эдельс был главой ряда ешив и основателем принятой в них системы изучения Талмуда. Стандартные издания Талмуда включают в себя его комментарии. Изучение Геморы с тосафот и комментариями Магаршо традиционно составляло высшую ступень хедерного образования.
(обратно)271
Магарам Шифф — акроним Меера Шиффа (1605–1641, Германия) — выдающегося комментатора Талмуда.
(обратно)272
Жертвы (древнеевр.). Пятый из шести разделов Талмуда. В основном посвящен законам храмовых жертвоприношений. Считался особенно трудным для изучения.
(обратно)273
Жертвоприношения (древнеевр.). Трактат Талмуда из раздела Кедойшим. Содержит законы жертвоприношений, а также законы, запрещающие смешивать определенные продукты.
(обратно)274
Жертва мирная (древнеевр.). Трактат Талмуда из раздела Кедойшим. Содержит законы жертвоприношений из растительных продуктов, а также законы о тфили и цицес.
(обратно)275
Будничное (древнеевр.). Трактат Талмуда из раздела Кедойшим. Содержит законы шхиты.
(обратно)276
Первородные (древнеевр.). Трактат Талмуда из раздела Кедойшим. Содержит законы жертвоприношений перворожденных у скота, передаваемых для храмовой жертвы, а также законы о выкупе первенцев.
(обратно)277
Заповедь совместного постижения Торы. — Талмуд принято изучать, занимаясь вместе с товарищем.
(обратно)278
Магаршал — акроним Шломо Лурии (1510–1573) — выдающегося польского талмудиста.
(обратно)279
Поколения и толкователи (древнеевр.). Пятитомная история Устного Закона, написанная Ицхоком-Гиршем Вайсом (1815–1905), ученым, совмещавшим в своих сочинениях традиционные и историко-критические подходы к Талмуду и комментариям.
(обратно)280
Заработать мицву — распространенное выражение, означающее выполнение заповеди (мицвы) сверх обязательных требований религиозного закона.
(обратно)281
Радзиминский ребе — Арн-Менахем-Мендл Гутерман (1860–1934), третий ребе влиятельной Радзиминской династии.
Радзимин (Радимин) уездный город Варшавской губернии. В нем, по переписи 1897 г., проживало 4200 человек, из них 2100 евреев.
(обратно)282
Ребе Лейбеле Алтер — Иуда-Арье-Лейб Алтер (1847–1905), второй ребе наиболее влиятельной среди польских хасидов Герской династии. На Осенние праздники ко двору этого цадика приезжало до 15 000 хасидов.
Гер — еврейское название местечка Гура Кальвария в Варшавской губернии. В нем, по переписи 1897 г., проживало около 3000 человек, из них 2000 евреев.
(обратно)283
…у ребе при дворе крутится сподек. — Сподек — высокая меховая шапка, разновидность штраймла. В высказывании матери автора есть игра слов, так как выражение «крутить кому-либо сподек» означает «дурить голову, дурачить».
(обратно)284
Левиратный брак (древнеевр.). Трактат Талмуда из раздела Ношим. Содержит законы левиратного брака.
(обратно)285
Женщины (древнеевр.). Третий раздел Талмуда. Содержит законы брака.
(обратно)286
Освящение брака (древнеевр.). Трактат Талмуда из раздела Ношим. Содержит законы освящения брака, а также принципы заповедей для женщин.
(обратно)287
Разводные письма (древнеевр.). Трактат Талмуда из раздела Ношим. Содержит законы составления разводного письма.
(обратно)288
Брачные договоры (древнеевр.). Трактат Талмуда из раздела Ношим. Содержит законы составления брачного договора.
(обратно)289
Раненная деревом (древнеевр.). Талмудический термин. Девушка, утратившая девственность из-за травмы, а не из-за того, что вступила в отношения с мужчиной.
(обратно)290
Из подарков он выбрал новое виленское издание Талмуда и штраймл. — Наиболее совершенное издание Вавилонского Талмуда вышло в «Типографии вдовы и братьев Ромм» в Вильне в 1886 г., затем постоянно переиздавалось. Штраймл носили только женатые мужчины, поэтому такая шапка была традиционным подарком тестя ученому зятю.
(обратно)291
Заблудов — местечко Белостокского уезда Гродненской губернии. В нем, по переписи 1897 г., проживало около 3800 человек, из них 2600 евреев. Гродненская губерния исторически относилась к Литве.
(обратно)292
Белосток — уездный город Гродненской губернии. В нем, по переписи 1897 г., проживало около 66 000 человек, из них 42 000 евреев.
(обратно)293
Назорей (древнеевр.). Трактат Талмуда из раздела Ношим. Содержит законы, связанные со статусом назорея, то есть человека, принявшего на себя обеты не стричься, не пить вина, не прикасаться к мертвому. Статус назорея был актуален только в эпоху существования Храма.
(обратно)294
Я буду назореем, и он становится назореем… (Нозир, 2а, древнеевр.). Фрагмент обета (в разных вариантах), принимаемого назореем.
(обратно)295
При этом он произносил «зи» как «жи» — фонетическая особенность литвацкого диалекта идиша.
(обратно)296
Проповедники-литваки — странствующие проповедники пользовались огромной популярностью, особенно среди женской аудитории. Они призывали к покаянию и нравственной чистоте. Большинство из них были выходцами из Литвы, так как именно там получило распространение движение «Мусер» («Нравственность») призывавшее к нравственному самоусовершенствованию.
(обратно)297
…собиравших деньги на ешивы… — В 1803 г. в Воложине (Гродненская губерния) была открыта первая в Российской империи «большая» ешива. В ней учились юноши не только из близлежащих городов, а из разных концов Российской империи, причем одновременно несколько сот слушателей. Деньги на существование ешивы ее руководство собирало, рассылая повсюду специальных посланцев. Ешивы, построенные на аналогичных принципах, были организованы еще в нескольких городах Литвы (современные Западная Белоруссия и Литва).
(обратно)298
Лампа-«молния» — тип керосиновой лампы, появившийся в конце XIX в. Отличалась ярким светом.
(обратно)299
Жених произнес превосходное толкование. — На свадьбе жених должен перед гостями-мужчинами произнести толкование какого-либо фрагмента из Талмуда.
(обратно)300
…произнес вслух утренние благословения, которые обычно не читают публично. — Речь идет об утренних благословениях, которые соблюдающий еврей произносит после пробуждения у себя дома. Автор хочет подчеркнуть, что невежественный пекарь хотел вести публичное богослужение, но ничего, кроме этих благословений, не знал.
(обратно)301
За то, что не создал меня неевреем (древнеевр.). Второе утреннее благословение.
(обратно)302
За то, что не создал меня женщиной (древнеевр.). Четвертое утреннее благословение.
(обратно)303
…нарядно убранной Торе… — Свиток Торы украшают расшитым чехлом (тора-мантл) и серебряной утварью: короной, навершиями (римоним), щитком (тора-шилд) и указкой (яд).
(обратно)304
Ми-шебейрех (букв. Тот, Кто благословил, древнеевр.) — Первые слова и название молитвы, благословляющей вызванного к Торе или одного из его близких. Ми-шебейрех произносит габай в воздаяние благословляемому за его намерение совершить пожертвование в пользу синагоги или общины.
(обратно)305
Даст дрова для бесмедреша.
(обратно)306
Даст занавес для орн-койдеша, даст жареных уток на субботнюю трапезу, даст бархатный чехол для свитка Торы, даст свечи для бесмедреша, пожертвования бедным… и скажем: аминь (древнеевр.).
(обратно)307
…из России, из-под Белостока. — Гродненская губерния, в которой находился Белосток, входила в состав России, а не Царства Польского.
(обратно)308
…носивший брюки поверх туфель… — Более консервативные польские евреи носили панталоны до колен и чулки.
(обратно)309
Акива Эйгер (1761–1837) — раввин, выдающийся галахист, оказал большое влияние на складывание ортодоксального направления в иудаизме.
(обратно)310
Альпага — сорт тонкого сукна.
(обратно)311
«Гацфира» («Время», иврит) — еженедельная газета на иврите, основанная просветителем Х.-З. Слонимским как научно-популярное, просветительское издание. Выходила в Варшаве под его редакцией с 1875 по 1885 г. Пока «Гацфирой» руководил Слонимский, это была очень умеренная и приемлемая даже для части ортодоксальных кругов газета. В 1885 г. газета сменила редактора, стала ежедневной и политически более радикальной.
(обратно)312
Лешно — селение в Блонском уезде Варшавской губернии. В нем, по переписи 1897 г., проживало 700 человек, из них 140 евреев. В Лешно находился большой сахарный завод, принадлежавший М. Берсону.
(обратно)313
Матиас Берсон (1824–1908) — сахарозаводчик, банкир, общественный деятель, искусствовед и историк. Один из лидеров ассимиляторского движения «поляков Моисеева закона». Автор исследований по еврейскому искусству и создатель первого еврейского музея в Польше.
(обратно)314
Мужчины читали псалмы ради исцеления Песи, дочери Эты. — При произнесении молитвы за здравие имя болящего называют вместе с именем матери, а не с именем отца.
(обратно)315
…были готовы произнести ми-шебейрах… — Ми-шебейрах может также являться молитвой с просьбой об исцелении заболевшего.
(обратно)316
За грех (древнеевр.). Покаянная молитва, составляющая основу Йом Кипура. Во время ее произнесения молящийся ударяет себя кулаком в грудь.
(обратно)317
Благословен Он и благословенно имя Его, аминь (древнеевр.). Слова, которыми община отвечает хазану.
(обратно)318
…мне юшку, тебе шишку… — Подстрочный перевод: «Бог, Царь, тройка уток, мне хлеб, тебе смерть, мне свежий бульон, тебе болячку на живот…».
(обратно)319
Гер (букв. пришелец, древнеевр.) — прозелит в иудаизме. Имя Авраам было популярно у прозелитов, так как они подобно Аврааму сами уверовали в единого Бога.
(обратно)320
И будет наречено ему имя в Израиле Авром, сын… (древнеевр.). Часть формулы, произносимой во время имянаречения после обрезания.
(обратно)321
Авром, сын Зале (древнеевр.).
(обратно)322
Человек предстает перед судом, как перед Богом, говорит Тора — парафраз библейского стиха «Пусть предстанут оба человека, у которых тяжба, перед Господом, перед священниками и судьями, которые будут в те дни» [Дварим (Втор.), 19:17].
(обратно)323
Гои, иноверцы (польский диалект идиша).
(обратно)324
От польск. sędzia — судья.
(обратно)325
Однажды на Симхастойре… — На праздник Симхастойре традиционно выпивали много спиртного, этим можно объяснить возникшую драку.
(обратно)326
Спасибо, коэн (идиш).
(обратно)327
Укол, коэн (идиш).
(обратно)328
Благословен будь (древнеевр.).
(обратно)329
Горе тебе (идиш).
(обратно)330
«Хок» («Закон», древнеевр.) — обиходное название сборника «Хок ле-Исраэль» («Закон Израиля»), составленного из различных материалов, организованных в соответствии с порядком недельных разделов. После недельного раздела идут комментарии Раши, фрагменты из Пророков и Писаний, отрывки из Талмуда и каббалистических сочинений. Сборник сложился в XVII–XVIII вв. как хрестоматия для людей, не могущих посвящать большую часть своего времени изучению Талмуда. Небольшие по объему тексты из этого сборника следовало ежедневно читать после утренней молитвы. Таким образом, коробейник Лейзер стремился за субботу освоить материал, предназначенный для изучения в течение всей недели.
(обратно)331
Суббота Раскаяния — суббота, которая приходится на период между Рошашоне и Йом Кипуром.
(обратно)332
Великая Суббота — последняя суббота перед Пейсахом.
(обратно)333
Старый коцкий ребе реб Менделе — цадик Менахем-Мендл Моргенштерн (1787–1859). В местечке Коцк находился его двор. Коцкий ребе проповедовал пренебрежение к миру, жизнерадостность и глубокое изучение Талмуда. Коцкие хасиды оставляли семьи и подолгу жили при дворе своего харизматического лидера. Радикальный характер коцкого движения вызвал резкую критику со стороны не только миснагедов, но и многих хасидов, принадлежавших к другим направлениям. В середине XIX в. коцкий хасидизм был самым влиятельным хасидским движением в Царстве Польском. Наиболее значительные польские цадики конца XIX в., в том числе Герский ребе, были учениками Менахем-Мендла из Коцка.
Коцк — местечко Луковского уезда Седлецкой губернии. В нем, по переписи 1897 г., проживало 7500 человек, из них 3000 евреев.
(обратно)334
Польское и украинское название водки, от латинского «aqua vita» — живая вода.
(обратно)335
…бочонок оковиты… замерз. — Водка стандартной крепости 40° замерзает при температуре 27–30 °C.
(обратно)336
Найштетл — еврейское название местечка Нове-Място Плонского уезда Варшавской губернии. В нем, по переписи 1897 г., проживало 1900 человек, из них 1000 евреев.
(обратно)337
И поноси сатану (древнеевр.).
(обратно)338
Злосчастный (букв. злом благословенный, древнеевр.). Игра слов, основанная на этимологии имени Борех.
(обратно)339
Хасид, который не снимал талеса и тфилн… — Особо благочестивые люди не снимали талес и тфилн (атрибуты утренней молитвы) целый день. Такое поведение воспринималось как знак особого аскетизма и своего рода религиозная экстравагантность.
(обратно)340
Виленский гоен — прозвище Элийогу бен Шлойме (1720–1797) — величайшего из литовских талмудистов, создателя «литовского еврейства» как определенного типа религиозного поведения. Основные усилия Виленского гоена были сосредоточены на изучении Талмуда и устранении в нем текстологических ошибок. Кроме комментария на Талмуд, он создал целый ряд комментариев на Библию, на многие раввинистические и каббалистические сочинения. Виленский гоен был непримиримым врагом хасидизма, неоднократно организовывал гонения на хасидов, подвергал их херему (отлучению).
(обратно)341
Надорвать край одежды — то есть справлять траур как по умершему.
(обратно)342
Кол-нидре (букв. все обеты, древнеевр.) — первая молитва литургии Йом Киура. В ней молящиеся просят Всевышнего освободить их от всех обетов, которые они приняли на себя, но не смогли исполнить.
(обратно)343
…ну… э… кол-нидре… — Так как прихожане синагоги уже находятся в «пространстве молитвы», то стараются не говорить на идише. Не умея говорить на древнееврейском, они вынуждены обходиться религиозными терминами и междометиями.
(обратно)344
…учить вслух: «Шор шеногах эс га-поре…» — классический пример талмудического расследования имущественных претензий.
(обратно)345
Бык, который забодал корову [Талмуд, трактат «Бава Кама (Первые врата)», 46, древнеевр.].
(обратно)346
Данциг — центр германской провинции Западная Пруссия, в настоящее время Гданьск (Польша). Расположен при впадении Вислы в Балтийское море, крупнейший международный порт и центр судостроения.
(обратно)347
Ребе из Ворки — Симха-Буним Калиш (ум. 1907 г.), третий ребе в династии цадиков из Ворки.
Ворка — еврейское название местечка Варка Гроецкого уезда Варшавской губернии. В нем, по переписи 1897 г., проживало 4000 человек, из них 2500 евреев.
(обратно)348
…не все получают место за столом у ребе и стоят вместе с остальными хасидами. — Во время праздничной трапезы ребе сидит во главе стола, рядом с ним сидят его приближенные и наиболее уважаемые хасиды. Остальные хасиды стоят вокруг стола и внимают словам своего ребе.
(обратно)349
Отвоцк. — Симха-Буним из Ворки перенес свой двор в Отвоцк.
Отвоцк — курортный город в Новоминском уезде Варшавской губернии.
(обратно)350
Немецкая мода — современное европейское платье. «Немцами» называли евреев — сторонников Просвещения.
(обратно)351
«Записка» — хасидский ритуал. Хасид передает цадику свою просьбу, как правило, связанную с какой-то житейской проблемой, не устно, а в виде записки.
(обратно)352
Бичевание — Перед Йом Кипуром происходило ритуальное бичевание, при котором шамес специальной плетью наносил каждому обывателю 39 ударов.
(обратно)353
…я прошу у вас прощения. — Перед Йом Кипуром следует попросить у всех прощения, со всеми примириться.
(обратно)354
Водка с лекехом — праздничное угощение в публичном пространстве, например в синагоге. В данном случае это угощение перед наступлением суточного поста.
(обратно)355
…любил пропустить стаканчик с хасидами в бесмедреше… по поводу йорцайт… — Тот, кто в память умершего родителя читает кадиш в его йорцайт, после богослужения угощает присутствовавших на богослужении, как правило, водкой с лекехом.
(обратно)356
…кто-нибудь завершит изучать трактат Талмуда. — Завершивший изучать трактат Талмуда устраивает угощение.
(обратно)357
…возникал вопрос о коровьих потрохах, и отец находил повреждение… — В обязанности раввина входит осмотр внутренностей животного в спорных случаях, так как определенные повреждения внутренностей делают мясо трефным.
(обратно)358
Мойше (Мозес) Мендельсон (1729–1786) — выдающийся немецкий писатель и философ, еврейский религиозный мыслитель, один из основателей еврейского Просвещения. В 1780–1783 гг. выполнил новый перевод Пятикнижия на литературный немецкий язык и снабдил его своими комментариями «Биур».
(обратно)359
Каменка — имеется в виду Каменка-Струмилова, уездный город в Галиции, Австро-Венгрия. В нем в конце XIX в. проживало 7300 человек, из них 3200 евреев. Упомянутая в этой главе история легла в основу романа И.-И. Зингера «Йоше Калб (Йоше-Телок)» (1932).
(обратно)360
…она не может его «поприветствовать». — Имеется в виду, что женщина находится в состоянии ритуальной нечистоты и не может вступать с мужем в супружеские отношения.
(обратно)361
Плонск — уездный город Варшавской губернии. В нем, по переписи 1897 г., проживало 7900 человек, из них 4500 евреев.
(обратно)362
Шиве (букв. Седмица, древнеевр.) — траурный обряд, семидневный траур по умершему родственнику, который проводят сидя на низкой скамейке или на полу. Принято справлять символический траур по выкрестившемуся члену семьи как по умершему.
(обратно)363
Зеленый Четверг — у католиков традиционное название четверга на Страстной неделе, с которого начинаются пасхальные торжества.
(обратно)364
Йойзлы — имеются в виду распятия.
(обратно)365
Гакофес (см. глоссарий) — здесь этот термин использован иронически.
(обратно)366
…жених и его дружки сидели в доме невесты и веселились… — Имеется в виду традиционный мальчишник, предшествующий хупе.
(обратно)367
…не хотелось уходить из дома невесты прямо перед тем, как ей покроют волосы… — Покрывание невесты (кале бадекн, идиш) — предшествующий хупе ритуал накидывания фаты на голову невесты в присутствии жениха.
(обратно)368
Ангел смерти. — По народным представлениям, Ангел смерти имеет множество глаз.
(обратно)369
Поговорка, означающая, что некто появляется там, куда его не звали.
(обратно)370
…поп в своем святом облачении ехал к больному, сопровождавший его костельный органист звонил в колокольчик. — Имеется в виду обряд соборования, то есть помазания елеем тяжелобольного. Если больной безнадежен, то его после этого еще и причащают. По католической традиции, священника, едущего соборовать, сопровождает служка, звонящий в колокольчик.
(обратно)371
Мужики и бабы, заслышав святой колокольчик, тут же падали на колени. — Прохожие, заслышав колокольчик, преклоняют колени, так как священник везет «святые дары».
(обратно)372
Святая вода. — И.-И. Зингер ошибается: помазание больного происходит не водой, а елеем.
(обратно)373
Когда рождался мальчик, Мирл лежала в постели до обрезания. — То есть в течение восьми дней.
(обратно)374
…вымя, которое она жарила на вертеле. — Иудаизм запрещает совместное употребление в пищу мясных и молочных продуктов. Тем не менее вымя есть можно, но приготовление его требует специальных ухищрений, в том числе обжаривания на открытом огне.
(обратно)375
Такого теленка не нужно нести к шойхету… — Согласно Галахе, если нерожденный теленок извлечен из чрева коровы, зарезанной шойхетом, то для употребления его мяса в пищу шхита не требуется.
(обратно)376
Фрейдл — имя одного корня со словом «фрейд», что на идише означает «радость».
(обратно)377
Шер (букв. ножницы, идиш) — название еврейского народного танца, похожего на кадриль.
(обратно)378
От польск. bocian — аист.
(обратно)379
От польск. odpusk — отпущение <грехов>. Так у поляков называются престольные праздники.
(обратно)380
Червинск — местечко Плонского уезда Варшавской губернии. По переписи 1897 г., из 1300 его жителей 400 составляли евреи.
(обратно)381
Блоне — уздный город Варшавской губернии. По переписи 1897 г., из 3000 его жителей 1000 составляли евреи.
(обратно)382
…ссорились из-за… хазоки… — Подразумевается, что хазока (право давности) распространяется и на место на ярмарке, которое торговец занимает много лет подряд.
(обратно)383
…вышегродцы, которые говорили на немецкий манер. — Вышегрод расположен в Плоцкой губернии, на западе Царства Польского, поэтому идиш тамошних жителей испытал влияние немецкого.
(обратно)384
каждое слово заканчивали на «хе»… — Имеется в виду, что в речи жителей Вышегрода характерный для идиша уменьшительный суффикс «ле» заменен на немецкий суффикс «хен».
(обратно)385
…старьевщики с тележками, полными… игрушек… — Старьевщики меняли игрушки на тряпки и другие отходы.
(обратно)386
«Внук» — в хасидской традиции так называли потомков известного цадика вне зависимости от того, сколько поколений отделяло их от знаменитого предка.
(обратно)387
Бешт — акроним основоположника хасидизма Исроэла бен Элиэзера (1700–1760), прозванного Баал-шем-тов (добрый знахарь, древнеевр.).
(обратно)388
Козеницкий магид — «Проповедник из Козеницев» — прозвище Исроэла б. Шабсая из Козеницев (кон. XVIII — нач. XIX в.), влиятельного хасидского цадика и талмудиста. Его потомки стали основателями многих хасидских династий.
Козеницы — уездный город Радомской губернии.
(обратно)389
Святой еврей — прозвище Янкева-Ицхока Рабиновича из Пшисухи (1766–1813) — хасидского цадика, основавшего наиболее влиятельную линию в польском хасидизме.
Пшисуха — местечко в Радомской губернии.
(обратно)390
я бы желал омыть руки… что… значило: есть хочется. — Перед трапезой ритуально омывают руки.
(обратно)391
Дьяволова кожа — кожа ската или акулы. Считалось, что она обладает магической силой.
(обратно)392
Иссоп — синий зверобой, степное травянистое растение, многократно упомянутое в Писании.
(обратно)393
«Выкупы» — так назывались пожертвования, которые хасидские цадики собирали со своих приверженцев.
(обратно)394
Хай (букв. жизнь, древнеевр.) — гематрия (сумма числовых значений букв) этого слова равна 18, поэтому число 18 было широко представлено в различных еврейских магических практиках, в частности связанных с исцелением, рождением ребенка и т. п. Обычно гонорар хасидских цадиков за благословение был кратным 18. Здесь, поскольку речь идет о бедной пастве, шамес собирает по 36 грошей (18 копеек) или 36 копеек.
(обратно)395
Она до дрожи боялась, что муж с ней разведется, как того требует закон. — Согласно Талмуду, причиной развода может быть отсутствие детей у супругов после десяти лет брака (трактат Ктубот, 77а).
(обратно)396
«Полный» шин — буква «шин» необычного начертания, с четырьмя, а не тремя, как обычно, «головками». Такая «полная» шин изображена на тфиле (ед. ч. от тфилн) «шел рош» («для головы»).
(обратно)397
«Длинный» нун — форма буквы «нун» в конце слова.
(обратно)398
«Закрытый» мем — форма буквы «мем» в конце слова.
(обратно)399
Садовники подписывали у моего отца «купчие»… — Имеется в виду фиктивная уступка шабес-гою прав собственности, что позволяет эксплуатировать эту собственность по субботам.
(обратно)400
От польск. gospodyni — хозяйка.
(обратно)401
«Поруш» — в переносном смысле слова: аскет, отшельник. Здесь это слово использовано как иронический намек на обет безбрачия католического духовенства.
(обратно)402
Ичеле-Шмуэл, сын Фани — конокрад, упомянутый выше, в главе «Фрадл, черная овца в семействе».
(обратно)403
Не пошевелит пес языком своим — Шмот (Исх.), 11:7.
(обратно)404
Не пошевелит пес языком своим [Шмот (Исх.), 11:7, древнеевр.].
(обратно)405
Братик Ичеле — Ицхок Зингер (псевдоним Башевис, 1904–1991) — прозаик, переводчик и журналист, писал на идише, лауреат Нобелевской премии по литературе (1978).
(обратно)406
Идолопоклонство (древнеевр.). Трактат из четвертого раздела Талмуда «Незикин (Ущербы)». Содержит законы, в том числе пищевые запреты, которые должны отделять евреев от идолопоклонников.
(обратно)407
Все кресты (древнеевр.). Четвертая глава упомянутого трактата.
(обратно)408
Теодор Герцль (1860–1904) — писатель, журналист, основоположник политического сионизма. Ортодоксальные евреи, в первую очередь хасиды, относились к сионизму и личности Герцля крайне негативно.
(обратно)409
При погибели нечестивых — торжество [Мишлей (Притч.). 11:10]. Этот стих традиционно произносят при известии о смерти врага еврейского народа.
(обратно)410
Маленькая комната, тесно и жарко, виден огонь, / Там ребе с учениками учит азбуку (иврит).
Перевод на иврит первых строк песни «Афм припечек брент а файрл» (На шестке горит огонек, идиш), написанной на идише народным поэтом-песенником Марком Варшавским (1848–1908). Эта песня была и остается необычайно популярной, прежде всего в своей оригинальной версии на идише.
(обратно)411
Красавица (польский диалект идиша).
(обратно)412
Солтыс — староста в польской деревне.
(обратно)413
Гродно — губернский город. По переписи 1897 г., в нем проживало 22 000 евреев, что составляло примерно половину населения города.
(обратно)414
Гей, гей, гей, долой самодержавец из Расеи. — Не совсем точно переданный припев популярной еврейской революционной песни времен Первой русской революции.
(обратно)415
Япошки… — Русско-японская война началась 9 февраля 1904 года. Во время войны русская шовинистическая пропаганда постоянно называла японцев япошками.
(обратно)416
Горы Мрака — популярный мотив еврейской средневековой литературы и фольклора. За Горами Мрака, расположенными на краю света, средневековая литература размещала пропавшие Десять колен Израилевых. Иногда японцы отождествляются с потомками Десяти колен. Во время Русско-японской войны активизировались мессианские ожидания. Так как Десять колен должны сыграть существенную роль в эсхатологической битве, то представления о происхождении японцев от Десяти колен оказались актуальны, и это позволило народной фантазии локализовать Японию за Горами Мрака.
(обратно)417
От польск. jedność — единство.
(обратно)418
Погром в Белостоке. — 1–3 июня 1906 г. в Белостоке произошел один из самых жестоких погромов периода Первой русской революции. Было убито свыше 80 евреев.
(обратно)419
Эц-хаим (мн. ч. эцей-хаим) — Древо жизни (древнеевр.). Так называются ручки стержней, на которые наматывается свиток Торы.
(обратно)420
…читали Тору по будням. — Недельный раздел читают во время утренней литургии, кроме субботы, по понедельникам и четвергам.
(обратно)421
Благословен справедливый Судья (древнеевр.). Благословение, произносимое при известии о чьей-либо смерти.
(обратно)422
…положить свиток в гроб и похоронить на кладбище… — Оскверненные свитки Торы принято хоронить на кладбище.
(обратно)423
Слихес — траурные элегии, произносимые в синагоге перед Рошашоне и Йом Кипуром.
(обратно)424
И стал умолять (древнеевр.). Отрывок из Писания [Шмот (Исх.), 32: 11–14], в котором Моисей добивается от Всевышнего прощения для евреев, впавших в грех поклонения золотому тельцу.
(обратно)425
Мессия придет в 5666 году. — В соответствии с еврейским летоисчислением указан год от сотворения мира. Соответствует 1906 г. Такого рода эсхатологические настроения действительно были широко распространены в 1905–1906 гг.
(обратно)426
Родовые муки Мессии (древнеевр.). Каббалистический термин, описывающий войны и гонения, предшествующие пришествию Мессии.
(обратно)427
Война между Гогом и Магогом. — Гог и Магог — дикие народы, упомянутые в Писании. В иудейской эсхатологии война Гога и Магога предшествует пришествию Мессии.
(обратно)428
Времена Мессии — обиходное выражение, аналогичное русскому «конец света» или «последние времена настали».
(обратно)429
Шойфер Мессии — о пришествии Мессии должен возвестить пророк Илия с помощью трубления в огромный шойфер.
(обратно)430
…успел отслужить двадцать пять лет у фонек. — Начиная с 1827 г. евреи подлежали рекрутской повинности. В русской армии до реформ Александра II служили двадцать пять лет.
(обратно)431
…отслужить в армии всего-то четыре года. — В 1906 г. произошло очередное сокращение срока службы в русской армии: в пехоте стали служить три года, в остальных родах войск — четыре.
(обратно)432
Кашеед — прозвище русских солдат.
(обратно)433
Шхина — Божественное присутствие, эманация Всевышнего в мире.
(обратно)434
Шорабор (дикий бык, древнеевр.) — гигантский бык, созданный в сумерках шестого дня творения. Его мясо праведники будут вкушать на пиру после прихода Мессии.
(обратно)435
Вино сохраненное — вино, которое с шестого дня творения сохраняется для пира праведников в мессианские времена.
(обратно)436
…дней, каждый из которых будет тянуться тысячу лет. — Парафраз стиха: «Ибо тысяча лет в глазах Твоих, как день вчерашний, когда минул он, и как стража ночная» [Пс. 90 (89), 5].
(обратно)437
Веселье и радость в Симхастойре (древнеевр.). Популярный хасидский нигун.
(обратно)438
Всех забастовщиков арестуют вскоре… — Подстрочный перевод: «Мы уже не боимся забастовщиков».
(обратно)439
А нынче набиты его закрома. — Подстрочный перевод: «Вчера он правил тележкой с углем, / Сегодня он польский король; / Вчера он правил тележкой с навозом, / Сегодня он капиталист…».
(обратно)440
Заединщики (букв. ахдус-лайт, то есть «люди единства», идиш) — так называли революционеров, проповедовавших единство трудящихся вне зависимости от их национальности.
(обратно)441
Шойфер затрубил… — В шойфер трубят на протяжении всего месяца элул, предшествующего Рошашоне.
(обратно)442
…пока не взойдут три первых звезды. — Появление трех звезд на вечернем небе означает окончание одних суток и начало следующих.
(обратно)443
Ибо они <заповеди> — жизнь наша (древнеевр.). Из вечерней молитвы в Рошашоне.
(обратно)444
«Птичка» — праздничная булочка в форме птички.
(обратно)445
…макали в мед — во время праздничной трапезы на Рошашоне принято обмакивать еду в мед, чтобы сделать наступающий год сладким.
(обратно)446
Левиафан — мифическое морское чудовище, гигантская рыба, мясо которой праведники будут вкушать на пиру после прихода Мессии.
(обратно)447
И посему обрати страх Свой (древнеевр.). Из вечерней молитвы в Рошашоне.
(обратно)448
Да будет Тебе угодно (древнеевр.). Начало и название краткой молитвы, предшествующей трублению в шойфер, в которой молящиеся просят Всевышнего с помощью ангелов, чьи имена представляют собой различные аббревиатуры, воспринять их трубление. В разных нусехах эти имена-аббревиатуры разные. Видимо, существовала традиция, предупреждающая молящегося о том, что в качестве одной из таких аббревиатур он может случайно произнести имя грозного Князя Огня.
(обратно)449
Князь Огня. — У всякой стихии есть свой ангел-покровитель, в том числе и у огня. Князем Огня средневековая еврейская мистика считала одного из главных ангелов, как правило Михаила или Гавриила.
(обратно)450
Остерегайся весьма упоминать имя Князя Огня, Царя Грозного… чтобы не разрушить мир (древнеевр.).
(обратно)451
Я впервые посмотрел на благословляющих коэнов, хотя меня предостерегали от этого, говоря, что я могу ослепнуть. — Община выслушивает благословение коэнов с закрытыми глазами. По распространенному представлению, тот, кто взглянет в это время на коэна, — ослепнет.
(обратно)452
Лучше бы мне не рождаться на свет… — Подстрочный перевод: «Лучше было бы родиться без руки, / Чем служить „фоняцкой“ стране; / Ой, горе, я уже пропал, / Лучше мне было бы не родиться…».
(обратно)453
От польск. losować — тянуть жребий. Так как потенциальных призывников было больше, чем нужно, то при призыве в царскую армию все молодые люди, достигшие призывного возраста, тянули жребий, кому служить, а кому — нет.
(обратно)454
Моему дорогому сыну, раввину праведному и сыну святых (древнеевр.).
(обратно)455
Материнский язык (идиш). Распространенное название идиша. Здесь, однако, игра слов, «материнским языком» назван идиостиль, которым мать пишет письма сыну.
(обратно)456
От раввинши Теме-Блюмы, дочери святых (древнеевр.).
(обратно)457
Дов-Бериш Майзельс (1798–1870) — главный раввин Кракова, затем Варшавы. Польский патриот, активно поддержал Польское восстание 1863–1864 гг.
(обратно)458
Кременец — уездный город Волынской губернии. В нем, по переписи 1897 г., проживало 17 600 человек, из них 6500 евреев. В первой половине XIX в. раввином Кременца был Довид-Цви Ойербах.
(обратно)459
Станислав — окружной город в Галиции (современное название — Ивано-Франковск). В середине XIX в. в нем проживало около 6000 евреев, что составляло примерно половину населения города. В первой половине XIX в. раввином Станислава был Арье-Лейб Горовиц (1758–1844).
(обратно)460
Бамберг — окружной город в Баварии. В нем проживала одна из старейших еврейских общин Германии.
(обратно)461
Турей Захав (Таз) — прозвище Довида бен Шмуэла га-Лейви (1586–1667) — крупнейшего галахического авторитета XVII в. Был раввином во многих крупных общинах Польши, в конце жизни — раввином Львова. Акроним Таз — сокращение названия его главного сочинения «Турей захав» («Золотые столбцы»), комментария к «Шулхан ореху» Йосефа Каро.
(обратно)462
Лемберг — немецкое и еврейское название Львова.
(обратно)463
Конск — уездный город Радомской губернии. В нем, по переписи 1897 г., проживало 8960 человек, из них 4450 евреев.
(обратно)464
Моше Хариф — неясно, о ком идет речь. Прозвище «Хариф (Острый <умом>)» носили многие раввины и талмудисты.
(обратно)465
Штетин — центр Померании в составе Пруссии (в настоящее время Щецин, Польша).
(обратно)466
Черная нечисть (идиш) — ироническое название г. Белая Церковь Киевской губернии.
(обратно)467
Пять рублей серебром (древнеевр.).
(обратно)468
Десять рублей серебром (древнеевр.).
(обратно)469
В силу ряда причин (древнеевр.).
(обратно)470
Да, да, господин (польск.).
(обратно)471
…принялся кричать «Шма Исроэл!» — Символ веры «Шма» произносят в минуту смертельной опасности.
(обратно)472
Гоймл (букв. Творящий <добро>, древнеевр.) — благословение, произносимое в синагоге в субботу после вызова к Торе тем, кто завершил трудное путешествие или избегнул опасности.
(обратно)473
…жертвовала по восемнадцать грошей Меиру-чудотворцу. — Коробками Меера-чудотворца назывались копилки, установленные в синагогах и частных домах для сбора пожертвований на поддержку евреев, живущих в Земле Израиля, или, позднее, на другие благотворительные цели. Меер-чудотворец — рабби Меер (ок. 110 — ок. 165), крупнейший танай. В народе рабби Меер получил прозвание чудотворца, так как Талмуд рассказывает о его способности творить чудеса. Существует ряд гипотез, объясняющих, почему копилки носили имя рабби Меера, но все они спорны.
(обратно)474
Нету, раввинша (искаженный нем.).
(обратно)475
Райниш — от «Rainische Gulden», названия старинной австрийской монеты.
(обратно)476
Без обета. — Давая обещание, набожный еврей добавляет слова «без обета», дабы не оказаться клятвопреступником, если непреодолимые обстоятельства помешают ему сдержать слово.
(обратно)477
…радзиминский ребе, поможет ему получить раввинскую должность получше. — Как правило, каждая община сама нанимала раввина, но в общинах, в которых сильно было влияние какого-либо цадика, этот цадик мог влиять на выбор кандидатуры раввина.
(обратно)478
Чтец Торы. — Чтение Торы по свитку требует определенного навыка, поэтому вызванный к Торе читает ее не сам, а специальный чтец читает соответствующий фрагмент от имени вызванного.
(обратно)479
Песнь для освящения <Храма> (древнеевр.). Начало Псалма 30, который произносят в первой части утреннего богослужения согласно ашкеназскому нусеху.
(обратно)480
Благодарите <Господа> (древнеевр.). Начало псалма Давидова, приведенного в Книге Хроник [Диврей га-Ямим (I Пар.), 16:8]. Этот псалом открывает группу библейских текстов, произносимых в начале утреннего богослужения.
(обратно)481
Освящение (древнеевр.). Важнейшая молитва в составе каждого богослужения. Существует в нескольких вариантах.
(обратно)482
Мы будем освящать и превозносить (древнеевр.). Один из вариантов начала «Кдуше».
(обратно)483
Мы освятим (древнеевр.). Один из вариантов начала «Кдуше».
(обратно)484
Выйди, друг мой <навстречу невесте> (древнеевр.). Гимн, исполняемый во время встречи субботы. Написан Шломо Алькабецом (1505–1584, Цфат).
(обратно)485
Лучшие алии. — Вызовов к Торе для чтения недельного раздела должно быть не меньше семи, но может быть гораздо больше. Первый и второй вызовы к Торе зарезервированы за коэнами и левитами. Остальные вызовы распределяет габе. Наиболее почетными считаются третий и шестой; седьмой вызов, последний вызов и мафтир ценятся чуть ниже; четвертый и пятый — еще ниже. Мафтир — вызов к чтению гафтары, текста из пророков, добавляемого к каждому недельному разделу.
(обратно)486
Гакофес — состоят из семи кругов вокруг бимы. Первые круги считаются более почетными.
(обратно)487
…поднимать свиток Торы по завершении чтения… — Перед тем как убрать свиток Торы в орн-койдеш, один из молящихся разворачивает свиток, поднимает и показывает его присутствующим.
(обратно)488
Наказания (древнеевр.). Фрагменты Торы [Дварим (Втор.), 27:15–26; 28:15–68]. содержащие перечисление кар. которые Всевышний обрушит на Израиль в случае, если тот отступит от заповедей. Произнесение «Тойхохе» во время годового цикла чтения Торы считалось дурной приметой, поэтому его поручали самому безответному члену общины, часто такому, которого считали дурачком.
(обратно)489
…подали друг на друга в суд. — Согласно Галахе, евреи не должны решать конфликты между собой в нееврейском суде, а только в раввинском. Таким образом, жители Ленчина полагают, что отсутствие раввина ввело их в грех.
(обратно)490
Те хасиды говорят «Гойде» сперва, а мы, простые люди, говорим «Мизмор шир ханукас» сперва (древнеевр. и польск.).
(обратно)491
Установление десятое: чтобы раввин не брал понюшку табака от презренного Хершла, по прозвищу Палка, а умному достаточно намека… (древнеевр.).
(обратно)492
На русском языке эта книга издавалась под названием «Папин домашний суд». — М.: Книжники: Текст, 2008.
(обратно)


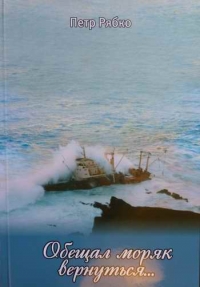
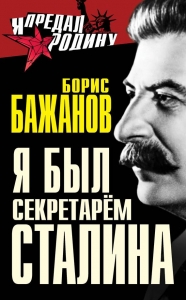


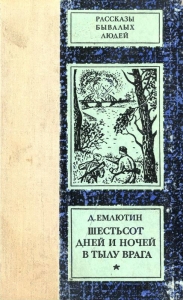
Комментарии к книге «О мире, которого больше нет», Исроэл-Иешуа Зингер
Всего 0 комментариев