Станислав Лем Черное и белое (сборник)
Stanisław Lem
CZARNE I BIAŁE
© Stanisław Lem, 1948 – 2006
© Составление. Язневич В.И., 2013
© Перевод. Язневич В.И., 2001 – 2013
© Перевод. Борисов В.И., 2008, 2013
© Перевод. Лукашин А.П., 2013
© Послесловие; библиографическая справка. Язневич В.И., 2013
© Издание на русском языке AST Publishers, 2015
Печатается с разрешения наследников автора и литературного агентства Andrew Nurnberg Associates International Ltd.
I Станислав Лем рассказывает
«Я – Казанова науки» (интервью)
Марек Орамус[1]: В следующем году исполнится 50 лет со дня вашего дебюта в еженедельнике «Nowy Świat Przygód»[2]. Не пора ли подумать о балансе жизни и творчества?
Станислав Лем: Но ведь я еще живу!
– Но вы перестали писать, по крайней мере, беллетристику.
– Действительно, за беллетристику я берусь только тогда, когда мне кто-нибудь хорошо заплатит[3].
– Нет ли у вас ощущения, что ваше творчество, эти сорок книг, дало меньше результатов, чем могло бы? Я не имею в виду деньги или роскошь, а читательский отклик, влияние на культуру, на развитие цивилизации.
– Откуда я знаю? Если речь идет о премиях, я получил три крупные за границей: американскую, немецкую и австрийскую, не считая таких, как недавняя награда ПЕН-клуба или второстепенные мелочи. Но что мне представляется более важным: мои книги в большинстве своем не умерли, например, «Солярис» и «Кибериада» постоянно переиздаются в разных странах. Пару вещей мне удалось предвидеть, когда они еще никому и не снились. То, что я являюсь предтечей фантоматики[4], обнаружили только в последнее время: один автор написал книгу «Археология киберпространства», которая должна появиться в Германии[5]. Я получаю письма из Америки, где говорится, что над проблемой мира, замкнутого в компьютере, что я показал в «Не буду служить», уже серьезно работают в каком-то университете. В Канаде в Университете Макгилла выходит книга обо мне, включающая обширное интервью[6]. В Германии один профессор[7] упорно видит во мне не писателя, а философа, использующего для более широкого влияния затертую традицию научной фантастики. Что я еще могу ожидать? Золотую корону? Конечно, я чувствую, что в Польше меня недооценивают и мною пренебрегают, но если на Западе меня считают философом, который использует оружие НФ, мне этого вполне достаточно. На сегодняшний день в России у меня гигантские тиражи[8], несмотря на возрастающее там увлечение виртуальными технологиями. Ведь у меня были переводы даже в Финляндии. Мог ли я желать большего?
– Но отклик на то, что вы сделали, намного слабее, чем следовало ожидать после такого количества книг, после борьбы на стольких фронтах.
– Нет, это только в Польше. Мы в определенном смысле всегда были и остаемся культурным захолустьем. Вы сами упоминали, что чехи, которые сейчас издают мою «Сумму технологии», – народ намного более читающий, чем мы, ведь жителей в четыре раза меньше, а тиражи книг там такие же, как в Польше. В Германии у меня суммарный тираж 7 миллионов, то есть на 10–11 немцев приходится одна книга Лема. В России после падения коммунизма мои тиражи уже превысили всё изданное в советские времена[9]. То есть мои книги пережили и выдержали падение коммунизма даже там. Если бы мои произведения хорошо экранизировали, тиражи были бы еще больше. Я никогда не стремился к тому, чтобы все мне поголовно поклонялись. Наоборот, меня удивляет, что некоторые книги все еще читают. Лично мне наибольшее удовлетворение приносит небеллетристическое направление моего творчества. Посмотрите, какова судьба моих коллег литераторов. Боюсь даже спрашивать, на что они живут.
– Однако, не считаете ли вы своей личной неудачей, что эти ваши 40 книг не повлияли сдерживающе на деструктивные начала и тенденции цивилизации? Ведь ее развитие пошло не в сторону утонченного рационализма, как вы бы хотели, а в сторону глупости, вредительства и культа безделушек. Так, словно мир специально старался сделать вам назло.
– В этом смысле вы абсолютно правы. В свое время у меня даже было ощущение – не совсем осознанное – некоей своей просветительской миссии, я всегда стоял на позициях рационализма. Поэтому я разочаровался в целой массе американских авторов НФ, которых я критиковал за создание бредней, грубо загримированных под литературу, так что они меня в конце концов сообща выкинули из Science Fiction Writers of America[10]. Сначала признали почетное членство, а потом выкинули.
– За то, что вы ругали американскую научную фантастику в «Фантастике и футурологии»?
– За все в целом. Прежде всего за статьи, которые там были опубликованы. Но продолжим: когда из-за введения военного положения в Польше я жил в Вене, издание «Frankfurter Allgemeine Zeitung» прислало мне анкету, в которой был вопрос: «Какое ваше самое заветное желание?» Я ответил двумя словами: другое человечество. Чтобы человечество было другим. Я не имею в виду, чтобы это человечество ничего не делало, а только зачитывалось Лемом, я хотел бы, чтобы оно вело себя иначе. Вы знаете роман Олафа Стэплдона «Создатель звезд»?
– Да.
– Там герой мысленно посещает разные галактики. По пути он встречает много «нормальных» цивилизаций и время от времени цивилизации сумасшедшие. У меня начинает создаваться впечатление, что мы живем в цивилизации, которая движется к полному безумию. Сегодня снова, похоже, была газовая атака в Йокогаме[11]. Это безумие направлено не столько на мои книги, сколько на мою жизненную позицию. Читателей у меня достаточно, проявлений признания и черт знает чего – даже слишком. Но вот то, что мир неуклонно движется к катастрофе… Что ж, главное направление технологического удара я, собственно говоря, предвидел, зато абсолютно не отдавал себе отчет в том, какое страшное будущее готовит себе человечество. Мой сын заканчивает Принстонский университет, приезжает в Краков с ноутбуком новейшего поколения, вставляет туда дискету, которую ему дали друзья, и там сразу появляется голая дева. Даже научные сообщества Интернета используются для того, чтобы распространять там порнографию. Я ничего не имею против порнографии, но пусть все будет на своем месте. Словно мне кто-то дает гороховый суп и добавляет в него кусочки торта. Что-то здесь не так. Это не я разминулся с цивилизацией, это цивилизация разминулась со мной (смеется).
– У меня сложилось впечатление, что когда-то вы были страшно наивным. Я читал такие ваши слова – вы были тогда, правда, намного моложе, – что если бы человечество уже достигло надлежащего уровня развития, то чтение изданий типа «Успехи физики» и «Acta mathematica» было бы ежедневным увлечением миллионов.
– Ну, может, не так буквально. Тридцать лет назад я написал статью, если правильно помню, для журнала «Studia filozoficzne» о сверхчувственном познании, телепатии, телекинезе и т. п.[12] В ней был выдвинут тезис, что через тридцать лет этот вопрос будет так же неясен, запутан, без всяких доказательств – и именно так, более-менее, дело обстоит сейчас. Люди намного больше интересуются астрологией и звездными гороскопами, чем астрофизикой. Недавно мы с женой заглянули в книжный магазин, а там надпись на полстены: гороскопы, амулеты, какие-то заклинания… Мне показалось, что я нахожусь посреди африканской деревни, сейчас шаман начнет бить в бубен. Я не перестаю изумляться, что людям это надо. Французы, похоже, на одни гороскопы тратят 5 миллиардов франков ежегодно. Те, кто этим наслаждается, не должны читать Лема, потому что никакой пользы от этого не будет. Мы живем в период варварства, почти каждый крупный международный матч по футболу заканчивается коллективным мордобоем, большое количество различных террористических актов, покушений и т. п. Это и грустно и поразительно, но я, впрочем, никогда и не считал, что моя литература будет влиять на мир успокаивающе, как оливковое масло на бурные волны.
– Можно было надеяться, что после развала Советского Союза в мире станет немного комфортнее.
– И я так думал. Но по-прежнему бурлит то здесь, то там, и никакого прогресса не видно. В этом году в Америке вышел мой «Мир на Земле», поэтому от издателя я получил пачку рецензий. Одни пишут, что я Polish national treasure[13], что это прекрасная книга, а другие – что это все устарело, потому что относится к эпохе холодной войны. Чем на самом деле важна эта книга? Я вижу военную угрозу со всех сторон: со стороны ислама, Северной Кореи и т. д., поэтому разговоры, что мы вышли на прямую развития, я считаю смешными. Мир ужасен, и я никогда не считал, что мне удастся выпрямить пути человечества.
– Как вы себе объясняете свое знаменитое одиночество, которое вы несколько раз подчеркивали и в «Големе XIV», и в «Кибериаде», и в разговорах с Бересем[14]? Или Лем такой чудак, или это мир стал чудовищным и вам трудно его принять?
– Я довольно одинок в своей стране. Когда ко мне обращаются из различных редакций и просят рассказать о своем первом свидании или о первой любви – я просто кладу трубку. Меня привлекает философия будущего, нанотехнология, молчание Вселенной – мои интересы значительно шире, чем мои рецептивные способности. Следовательно, я могу говорить о личном одиночестве в том смысле, что я увлекаюсь тем, до чего нет дела подавляющему большинству. Также имеет место и некая разновидность духовного одиночества, выходящего за самые далекие границы науки, передовые исследования только потом меня догоняют, как в случае с этой virtual reality[15], которую я назвал фантоматикой. Я был одинок на территории научной фантастики, где никто не отважился поднимать те вопросы, что я. Мне всегда было и теперь жаль, что НФ не занималась зондированием аутентичного, наукоемкого будущего, а только убегала во всякие сказки.
– Потому что это проще.
– А меня интересовало именно то, что труднее.
– Может, вся проблема в том, что потребители, грубо говоря, оказались слишком глупыми, чтобы принять или оценить то, что вы им предлагали?
– Даже больше: такие трактаты, как «Философия случая» или «Сумма технологии», не были услышаны[16]. Словно бы я писал на санскрите или на языке майя. Никто их не воспринимал всерьез – только потом вдруг оказалось, что конкретная аппаратура для фантоматики стоит столько-то и столько-то.
– Профессор Антоний Смушкевич в книге о вас пишет, что, несмотря на широкий круг читателей во всем мире, Лем «чувствует себя одиноким и недооцененным. Его подлинные убеждения и оригинальные концепции не находят видимого отклика в кругах ученых, мыслителей и философов»[17]. Но ведь и в среде обыкновенных потребителей письменного слова положение не лучше.
– Если кто-то в Германии или в Канаде получает научные докторские степени по философии Лема[18], это значит, что еще не все потеряно. Non omnis moriar – не весь я умру, ибо что-то там всегда останется. Величайшая трагедия писателя, по моему мнению, это ситуация, когда он еще живет, а его книги уже умерли. На это пожаловаться я не могу.
– Может, вы слишком мало старались быть привлекательным для читателей? Слишком мало крутите бедрами – в литературном смысле?
– Я старался быть привлекательным интеллектуально, отказываясь лезть из кожи вон и подвозить секс целыми тачками. Когда я издал «Абсолютную пустоту», вещь достаточно новаторскую на польской почве, состоящую из фиктивных рецензий на несуществующие книги, – какой-то взбешенный читатель вернул мне эту книгу с оскорблениями. Он написал, что на такие бредни жалко тратить бумагу, что я должен дальше писать вещи типа «Астронавтов». Вскоре после этого меня навестил американский теоретик и историк литературы, который начал меня превозносить до небес за новаторство и оригинальность. Тогда я показал ему этот экземпляр с оскорблениями. На это он сказал, что именно так всегда и бывает с новаторами, после чего заверил меня, что именно благодаря таким книгам, как «Абсолютная пустота», я останусь в истории литературы. И все-таки я сохранил этот экземпляр как своеобразное напоминание, просто чтобы случайно чего-нибудь не напутать.
– Откуда взялись три закона Лема?
– Это же была шутка.
– Но смертельно серьезная.
– В «Библиотеке XXI века» я поместил когда-то очерк «Мир как всеуничтожение», где указал на творческую и одновременно уничтожающую роль катастроф. Ведь человечество возникло потому, что космический катаклизм погубил динозавров. Но вот в последнем номере журнала «Шпигель» я читаю, что катастрофы руководят миром, руководят космосом. Там высчитали даже, что из всех живущих когда-либо на Земле видов погибло 99 процентов. Следовательно, эволюция не является исключительно прогрессом жизни, а прежде всего – это ужасная гекатомба.
Сегодня на нашей планете с шестью миллиардами жителей никто не в состоянии рассказать что-то, чего никто другой до него не рассказал бы. В мире ежедневно выходит примерно 300 миллионов газет, не считая книг. Относительно этого наводнения и неизбежной повторяемости разных выводов я придумал, что: I. Никто ничего не читает; II. Если читает, то не понимает; III. Если читает и понимает, то сразу же забывает – хотя бы потому, что должен освободить место в голове для очередной информации[19].
– Если три закона Лема должны были стать шуткой, то над чем вы шутили? Над ситуацией в культуре?
– Один-единственный раз я был когда-то на Франкфуртской книжной ярмарке. Там выставили 280 тысяч книжных новинок. Тогда я чувствовал себя как человек, стоящий на берегу океана, в руке у него маленькая кружка с водой, и он пробует доливать воду в Атлантику. Какой в этом смысл? Никто ничего не читает, ибо не в состоянии, не успеет он даже открыть каждую из этих книг по очереди. При этом уничтожается возможность оценки критиками этого нагромождения.
– Вы стартовали от высокого уровня доверия к человеку, ваша вера в возможности нашего вида была действительно безгранична. В конце же вы совершенно усомнились в человечестве. «Непобедимый» был здесь, пожалуй, пограничной книгой: я заметил, что иногда вы ставили кавычки в названии, а иногда их убирали. Таким образом, в первый раз название означало космический корабль под названием «Непобедимый», а в другой раз – аллегорию именно человека, непобедимого, ибо со всем, что он встречает на пути, он сумеет справиться.
– Я так не думал и не делал этого сознательно. Когда я уцелел в войну, в немецкой оккупации, в советской оккупации, когда приехал в Краков, где началась моя литературная карьера, то у меня было непреодолимое чувство, что дальше может быть только лучше, что будет больше свободы, что человечество вышло из темного подвала, встряхнулось, поумнело. Мне казалось, что ценой стольких жизней, стольких страданий должен появиться лучший мир. Понятно, я был молод тогда. Если у вас есть маленькие щенки или котята, то вы догадываетесь, почему они такие веселые. Тому, кто появляется на свет, природа дает кредит оптимизма, который постепенно исчерпывается за годы жизни. Человек, такой как я, стареет и видит, что мир этот достаточно раздражающий, а люди находят отвратительнейшие применения прекраснейшим открытиям.
В последнее время я читаю в журналах разные анонсы книг, их печатают для того, чтобы читатель знал, что его ожидает. Нимфомания, убийства, насилие или, по меньшей мере, какое-то сложное извращение являются обязательными элементами этого репертуара, без которого никто не сумеет обойтись. Я защищался и защищаюсь от кинематографистов, но неосмотрительно дал согласие телевидению из Санкт-Петербурга на «Слоеный пирог», который в Польше снял Вайда. Каким чудом оказались в этом спектакле голые девушки, этого я никогда не пойму.
– Вы, видимо, очень не любите наготу и секс.
– Не восхищаюсь, но нет и аллергической реакции. Если это должно быть элементом литературного произведения или фильма, то нельзя его подавать безмерно и бесконечно, потому что читатель или зритель любит возбуждаться. В связи с этим я не испытываю ни малейшего сожаления, что секс на страницах моих книг почти не присутствует. Сейчас, чего я давно не делал, я должен был проверить один из томов издания моего «Собрания сочинений», а именно «Возвращение со звезд». Там есть сцена, где герой Эл Брегг проводит ночь с женщиной, которую он отбил у другого, и, разумеется, они совокупляются. Из описания этой ситуации я понял, что произошло два половых акта. Это очень четко следует из текста – меня самого это поразило; одновременно не было там сказано ничего, что могло бы оскорбить даже институтку.
– Почему в ваших книгах присутствует так мало женщин? Сейчас в американском фильме среди героев обязательно должны оказаться негр, женщина и ребенок – ибо только представители этих трех категорий еще ходят в кинотеатры. Эта тенденция начинает проникать и в литературу.
– У меня ничего такого быть не должно. Вы читали «Контакт» Сагана? Миллион долларов только аванса за этот трактат о кнопке! Чтобы книга лучше продавалась, а может, ради политкорректности, Саган президентом США представил женщину. Такие номера – это продажность профессии писателя. Женщина выходит на сцену только тогда, когда она необходима. В «Возвращении со звезд» не обошлось без женщины, потому что там есть любовная история. В «Маске» – я тоже нуждался в образе кокетки, поэтому ввел женщину. В «Больнице Преображения» герой вступает в связь с коллегой по работе, так он отреагирует на страшную резню сумасшедших, которую он не смог предотвратить и которой сам с трудом избежал. Я ввожу женщин-героинь тогда, когда считаю нужным. На political correctness[20] мне совершенно наплевать.
– Однако возьмем космические корабли из «Непобедимого», или из «Фиаско», или из «Возвращения со звезд». Ни на одном из них нет женщин.
– В «Магеллановом Облаке» действует смешанный экипаж. Но книга получилась плохой.
– Но вряд ли в этом виноваты женщины? Столь герметичная половая изоляция в космосе кажется мне искусственным приемом. На корабле «Прометей» в «Возвращении со звезд» двадцать молодых, здоровых мужчин были лишены женщин целых десять лет. Я бы не удивился, если от случая к случаю среди экипажа дело доходило бы до гомосексуальных актов, возникал триолизм, квартолизм, квинтолизм. Вы ничего этого, ясное дело, не упоминаете, но, по моему мнению, отсутствие секса ударило бы им в голову, и они не смогли бы вести исследовательскую работу. Вместо того, чтобы с риском для жизни проводить спектральные анализы, эти астронавты смотрели бы порно.
– В первых полярных экспедициях, даже на оба полюса, а также на гору Эверест, никакие женщины не участвовали, и никто этому не удивлялся.
– Потому что это были короткие эпизоды, после которых те, кто не замерз и не упал в пропасть, возвращались к нормальной жизни.
– Ну хорошо, допустим, что женщины есть на «Прометее». Через какое-то время половина из них беременеет, родятся дети, ибо как иначе, и космический корабль оказывается обвешанным веревками, на которых сушатся пеленки. Мало у кого остается время на выполнение научных, исследовательских или еще каких-либо задач, которые, в конце концов, и являются целью экспедиции – ибо свои усилия он должен посвящать семье. Как вы себе это представляете?
– Однако если бы в «Фиаско» на «Эвридике» оказались женщины, то, пожалуй, их приятели не стали бы столь охотно убивать чужих существ с планеты Квинты. Женщины могли бы предотвратить апокалипсис квинтян. В течение всей истории цивилизации женщины играли роль регулятора, тормозя разрушительные устремления мужчин.
– В моем творчестве действует принцип бритвы Оккама: не следует множить сущности сверх меры. Должно быть только то, что необходимо. Мои астронавты немного напоминают монахов: перед экспедицией они заключают ригористические браки и соглашаются на долгосрочные личные жертвы. Этого требует выполнение поставленной задачи. Если кто-то хочет быть ксендзом, он не должен дотрагиваться до прислужников или до чужих жен, и всю жизнь жить в безбрачии. Тот, кто хочет участвовать в десятилетнем космическом путешествии, таком как в «Возвращении со звезд», отказывается на этот период от постельных утех и потому набрасывается затем на женщин со страшной ненасытностью, вследствие длительного воздержания.
– Эл Брегг бросается на женщин необычайно уравновешенно и культурно. Хотя он и с женщиной, но мыслями все еще блуждает среди звезд.
– Ну так что?
– После десяти лет в вакууме астронавты из «Прометея» имеют право – да что уже там, обязанность, – вести себя хуже, чем моряки после дальнего плавания. После приземления они должны двинуться всей ватагой к проституткам и провести в борделе неделю или две. Тогда я бы посчитал их нормальными людьми. Что их сдерживает?
– На второй или третий день после приземления Эл Брегг встречается с известной актрисой, она его приглашает к себе, и там они тотчас же совокупляются, сколько влезет. Этого я уже не знаю – они что, должны были бы это сразу, стоя делать? Однако я человек сдержанный. Если речь идет о любви, то женщину не хватают тотчас же одной рукой за грудь, а другой за ягодицы. Какие-то правила приличия должны быть.
– Ходит молва, что во время учебы вы специализировались в гинекологии, но при виде дамских половых органов были очень потрясены и с криком убежали.
– Конечно, это неправда. Что за глупость! Я не специализировался в гинекологии, но когда закончил медицинский, то после окончания университета должен был, как и все, пройти месячную практику. В течение месяца я работал в родильном отделении, принял двадцать шесть или двадцать семь родов в качестве уже, собственно говоря, врача. Тогда я убедился, что все это ужасно кроваво. Я также ассистировал при кесаревом сечении – когда перерезается оболочка матки, происходит извержение околоплодных вод, окрашенных кровью. Это столько крови, что приходится работать в белых резиновых калошах. Действительно, зрелище не самое приятное. Это было одной из причин, из-за чего я бросил медицину, которую не любил, а занялся ею, потому что этого хотел отец. Сами женские гениталии не вызывают во мне особой боязни, хотя довольно неприятны, так же, впрочем, как и мужские.
– Что же, таким образом, в вашей жизни значил секс?
– Ну, это была незначительная ее часть, абсолютно безвредная. Я живу с одной и той же женой сорок два года, у меня никогда даже в мыслях не возникло желания ей изменить.
– В сборнике «Лем в глазах мировой критики»[21] какой-то оригинал дал вагинальную интерпретацию роману «Солярис». Будто тамошний желеобразный океан символизирует вагину; попавшие в него корабли продолговатой формы, ясное дело, фаллосы. Что вы думаете о таких критических взглядах?
– Это ужасно. О боже, я это даже до середины не прочитал. Не сумел этого сделать, сил не хватило.
– Часто появляются такие диковины?
– Именно такие – крайне редко. Однако несколько раз я рот открывал от изумления. Один американский критик сделал из меня выдающегося индолога, заявив, что все мои концепции идут прямо с Дальнего Востока, из буддизма – а я в жизни про это не читал, ничего на эту тему не знаю. К таким чудачествам человек со временем вырабатывает иммунитет, а то, что обо мне писали преимущественно глупости, я принимаю как естественную судьбу писателя. Если выходишь на арену для публичных выступлений, надо считаться со многими неприятными последствиями, потому что идиотов всегда больше, чем людей разумных.
– Похоже, вы используете достаточно оригинальную методику исследования собственной интеллектуальной формы посредством чтения своих старых текстов. Вы это подтверждаете?
– Нет, конечно. Я должен был бы сам себя читать? (Смеется.) Впрочем, я прочитал недавно кусочек «Возвращения со звезд» на испанском языке, потому что меня заинтересовало, пойму ли я что-нибудь из этого.
– Однако в «Гласе Господа» ваш porte parole[22] профессор Хогарт проверял свою интеллектуальную форму, читая свои старые работы, и если при этом был полон изумления от собственной гениальности, это значило, что в данный день он умственно слаб и лучше не браться ни за что важное. И наоборот, когда он оценивал свои труды критически и охотно бы здесь или там что-либо улучшил или изменил, это значило, что его интеллектуальная форма улучшается. Хогарт как математик читал математические работы, но в «Этике зла»[23] вы прямо признались, что и сами так поступаете.
– Это имело чисто практический характер. Когда вы обедаете в ресторане, то делаете это не с целью протестировать работу системы пищеварения, вы просто утоляете голод. Так и я почитывал себя по прозаическим причинам – в случае корректур, иноязычной авторизации – иногда я был вынужден сопоставить эти версии с польским оригиналом. Тогда мог подумать то или иное о собственной форме. Позже я этого уже не делал, сил не было. Я не настолько самовлюблен, чтобы самого себя с утра читать и наслаждаться тем, как это я ввернул там и сям.
– Вы наделяли своих героев какими-то собственными чертами?
– Поскольку во мне нет двух метров роста и я не столь силен, как Геркулес, то можно было бы думать, что Эл Брегг из «Возвращения со звезд» является столь сильным мужчиной по компенсационным причинам. Просто таким образом автор отыгрывает собственные комплексы. Я решительно это отрицаю. Перенос своих черт неизбежен в литературном произведении, но я сознательно не встраивался в героев моих книг. Я, знаете ли, мало собой интересуюсь.
– В своих произведениях вы использовали мощные силы, доходило до космических катаклизмов, раскалывания планет на кусочки и т. п. Особенно в ранних книгах попадаются формулировки типа: миллионы триллионов эргов энергии рухнули на планету (превращая ее, разумеется, в кучку шлака) или пятая часть горизонта запылала (после проведения салюта с какой-то целью). Техника у вас очень мощная, в «Фиаско» выступает даже целая звездная инженерия.
– Трудно, описывая цивилизацию, которая выходит во внегалактический космос, лишить ее подобающих мощных технических средств. Если она дошла до такой степени развития, то должна была их создать. Корабль, использующий свойства черных дыр, невозможно сконструировать из картона и бечевки. Во-вторых, я прошел путь от веры в силы человеческого разума, временами довольно некритичной, до далеко идущего скептицизма. Чем дальше следовать за моим творчеством, тем более гигантские человеческие усилия в нем сходили на нет, мои произведения становились все более черными и печальными. Я создавал разные миры, но это не является исключительно моей привилегией, ибо каждый сумасшедший делает то же самое, только их никто не публикует. Я никогда не чувствовал себя посланником Господа Бога в мире, никакой справедливости я не воздавал и ничего себе своим творчеством не компенсировал, потому что был доволен тем, кто я есть и чем занимаюсь.
– Не гложет ли вас обида, что, несмотря на все эти тиражи, переводы и т. п., ни одна ваша книга не стала настоящим бестселлером, который бы очень хорошо продавался, был на устах у всех, вызвал замешательство в мировой культуре… Нет ли у вас по этой причине чувства неудовлетворенности?
– Вовсе нет. В Германии настоящий бестселлер продается в пределах полумиллиона экземпляров, столько было у «Крестного отца» [Марио Пьюзо], столько же – у «Имя розы» [Умберто Эко]. Но это – единичные взлеты, после чего наступает затишье. Мои книги редко продавались как бестселлеры, в Германии я несколько раз был в соответствующем списке журнала «Шпигель» на третьем или четвертом месте в течение нескольких недель. Общий тираж романа «Солярис», который достаточно сложен для читателя, давно превзошел там 100 тысяч экземпляров[24], и сейчас понемногу продается. Мои книги продаются равномерно все время.
– Я слышал мнение, что отсутствие такого бестселлера стало причиной того, что вы потеряли интерес к научной фантастике и перестали писать.
– Решение перестать писать НФ и вообще беллетристику я принял в начале 1988 года, еще в Вене. Я пришел к выводу, что не следует из себя насильно выжимать очередные произведения. Вначале я писал с большим воодушевлением, мог даже очень легко писать и потому создал такие слабые вещи, как «Астронавты» или «Магелланово Облако». Затем мне писалось труднее, но я был этим доволен. Какой-то рецензент написал, что Пиркса в «Фиаско» я убил как бы символически, словно решил, что следует закончить пирксовский цикл. Нельзя писать до последнего дыхания. Наоборот, я считаю, что умный писатель должен однажды себе сказать: хватит.
– Хорошо, вы отошли от фантастики. Люди вам этого никогда не простят. Однако не входит ли в ваши планы написание приличного современного романа?
– Нет, несмотря на то, что происходящее сегодня в стране вызывает мое сильное неодобрение и даже раздражение. Взволнованность не является наилучшим двигателем творчества (смеется). Даже если бы кто-нибудь мне положил слиток золота на стол, я и то не решился бы. Для чего я должен писать? Мои финансовые потребности нулевые, потребность в известности – также. Замыслы? Конечно, появляются, но не слишком много. Писательство – это занятие кропотливое, вероятнее всего, к старости я разленился, ибо раньше писал по 5–6 часов в день. Целые ворохи бумаги я выбрасывал как недостаточно удавшиеся. Возможно, я хотел бы еще написать что-то подобное «Абсолютной пустоте» – «Книги, которые я уже не напишу»[25]. Несомненно, маргинализация письменного слова, наступившая в Польше, отбила у меня охоту к дальнейшим попыткам.
– Ввиду этого я задам вам вопрос, который когда-то задавал Збигневу Херберту[26]. Если считать по количеству пьес, написал он очень немного. Я спросил его, что если он пишет так мало, не изменяет ли он тем самым своему призванию художника слова.
– И что сказал Херберт?
– Что не обязан писать много, зато обязан писать со смыслом.
– Именно. Я тоже не считаю, что я чему-то изменяю. Свое я уже написал, а теперь пишу еще фельетоны, очерки, прогнозы, анализы. Составленная из них книга «Этика зла» скоро появится в издательстве NOW[27].
– Не думали ли вы, что некоторые из этих очерков стоило бы представить в беллетристической форме?
– Но зачем?
– Для того, чтобы сделать доступными выводы. Для приобретения большего числа читателей.
– Чтобы вместо 24 миллионов книг иметь 28? И что это бы дало? Дорогой пан, популярность не является мерой всего. Де Сад очень популярен, некоторые считают его даже классиком. У него чем более благородна и прекрасна девушка, тем скорее она должна быть перевернута на сороковую сторону, посажена на вертел, поджарена – и еще в нее, в конце концов, должна попасть молния. Не хочется мне принимать участие в соревновании, где судьей является только популярность в чистом виде.
– А что вы скажете по поводу мнения, что вам полагается Нобелевская премия?
– Сто раз я уже это слышал. Нобелевка – я надеюсь – мне не грозит, и я этим доволен, ибо присуждение ее означает нашествие ужасной журналистско-теле-радио саранчи. Эти люди являются профессионалами медиа, и я их со своей настоящей проблематикой совершенно не интересую. Я не переношу неискренности. Здесь недавно проходило торжество по поводу вручения мне награды ПЕН-клуба. Один из моих ближайших друзей, Ян Юзеф Щепанский, произнес речь в мою честь – что я заслуживаю Нобелевскую премию и всяческие комплименты. Я что-то произнес в ответном слове, а потом жена мне сказала: слушай, ты что-то не по сути мямлил. Оказалось, что я упорно старался принизить значение Нобелевской премии, объясняя, что там есть такая огромная карта, в которую они бросают стрелы с целью определить, какой стране надо сейчас сделать благо. Таким образом, это было довольно невежливо. Но потом в частной беседе я вспоминал о других неудобствах: надо иметь фрак, надо туда поехать, произнести речь – я все это органически не выношу. Кроме того, абсолютно не нуждаюсь в деньгах, связанных с Нобелевкой.
– Говорят также, что вы забросили фантастику именно потому, что за НФ вам Нобелевскую премию никто не присудит. Поэтому вы от НФ отреклись, вешали на нее собак на каждом шагу и отмежевывались от нее при любом случае.
– Я вовсе не отрекался. И как я мог отречься? Во всех энциклопедиях я фигурирую как писатель научной фантастики и таковым останусь, хотя ведь представлялся и принимался в разном диапазоне: как автор НФ, теоретик литературы, философ, футуролог и т. п. Может, мне это и не нравится, но так есть.
– По моему мнению, НФ воздала вам очень прилично, хотя бы тем, что сделала вас богатым человеком. A propos[28]: вы подозреваетесь в необыкновенных доходах от литературы. Люди представляют себе, что вы живете в золотом замке, очень тщательно охраняемом, окруженном шестью рядами рвов…
– Как видите, я живу довольно скромно, хотя в Польше, где половина народа живет в походных условиях, меня можно даже обвинять в роскоши. Однако этот дом стоил свои тридцать тысяч долларов, и этот сад тоже не упал с неба. Никто мне никогда ничего не дал. На данный момент у меня достаточно денег, и я не желаю больше. Там на окне лежит кучка квитанций из Би-би-си, это гонорары за какие-то интервью, с просьбой о которых мне иногда звонят с их польского отделения. Я должен был бы все это подписать, вложить в конверты, идти с этим на почту – мне попросту не хочется, потому что я старый, уставший человек.
– В «Кибериаде» я натолкнулся на абзац, где известный конструктор Трурль раскрывает свои тайные пристрастия: «Я не падок на всякую мелочь, но золото я люблю, особенно в изрядных количествах, и не стыжусь в этом признаться! Его блеск, его желтый отлив, его милая сердцу тяжесть таковы, что стоит мне высыпать на пол один-другой мешочек дукатов и под приятный их звон по ним покататься, как вмиг светлее становится на душе, словно кто-то внес туда солнышко и зажег. Да, я люблю золото, черт побери! – закричал он, ибо собственные слова слегка его распалили».
– Я же на самом деле не валяюсь в дукатах (смеется). Это было бы сомнительное удовольствие, только синяков наставишь. Зато я очень не люблю надувательства: сделайте, пожалуйста, то или это даром. Могу сказать: вы в магазине, выбираете пару обуви и с ней уходите. Но как это, а платить? Э, зачем платить. Вы знаете, я не требую никаких особых привилегий, ни финансовых милостей. Я считаю, что имею уже достаточно. Мало кто в состоянии жить прилично на доходы с книг, в Польше таких людей уже точно можно сосчитать на пальцах одной руки. Да и за границей это не представляется в розовом цвете. Ведь большая часть миллионных доходов американских писателей – это только рекламный трюк.
– Но можно ли сказать, что американцы завидуют вашим успехам? Каждый раз, когда кто-то с того берега упоминает Лема, в его высказываниях слышны саркастически-глумливые нотки. Вот Курт Воннегут говорит, что «ни в одном из своих рассказов Лем не дает читателю возможности почувствовать грусть по причине чьей-то смерти». Кроме того, он упрекает ваших героев в том, что они омерзительны, им нельзя доверять, и прежде чем мы успеем кого-то полюбить, он погибает.
– Абсолютно с этим не согласен. Воннегут не читал те двадцать три книги, которые вышли на английском, поэтому его знакомство с моим творчеством довольно фрагментарное. Я когда-то задумался, сколько трупов можно насчитать во всех моих книгах. Кроме «Расследования», где действие происходит в пределах морга, их оказалось совсем немного. В «Расследовании» трупы служат исключительно для того, чтобы оживить действие и обозначить проблему воскрешения из мертвых под влиянием некоего таинственного фактора. Я не чувствовал потребности ни в убийствах на страницах моих книг, ни в том, чтобы секс там сильно бурлил. Автор должен следить, чтобы не благоволить чрезмерно своим героям, он не может в них влюбиться и под любым предлогом делать для них все, ибо не всякий читатель это потерпит. Я считаю, что был, например, слишком добрым к герою «Возвращения со звезд», который счастливо женится, в достаточной мере пресыщен космосом и хочет обосноваться в доме с женщиной и детьми, которые у них будут.
– Это должно было вам дорого стоить.
– Что?
– Столь щедрое вознаграждение этого неблагодарного. Ведь Эл Брегг предал своих товарищей, которые корпят над проектом новой экспедиции, а он уже с ними не хочет, ему достаточно. Астронавт не имеет права быть пресыщенным космосом.
– Ну, не знаю. Я тоже не люблю путешествовать, я ездил тогда, когда был обязан. Никогда не был в Америке, хоть меня туда много раз приглашали. Боялся.
– Чего?
– Эффекта отчужденности, который там буду испытывать. В 99 процентов путешествий меня вытягивала жена, а годы, проведенные в Вене, мы оба вспоминаем с неохотой. Нам там жилось довольно плохо, хотя у нас был дом, влились в общество, сын там закончил школу, я получал награды… Как-то не чувствовал там себя счастливым.
– Скажите, пожалуйста, как вы выбирали для своих героев фамилии. Многие из них – это фамилии известных ученых. Профессор Чандрасекар из «Астронавтов» даже несколько лет назад получил Нобелевскую премию за астрофизические работы.
– Да, знаю. Я брал реальные фамилии из энциклопедий и библиографий, чтобы они звучали достоверно.
– Вы несостоявшийся ученый? Вы ведь всегда проявляли явные склонности к науке, хотя профессионально никогда в ней не работали – и в этом счастье.
– Я как бы Казанова науки. Если бы я стал биологом, то должен был бы заниматься только биологией; как физик – только каким-нибудь разделом физики. Я не мог бы прыгать по дисциплинам, занимался бы только одной специальностью. Сегодня трудно даже представить ученого, который занимается одновременно биологией, астрофизикой, философией и еще футурологией вдобавок. Зато вольный стрелок, дилетант, как я, может себе это позволить, потому что никто ему этого не запретит. Никто не может мне отказать в должности, выкинуть меня из института – а это было важным во времена коммуны. При такой ситуации, как в 1968 году[29], никто не мог ничего мне сделать, ибо откуда меня могли выкинуть?
– Например, из страны.
– Э, тоже не очень. А, впрочем, на шесть лет меня выбросил Ярузельский[30].
– Но по сути коммунистическая система не нанесла вам столь уж большой обиды.
– А разве я говорю, что нанесла? Некоторые мои произведения не публиковали, но не слишком много. С другой стороны, как бы для равновесия, вручали мне ордена: Возрождения Польши, Рыцарский крест, Офицерский крест, Командорский крест, орден Знамя Труда…
– Но ордена Строителей Народной Польши[31] вы уже не получили.
– Нет, Строителей не получил.
– А Ивашкевич получил.
– Ивашкевич конечно. Он настолько заслужил, что его похоронили в костюме шахтера.
– Однако какой-то небольшой флирт с системой у вас на совести есть?
– Извините, если ты жил в довоенной Польше, во Львове, потом туда пришли Советы, потом немцы и выкинули тебя из дома, потом снова Советы, которые выкинули тебя из родного города, – то ты уже привык в любую минуту ожидать очередного катаклизма. Потом я жил в ПНР, пережил весь сталинизм, потом выкинули меня из Науковедческого лектория, в котором я работал, из союза литераторов – короче говоря, отовсюду меня выбрасывали. Это были суровые уроки, и мне еще повезло, что я выбрался из всего этого целым, что не поймали меня на писательстве, как уже известно, под псевдонимами для «Соглашения о независимости Польши»[32], для «Культуры»[33] Гедройца. У меня был свой компас и я ему следовал. Я не должен был выбрасывать партийный билет, потому что никогда в партии не состоял, и я вполне доволен тем, как прожил жизнь.
Мысли о литературе, философии и науке (интервью)
Питер Свирски[34]: Часто говорят, что литературе следовало бы быть в авангарде творческих и познавательных процессов нашего общества и культуры, которые все более управляемы технологиями. С другой стороны, мы можем наблюдать отступление художественной литературы от длительного и гармоничного соприкосновения с проблемами познания и бегство в утопичную страну фантазии, волшебства или ритуализированных жанровых игр. Думаете ли вы, что художественная литература может выполнять – или что ей следует выполнять – значительные философские или, возможно, даже прогностические задачи в нашем обществе? Или эти задачи могут быть несовместимы с ее этическими и художественными целями?
Станислав Лем: Разрешите мне подойти к этому вопросу через пример, взятый из Кафки. С художественной точки зрения между «Замком» и «В исправительной колонии» нет особого различия. С другой стороны, в последнем произведении каким-то чудовищным образом предугаданы концентрационные лагеря Третьего рейха, которых, очевидно, во времена Кафки еще не существовало. Но все же ценность этого предвидения обычно не воспринимается как неотъемлемая часть произведения Кафки просто по той причине, что мы не привыкли и не располагаем аналитическими средствами для того, чтобы подходить к литературным произведениям с точки зрения данных в них предсказаний.
Возьмите другой реальный пример – «О дивный новый мир» Хаксли. Это попросту неверно, что мы подходим к этому произведению и оцениваем только с учетом того, являются ли на самом деле частью нашей реальности его Альфы, Беты и Гаммы, то есть воплотились ли они в жизнь за это время. Этот роман, сегодня уже немного устаревший и старомодный, был справедливо высоко оценен в свое время, но не потому, что люди думали, будто бы в нем показан мир в точности таким, каким он станет. Важно, что даже когда прогностическая литература учит читателей узнавать или даже обнаруживать определенные общественные или какие-либо другие явления, или когда в произведении художественной литературы действительно пророчески предугаданы будущие тенденции, – одно это еще не увеличивает автоматически его литературной ценности. Это одна сторона вопроса – ценность предсказаний в художественной литературе.
С другой стороны, у нас есть проблема познавательной ценности художественной литературы, которая требует несколько другого подхода. То, о чем мы здесь говорим, – это создание моделей по большей части социологической природы, но не только, это то, что я иногда называю «игрой социологического воображения». Я должен признать, что ужасный дефицит в данной области – это единственное, что я всегда считал наиболее неудовлетворительным во всей художественной литературе. Как бы то ни было, говоря о познавательной ценности литературы, мы должны осознавать присутствие иносказательного или аллегорически-иносказательного подхода, который часто используют писатели в художественной литературе.
Хороший пример такого типа повествовательной стратегии можно найти в работе братьев Стругацких, Бориса и Аркадия. Большинство их произведений – это беспощадные карикатуры на советский тоталитаризм и социальные отношения. Они говорят, что никого нельзя сделать счастливым насильно, осуждают злостные злоупотребления внутри системы и т. д. Их «Трудно быть богом», возможно, лучший пример произведений подобного типа. Вовсе не удивительно то, что с момента развала советской системы в работах Стругацких стали проявляться любопытные и показательные тенденции. В прошлом писатели очень близко, насколько возможно, – принимая во внимание инструкции советской цензуры – шли вдоль допустимых границ художественного творчества. Они должны были скрывать то, что находятся в социальной и политической оппозиции режиму. Естественно, когда в какой-то момент в 1960-х годах эта сторона их творчества была замечена советскими литературоведами, разные осведомители и доносчики, конечно, в меру своих возможностей в качестве литературных критиков, причинили немало вреда этим писателям (задерживая публикацию их работ и т. д.).
Характерно, что литература подобного рода, которая изображает только очень конкретный тип тоталитарных отношений, теряет много своей социальной значимости и жизненности, когда разрушается система, которую она критикует. Когда система лежит в руинах, оказывается, что нет необходимости говорить языком Эзопа, нет необходимости в сложных перифразах и аллюзиях, поскольку сегодня обо всем можно говорить открыто. В этом причина, почему некоторые писатели проигрывают битву за культурное и художественное выживание: история отправляет на свалку, как говорили марксисты, самую суть того, что они пытались разрушить и высмеять.
Недавно у меня была возможность обсудить с одним литературным критиком из Аргентины свою собственную «Рукопись, найденную в ванне». Эта встреча и способ, которым он интерпретировал то, что происходит в моем романе, были для меня источником важного откровения. Вы знаете «Рукопись»: каждый следит за каждым, идея шпионажа доведена до уровня абсолютной и окончательной системы, со шпионами, разоблаченными другой стороной, либо наоборот, до точки, где никто уже не знает, кто на кого работает, включая самих шпионов. Этот критик прямо сказал мне: «Вы описали Аргентину».
Оказывается, моя работа была для него идеальной моделью аргентинской диктатуры. Очевидно, для него было неважно, что я никогда даже не был в Южной Америке. С другой стороны, если вы рассмотрите коварную конструкцию вездесущего подозрения, которую я описал в «Рукописи», многочисленные маски, которые носят агенты, так что никто не может видеть их настоящие лица, становится ясно, что все это имеет отношение к чему-то намного большему, чем только к единственной социополитической структуре. Соответственно, даже когда данная социополитическая структура развалится, литературное произведение может сохранить свою ценность благодаря тому, что оно моделирует универсальные явления, выражающие определенные закономерности социальной природы.
Должен признаться, что я не писатель, который ориентирован преимущественно политически. Мои произведения никогда не задумывались как пасквили или памфлеты, направленные на какую-то определенную политическую систему (по меньшей мере, как правило). Я видел бы себя в определенной степени похожим на математика или на композитора. Я писал свои произведения в таком ракурсе, чтобы обойти все марксистские цензуры, я двигался в области философии и футурологии, где им нечего было сказать.
Во времена Сталина было, конечно, по-другому. В период классического, чистого сталинизма перед политической оттепелью 1960-х даже такая невинная книга, как «Астронавты», подверглась бы суровой критике. У меня была встреча – или, скорее, лобовое столкновение – с русскими переводчиками, когда они требовали от меня сделать сотни исправлений прежде, чем «Астронавты» будут изданы в России. Так как я не уступил ни на йоту, это заняло некоторое время, возможно, год или два, но в конце концов роман был издан. В итоге оказалось, что можно не обращать внимания на мою сомнительную чудовищную ересь.
– Когда вы писали о «Планете мистера Сэммлера» Беллоу, вы жаловались на то, что в своем описании оккупации Беллоу неверно передал настроение и детали. Где-то еще вы предъявили такое же обвинение «Раскрашенной птице» Косинского. Его описание немецкой оккупации Польши тоже оставляло желать лучшего. Не могли бы вы прокомментировать связь между реальностью и фантазией в художественных произведениях?
– У Косинского больше всего возражений вызывала сексуальная распущенность польского крестьянства. Он переделал польскую деревню в такое место, где каждый сконцентрировался на удовлетворении своих сексуальных аппетитов. Для каждого, кто знает эту страну и то, как все было на самом деле, это явный бред. Но все же это был прием, который сработал. Социологический опыт в чистом виде не всегда используется авторами художественной литературы. Что касается Беллоу, в «Планете мистера Сэммлера» он очень старался описать условия в оккупированной Польше. Но есть мелкие детали, на которые даже сложно указать, и именно они дают понять таким читателям, как я, что автор сам не был участником этих печальных событий, и писал исходя из, так сказать, вторичного опыта.
Реконструкция событий – это сложный процесс даже в лучшие времена. Он требует длительного времени и огромных усилий, взять хотя бы в качестве примера только попытку восстановить, как выглядели гигантские ящеры юрского периода и их поведение. Были предположения, что они двигались довольно медленно, что их хвосты волочились по земле. Позже, на основании отметок на некоторых фрагментах скелета, допускающих двоякое толкование, представители другой научной школы сделали вывод, что на самом деле ящеры были подвижными и быстрыми бегунами, что их хвосты, должно быть, были более сильные и жесткие, чем думали раньше, что они были похожи на двуногих птиц с поднятым хвостом, используемым для равновесия и т. д.
Очевидно, из набора элементарных строительных блоков можно воссоздать различные интерпретации заданного явления. С другой стороны, никто никогда не вернется в юрский период, чтобы заснять живую гигантскую рептилию, и поэтому у нас никогда не будет убедительного подтверждения тому, как тогда все было. Несомненно, это существенное различие, потому что если кто-то прошел через концентрационные лагеря, или через оккупацию Польши в военное время, или, возможно, через подпольное сопротивление, как я, то его опыт неопровержим просто потому, что он аутентичен. Кто-то другой, вынужденный работать с историческими материалами об этих ужасах, может придумать вроде бы правдоподобный сюжет, но ему не будет хватать чего-то жизненного.
Разрешите привести пример: несколько лет назад, в 1986 году, польский писатель Анджей Щиперский написал роман «Начало», который позже под другим названием («Прекрасная пани Зайденман») очень быстро стал бестселлером в Европе. Что в нем было такого особенного? И раньше писатели создавали истории о войне с различными переплетениями человеческих судеб, используя немецкую оккупацию в качестве исторического фона. Этот человек пошел намного дальше, прямо в сердце послевоенной коммунистической Польши. В его романе, если кто-то был коллаборационистом или ненавистником евреев во время войны, он оказывался правоверным коммунистом на тепленьком местечке директора государственной компании, и тому подобное. Таким образом автор смоделировал некоторые аспекты перехода от одного политического режима к другому, тему из прикладной социологии, которая очень долгое время была скрыта завесой молчания.
– Тогда как нам следует оценивать социологический вклад произведения художественной литературы?
– Первым должен возникнуть вопрос, имеем ли мы дело с литературным произведением, которое позиционирует себя в рамках классического реализма. Например, если отнести работу Беллоу к школе французского нового романа, то все в «Планете мистера Сэммлера» автоматически стало бы возможным. Все замечания об отсутствующих элементах и недостатке сходства с реальностью, сформулированные с точки зрения реализма и в духе историографической точности, стали бы беспочвенными, поскольку для нового романа подходит все как есть. Это, конечно, неприятная ситуация для литературных критиков и грамотеев.
Мой друг, американский писатель, который живет в Вене, недавно написал роман с элементами волшебства, фантазии, и к тому же сверхъестественной[35]. Действие происходит где-то в оккупированной Франции, я думаю; еврейских детей должны отправить в газовую камеру, но потом появляется волшебник и помогает этим детям вылететь через окно, как маленьким ангелам. Причина, по которой мне не понравилась эта книга, – мое знание того, что судьба таких детей была прямо противоположной: они умирали в газовой камере, не улетая на свободу. Конечно, я понимаю и осознаю литературную условность и благородные намерения автора, который хотел ради своих читателей, так же как и ради самих этих детей, избавить их от нечеловеческой жестокости войны. Тем не менее мы не можем позволить себе быть свободными от реальности, неважно, насколько она жестока, если мы создаем произведение в рамках реального мира. Кстати, это напоминает мне известную сцену из фильма «Корчак» Анджея Вайды, где – заметьте аналогию – обреченные дети, ведомые Корчаком, покидают вагоны поезда, в котором их должны были увезти. Во Франции, где фильм вышел на экраны, по поводу этой сцены возник ужасный шум; все были рассержены на режиссера. Я должен признать, у меня тоже есть свои замечания. Я не категоричен по этому поводу, но априори придерживаюсь мнения, что такое слияние жанров, смешение, где немного реализма здесь и немного сказки там, – не лучшая вещь.
– Вероятно, вы считаете, что познавательная ценность литературного произведения заключена в буквальных, а не в символических выражениях. Но все же произведение художественной литературы может быть абсолютно нереалистичным, но при этом иметь большую познавательную ценность. Ценность моделирования в художественной литературе независима, по крайней мере до некоторой степени, от формы повествования. Поэтому «скрещивание» жанров едва ли можно полностью осудить как нежелаемое.
– Я считаю неправильным то, что однажды определил как «семейный инцест»: то есть часть произведения написана по законам реализма, в то время как остальное – в антиреалистичном духе. Например, сначала мы видим реальную оккупацию Польши в военное время – мучительный опыт, убедительно описанный в деталях, – а потом у кого-то вырастают крылья и он вылетает из окна. Если бы у всех в романе были крылья и они использовали их для полета с самого начала, проблемы бы не было. Если волшебство – неотъемлемая часть замысла повествования, все хорошо. Но произвольное смешение, которое мы фактически получаем, сложно принять. Этот вопрос можно также проанализировать в терминах управленческой стратегии автора, рассмотренной с точки зрения теории игр. Когда мы играем в бридж, мне не разрешено внезапно вытянуть дополнительный пятый туз, объявить, что у меня есть козырь и продолжить бить им всех.
Все знают, что нельзя пожарить наручные часы в масле, как будто бы это яйцо. Но все же Сальвадор Дали делал как раз это; вы можете видеть его омлеты из часов и другие фантазии. Это прерогатива сюрреализма: как только мы вступаем в его измерение, все становится возможным. Это вопрос исключительно метода. Если это произведение типа «Кибериады», критерии реализма неприменимы в нем ни в каком смысле. Возьмите сцену, где два моих главных героя-робота собирают вместе несколько звезд, чтобы сделать из них космическую рекламную вывеску. Это чистая сказка.
Познавательная ценность «Кибериады» находится на другом уровне, не на уровне буквально изображаемых событий. Конечно, мы сталкиваемся здесь с проблемой другого типа, потому что мы никогда не сможем указать замкнутое счетное множество всех правил, которые нужно соблюдать для того, чтобы литературная игра закончилась как следует (кстати, именно поэтому литературный метакритицизм – это философское предприятие столь пугающих размеров). В тот момент, когда несоблюдение какого-то правила может дать положительный результат в художественном смысле, даже классическая теория игр не сможет ничем помочь.
– Поскольку вы упомянули теорию игр, думаете ли вы, что она могла бы помочь нам в моделировании толковательных стратегий, используемых читателями литературных произведений? Например, художественное совершенство, осознаваемое читателями/критиками, могло бы при определенных условиях (например, тех, которые детально изложены Льюсом и Райфой в «Играх и решениях»[36]) быть выражено в виде функции полезности. Думаете ли вы, что мы могли бы использовать этот метод – так, как он используется в теории принятия решений и теории игр, – чтобы помочь в понимании, объяснении или, возможно, даже оценке литературных произведений?
– Сказать по правде, я отношусь в высшей степени скептически к тому, что что-то подобное когда-либо станет возможным. Подумайте обо всех блюдах в меню любого хорошего китайского ресторана. Я не верю, что когда-либо будет возможным сформулировать вкус любого блюда словами или какими-нибудь несущими информацию символами так, что человек, который никогда не пробовал это блюдо, узнал бы его из двадцати других, основываясь только на этой информации. Это вне всякого сомнения – невозможно передать подобный опыт или ощущения с помощью языка.
Сравнения всегда возможны, это верно. Тем менее у меня такой вопрос: и что? Литературный опыт, конечно, предоставляет определенный вид информации, но она не является ни количественно измеримой, ни общедоступной. Основываясь на своем опыте читателя и автора, я убежден, что невозможно разработать логически последовательную металитературную модель, которая допускала бы только единственный вид творчества или критики. Оптимальные стратегии литературного толкования никогда не существуют в единственном экземпляре, это взаимосвязанные и коррелированные множества. То же и с переводами. Есть несколько различных польских переводов Шекспира, большинство из них очень хорошие, но они не только не идентичны, но, по сути, совершенно разные. И нет способа этого избежать. Некоторым читателям всегда будет нравиться один перевод «Гамлета», другие же будут считать иной намного более близким по духу.
Что же касается аксиологии, то некоторые оценочные критерии всегда одинаковы в процессе наших контактов с литературой. Не исключено, что эти постоянные критерии можно как-то измерить или проанализировать, к примеру, используя аппарат теории игр. Но все же ни у кого нет желания попробовать, поскольку это уже тема для социологии литературы. В прошлом, когда я думал о путях решения этой проблемы, я допускал, что это возможно сделать так. Возьмите из читающей элиты определенного общества группу людей, которая достаточно велика для того, чтобы быть статистически значимой (скажем, около пятидесяти человек), и достаточно репрезентативная. Потом, если можно так сказать, пропустите различные произведения через эту группу, используя ее как своего рода литературный «фильтр». Точнее: люди из группы прочтут работы, которыми вы их снабдите, каждую ранжируя по качеству, скажем, от минус до плюс десяти. Десять будет означать работу наивысшего калибра, минус десять наихудшую.
Так вот, даже не проводя такой эксперимент, я уверен, что как только вы соберете этот статистический материал, вы увидите большее расхождение в оценках, чем могли бы себе представить. Конечно, во время эксперимента важно дать им только те книги, которые они не читали раньше, в противном случае участники были бы заранее осведомлены, что Достоевский – известный автор и что Агата Кристи не в его категории. Итак, они должны читать только книги для них абсолютно новые и не знать имени автора. В итоге, я подозреваю, оказалось бы, что чем более опытна и репрезентативна эта группа читающей элиты, тем больше было бы расхождений в оценках произведений. Естественно, чем больше статистическая выборка, тем больше эти расхождения были бы «сглажены». Конечно, все это говорится с пониманием того, что эти оценки были бы правильными только статистически и что мнение одного эксперта, каким бы выдающимся он ни был, может быть чрезвычайно ошибочным. Эдмунд Уилсон, английский критик, был хорошим другом Набокова, но все же полагал, что «Лолита» ничего не стоит.
– С точки зрения теории игр вы подходите к взаимодействию между «игроками» в литературной «игре» не в терминах двух индивидуумов, у вас индивидуум (автор) противостоит совокупности или обществу читателей, принимаемых за одного игрока.
– Вы знаете, выбор модели, наилучшим образом описывающей ситуацию, – это весьма непросто и зависит в значительной степени от нескольких практических факторов, о которых нечасто упоминают, если упоминают вообще. Возьмем только один пример. Есть информация, которая предшествует процессу чтения и поэтому влияет на него, например, имя издателя, год издания, страна, где вышла книга, и т. д. Здесь мы касаемся множества взаимосвязанных факторов, роль которых, возможно, нельзя определить заранее.
Когда нам сообщают, что мы услышим музыкальное произведение, найденное в бумагах Иоганна Себастьяна Баха после его смерти, – наше ожидание огромно. Но когда нам говорят, что на самом деле это только сюита, сочиненная почтальоном из Скарборо, ситуация явно становится другой. В случае с почтальоном мы уже не настолько готовы оказать честь произведению. Иногда можно услышать, что обнаружили пачку писем – скорее всего, не представляющих интереса, – но как только установлено, что они написаны Шопеном, то – о боже мой – каждый начинает относиться к ним с почтением. Кроме того, будь я знаменитым поваром, который за всю жизнь не написал ни одного литературного произведения, вам бы и в голову не пришло говорить со мной о литературе. Хотя вы знаете, что можно получить кулинарный рецепт за оказанную услугу.
Я знаком с множеством работ в области прикладной кибернетики – то есть «прикладываемой» к области литературы. Не следует слишком сильно верить в то, что должны сказать эти ученые в своих уравнениях, теоремах и т. д. Все это принятие желаемого за действительное. Как вы знаете, были новаторские гипотезы о том, что сущностью толковательного процесса в литературе можно было бы овладеть посредством максимального увеличения информации. Так, если вы поняли четыре мегабайта из литературного произведения, а кто-то пока только два, то ваша репутация как читателя должна быть вдвое лучше, чем его – это все явный абсурд.
Прежде всего, никто никогда не мог бы знать, сколько мегабайт вы поняли из прочитанного, потому что вы, как читатель, дополняете и интерпретируете многое в тексте. Во-вторых, хотя я являюсь кем угодно, только не фрейдистом и не психоаналитиком, я убежден, что у автора существует нечто подсознательное. И поэтому, даже строя определенные догадки и применяя методы теории игр, чтобы поразмыслить над различными стратегиями восприятия, в конечном счете это так и останется всего лишь гипотетической работой. Это как прибыть на место преступления с лупой – как Шерлок Холмс, и апостериори определить из улик, что произошло. Просто нет другого способа – до известной степени это всегда будет видом реконструкции, как реконструкция по останкам рептилий юрского периода. В такой читательской, критической или метакритической восстановительной работе нет места окончательной точности и единству – или вере в то, что чье-либо толкование верно и оно единственное.
Существует еще один фактор, очень забавный и по сути довольно нелогичный. Я знаю, что у меня есть смертельные враги, которые ненавидят меня за мою оценку низкого уровня их литературных художественных произведений. Тем не менее они все видят, что меня продолжают издавать, переиздавать, рецензировать, изучать и удостаивать литературных наград, что от меня невозможно избавиться, что я должен оставаться здесь. Это объясняется довольно просто: чем дольше писатель живет в мире искусства, тем больше его долгожительство работает на него в смысле принятия и признания. Это абсолютно нелогично, потому что книги не становятся лучше лишь оттого, что их бесконечно переиздают. Было бы абсурдом заявлять, что поскольку Лема переиздают, его книги должны быть хорошими (по сути, если уж на то пошло, зависимость должна быть как раз обратной).
Сказать по правде, я всегда подозревал, что девяносто пять процентов людей, которые раскошеливаются на миллионы за Пикассо, на самом деле вообще ничего не видят в его картинах. Это просто вид капиталовложения, которое позволяет покупателю закрепить свое право на то, что он является ценителем. Подобным образом существует множество притязаний в области литературы и ее восприятия. Мы легко можем разглядеть некоторые очень типичные тенденции. Например, неверно то, что бестселлеры – это всегда наиболее широко читаемые книги. Их просто больше всего покупают, и, несомненно, это не одно и то же. Вот типичная история из реальной жизни, рассказанная моим другом из Лос-Анджелеса. В книжный магазин заходит женщина и требует книгу, которая возглавляет список бестселлеров. Продавец сообщает ей, что книга распродана, и предлагает вместо этого номер два из списка. «Я никогда не покупаю ничего, кроме первых номеров», – отвечает женщина и выходит из магазина. Это именно такой тип поведения, о котором я говорю, но повторюсь, здесь мы уже вступили в область социологии литературы.
Есть также genius loci и genius tempori[37], загадочные, но всегда присутствующие, два неуловимых практических фактора, о которых никогда не следует забывать, говоря о стратегиях восприятия. Они своего рода общий определитель, коэффициент, который затрагивает то, что может быть названо только благоприятным стечением реальных обстоятельств, сопутствующих публикации произведения, – назовите это удачей, если хотите. Это означает, что существует своего рода резонанс в широких кругах читателей, который, как акустическая гитара, резонирует с содержанием произведения и усиливает его. Важная роль этого последнего элемента сразу заметна тогда, когда он отсутствует: без такого резонанса произведение погибает бесследно. Это подобно ядерной цепной реакции. В обычном, необогащенном изотопе урана 235 есть несколько свободных вращающихся нейтронов, но их недостаточно, чтобы привести весь ядерный реактор к взрыву. Тем не менее, если вы обогатите изотоп, пригодный для использования в оружии, после определенного уровня вы достигнете критической массы, когда коэффициент размножения нейтронов станет больше единицы, – и все взорвется. Это типичная ситуация для книги, которая становится бестселлером.
Очевидно, что срок жизни большинства бестселлеров очень недолог. Есть люди, как правило, довольно негативно настроенные к таким литературным сверхновым звездам. Например, мой друг Славомир Мрожек отказался читать книгу «Имя розы» Умберто Эко, когда она была такой популярной. Фактически я вынужден был убедить его в своих письмах прочесть ее, утверждая, что это как раз то редкое исключение из правила, что всякий бестселлер является хламом. В конце концов он прочел ее и признал, что я был прав. Говорю это, чтобы показать: на нашем пути есть много подводных камней, много мест, где читателя и критика можно легко ввести в заблуждение. Но как последователи объективности и рационального метода, мы не должны упустить их только потому, что они немного более беспорядочны, чем то, к чему мы привыкли в литературоведении.
Нет способа избежать прагматизма, если пытаешься полностью объяснить восприятие и эмоциональный опыт чтения. Разрешите мне подойти к этому вопросу, приведя цитату из Витольда Гомбровича. Однажды, возмущенный, Гомбрович написал в своем дневнике: «Что это? Молодые люди пишут книги, так что, мне, старому человеку, читать их? Ха, написать книгу – это ничто. Заставить других прочесть ее – вот настоящее искусство». Конечно, это довольно афористично, но ведь попадает прямо в точку.
У меня было намного больше предложений и приглашений, чем я мог бы принять за всю жизнь. Мне постоянно звонят с просьбой прилететь на ту или иную конференцию, выступить с речью, лекцией и т. д. И все, что я могу сказать, это то, что вам следовало бы просить меня двадцать пять лет назад; сейчас слишком поздно. Но они настаивают, 100 000 немецких марок на столе и открытое приглашение написать книгу для издателя в Германии. Мои тиражи в Германии ошеломляющи; я даже точно не знаю, почему это так. Итак, я спрашиваю: «Хорошо, но о каком жанре книги мы здесь говорим? Телефонной книге с Марса?» Никаких проблем, это не имеет значения, все, что угодно, если мое имя на обложке – чем бы «это» ни оказалось.
Это так же, как с торговыми марками «мерседес» и «кадиллак». Торговая марка важнее самого литературного произведения, которое рекламируют и продают. Я оказался такой популярной и узнаваемой торговой маркой. Здесь мы говорим о коммерциализации всего издательского дела. В начале «Faber and Faber» вообще не хотело издавать мой «Солярис», а сейчас? Есть издания «Кибериады» в кожаном переплете по цене семьдесят пять долларов для коллекционеров и поклонников моих книг, которые похожи больше на Библию, чем на что-либо еще: высококачественная бумага, кожа, позолоченные буквы, шитье.
Эти практические обстоятельства могут существенно изменить восприятие читателя и критика. Но, во-первых, зачем тревожиться о литературе? Сегодня нас непрерывно донимают сообщениями, что литература мертва – и похоронена на краю литературного могильного кургана. Ни у кого больше нет терпения читать, говорят нам; визуальные виды искусства нанесли литературе смертельный удар. Достаточно верно: у нас есть сорок с лишним телевизионных каналов, и скоро только в Европе будет две сотни. Это просто ужасно. Это как иметь две тысячи рубашек или пар обуви. Может ли тот, кто имеет две тысячи пар обуви, надевать новую пару каждый день? Но тогда он никогда не разносит их и его ноги всегда будут покрыты мозолями! Это информационный абсурд.
– Но литература выполняет, или должна выполнять, другую функцию в отличие от телевидения и кино. Во-первых, не имеет смысла соревноваться с визуальными средствами информации в том, что касается изображения и живой картинки, и такое соревнование поражает меня своей надуманностью. Литература должна выполнять другие функции в обществе – например, познавательную.
– Познание? Посмотрите на то, как делают телесериалы. Истории собирают из минимального количества ситуационных/сюжетных блоков, и этот шаблон сознательно повторяют (не беда, что потеряны возможности новизны и оригинальности). То же самое можно наблюдать в случае с литературными произведениями, и это доказало свою успешность. Легионы писателей следуют по тропе, проложенной предшественником, расширяя и осваивая ее десятками историй, и все они стараются подражать победителю. Вы знаете, мы живем в эпоху массовой культуры, и не должны задерживаться на элитарном высшем уровне, где нам не видна вся панорама внизу, включая литературу, которая обитает на территории, очень близкой к уровню моря.
Если вернуться к теме читателей художественной литературы и к неопределенности толковательных стратегий, то не следует забывать, что стратегия восприятия – это не то, что принимается с полным осмыслением. Нормальный читатель даже не знает точно, как он делает свою толковательную работу. Возьмите среднего человека, который бегло говорит на своем родном языке, и спросите его, как возможно то, что он говорит на нем, не зная грамматики. Он не ответит вам, потому что не знает этого сам. Чтение книги – это нечто похожее. Средний читатель применяет определенную стратегию восприятия, даже не осознавая, что это за стратегия восприятия. Это процесс, который пытаются смоделировать теоретики, изучающие металитературные темы, поднимая его до сознательного уровня. Тем не менее появилось так много теорий литературных произведений, что эта область начинает походить на Вавилонскую башню. Во главе этого ужасного нагромождения стоят сиюминутные направления и стили: структурализм, постмодернизм, деконструкция, новый историцизм.
Следует помнить, что хотя все теории по своей внутренней природе – это упрощения того, что они описывают, приближения в литературоведении слишком грубые, а потому не могут не быть поверхностными. Естественно, в литературной области – в отличие от металитературной – ситуация немного другая. Вы никогда не преуспеете в создании механизма без надлежащей теории, но вы можете написать художественное произведение, не имея ни малейшего представления о том, что такое теория литературы. Когда я писал свои собственные произведения, боже упаси, чтобы я когда-нибудь думал о теории. У нас в голове эти вещи существуют по отдельности. Я помню, во Львове, когда мне было двенадцать, я получил от отца свою первую пару лыж вместе с книгой, написанной одним феноменальным шведским специалистом по катанию на лыжах, поэтому к тому времени, как я надел лыжи, я владел всей теорией. Но все же я упал при первой попытке! Теория была, но она не очень-то помогла мне на практике. С литературой ситуация та же: теория не равносильна практике.
С другой стороны, для того чтобы быть отличным писателем, хоть и необязательно окончить университет, нужно все же иметь определенную предрасположенность к писательству. Было бы сложно точно назвать эти атрибуты, но некоторые вполне очевидны: думающая и рефлексивная натура, безразличие к зарабатыванию денег и т. д. Возьмите мой собственный пример: я не знаю, смог ли бы я написать книгу, преднамеренно угождая вкусам широкой публики. За мою писательскую карьеру у меня было несколько бестселлеров в Европе. Тем не менее я никогда не обдумывал, на какую читательскую аудиторию я нацеливаюсь, прежде чем написать эти книги. Этот вопрос задается мне всякий раз, и мой ответ всегда один и тот же: я вообще никогда не задумывался над тем, кем бы мог быть мой «целевой» или «виртуальный» читатель. Я писал о том, что интересовало меня, так что в этом смысле я писал для себя.
У меня все еще есть способность создавать сюжет и строить основную сюжетную линию, но я потерял стимул и интерес к этому. Сейчас я понимаю, как много людей покупает книги только потому, что другие люди их покупают, так что зачем мне потеть и усиленно трудиться? Несмотря на ошеломляющее количество напечатанных книг, число произведений, которые стоит прочесть, весьма ограничено. Недавно я вернулся из Вены, где получал престижную литературную награду; там я посетил много книжных магазинов, до отказа заполненных печатной продукцией, но мне редко удавалось найти хотя бы пару книг для покупки, а иногда ну совсем ничего.
Все это я говорю для того, чтобы сказать, что проблемы толкования литературы погружены в эту огромную неопределенность, подобно туману, окутывающему область эротических отношений между мужчиной и женщиной. Иногда я использую последние как метафору в разговорах о литературе, поскольку эти вопросы тоже не так-то легко излагать. В наши дни литературный рынок переполнен сотнями справочников по технике секса, но это имеет весьма малое отношение к настоящей любви. Может ли кто-нибудь на самом деле поверить в то, что самый искусный любовник в мире также является и наилучшим, или что можно влюбиться и уметь объяснить точно, почему? Короче говоря, существуют практические элементы, которые необходимы для объяснения процессов, касающихся личного опыта, – что большинство ученых и скрывает за теорией.
– Вы предположили, что для отдельных читателей, конечно, возможно вывести функцию полезности, с помощью которой можно было бы предсказывать с некоторой точностью их отклик на литературные произведения и оценку этих произведений. Возможно ли распространить этот процесс на группы или даже сообщества читателей?
– При определенных условиях, несомненно, возможно было бы определить вероятность успеха заданного литературного произведения. Мы могли бы назвать ее «виртуальной» популярностью, то есть мы не знали бы наверняка, что это случится, но это было бы весьма вероятно. Здесь мы должны помнить: для того чтобы повысить диагностическую точность, мы всегда должны скрывать имена авторов. Если читатель знает автора и любит его, он уже будет позитивно настроен. А то, к чему мы стремимся, – это максимальное отсутствие предвзятости.
Информация, предшествующая чтению, информация, привлекающая людей к чтению, информация, определяющая выбор того, а не иного произведения, – это все виды информации, которые являются не внутренними, а внешними по отношению к тексту. Эта внешняя надстройка очень важна. Я знаю это из своего собственного опыта, связанного с восприятием моей «Рукописи, найденной в ванне». Когда мой представитель отправил ее в одно немецкое издательство, рукопись пришла назад через четыре недели с комментарием, что она ничего не стоит и что издатель не видит в ней абсолютно никаких достоинств. Эта рукопись долго ходила от одного издателя к другому, поскольку мой представитель был упрямым человеком и не воспринимал «нет» в качестве ответа. Наконец, с большими сложностями, «Рукопись» была опубликована в Германии. Сейчас я даже не могу вспомнить, сколько изданий было у этого романа в последующие годы. Обычные издания, специальные клубные издания, все говорили об этой книге с восторгом и энтузиазмом, и интереснее всего было иногда слышать, как она хороша, от тех же людей, кто отверг ее раньше, в большинстве случаев не без прочтения! Все это на самом деле довольно типично. Произведению не предшествовало никакой рекомендательной информации. Это не было недавно обнаруженной рукописью Кафки, а было просто романом, написанным каким-то парнем по фамилии Лем. Такие перипетии часто замалчиваются в истории литературы. Может быть, литературные критики считают, что неловко говорить о таких ошеломляющих противоречиях в толковании и восприятии. Я даже спрашивал теоретиков, как это возможно: такие разные мнения – сначала негативные, потом даже льстивые, – но никто не смог сказать мне что-либо, что имело бы смысл.
То же было с «Лолитой» Набокова. Критики сбросили ее со счетов со словами, что это порнография или, еще того хуже – вообще ничто. Первое издание вышло у издателя четвертого сорта с сомнительной репутацией. А потом? Взрыв признания и восторга, подъем на другой социальный уровень, изменение в критериях восприятия и, в конечном счете, мировой успех. Был снят фильм, потом еще один, и потом это единственное произведение стало «подъемником», который вытащил из небытия все другие книги Набокова. Теперь он известен, уважаем, есть магистерские работы, даже докторские диссертации на тему его творчества – никто не знает, когда это закончится. Однако какое же это признание, если оно приходит с запозданием на столько лет? Я считаю, что сложно связывать такой запоздалый восторг с правдивостью и достоверностью.
Есть много профессиональных тайн, скрытых в области литературной критики. Для начала следует сказать, что утверждение, что все это – своего рода тайный сговор, соглашение между негодяями, которые заявляют, что они критики, – не соответствует действительности. Также не имеет смысла утверждать, что никто никогда не беспокоится о том, чтобы что-либо прочитать, что весь полученный материал выбрасывается прямо из окна – то есть перед прочтением. Может быть, обвинение было бы верно для одного критика, или двух, или даже, возможно, трех, но не для всех без исключения.
Но здесь мы снова возвращаемся к статистике, которая делает все настолько сложным. В общем, мы могли бы сказать, что когда кто-то читает литературное произведение, которое является достоверно настоящим, читательский опыт редко бывает абсолютно простым. Сам Кафка опубликовал очень мало за свою жизнь и даже просил Макса Брода сжечь все свои рукописи, потому что никто не стал бы их читать. Может показаться, что непризнанное литературное произведение – это как сейф, к которому никто не знает кода. Только кто-то ведь должен обнаружить код, открывающий сейф, чтобы заставить его показать все свои сокровища. В качестве метафоры это довольно образно, но как это работает в действительности?
Судьбы книг часто извилисты и необычны, и в том ракурсе, которому я придаю особое значение, история литературы в большой степени зависит от того, насколько мало о ней говорят – чем меньше разговоров, тем лучше. В высшем свете не опускаются до обсуждения мокрых брюк, и то, что мы узнаем из истории литературы – это легенды высшего света. Зачем обязательно помнить, что Кафка при жизни был совершенно забыт, что никто не читал его книг, что ему говорили: «К какому виду идиотизма это относится?» Не забудем о том, что он даже не закончил «Замок». То же самое с Робертом Музилем; сам Томас Манн писал превосходные отзывы о работах Музиля, и к чему это привело? Музиля в любом случае никто не читал. А позже? Музиль – великий писатель, Музиль – великий австриец… Есть вещи, о которых мы, как критики, ученые и литературные историки, никогда не должны забывать, и среди них явления случая и удачи. Я предполагаю, что общая модель, отражающая ситуацию, – это модель случайного взаимодействия, где литературное произведение – это броуновская молекула, контакт которой с другой молекулой означает, что произведение находит читателя.
– Имеет место явное противостояние философии и науки с литературоведением, и даже незнание их культивируется. Как вы думаете, какую роль могли бы играть другие дисциплины в гуманитарной и литературной областях?
– Я думаю, что методологические подходы, основанные на конкретных теориях не из области гуманитарных наук, очень заманчивы, с одной стороны, и очень рискованны – с другой. Если быть полностью откровенным, в гуманитарных науках, и в частности в литературоведении, у нас нет никаких инструментов, которые можно было бы применить как своего рода оценочный «барометр» к литературному произведению и позволить нам обнаружить его различные свойства тем же способом, каким читатель понимает их во время чтения. Конечно, это только одна из трудностей, с которыми мы сталкиваемся. У нас есть так называемый «макроподход», поскольку все остальные стороны произведения остаются неучтенными.
По этой причине в своих различных работах по литературной теории я взял для проверки структурализм. Каким-то ненормальным демократическим образом структурализм уравнивает структуры произведений первого и третьего сорта, поскольку, в терминах этой методологии, эти структуры все-таки присутствуют. Конечно, это восходит к Клоду Леви-Строссу и к одному из его фундаментальных тезисов о равенстве различных человеческих культур. Для Леви-Стросса не было высших и низших культур, и этот идеологический и методологический взгляд автоматически помещает все культурные явления на один уровень. С другой стороны, если подходить к Агате Кристи и Достоевскому как к сочинителям детективов, различимых только по некоторым нюансам в стиле, то любой честный критик и эксперт не принял бы это во внимание, посчитав за ересь и абсурд. Но если рассмотреть их произведения только с точки зрения сюжета и структуры, у «Преступления и наказания» и романа Кристи, несомненно, есть много общего. Тем не менее такой подход игнорирует социоэстетические проблемы и нюансы, которые фактически возвращают к жизни литературу. По этой самой причине я воздерживался от структурализма, когда он еще был на пике (сейчас он исчезает по собственной вине, умирая естественной смертью всех преходящих стилей).
– В «Философии случая» вы указали на теорию игр как на многообещающий инструмент в литературоведении. Не могли бы вы прокомментировать это сейчас, по прошествии двадцати пяти лет?
– В отличие от естественных наук для гуманитарных характерен недостаток аккумулятивности в поиске знаний. В этом отношении они напоминают сферу моды, так как в их методах имеются только внешние признаки точности. Я применил несколько элементов теории игр к работам маркиза де Сада в работе «Маркиз в графе»[38] (1979). Это всестороннее исследование принесло мне много удовлетворения просто потому, что я доказал себе, оно может быть сделано. Забавно, что изначально у меня не было желания писать о де Саде. На самом деле было наоборот. Я изучал различия между утопией, научной фантастикой и сказкой, и схема теории игр, которую я разработал для литературных игр с нулевой и ненулевой суммой, указывала на «пустое место» в повествовании. Это незанятое место в моей системе было предназначено для антисказки. Когда-то Марк Твен писал такие антисказки: в них самые хорошие мальчики всегда заканчивали хуже всех, добродетель всегда вознаграждалась самым суровым наказанием и т. д. Я был очень заинтересован всем этим и начал размышлять, как могла бы выглядеть эта антисказка, в которой всегда побеждает зло и где зло – это добродетель, преследуемая героем. И выяснилось, что это в точности маркиз де Сад. Конечно, такой тип анализа сам по себе не является оценочным. В своем эссе я хотел сделать нечто другое. Я заинтересовался определением того, какие ценности могут преобладать в намерениях авторов и как эти ценности могут быть вовлечены в схему теории игр, описывающую специфические произведения и жанры. Возьмите в качестве примера сказку. Этот жанр представляет собой своего рода литературное пространство, где законы физики подчинены другому закону. Это внутренняя аксиология сказки. Она не допускает случайностей, которые были бы неблагоприятны для главного героя. Невозможно, чтобы герой, который сражается с драконом, поскользнулся на банановой кожуре и был в результате съеден живьем. Но с другой стороны, в «Жюстине, или Несчастной судьбе добродетели» де Сада бедная девочка убегает во время грозы после того, как ее несколько раз изнасиловали и надругались над ней, и ее поражает удар молнии.
Естественно, у де Сада мы можем найти ряд противоречий вследствие того, что он был атеистом, во всяком случае для своего времени, и в то же время ужасно ненавидел Бога. Как трудно ненавидеть Бога и вместе с тем настаивать, что Он не существует, – так же труден де Сад для вас. В других своих исследованиях я рассмотрел и тот вопрос, почему, собственно, этот автор пользуется достаточно большим уважением. Мы имеем дело с исключительным явлением, поскольку его работы не особо привлекательны как художественные произведения, их можно рассматривать только в качестве примера определенного экстремизма – в качестве примера антисказки.
Де Сад – классический апологет Зла. Для него Зло является чем-то настолько великолепным, что совершать зло восхитительно. Все без исключения исторические печально известные вершители зла обращались ко злу как к своего рода необходимости, когда возможны страдания и боль, но это делается во имя служения более высокому Добру. В конце концов, это совершалось на благо немецкой нации, когда Гитлер собирался уничтожить славян и евреев. Сталин тоже истреблял во имя светлого будущего. Так это обычно и делается. Но защита зла, которая восхваляет и превозносит его, – такое вы не слишком часто найдете. Исключительное общественное положение и исторический контекст «божественного маркиза» – вот в чем причина того уважения, которое он внушает критикам как писатель, достойный детального рассмотрения. Для меня же было довольно удивительно то, что, используя определенные концепции теории игр, я смог добраться до де Сада через сравнительный анализ различных литературных жанров.
Большинство игр, происходящих в сказках, конечно, с нулевой суммой, хотя и нет никакой надежды их измерить. Например, вы не можете сказать, что, когда главный герой пробуждает спящую красавицу или освобождает ее из замка злобной ведьмы, он получает в точности столько же, сколько теряет ведьма. В мире нет способа это подсчитать. Но тем не менее в здравом восприятии читателя устанавливается справедливость. Другими словами, у нас есть гармония с нулевой суммой: сначала происходит что-то плохое, определенного рода разрушение гармонии существования, которое позже исправляется, так что все снова в порядке. Напротив, у де Сада мы являемся свидетелями преследования несчастных жертв. Чем более безгрешна и чиста девушка, тем более ужасные вещи должны случиться с ней, тем более жестокому обращению она должна подвергнуться в руках негодяев. Это не игра с нулевой суммой, поскольку здесь мы больше не можем утверждать, что действует какая-то компенсирующая сила.
И еще нужно учесть – это логические выводы повествования, в отличие от выводов, требуемых по более литературным (эстетическим) соображениям. У де Сада вы получаете самого злого изверга, который убил, изнасиловал и зарезал всех остальных, так что он один остается на поле с трупами. Этот главный герой неожиданно оказывается в состоянии ненасытности, поскольку смысл его существования – совершать зло, а сейчас вокруг него не осталось никого, кого он мог бы преследовать. Самоубийство, конечно, не станет решением. Другими словами, ситуация изменяется от игры с нулевой до игры с ненулевой суммой.
Кроме того, есть также жанр утопии, в которой мы имеем дело не с единственным главным героем, но с целым обществом, которое достигает счастья. Это, как ни странно, навело меня на размышления о способах, которыми можно было бы объяснить утопию в терминах теории игр. В результате я понял, что поскольку утопия – это непревосходимо идеальное состояние, в ней нет места для любой активной стратегии из-за отсутствия оппонента.
– Утопию можно рассматривать как заключительную фазу конфликта, который имел место, так сказать, перед повествовательным временем романа. Другими словами, классическая утопия была бы фазой, где игроки – общество – получают свои выигрыши.
– Да, нужно отличать классическую утопию от современной. В тот момент, когда появились современная политическая художественная литература и научная фантастика, общая картина жанров стала намного более беспорядочной и неподатливой. В любом случае, я не занимался тем, какие сказки лучше, а какие хуже, потому что аппарат теории игр не предоставляет никаких оценочных критериев для этой задачи. То, к чему я стремился – это схема жанров, которую я опубликовал под слегка забавным названием «Маркиз в графе». Название намекает на теорию игр, процесс выбора стратегии, бинарные деревья и тому подобные вещи, которые я на самом деле использовал в тексте. Однако это довольно обособленная работа в моем творчестве, поскольку я не касался литературного критицизма и теории систематически.
Ежи Яжембский, специалист по польской литературе, находится в процессе написания своей второй книги обо мне (первая была опубликована только на немецком как «Случай и порядок»[39]). Как специалист по гуманитарным наукам, он столкнулся с типичными трудностями, когда писал обо мне, поскольку то, что является неотъемлемой частью моих произведений, часто непригодно для критического анализа в чисто литературном ракурсе. Это потому, что в моих работах часто присутствует познавательная или прогнозно-футурологическая составляющая, которая де факто выходит за пределы традиционного литературоведения.
Если говорить о прогнозах и футурологии, – то из моих небеллетристических произведений «Сумму технологий» считаю удивительно удачной книгой в том смысле, что многое из того, что я там написал, со временем сбылось. Все это еще более удивительно, поскольку во время ее написания у меня почти не было доступа к профессиональной футурологической литературе. Хотя концепция футурологии была разработана Осипом Флехтхаймом еще в 1942 году, я ничего об этом не знал, поскольку был изолирован от соответствующих публикаций. Футурология стала модной и популярной через несколько лет после опубликования «Суммы», которая была издана тиражом в три тысячи экземпляров и прошла незамеченной польскими критиками, кроме единственной удивительной критической статьи Лешека Колаковского[40]. Он посмеялся надо мной и написал, что я веду себя как мальчишка в песочнице, который думает, что может прокопать яму прямо к другой стороне Земли только потому, что у него есть игрушечная лопатка в руках. Через тридцать лет после этой критической статьи я написал большое опровержение в форме эссе под названием «Тридцать лет спустя»[41], где описаны те предсказания и гипотезы из «Суммы», которые сбылись.
В статье я по понятным причинам не мог давать ссылки на всю книгу, так что вместо этого я сосредоточился на главе, посвященной фантоматике, и основной идеей было сравнение моих теорий и их современного состояния с тем, что Колаковский написал о них в своей первоначальной критической статье. Я написал «Сумму» в 1960-х годах, когда у меня не было доступа к соответствующей информации. Если бы у меня было столько информации, сколько сейчас, я, вероятно, не осмелился бы написать ее. Я бы знал о «Rand Corporation»[42] и Институте Хадсона с Германом Каном и сотнями его сотрудников со своими компьютерами, этой всезнающей группе специалистов, имеющей в своем распоряжении архивы ЦРУ, то есть доступ к любой информации – и верной, и неверной, что выяснилось при их оценке экономической мощи Советского Союза. В 1990 году, например, они все еще ставили его на второе место после США, но перед Японией, в то время как каждый знает, что сегодня представляет бывшая советская империя. В 1960-х годах я не имел совсем никакой информации обо всем об этом; сегодня, если бы мне пришлось написать «Сумму» заново, ситуация была бы другой.
У меня есть кипы неоткрытых пакетов с журналами «Нью сайнс», которые прибывают на мой адрес так же регулярно, как работает метроном, один раз в неделю, пятьдесят два раза в год. Я решил отменить свою подписку – я просто не в состоянии продолжать. Парадоксально, но избыток информации может парализовывать так же эффективно, как и ее отсутствие. Чтобы с ней справиться, пришлось бы нанять десятки экспертов в качестве «информационного фильтра». Поэтому, что касается «Суммы», парадоксальные ситуации могут иногда давать начало новым и ценным философским учениям (то же самое применимо к моим литературным художественным произведениям).
– В «Сумме» в нескольких местах вы обсуждаете идею машин типа «черный ящик», к которой вы возвращаетесь также в некоторых своих романах: это океан в «Солярисе» и Черное Облако в «Непобедимом». Так как идея казалась довольно важной в ваших небеллетристических произведениях, то описание этих систем в романах должно бы было быть изложено очень детально, возможно, их изучение агентами или попытки использовать технологически. Но вместо этого ваши Кельвины и Горпахи уходят, отказываясь от шанса исследовать идею машины типа «черный ящик» дальше. Можно было бы рассматривать как познавательный недостаток этих романов то, что ваши герои никогда не пытаются понять и использовать закономерности этих черных ящиков, как следовало бы сделать любому истинному исследователю и ученому. Другими словами, почему вы не развили эту идею в своих художественных произведениях с той же точностью, как вы это сделали в своих небеллетристических произведениях?
– Сегодня я просматривал последний выпуск «Ньюсуик», где нашел статью о британском ученом, который недавно взялся за анализ того, что может быть описано только в жанре научной фантастики. Тем не менее, как дает понять автор статьи, он противится такой классификации своей работы, поскольку верит, что это не принесет ему абсолютно никаких литературных заслуг. Он написал пару книг; одна из них о фиктивном открытии причины рака; вторая – это история об известной французской группе анонимных математиков. По поводу последней работы: интересно то, что она заканчивается, не давая решения проблемы, которую ставит. Это преднамеренное действие со стороны автора, которое напоминает мне о нескольких моих собственных художественных произведениях (конечно, он пришел к этой идее независимо от меня).
Независимо от того, к какой области человеческих отношений мы обращаемся, нет четких решений – белых и черных. Убеждение, часто поддерживаемое специалистами в области гуманитарных наук, что в точных науках (например, физике) все должно быть четко и прозрачно, просто не соответствует действительности. Это не только потому, что в физике ведутся бесконечные споры, так же как и где-либо еще, но потому, что предела человеческого познания просто не существует. Науки всегда находятся в процессе восхождения на те пики знания, которые скрыты облаками, делая ошибки по мере продвижения. Единственные системы, которые могут заявить о своей непогрешимости, – это религиозные вероучения, так же как и некоторые формы идеологий, подобные марксизму. Различие между этими последними двумя в том, что как только марксизм привел к конфронтации с жизнью и реальностью, он начал разрушаться. И последствия этого проявились в том, что раньше было коммунистическим лагерем.
Моя философская принадлежность, если бы мне пришлось объяснять в общепринятой терминологии, – это в значительной степени скептицизм. Я не склонен преклоняться перед естественными науками, и я часто занимал довольно неуважительную позицию по отношению к ним в своих повествованиях. На моем столе лежит книга под названием «Ошибки науки». В ней описаны трюки, совершенные учеными в своих исследованиях. Автор, эксперт в этой области, не скрывает того факта, что есть огромное количество данных, о которых есть что написать. Борьба французов с американцами по поводу того, кто первый открыл вирус СПИДа, безумные бои вокруг Нобелевских премий – количество примеров может быть увеличено во сто крат. Социология науки показывает, что ученые являются прежде всего человеческими существами, как и остальные, с теми же страстями, они так же подвержены ошибкам или страстно желают власти.
Однако возвращаясь к нашему вопросу: большинство моих книг – здесь «Расследование» может быть парадигматическим примером – никогда не довольствуется легкими решениями, всегда оставляя загадку неразрешенной до конца книги. То, что я чувствую по этому поводу: задача писателя не раздавать быстрые и легкие рецепты окончательных решений, а просигнализировать об определенных проблемах и поставить правильные вопросы. Конечно, это совсем не похоже на детективные романы, которые любят читать так много людей (и я один из них).
– И все-таки после прочтения «Соляриса» и «Непобедимого» остается чувство, что требуются некоторые дальнейшие действия со стороны исследователей. Не предпринимается дальнейших усилий в коммуникации с «разумными системами» – здесь я с вами полностью согласен, – но это образ действия, в точности соответствующий повествовательным характерам героев, которые, в конце концов, ученые, а не конкистадоры. Я осознаю, что может показаться, будто я хочу переписать ваши произведения, но оба романа оставляют впечатление, что они должны быть продолжены. Первая исследовательская фаза закончена, мы пришли, чтобы признать свои концептуальные недостатки, скептицизм, о котором вы только что говорили, готов к работе. Итак, вперед – и давайте проведем тщательное изучение этих загадочных систем, так?
– Хорошо, это могло бы быть сделано, но я готов поспорить, что в эпистемологических терминах это было бы безрезультатно, а в повествовательных едва ли интересно. Я должен признать, что мне самому было немного неудобно из-за полной неразрешимости тайны двигающихся трупов в «Расследовании». Я осознавал, что нарушил каноны классического детективного романа, что фактически побудило меня годы спустя написать «Насморк», где все завершено. Это было альтернативное рассмотрение той же проблемы, что и в «Расследовании»; только на этот раз преступник и, соответственно, сюжетные средства определены как случайность и множественное совпадение. Поэтому я думаю, я могу понять критику «Расследования» с чисто эпистемологической и познавательной стороны.
В то же время, те читатели, которые были восхищены этими двумя произведениями, делятся на два равных лагеря, и тогда как одни считают «Расследование» более совершенным, потому что загадка остается неразгаданной, другие предпочитают «Насморк» как раз потому, что там загадка разрешена. Если бы нам нужно было рассмотреть вопрос с познавательной точки зрения, без сомнения, всегда предпочтительно знать причины событий, но когда мы исследуем восприятие литературного произведения, отсутствие решения и нераскрытость тайны также имеют свои достоинства.
Тем не менее все это не было проделано умышленно, то есть дразнить читателя нераскрытой тайной не было злобным умыслом с моей стороны. Когда я пишу, я не знаю заранее, будет ли тайна раскрыта или нет. Это потому, – как я говорил раньше по многочисленным поводам, – я никогда заранее не планирую произведение, а, скорее, жду, чтобы увидеть, как повествование обретает конкретные черты. Я как кучер, до определенной степени контролирую свой материал, но даже я не могу поднять экипаж в воздух или заставить лошадей бежать так же быстро, как самолет.
– Ваши романы, так же как и «Сумма», были написаны примерно в одно и то же время. В «Сумме» вы оставляете надежду на изучение и развитие технологии «черного ящика», но ваши вымышленные ученые уходят от интригующих систем «черного ящика», хотя технологическая мощь Океана и Облака, безусловно, превосходит человеческие знания. Романы заканчиваются как раз тогда, когда на горизонте появляется реальная философская и повествовательная проблема. Как насчет того, чтобы продолжить эти работы и развить их в новой форме? Возможно, написать «Солярис. Часть 2», где люди используют возможности «нейтринных фантомов», к примеру – исследуют космос с командами из фантомов. Ведь эти создания сильнее, более жизнеспособные, им не нужно есть – идеальны для такой работы.
– Разрешите мне сказать вам то, что на первый взгляд может показаться не имеющим прямого отношения к только что вами сказанному. Естественные науки были той сферой знаний, которая сыграла главную роль в процессе моего развития как писателя – не только в литературном, но и в общем философском смысле. В частности, есть одна область, которую я всегда считал восхитительной, – это изучение биологии, жизненных процессов и эволюции. Собственно говоря, некоторое время назад в Вене я имел удовольствие встретиться с одним из директоров Института Макса Планка. Он недавно получил Нобелевскую премию за открытие цикличных процессов, так называемых гиперциклов, которые объясняют эволюцию и автоматическое усложнение жизненных процессов[43].
Я не мог не размышлять над этим открытием, ведь, по всей видимости, ученый наконец объяснил тайну «черного ящика», называемого биогенезис. Только позже я все-таки осознал, что даже если стало бы возможным воссоздать такие гиперциклы в лаборатории, это необязательно означало бы получение искусственной жизни. На самом деле оказывается, что стадия, которую часто принимают за отправной пункт в эволюции жизни, в действительности является уже очень продвинутой. И никто не может объяснить, как сперва была достигнута эта стадия, несмотря на множество гипотез, которые охватывают весь спектр правдоподобия и разнообразия. Важно то, что когда мы оглядываемся назад, пытаясь найти так называемую первопричину, мы фактически возвращаемся назад к нашей проблеме биогенетического «черного ящика», который мы не знаем, как открыть.
Что касается меня, я ловко это обыграл в 1982 году во время пребывания в Берлине в «Библиотеке XXI века». Эта книга состоит из трех частей, последняя называется: «Мир как всеуничтожение», где выдвинута гипотеза о том, почему гигантские рептилии вымерли в мезозойскую эру. В своем рассказе я лишь кратко упомянул, что мир был создан в результате Большого взрыва. То есть я просто взял как данное принятую во всем мире гипотезу по этому вопросу. Тем не менее на последней странице я добавил несколько предложений о том, что, с моей точки зрения, это не является неизбежным концом появления других космологических гипотез. Я написал, что, возможно, будут другие и что видимая полнота нашего знания, которая кажется такой неоспоримой в любой конкретный момент времени, в будущем станет предметом ожесточенных споров. Фактически это время уже наступило, так как все традиционные космологические модели сегодня подвергаются тщательному пересмотру.
В своем повествовании я сказал, что даже если нам когда-нибудь удалось достичь окончательного и совершенного знания в любой области исследования, у нас все равно не было бы средств это доказать. Другими словами, мы были бы не в состоянии представить доказательство того, что мы уже знаем все, что можно знать, и что не осталось ничего для изучения. Если все, что вы пытаетесь сделать, – это испечь торт, любая хорошая домохозяйка даст вам рецепт, и, используя яйца, дрожжи, муку и масло, вы достигнете именно того, чего хотите. Но если вместо этого вы желаете раскрыть последние тайны жизни, эсхатологическую природу мира, происхождение человечества и т. д. – это совершенно другое дело. Внезапно тайны и загадки станут возникать в большом количестве. Возьмите вирус СПИДа – мы совсем не знаем, где и как он возник. Я даже спрашивал некоторых профессоров вирусологии, могли ли они предвидеть возможность того, что случится нечто подобное. Ответом было определенное «нет».
Есть явления, которые кажутся нам таинственными и необъяснимыми. Если вы подбросите монету, очевидно, что вероятность выпадения «орла» равна 50 процентам. Но если взять большую корзину, полную монет, подбросить их в воздух и захотеть, чтобы все они выпали «орлами» – каждый скажет вам, что это невозможно. Или монеты будут сделаны так, чтобы они показывали «орла» с двух сторон, или там должен действовать какой-то таинственный неизвестный механизм. И мы уходим на поиски механизма. Если посмотреть на мои работы, то поиск неизвестных таинственных механизмов – это преобладающая часть того, о чем я пишу. В общем, моя и художественная, и небеллетристическая литература предполагает, что мы, конечно, можем путешествовать довольно далеко на пути к знаниям, но на месте тех вопросов, на которые мы найдем ответы, вдоль дороги, как цветы, вырастут другие. И так будет всегда.
Я помню книгу, которую я читал давно, когда был молодым научным ассистентом; я думаю, она называлась как-то наподобие «Бесконечного горизонта науки». В сущности, она описывает то же на примере наблюдения за линией горизонта – чем ближе вы к ней подходите, тем дальше она удаляется. Эта метафора некоторым образом отражает суть поиска знаний. Естественно, есть другие ситуации, которые подходят под эту модель, например, убийство Джона Ф. Кеннеди. Все знают, что произошло в Далласе, но, как и многие другие люди, я не могу заставить себя поверить в то, что Освальд работал один. С другой стороны, оказалось, что правда в этом деле зарыта слишком глубоко, чтобы быть обнаруженной. Действительно ненормально, не так ли? Такие необъясненные и необъяснимые явления особенно сильно привлекали меня, тем более что мир полон ими. И литература, которая стремится смоделировать мир и его сложность, обязана осознавать это и не должна притворяться, что все работает, как в классическом детективном романе, где сыщик всегда в конце все узнает.
Многие годы я имел дело с предложениями от читателей, которые подсказывали мне, как переписать или расширить мои романы. Лично я всегда чувствовал, что нечто в этом роде было бы фальшивым. Я выполнил свою задачу, создал цельное произведение, и любые дальнейшие дополнения или усложнения просто неуместны. Я не Александр Дюма, который написал произведение «Три мушкетера», а потом успешное его продолжение «Двадцать лет спустя».
Давайте я приведу вам конкретный пример. Когда наша собака умерла от старости, мы не могли заставить себя завести другую той же породы. Это, вероятно, довольно сложно объяснить в строго рациональных терминах, но все же живое существо является чем-то другим по сравнению с разбитым стаканом, который можно просто заменить другим. Так и литературное произведение – это тоже своего рода живая целостная система, в которую не следует вмешиваться. За свою карьеру я получил много резких писем от своих читателей, особенно по поводу «Расследования», все они недвусмысленно требовали объяснения. Авторы писем были особенно разгневаны отсутствием решения загадки, требуя, чтобы им рассказали, как это было возможно, что трупы двигались и т. д. Кстати, о «Солярисе»: однажды я даже получил письмо от бывшего русского психиатра, в котором она написала продолжение моего романа, так как понимала, что я не собираюсь сам сделать что-либо подобное. Я просто отложил это в большую кипу таких же «вкладов». Это творческая отдача моих читателей, вызванная неадекватностью – с их точки зрения – финалов некоторых моих книг. Они пишут о дальнейших приключениях, просят меня принять их тексты как свои собственные или, в некоторых случаях, даже продолжить их труды.
Я считаю «Солярис» модельным единым целым, которое не нужно расширять за рамки его повествовательного мысленного эксперимента. Вы помните спор между Бором и Эйнштейном? Эйнштейн был на стороне детерминизма, а Бор на стороне индетерминизма в своем толковании квантовой механики (как и всей Вселенной). В категориях человеческого опыта, то есть нормального человеческого здравого смысла, тот факт, что импульс и положение частицы не существуют до тех пор, пока не будут измерены, что они только воображаемы или что частица является одновременно частицей и волной – это просто непостижимо. Никто не может честно заявить, что понимает это – я не имею в виду, конечно, в смысле написания для этого уравнения Шредингера, но в том же смысле, в котором человек понимает, что означает забить футбольный мяч.
Конечно, последующие эксперименты доказали, что Эйнштейн заблуждался, и полностью подтвердили индетерминизм принципом неопределенности Гейзенберга. Однако были те, кто оспаривал существование так называемых скрытых переменных, даже после того, как фон Нейман придумал свое известное доказательство, чтобы показать, что не существует скрытых переменных. Тем не менее битва была проиграна детерминистами школы Эйнштейна; им пришлось примириться с тем фактом, что мир устроен так, что он до конца не постижим человеческим умом. Однажды я использовал такую метафору: математика – это белая трость в руке слепого человека. Даже без полного понимания квантового мира, как слепой человек использует трость, чтобы пробираться ощупью, так и мы ощупью пробираемся по направлению к атомной бомбе или лазеру. И когда они созданы и работают, мы можем видеть, что наша математическая трость, должно быть, была эффективна, так как привела нас к намеченной цели.
– Вы говорите, что вся математика – и фактически вся наука – это своего рода ящик для незаконного проникновения, учитывая то, что мы никогда не сможем узнать до конца, до последней детали, почему явления происходят так, как происходят?
– Именно. Якоб Броновский однажды очень хорошо это описал. Он сказал, что в науке позволено спрашивать только, как что-то работает, но не что это. Рассмотрим силу тяжести: есть уравнения Ньютона, есть сплошная среда Эйнштейна, но что такое на самом деле сила тяжести, нам не позволено спрашивать. В общем, в естественных науках человек не заинтересован задавать вопросы о сущности вещей, потому что это никуда не приводит. Очевидно, запугивание физика до тех пор, пока он не примет решение и не скажет вам, является ли электрон частицей или волной, или избиение этого физика, неважно, насколько сильно, не изменит того факта, что на этот вопрос нет ответа. Таким образом, я не думаю, что возможно найти окончательную истину в тех областях, в которых мы ее ищем. Окончательной истины не существует, и точка.
Если мы возьмем «Солярис» в качестве конкретного примера, я все же настаиваю на том, что роман хорошо построен, потому в нем – точнее, в эпизоде с библиотекой – есть ясный намек на существование огромного количества научной литературы на тему планеты и океана. Все действие романа в определенном смысле напоминает толчок после основного землетрясения. Книга описывает смутную фазу, упадок соляристики; было десять тысяч гипотез, и все они ни к чему не пришли.
– Учитывая, что в прошлом были приложены все эти усилия, еще более удивительно, что никто не пытался использовать огромные силы соляристического океана.
– То, что вы говорите, очень кстати. Земля в диаметре двенадцать тысяч километров. Возьмите очень большое яблоко диаметром двенадцать сантиметров, которое будет ей равнозначно в масштабе 1:10000000. Земная кора, то есть литосфера – твердая оболочка, на которой мы живем, более или менее эквивалентна по толщине кожице яблока; все остальное – это другие «сферы», скрытые ниже. Теоретически извлечение так называемой термальной энергии в промышленном масштабе вполне возможно: вы просто роете яму, помещаете трубу, кипятите воду и отводите пар. Исландия до некоторой степени использует энергию своих гейзеров. Но на практике ничто не может быть сделано в действительно больших масштабах, потому что если вы глубоко воткнете туда трубу, она просто расплавится. Самое большое, что вы произведете, – это что-то похожее на извержение вулкана, причем довольно опасное.
По сравнению с силами, находящимися внутри нашей собственной планеты, под этой тонкой незначительной верхней оболочкой, человеческие существа абсолютно беспомощны. Поэтому ответ на ваш вопрос «Почему ученые не используют технологию соляристического океана?» очень прост: потому что они бессильны и не в состоянии одержать над ним победу. Они просто не могут полностью использовать огромную энергию, содержащуюся в океане. И если бы я предположил, что могут – потому что как писатель я способен сделать что-то подобное, – я бы чувствовал себя так, будто я согрешил против святого духа науки.
Я всегда был очень внимателен к новым научным данным. Я долго был членом комиссии Карла Сагана по внеземному интеллекту (CETI), комиссии, посвященной изучению, а позже также и поиску внеземных цивилизаций. Есть одна характерная черта в их анализах – через несколько лет они постоянно должны были увеличивать предполагаемые расстояния между космическими цивилизациями, увеличивая их сначала на десятки, а позже на тысячи световых лет. Но мы все еще не можем там никого найти. Загадка становится все более загадочной. Однако в художественной литературе никто не обращает внимания на эти факты; там космических цивилизаций всегда полно, как мух летом. Если подвести итог: когда автор решает выдвинуть гипотезу, выходящую за пределы достоверных фактов современного знания, он должен держать под контролем свой материал и свою фантазию, обращая внимание не только на самые современные данные по теме, но и на свое эстетическое чувство.
– В «Сумме» вы обсуждаете вопрос, взятый из социологии: общество могло бы оптимизировать свое функционирование посредством деиндивидуализации социальной структуры своих организаций. Другими словами, превратить индивидуумов в заменяемые элементы социальной «машины» должно быть выгодно обществу как иерархически высшей структуре. Тем не менее креативный динамизм часто идет рука об руку с исключительностью, с людьми, которые выходят за рамки унифицированного шаблона. Можем ли мы принести в жертву уникальность и индивидуальность – как в гуманитарных, так и в естественных науках – на алтарь функциональной эффективности? С другой стороны, индивидуальность в искусстве – это устойчивый романтический миф; цель художника – это именно «соблазнить» общество к тому, чтобы думать и переживать по поводу своего произведения. Художественные новшества часто приводят к поклонению, что определенно лишает участвующих/наблюдающих индивидуумов их личного вклада в культуру.
– Позвольте проиллюстрировать это на следующем примере. Сообщество муравьев неуязвимо в намного большей степени, чем какое-либо другое, по сравнению со всеми формами индивидуалистической анархии. Применительно к человеческому обществу хорошим примером может служить и Япония. После Соединенных Штатов Япония – вторая по уровню национального дохода на душу населения, и ее гигантские возможности экспорта стали сегодня серьезной угрозой как для Европы, так и для Америки. Японцы добиваются таких удивительных результатов, потому что в относительном выражении их работа дешевле, чем в Соединенных Штатах. Богатые нации, выражаясь нелитературно, жиреют, становясь все более и более озабоченными комфортом. У немцев, например, уже нет той жажды трудиться, какая была даже сорок лет назад (что объясняет испытываемое ими чувство приближения угрозы). Принимая во внимание то, о чем я только что говорил, можно выдвинуть предположение, что немцы стали меньше похожи на муравьев. Сегодня они не настолько озабочены работой и развитием; есть желание тратить заработанный доход, наслаждаться роскошью, которую может предложить жизнь – другими словами, немного гедонизма. Японская культура, напротив, несколько иная в этом отношении. Тем не менее, если рассмотреть все факторы, то это не тот вопрос, который можно решить, обратившись к простому линейному анализу.
В последние годы мы видим, что даже американцы теряют свое преимущество. В Соединенных Штатах можно услышать возгласы беспокойства и осуждения по поводу ухудшающегося качества американского среднего и высшего образования. С другой стороны, японцы сделали очень большие шаги в этой области. Я хорошо знаком с данной ситуацией, так как мой сын изучал физику в Штатах. До тех пор, пока у меня не было никакой информации из первых рук, американские университеты казались мне немного похожими на фабрики гениев. Теперь я начинаю понимать, что эти заведения просто заполнены снобами. Здесь мы можем наблюдать ранние стадии процесса, который, вероятно, может быть назван разложением. Проблема другого измерения в том, что хотя индивидуумы все еще награждаются Нобелевскими премиями, времена епископов в церкви науки прошли. Исследования проводятся одновременно большим количеством людей, и, как результат, на каждого лауреата Нобелевской премии приходятся тысячи соавторов.
– В «Сумме» вы утверждаете, что наука должна изучать «все, что мы вообще можем изучить», так как в противном случае многие важные открытия могут быть нами не замечены. Но число соотношений безгранично, и наука никогда ничего бы не достигла с учетом бесконечности переменных и взаимосвязей. Если Дерек де Солла Прайс был прав в «Малой науке, большой науке»[44], нам всегда будут нужны селекторы и фильтры на пути исследовательских приоритетов, теоретических выводов, текущих нужд и т. д. Я понимаю, что ученым следует приложить все усилия, чтобы исследовать все научные углы и закоулки из страха пропустить важные открытия. Но изучить все, что мы вообще можем изучить? Это звучит невыполнимо с самого начала.
– Не совсем. Ситуация, где мы ищем какой-то х (это может быть, например, количество бактерий в организме пациента) при том, что мы не знаем, существует ли х, качественно отличается от ситуации, где мы выдвигаем гипотезу, что х можно было бы найти, только если бы мы могли изучить другие явления, но нет достаточного количества людей для выполнения этой работы. Здесь мы возвращаемся к истоку, о котором вы только что упомянули, и к его печально известному футурологическому прогнозу (который, тем временем, стал намного менее печально известным, потому что оказался правильным). Самый пессимистичный из научных прогнозов представляет собой экстраполяцию ситуации с огромным количеством профессиональной научной литературы во всех дисциплинах. По этому прогнозу вскоре после 2000 года количество научных работ в каждой дисциплине должно приблизиться к бесконечности – очевидно невозможная ситуация. Меня приглашали на многочисленные дискуссии по этой теме в Москву в Академию наук во времена, когда советская наука была еще сильной. Результаты этих экстраполяций представили картину мира в 2020 году, где каждый живущий человек, неважно, какого пола или возраста, должен был бы быть ученым в той или другой области. Одно из следствий такого прогноза, конечно, то, что после 2020 года у человечества просто закончились бы люди, даже если бы оно захотело всего лишь не отставать от растущих исследовательских запросов.
Шквал информации в научных и гуманитарных дисциплинах – это очень реальная и ощутимая проблема. Я часто сравнивал себя с человеком, который хотя сам и не участвует активно в научных исследованиях, но все еще старается не отставать от них. Такой человек оказывается в положении пассажира, который не только стоит рядом с поездом, который вот-вот отправится со станции без него, но и должен выбирать из огромного количества поездов, уходящих в разных направлениях. Тот факт, что у меня в моем рабочем кабинете лежит куча непрочитанных журналов – это верный признак превышения количественного порога информации, которую я могу усвоить.
Как мы должны все это анализировать? Для начала мы можем использовать компьютеры, экспертные системы и тому подобное. Имейте в виду, они могут быть недостаточно эффективны; они подобны крупноячеистому ситу, через которое могут проскользнуть многие важные вещи. Мы все еще должны отбирать и выбирать из того, что они для нас анализируют. Это тем более верно в областях, которые в настоящее время быстро растут и развиваются. Возьмите генетику, например. Темп распространения и диверсификации в генетических исследованиях такой ужасающий, что эта область, которая была относительно однородной еще не так давно, сейчас невероятно разветвилась. То же и с математикой: теория вероятностей разделилась на различные подобласти. У людей, работающих в области математического анализа, есть проблемы при общении со своими коллегами, занимающимися алгеброй, потому что даже их профессиональная лексика стала до некоторой степени несовместимой. Людям нужно просто примириться с их конечностью и смертностью. Помимо всего прочего, все усилия освоить этот поток информации идут параллельно с убедительным доказательством того, что количество неверной информации, выданной исследователями-мошенниками, возрастает в равной степени. В этом нет никакой загадки: оно возрастает таким же образом, как растет количество фальшивых денег вместе с общим количеством денег в обращении.
Тем не менее я считаю, что в некоторых областях компьютеры, конечно, могут помочь. Подсчитано, что 10, возможно, даже 15 процентов всех исследований проводится, потому что это менее затратно, чем осуществлять поиск в профессиональной литературе всего мира, чтобы установить, проводилось ли данное исследование ранее. Обману в науке способствует сегодня тот факт, что ключевые фигуры – например, директора, научные советы, нобелевские лауреаты – больше не имеют возможности проверять, все ли данные подлинны, не были ли они подделаны или искажены. Чтобы это предотвратить, нужно было бы назначить контролера каждому исследователю, но это привело бы к появлению своего рода научной полиции. Недавно был большой шум в прессе по поводу американского младшего научного работника, которая сообщила о мошенничестве своих руководителей. Из-за этого она потеряла работу и два года не могла найти другую. И все эти фальшивые данные были одобрены лауреатом Нобелевской премии Дэвидом Балтимором! Однако это лишь случайное открытие, вершина айсберга. Почти парадоксально, но ситуация в Польше немного другая. Так как у польской науки нет денег и современного оборудования, научный обман здесь относительно незначительный. Тем не менее в Польше качество науки и даже исследований в целом постоянно ухудшается. Есть одно явление, которое затрагивает границы между естественными и гуманитарными науками. Я, например, знаю, что большое количество гуманитариев и особенно литературоведов отчаянно пытаются переобучиться только по одной причине: они не могут заработать на жизнь.
Здесь мы уже перемещаемся за пределы мира науки в область социальных явлений, типичных для современного общества. Мы также не должны забывать о явлениях массовой культуры и массового потребления – как в естественных, так и в гуманитарных науках. Более того, результаты научных исследований, имеющих практическое применение, часто дают начало прикладным технологиям, таким как производство различных систем вооружения, продуктов питания, лекарств и так далее. И контроль всего этого – это тоже невыполнимая задача. Очевидно, мир становится все более и более сложным, и это необратимый процесс.
Когда я в «Сумме» написал об изучении всего, я говорил о том, что могло бы быть сделано, а не о том, что следует сделать. Есть вещи, которые могут быть сделаны, но в этом никто не заинтересован. Есть проблемы, которые наука считает надуманными и безрезультатными в самом фундаментальном смысле, например, вопрос НЛО или телепатии. Ни один ученый, достойный называться таковым, не жаждет рассматривать эти темы, так как это, очевидно, пустая трата времени. Для себя я даже придумал название для этих центробежных, маргинальных побочных явлений; я называю их «гало-эффект», мерцающий возле центра науки. Около тридцати лет назад я даже написал длинную статью на тему паранормальных явлений, утверждая, что и через тридцать лет ничего не изменится в этой области[45]. Тридцать лет прошло, и нам продолжают говорить, что настоящий прорыв прямо за углом, что вскоре мы поймем и овладеем этими явлениями технологически. Вздор! Такие обещания – это просто пустые слова для средств массовой информации.
Нашей цивилизации угрожает вирус СПИДа, но что еще хуже, так это то, что мы не знаем, какие другие вирусы могут атаковать нас в будущем. Есть вирус крупного рогатого скота из Англии, коровье бешенство – полностью необъяснимый. Когда начинает происходить нечто подобное, человечество должно – как страна, атакованная армией врага, – мобилизовать имеющиеся армии ученых.
Слова, что мы должны изучить всё, означают только, что мы не должны исследовать исключительно те области, которые имеют непосредственную и предсказуемую пользу. Это типичная линия поведения, особенно в Соединенных Штатах. Это повсеместно; возьмите недавнюю реальную приостановку дальнейшего исследования Луны, Марса и космического пространства. Обе палаты конгресса США решительно отказываются финансировать эти программы. Это довольно странно, так как космическая программа затрагивает так много ценных исследований, и даже более странно, учитывая впечатляющий успех Кеннеди. Если за менее чем десять лет он отправил американцев на Луну, то люди могли бы ходить по Марсу через пятнадцать лет, если бы только было обеспечено должное финансирование. Однако я не уверен, что был бы рад такому размещению денежных средств. Проект стоил бы по меньшей мере пятнадцать миллиардов долларов в реальном исчислении. Принимая во внимание кошмарное состояние, в котором находится сегодня наша планета, загрязнение атмосферы, почвы и воды, кажется, мы на самом деле не можем себе позволить подобного рода инвестирование.
Возвращаясь к «Сумме»: несмотря на все, что я сказал, это не та книга, которую я непременно цитирую в качестве своего рода библии. Не каждое слово в ней нужно воспринимать как священное. Совсем наоборот – я даже сам написал эссе под названием «Тридцать лет спустя». Вся статья посвящена исследованию важного раздела «Суммы» на тему виртуальной реальности в ракурсе тридцатилетнего прогресса. Там я даже написал, что с радостью опубликовал бы новое критическое издание «Суммы», значительно расширенное для того, чтобы включить – на полях, в сносках или другим способом – мои комментарии по поводу вещей, о которых я писал в 1960-х годах. Цель этого гипотетического переиздания: оценить, что за это время сбылось, что нет, и какие из моих гипотез нуждаются в исправлении в свете нового знания.
Что касается изучения всего, что вообще возможно изучить, то порой наша неспособность это сделать может на самом деле пойти нам на пользу. Во времена Гитлера не только по финансовым и технологическим причинам, но также благодаря интеллектуальной ограниченности Гитлера и его сторонников немецкие физики не изучили все, что могли, и не начали полномасштабного исследования атомной бомбы. Показательно, что они потерпели неудачу, следуя этому курсу исследований, потому что их правительство рассматривало всю науку с точки зрения сиюминутной отдачи. В другом тоталитарном лагере, когда советские власти потребовали немедленной пользы от исследований, они немедленно получили свои результаты. Я имею в виду Трофима Лысенко. Для Лысенко наследственность у растений (а также наследственность в общем) была своего рода непокорным явлением, которым можно было управлять тем или иным способом, чтобы удовлетворять нашим желаниям. Результатами такого идиотизма были, конечно, огромные потери в советском сельском хозяйстве и смежных дисциплинах, исчисляющиеся миллиардами и миллиардами долларов.
Подводя итог: все, что я говорил в «Сумме», – означает то, что фундаментальные исследования должны проводиться независимо от предполагаемой материальной выгоды в ближайшем будущем. Никогда достоверно не известно, что будет наиболее полезным для нас в будущем. Мы двигаемся в темноте своего неведения и никогда не должны забывать, что некоторые из наших наиболее важных открытий, таких как лазер или пенициллин, были совершенно случайными. Моя основная мысль такова: мы не должны ограничивать себя узкими рамками утилитаризма, особенно когда мы окружены сильным давлением рынка, регулируемым только желанием достичь максимальной реализуемости и прибыли. Отсюда все эти новые модели автомобилей, которые не всегда лучше, чем старые, но которые все равно выпускаются просто потому, что людей приучили верить, что автомобиль даже 1998 года, конечно, лучше, чем модель 1997 года.
То же самое справедливо и для книг. Я впервые заметил это в Германии, где мои редакторы могут взять «Кибериаду», поделить ее пополам, обернуть половинки в новые обложки, поставить новые названия и отправить их в книжный магазин. Очевидно – так больше объем продаж. Это в точности то же самое, как и с автомобилями – постоянная инфляция ценности. С другой стороны, редакторам, управляемым рынком, не удается учесть другие вещи, такие как, например, что философия Юма или Канта не устарела с тех пор, как была написана. Единственная тенденция, которую они видят, – это запланированное устаревание всех продуктов, в том числе и продуктов человеческой мысли. Печально, но верно.
– За исключением «Магелланова Облака» и, может быть, пары других романов, написанных в разные десятилетия, в ваших художественных произведениях нет значительных женских персонажей. Чем вызвано такое бросающееся в глаза отсутствие, особенно в свете вашей приверженности социальному и психологическому реализму?
– Я думаю, на самом деле было несколько причин, не все причины я, возможно, полностью осознаю. Я ничуть не сомневаюсь, что автор не всегда лучший эксперт по причинам – иногда лишь полуумышленным, – стоящим за данным выбором героев. Я должен сказать, что я в действительности достаточно привязан к некоторым женским образам в своих произведениях. Если взять конкретный пример, в «Больнице Преображения» есть доктор Носилевская, которую Бересь (польский критик) не совсем точно охарактеризовал как сексуально холодную. Он написал это, потому что в романе не происходит ничего явно эротического. Но я не считал это необходимым. Как бы то ни было, почему в моих произведениях отсутствуют женщины? Я думаю, на то есть несколько причин.
Я ужасно возмущен современным предписанием, существующим в Северной Америке, что когда кто-то о ком-то пишет, скажем, «физик», то должен писать, выбирая форму «он» или «она». Я абсолютно против этого, и когда они попросили моего разрешения использовать это правило в американских переводах, я категорически отказался. Я сказал им, что они могут напечатать мои тексты, но только такими, какие они есть. Это такой же абсурд, как обращаться к богу «она» – во всех монотеистических религиях принята своеобразная концепция, считающая, что бог мужского рода. Я не вижу причины изменять это; не я принимал это условие, я не буду следовать ему, чтобы удовлетворить требования некоторых людей. Более того, если мы рассмотрим статистику, количество женщин-гениев, конечно же, не сравнимо с количеством гениев-мужчин; здесь есть превосходство (естественно, имеются и исключения).
Другая причина в том, что введение женских персонажей – это для меня излишнее усложнение, извините уж меня за то, что я так цинично говорю о своих художественных произведениях. Другими словами, ввести женщин на борт космического корабля – конечно, я ужасно упрощаю, – и не использовать это для каких-либо сюжетов, ходов, сексуальных ли, эротических, эмоциональных или любых других, было бы своего рода обманом. Не было бы смысла держать команду в изоляции, как два монастыря, один мужской, другой женский, не так ли? Но если у меня есть определенный повествовательный и познавательный план, которого я придерживаюсь, то введение женщин может быть неудобным и даже противоречащим моему плану, даже если требуется усложнение.
С другой стороны, в романах, подобных «Солярису», героиня, дублированная океаном, необходима, так как сам океан – в определенном смысле усложняющий фактор. Другими словами, я работаю по функциональному принципу: если мне нужен женский образ, то я введу его. Это не совпадение, что чудовищная героиня «Маски» – женщина дивной красоты, которая на самом деле является своего рода василиском, монстром, демоном, воплощенным в роботе-автомате. Этого требовал сюжет. Таким образом, присутствие женщин в моих историях в каждом случае определяется особыми повествовательными требованиями.
– В «Сумме» вы много писали о виртуальной реальности, но я бы хотел поговорить о ней на примере истории из «Рассказов о пилоте Пирксе». Вначале, еще курсантом, Пиркс сдает экзамены: он пилотирует маленькую ракету на Луну. В пути он попадает в почти смертельную аварию – потом вдруг зажигается свет, он снова в экзаменационном центре, все это было иллюзией – опыт в виртуальной реальности.
– Верно, все это часть испытания.
– В «Сумме» вы анализировали проблему различия между реальностью и иллюзией. Вы писали о нескольких простых параметрах – пот, усталость, голод и т. д., – которые могли бы быть использованы человеком для определения своего состояния. Тем не менее в истории Пиркса главный герой испытывает перегрузку в иллюзорном состоянии. Казалось бы, с таким совершенным оборудованием для создания виртуальной реальности параметры, о которых вы упоминали в «Сумме», не подошли бы, чтобы определить состояние человека, тем самым способствуя возникновению угрозы создания искусственных реальностей-тюрем. Как вы видите эту проблему сегодня?
– Виртуальная реальность – это технология, которая уже используется и доступна для каждого, кто может себе позволить соответствующие расходы. Везде, куда бы вы ни пошли, вы сможете найти каталоги, где перечислены оборудование и цены. Наибольшая трудность в настоящее время – это даже не чрезмерные перегрузки, которые могут быть созданы центрифугой, как в тренировочных центрах для астронавтов. Самой трудной задачей было бы сымитировать невесомость. Это единственное, чего мы не сможем достичь любым другим способом, кроме как свободное падение, но было бы сложно (если не невозможно) одеть какого-нибудь парня в специальный сенсорный костюм и бросить его вниз с большой высоты, чтобы он смог испытать свободное падение – не говоря уже о том, чтобы поднять его вверх на орбиту. Если обобщить: есть ситуации в реальном мире, которые сегодня мы не способны преобразовать в иллюзорное переживание, конечно, вполне возможно, в будущем изменения и улучшения смогут это позволить.
В эссе «Тридцать лет спустя» я начал сравнивать свои собственные прогнозы 1960-х годов, когда тема виртуальной реальности была еще явной фантазией, с тем, что уже реализовано сегодня. Я сосредоточился в основном на философском и социологическом аспектах; итак, я писал об онтологических ограничениях машин виртуальной реальности, о вещах, которые мы как общество не можем сделать, и т. д. С другой стороны, я слышал, что издательство «Simon & Schuster» недавно предложило $75 000 программисту, который напишет о занятии сексом с компьютером в контексте виртуальной реальности. В моем исследовании я писал, что в будущем такие эротические направления, конечно, возможны; тем не менее я также сказал, что было бы не только намного сложнее, но также и намного интереснее организовать беседу с кем-нибудь типа Эйнштейна.
Создать иллюзорную имитацию сексуального контакта – это, по сути, изобрести разновидность онанизма, чего достичь намного легче, чем создать программу с достаточной интеллектуальной мощью, чтобы думать и рассуждать как Эйнштейн. Этот ловкий трюк все еще отдален на расстояние столетия в будущем, хотя я не хотел бы называть здесь какие-нибудь конкретные даты, так как делать предсказания в этой области очень сложно. Как бы то ни было, ясно, что степень сложности существенно различается в каждом случае. Секс с компьютером в виртуальной реальности, без сомнения, возможен. Но когда я обсуждал иллюзорность в «Сумме», я в принципе более интересовался иллюзорными последствиями старого девиза Беркли «быть значит быть воспринимаемым» и виртуальной реальностью как первой стадией технологического вторжения в область концепций чисто философской природы.
– В «Футурологическом конгрессе» вы развиваете идею ирреальности, идею бесконечной регрессии различных слоев искусственной реальности. Вы воздерживаетесь от нейрокибернетического описания этого эффекта «мира внутри мира» и вместо этого используете фармакологическое описание. Правдоподобна ли эта модель, учитывая то, что человеческий мозг состоит из клеток, которые морфологически очень похожи друг на друга? Фармакологическая технология, как вы ее описываете, должна бы обладать фантастической избирательностью, чтобы сделать ту работу, которую вы просите ее сделать.
– На самом деле ваш вопрос о литературных и в особенности повествовательных условностях. Когда вы пишете футурологический роман, вы всегда можете задать такие ограничивающие параметры, какие сочтете нужным. В своих художественных произведениях я всегда стараюсь по мере возможности не использовать техническую профессиональную лексику. Зачем вводить кибернетическую технологию, путаться в специальных терминах, усложнениях и тому подобном, когда вы можете «изобрести» лекарство, вызывающее хорошее настроение, «смягчитель» или что-то вроде этого. Но есть совсем другой аспект «Футурологического конгресса», который также нужно учитывать. По оценкам критиков, в последние годы существования коммунизма в Польше центральной темой романа является как раз то, с чего вы начали нашу беседу: наслаивание иллюзии и обмана, неправда реальности, которая рисует данную цивилизацию великолепной, тогда как на самом деле она ужасная.
Если следовать этой интерпретации, мой роман – почти игра, которую вело оруэлловское польское правительство, стараясь убедить нас, что в то время, когда мы жили в богатстве и счастье, Запад погибал в нищете. В Польше всегда было трудно найти людей, заблуждавшихся на этот счет, но многие граждане Советского Союза долгое время в это верили. Конечно, это самая суть психимического мира, который я описал в «Футурологическом конгрессе», только роль, выполняемую в нашем реальном мире обычной лживой пропагандой, в романе играли психимические технологии. Соответственно, это особенное решение в виртуальной реальности – в каком-то смысле также и метафора, которую не следует всегда воспринимать буквально. Я приведу другой пример: когда я создал свой первый роман, «Астронавты», один известный физик написал мне, что с такими коэффициентами силы и осевой нагрузки, которыми я наделил ракету, она никогда не смогла бы долететь до Венеры. Тогда я ответил ему – хотя с тех пор я перестал ввязываться в подобного рода полемику, – что если бы я на самом деле был конструктором ракет, которые могли полететь на Венеру, то я бы не писал романы, а вместо этого конструировал космические корабли[46].
– Не могли бы вы прокомментировать философские или даже метафизические воззрения, лежащие в основе ваших произведений?
– Моя философия или, точнее, мои философские представления не последовательны и не слишком систематичны; то есть я не отношу себя в полной мере ни к одной из философских школ. В некотором смысле, я – своего рода многосторонний еретик перед лицом этих различных школ и систем. Я не пишу с целью популяризировать определенные философские концепции просто потому, что вообще не думаю о них, когда пишу.
Общеизвестно, что при всей феноменальной способности компьютера обрабатывать информацию, он ничего не понимает. Тогда как даже маленький ребенок отлично понимает значение чиханья, потому что книга, которую он только что снял с полки, была покрыта пылью. Этот вид познания доступен детям почти предлингвистически и развивается в дальнейшем в соответствии с опытом. Ничего подобного не может случиться с компьютером, так как машина не способна накапливать опыт, тем самым оставаясь – по сравнению с детьми – абсолютно глупой. Аналогичным образом, когда я пишу беллетристику, вся моя философская позиция является полностью инстинктивной (здесь я говорю исключительно о моей беллетристике, а не об эссе или нехудожественных исследованиях, таких как «Сумма»).
В человеческой деятельности – рационального, инструментального, технологического, коммерческого или медицинского характера – высшим апелляционным судом всегда является фиксированный объем профессиональной информации, с которой должен считаться каждый специалист. Честный доктор не будет лечить рак зубной пастой, потому что он знает, что это не имеет смысла. С другой стороны, высший апелляционный суд, которому мы подчиняемся, чтобы установить здравый смысл и логичность в литературном произведении, – это не только доступные данные о реальном мире, скорее – парадигма жанра. Соответственно, в романе, написанном католическим писателем, герои могут видеть Деву Марию или святого, совершающего чудо, таким способом, который не является галлюцинацией или иллюзией. Таким образом, если вы пишете роман о ясновидящем, который действительно и по-настоящему видит будущее, никто не может осуждать вас за это просто потому, что он не верит в существование ясновидения. Этот тип свободы свойственен всей художественной литературе. Никто не гневается на сочинителя сказок, потому что он создал ведьму, которая заставляет вырасти густой лес, когда бросает гребень на землю. Парадигматическая структура сказки позволяет автору сделать это, так же, как и множество других вещей.
Подобным образом, когда я пишу свои художественные произведения, я могу подходить к определенным вопросам условно. Например, я могу притвориться, что не понимаю, что «Солярис» изображает солнечную систему, расположенную очень далеко от Земли. Мы все знаем, что если бы это было на самом деле так далеко, никто не смог бы достичь ее за время человеческой жизни без какого-нибудь вида гибернации или другой технологии. Я хорошо осведомлен об этом, но я оставляю все это, так сказать, за пределами книги. Причина, я бы сказал, просто в том, что мне было бы затруднительно ложиться в кровать своего творения в тяжелых ботинках реализма. «Солярис» – о любви и загадочном океане – и это то, что в нем важно. Что касается того, как главный герой на самом деле попал на планету, то я притворяюсь, что не знаю.
Для литературы высшим апелляционным судом, трибуналом, выносящим окончательный приговор: осудить или оправдать, – является сама литература. Допустим, вам пришлось бы спросить поэта, почему он старается зарифмовать свои строки вместо того, чтобы писать белым стихом. Вопрос не имеет смысла, если принять во внимание, что именно такую литературную парадигму выбрал поэт. Поэтическая вольность позволяет определенные отступления от истин, известных нам из реальности. Такие отступления должны бы, конечно, иметь должные оправдания. Если я допускаю некоторые вещи ради написания романа – например, что-то такое, что кажется невозможным физически, – то для такого шага должны быть очень серьезные причины, и они должны стать очевидными в процессе чтения. Проще говоря, люди работают ради выгоды; если кто-то подделывает валюту, он делает это ради выгоды, а не ради хранения поддельных денег в ящике своего стола.
– Вы часто утверждали, что даже современная наука, которая использует термины и символы, обозначающие объекты, недоступные для наших органов чувств, описывает нечто реальное, скрывающееся за этими символами. В конечном счете это форма научного реализма. На самом базовом уровне это касалось бы веры в осязаемую внешнюю реальность в противоположность социальному солипсизму, согласно которому мы все определяем и создаем реальность самим своим социально-культурным существованием.
– Да, так и есть. Это чрезвычайно забавно, но один аргумент против солипсизма, который я считаю особенно убедительным, принадлежит великому Бертрану Расселу. Конечно, логически в этом вопросе нельзя ничего доказать. Мы не можем ни доказать, что солипсизм ошибочен, ни, по правде говоря, опровергнуть то, что мир был создан лишь секунды назад вместе с человеческими существами, у которых в головах было все заранее задано таким образом, что субъективно они чувствуют, как будто бы все было здесь и ранее: мир, они сами и история.
Мысленный эксперимент Рассела проходил так: представьте, что я подхожу к полке в своей библиотеке, беру сонеты Шекспира и читаю их. Чтобы мои солипсические убеждения были непротиворечивыми, я должен заключить, что никогда не было никакого Шекспира и что эта лирика – творение моего собственного мозга. В этот момент я должен свидетельствовать о том (продолжает Рассел), что как Рассел я никогда не мог бы написать сонеты так хорошо, как написаны те, что я прочел. Это приводит меня к выводу, что, вероятно, существовал человек, называемый Шекспиром, который писал стихи намного лучше, чем я. Конечно, нет ничего, что помешало бы мне расширить свою точку зрения, поэтому, глядя на свою огромную библиотеку, я размышляю снова: «Вот здесь все эти книги, каждая о таких вещах, о которых я не имею ни малейшего понятия. И все это не что иное, как творение моего мозга?» Мнение Рассела, конечно, не является настоящим логическим аргументом, но в качестве здравого анализа солипсизма оно очень сильно и правдоподобно.
С другой стороны, не имеет особого смысла искать ответы на вопросы типа «как выглядит комната, когда нет никого, чтобы увидеть ее?» Я рассматриваю эту проблему следующим образом: если бы в комнате была муха, мы могли бы сфотографировать комнату через ее глаза и увидеть ее глазами мухи. Если вместо мухи была бы собака, мы могли, предположительно, сделать то же самое. Но спрашивать, является ли комната набором атомов или набором объектов, в отсутствие кого-либо, кто мог бы ее увидеть, не имеет смысла. Все зависит от степени восприятия. Мы сделаны такими, какие есть, с руками, ногами, органами слуха и зрения, и мы сделаны так, чтобы воспринимать вещи определенным образом. Если бы мы были созданы по-другому, то тогда, естественно, мы воспринимали бы вещи по-другому. Вопрос про комнату такой же бессмысленный, как и вопрос о том, чем на самом деле является звезда. Мы можем сказать, что звезда – это шар раскаленного газа, и продолжить перечислять его физические параметры. А если бы мы захотели приблизиться к ней так, чтобы изучить ее своими собственными глазами? Правильный ответ очевиден: мы превратились бы в газ из-за чудовищной радиации и температуры звезды.
Конечно, это вид несовместимости. Наш центр восприятия разработан для того, чтобы иметь дело с объектами, которые не отклоняются слишком далеко от шкалы, ограниченной нашими собственными телами и температурами. Если бы мы хотели узнать, как наш центр восприятия повел бы себя вблизи температуры в 100 миллионов градусов – а это температура при взрыве водородной бомбы, – ответ был бы такой: мы превратились бы в газ в момент взрыва. Мы бы ничего не почувствовали; наша шкала восприятия по сути ограничена, нравится нам это или нет. Другими словами, мир существует независимо от того, населен он людьми или нет.
В «Сумме» я рассматривал эту проблему в несколько иной форме. Я задал вопрос об экзистенциальном статусе печатных машинок в мезозойской эре. Ясно, что тогда не было печатных машинок, но если бы люди жили в то время, печатную машинку можно было бы сделать. Железная руда была – то есть, было возможно построить печь, сделать отвертки, молотки и другие инструменты. Это необязательная, теоретическая возможность, но она не противоречит тому факту, что с рациональной точки зрения здравого смысла все это правдоподобно и верно. Земля существует намного дольше, чем человеческий род, и хотя мы не знаем, как зародилась жизнь или как Человек разумный выделился из гоминидов, мы принимаем за очень правдоподобное то, что оно так или иначе произошло. Но есть одна вещь, в которую мы не готовы поверить, – это то, что все это случилось благодаря вмешательству волшебника или что мы оказались на этой планете только две недели назад благодаря божественному чуду. Я, таким образом, являюсь сторонником здравого подхода к этим вопросам, в то время как осознаю его недостатки.
Эти недостатки были – хочу подчеркнуть – предметом значительного недовольства другого мыслителя: сэра Артура Эддингтона. Ему показалось странным, что, по-видимому, перед ним были два стола: один привычного вида, на который он положил свои локти, а другой – не более чем облако электронов. Сегодня не нужно ограничивать себя электронами, но можно принять во внимание вакуум с его виртуальными частицами. Кроме того, этот стол также является микроскопическим источником энергии, потому что он создает определенное гравитационное поле, неважно, насколько оно несоизмеримо мало. Это область физики двадцатого столетия, но если мы вернемся к Аристотелю, он бы видел все это совершенно по-другому, так как он ничего не знал об атомах и электронах. Как сказал Рассел, реальность передается нам тем способом, который доступен нашим органам чувств; все остальное – это результат наших гипотез и умозаключений.
Мое отношение к философии вообще? Есть философы, которые нравятся мне, даже несмотря на то, что я не обязательно соглашусь со всем, что они скажут. Мне близок, и я очень уважаю Шопенгауэра, даже при том, что его система «Мира как воли и представления» не вызывает особого восторга. Мне очень нравится Бертран Рассел своей скептической и трезвой позицией. Это – типично английское философское направление с флегматичной и аналитической основой. Напротив, я абсолютно не переношу феноменологов – Хайдеггера и Гуссерля, и особенно этого сумасшедшего Дерриду с его неоклассицистским теоретизированием. Я не могу отрицать вклад и эмоциональность Поппера и его школы; фальсифицируемость – полезное понятие, да и сам Поппер был проницательным мыслителем. Но затем из тени мастера вышел студент, Пол Фейерабенд, отступник и еретик всей школы Поппера. Я даже вступил в полемику с Фейерабендом на страницах одного немецкого журнала. Правда, воздержался от излишних оскорблений в его адрес, хотя он действительно их заслуживал. Поводом послужило его заявление, что научная индукция и остальные научные методы не обязательно приводят к истине, и что все методы, дающие пригодный для контроля результат, – одинаково хороши. По существу, я не против того, что им было сказано, но я обязан был высказаться, когда он зашел слишком далеко, предлагая в качестве теории познания своего рода анархический дадаизм.
Мое отношение к философии и философии науки немного похоже на то, что описывает Гомбрович в своем «Дневнике». Весьма забавен этот его образ множества плавильных печей, раскаленных добела, и фигура прогуливающегося автора, который говорит себе: «Вот картина хайдеггеровского концепта, давайте отщипнем от нее кусочек и посмотрим, каков он на вкус». Он так и делает и говорит: «Слишком горячий и слишком горький, на мой вкус». После чего направляется туда, где сидит Сартр и думает о небытии и пустоте, но вскоре удаляется со словами: «И это тоже мне не по вкусу, слишком депрессивно». Экзистенциальное небытие действительно слишком грустное и угнетающее для меня – практически, можно сказать, мне не нравится сам способ, которым я пробую его на вкус. Должен признаться, мое отношение к специфическим философским системам не лишено дополнительного измерения, которое заставляет меня принимать их не только из-за того, что они правдоподобны и внушают доверие, но также и потому, что они близки мне в эстетическом плане.
Как в научных, так и в метафизических (то есть философских) исследованиях эстетическое качество аналитической формы, в которой выражена теория, является одним из определяющих факторов ее принятия. Я думаю, что этот фактор лежит в основе довольно таинственной и несколько необъяснимой взаимосвязи между музыкальными и математическими творениями. Мой сын, например, в отличие от меня, наделен музыкальностью. Он сочиняет музыку, играет на многих инструментах, даже при том, что главным образом его интересуют физика и математика. У меня же совершенно другое отношение к музыке. Мое музыкальное развитие заканчивается Бетховеном; Бах меня не слишком воодушевляет, и я не могу ничего с этим поделать. В этом смысле я совершенно обожаю Шопена, однако не выношу атональную музыку – Стравинский совершенно ничего для меня не значит. Я предпочитаю Пятую симфонию Бетховена Седьмой, а Девятая приводит меня в состояние определенного экстаза. И я даже не уверен, что смог бы объяснить, почему это так, а не иначе.
Мое отношение к различным философским системам по существу не отличается. Сартр раздражает меня своими тяжеловесными трудами на тысячи страниц. В том, что пишет Поппер – много смысла, но с другой стороны, он слишком напоминает школьного учителя, который, грозя пальцем с кафедры, объявляет вещь такой-то и такой-то. И с ним нельзя не согласиться, а то ведь схватят за ухо и выдворят из классной комнаты. Затем есть философы вроде Гуссерля или – возьмем лучше Витгенштейна, который в первой половине жизни написал «Логико-философский трактат» (1922), а позднее опровергал все в нем изложенное в «Философских исследованиях» (1953). Извините меня, но изучать кого-то, ведущего бои с самим собой, может быть интересно только тем, у кого больше свободного времени, чем у меня.
Однако все эти труды даже близко не затрагивают тех сложностей и дилемм, которые должна решать современная философия. Например, как отнестись к тому факту, что одна и та же математическая структура научной закономерности (или теории) физики может иметь массу различных, и даже несовместимых интерпретаций? Хотя ученые и пытаются объяснить, как влияет на предмет то, что при одних условиях он проявляет качества материи, а при других – ведет себя как волна, это никак не влияет на тот факт, что данный дуализм можно интерпретировать различными способами. В то же время, коль скоро эти теории были подтверждены экспериментально и как бы странно они ни звучали, – их приходится признавать.
Должен сказать, я считаю себя дилетантом в области философии, так как никогда не изучал ее систематически. Почему? Витгенштейн когда-то написал, что многие из поставленных физикой вопросов являются по сути таковыми только в силу скудости нашего же языка. По этой причине он полагал, что они были не реальными проблемами, а только кажущимися (думаю, это одна из причин последующей популярности философии языка). Я же думаю, мир знаний несравненно грандиознее, чем предполагал Витгенштейн. Любой индивид теряется перед необъятностью интеллектуальных перспектив, которые открываются почти ежедневно. Возможно, эрудит и специалист, сведущий в самых разных дисциплинах, немного лучше других улавливает направление современных исследований; с другой стороны, один-единственный человек не способен в полной мере охватить всего разнообразия областей познания и осмысления. Вероятно, это было еще возможно во времена Платона, но та эпоха осталась позади. Теперь каждый в одиночку шагает в темноте, используя свой собственный фонарик знания, чтобы найти путь. Я признаюсь, что среди восьми или десяти тысяч книг в моей домашней библиотеке есть приблизительно несколько сотен, на которые у меня не было времени хотя бы просто взглянуть. И это, тем не менее, лишь капля в окружающем нас море.
В последнее время распространилось много научных предположений, в свете которых Вселенная – своего рода компьютер, запрограммированный производить туманности, звезды и другие космические тела. На мой взгляд, их сторонники слишком уж раскручивают эти гипотезы. Фритьоф Капра и ему подобные – по мне, попросту шарлатаны, которые смешивают метафизику, рациональность и нелогичность для приготовления своего рода интеллектуального жаркого, задуманного, чтобы привлечь внимание.
В «Собаке Баскервилей» Конан Дойла есть только одна, опасная тропинка, которая ведет в середину болота, где держат собаку. Если ее не знать, то можно очень легко заблудиться и утонуть в болоте. Как цивилизация, мы сегодня находимся в похожем затруднительном положении. Мы должны найти тот путь среди подавляющей необъятности научной и ненаучной информации, который не даст нам погрязнуть в болоте. Самый легкий выход, естественно, – верить всему, невзирая ни на возмутительность, ни на противоречивость фактов. Давайте будем откровенны: люди хотят быть обманутыми, особенно когда они лицом к лицу сталкиваются с бесконечным количеством профессиональных книг и статей. Вы практически можете услышать, как они говорят: «Зачем узнавать о теории относительности, зачем проводить месяцы, исследуя тайны квантовой механики? Я просто прочитаю Капру, и буду знать все». А еще лучше, как в Польше: зачем им вообще что-нибудь читать, когда все, что нужно – пойти в церковь и послушать священника, который объявит, что Бог является всеведущим, что нужно иметь веру без сомнений, оговорок и тому подобного. Все самоуверенные типы, может добавить священник, более склонны к греху и рискуют попасть в большую беду, оказавшись за пределами привилегированного круга смиренных и верующих.
Я полностью беру на себя ответственность за все свои действия, что означает: я хочу использовать свой фонарь знания максимально долго. Понимаю, что есть проблемы, которые я не способен решить, и когда я это осознаю, то обращаюсь за советом к кому-нибудь более сведущему. Уверенность в том, что все возможное и необходимое уже изучено – одно из самых пагубных самообольщений, которые могут случиться с человеком.
– Что вы еще могли бы сказать о литературе и философии?
– Что еще сказать? Я – верный сторонник принципа, что литература, почти так же, как философия, никогда не наскучит до смерти своим читателям. В процессе чтения никогда не стоит продираться сквозь джунгли слов и понятий, испытывая трудности и дискомфорт ради добычи того, что приходит естественным образом. Взвесив все, я уважаю смелых мыслителей. Я не знаю, расценивается ли это как смелый поступок, но одна из причин, почему мне так нравится Рассел, состоит в том, что ему хватило интеллектуальной и нравственной целостности, чтобы назвать Гегеля – без обиняков – полным идиотом. Я полностью с ним соглашаюсь: Гегель – идиот, и те, кто прочитал его труды, оказали себе плохую услугу. Честность и простота мышления – вот то, что необходимо всем нам.
«Весь этот философский хлам» (интервью)
Вопрос[47]: Господин Лем, как бы вы охарактеризовали свое понимание философии?
Станислав Лем: В общем смысле философия – это то, о чем спорят философы. Лично я никогда всерьез не интересовался объемом и границами этого понятия. Могу только назвать философов, которые оказали на меня сильное влияние. Во-первых, это английская эмпирическая школа. Потом я немного поспорил с Фейерабендом, ныне, к сожалению, покойным, так как я считал его взгляды слишком анархистскими. Но в основном мне близка школа фальсификационизма Поппера. Пожалуй, именно оттуда исходит мое понятие философии. Философы должны заниматься тем, что выходит за пределы элементарных знаний, которые человек получает благодаря восприятию. Но не в смысле трансцендентности, а лишь в том смысле, что философия должна не только использовать результаты научных исследований, но и рассматривать науку как фундамент всеобщих знаний.
Если быть кратким, то можно сказать следующее: философия, как и во времена древних греков, состоит из онтологии, эпистемологии, ну и еще добавляется этика. Онтологические вопросы вообще невозможно решить однозначно с помощью экспериментальных методов. Скорее, это возможно с эпистемологическими вопросами. А этика? Из науки вообще нельзя сделать аксиологических выводов. То есть если у человека есть плутоний, то он знает, как его получить. А вопрос о том, станет ли плутоний средством для убийства людей, относится к области этики и может рассматриваться с разных точек зрения.
Я думаю, из того, что я написал, можно извлечь целый ряд различных, хотя и имеющих нечто общее квазиопределений того, чем для меня является философия. Но систематическую философию, философские системы, например Гегеля или даже Бернарда Рассела, я считаю частью истории философии. Ситуация такова, что все философы со времен Средневековья пытались создать единую, лишенную противоречий целостную картину бытия и мира. Чем ближе к современности, тем все отчетливее мы видим, что в этой уже изрядно фрагментарной картине, в этом так называемом мировоззрении возникает все больше противоречий. А время, когда Шопенгауэр так чудесно, но фантастически представлял, что мир – это только воля и представление, к сожалению, осталось в прошлом. Все стало специализированным и сложным. Я ознакомился с трудами представителей различных философских течений, например с английской лингвистической философией. Здесь возникает вопрос о том, можно ли внутри языка построить свой философский дом или следует ссылаться на эксперименты. По моему мнению, автономность философии постепенно сокращается, потому что в эту область вводится множество аргументов из разных научно-эмпирических дисциплин.
Итак, в конечном счете, философия – это то, что изучают в университете. Я немного чувствую себя знаменитой кошкой Киплинга, которая гуляет сама по себе и мало интересуется запретами. Например, в физике, кажется, тоже есть противоречия, интересные с философской точки зрения. Хотя мы знаем в физике простейший тезис, согласно которому существуют только локальные феномены, следовательно, физика – локальная наука. Это значит, что нельзя говорить о не относящихся к определенному времени, мгновенных телеметрических воздействиях. Но мы знаем, что есть и другая, не локальная физика. Например, волновое уравнение распада атома в итоге дает единство, и коллапс этой волны воздействует на обе части, даже если одна часть этого атома находится здесь, на земле, а другая – в Крабовидной туманности, но это воздействие не измеримо во времени[48]. Как привести это к общему знаменателю, мы совершенно не представляем, причем не только мы здесь, но и физики всего мира. И тем не менее мы как-то с этим живем.
Я придерживаюсь мнения, что человек, который философствует сегодня, – это то же самое существо, созданное по тому же образу, что и его далекие предки, жившие 100 000 лет назад в эпоху палеолита. Он сформировался в процессе эволюции так, что мог решать только относительно простые задачи в своем окружении, чтобы продолжать существование. Удивительный феномен заключается в том, что этого наследия достаточно для того, чтобы сегодня заниматься даже космическими исследованиями и всем этим философским хламом. Лично для меня самая большая загадка как раз заключается в том, что это так и есть, не правда ли? Из всего этого можно сделать вывод, что наше представление о мире очень хрупкое и с течением времени меняется. В отличие от религии в науке не существует догм, потому и в философии должно быть мало догм. Примерно так выглядит сегодняшний философский суп, который я могу вам предложить.
– Как бы вы охарактеризовали отношения философии и науки? Когда применяется скорее философское, а когда – скорее научное мышление? Может ли ученый научиться чему-то у философа, а философ – чему-то у ученого?
– Разумеется, философам следует кое-чему учиться, хотя все изучить невозможно. Лично я иногда чувствую себя в положении человека, который находится на вокзале и пытается бежать за всеми поездами, которые движутся в противоположных направлениях. Конечно, это невозможно. Например, если я занимаюсь теоретической физикой, мои знания из области информатики остаются неиспользованными. Этот процесс можно еще сравнить с работой пожарной команды: если где-то запахло горелым, то есть появляется что-то новое, новая точка зрения или новое открытие, – я чувствую, что должен немного узнать об этом. Но узнать обо всем сегодня – невыполнимая задача для одного человека.
В общем, я считаю, что язык является основой человеческого бытия. Но это не значит, что мы расширяем свои знания о мире, когда до бесконечности углубляемся в изучение языка и создаем различные неологизмы поэтического характера, как у Хайдеггера. Вероятно, можно добраться, сравнивая разные языки, до праязыка, но это не значит, что так мы точнее узнаем, как устроен мир. Одним словом, существует так много загадок, и чем больше мы расширяем свои эмпирические знания, тем больше увеличивается область незнания. И очень важно знать, что мы знаем еще не все. Например, у меня есть книга немецкого философа 1920 года, в которой он очень точно математически доказал, что космические полеты невозможны, что человек никогда не сможет покинуть землю. Поэтому нужно, с одной стороны, очень внимательно относиться к утверждениям о невозможности, с другой – следить за тем, чтобы вместе с водой не выплеснуть ребенка. Лично я хочу снизить свою точку опоры до уровня простого здравого смысла, хотя даже этот простой здравый смысл часто не служит нам архимедовой точкой опоры. Иногда это так, иногда немного иначе, и каждый должен найти свой путь. Поэтому в итоге, к сожалению, ситуация выглядит так: если нет твердого, окончательного основания, чтобы во что-то верить, тогда можно обратиться и к философии. Например, если верующий человек не хочет отказываться от догм и не отказывается от них, ему придется скоро согласиться с фразами типа «Credo quia absurdum est»[49] или «Credo quia impossibile est»[50]. Против этого, конечно, нет аргументов. Но все же такой выбор – очень важное дело, и нужно иметь за спиной целый ряд аргументов, лучше всего таких, которые можно проверить экспериментально.
– Одним из важных философских размышлений, возможно, является дискуссия о так называемом «искусственном интеллекте». Не является ли понятие интеллекта примером хотя и значимого с научной точки зрения, но неопределимого эмпирически однозначно понятия, то есть можно ли в данной ситуации говорить о том, что здесь нужен философ?
– Да, знаете ли, это сложная проблема. Во-первых, существует множество различных определений человеческого интеллекта. Существовали и, я думаю, до сих пор существуют утверждения о том, что человеческий интеллект, по всей вероятности, является космической постоянной. Я с этим совершенно не согласен. Мы находимся здесь, созданные эволюцией в процессе антропогенеза, и этот антропогенез в ходе своего развития был направлен только на выживание. То, что мы, кроме этого, еще можем философствовать, – это лишь приятное дополнение, но его нельзя считать основой любого познания.
Кроме того, разброс показателей интеллекта в человеческой популяции удивительно велик. Как известно, существуют коэффициенты интеллекта, их распределение дает кривую нормального распределения Гаусса[51]. Но мы точно не знаем, почему. Один немецкий философ недавно прислал мне книгу английского автора с очень интересным заглавием: «Почему мы не умнее?»[52]. Этот автор утверждает, что мы, конечно, не имеем права быть настолько глупыми, чтобы не выжить. Но с другой стороны, он утверждает, что мы также не должны быть слишком умными, так как общество, состоящее из одних гениев, было бы неспособно к социальной кооперации и, следовательно, к существованию. Эта сильно упрощенная мной аргументация меня не очень убедила. Что касается глупости, я думаю, что это тот минимум интеллекта, который до сих пор обеспечивал выживание общества, по крайней мере до сегодняшнего дня. Но почему мы не умнее? Несмотря на существование гениев в разных сферах, каких-нибудь Ньютонов или Эйнштейнов, этот потенциал не передается по наследству. То есть он может передаваться только по «второму каналу» культуры, но не биологическим путем. Почему? Этого мы, конечно, не знаем, как не знаем и ответ на вопрос, почему мы не умнее.
Что касается искусственного интеллекта, то, во-первых, можно сказать, что его, собственного говоря, вообще не существует. Конечно, это в значительной степени зависит от того, что мы можем представить себе в качестве средства управления этого машинного интеллекта. Возьмем, например, тест Тьюринга. Долгое время я был почти убежден в том, что этот тест действительно может иметь решающее значение для определения того, о каком существе – разумном или нет – идет речь. Но сейчас я так не думаю. У нас есть так называемая домработница; знаете ли вы, кто такая домработница, это очень странное немецкое слово – Zugeherin, хорошо подходящее для одного из моих романов «Осмотр на месте». Словом, это помощница по хозяйству. Я думаю, не составит большого труда создать компьютерную программу и соответствующим образом запрограммировать компьютер, разговаривая с которым она сочтет его вполне интеллектуальной личностью. Но если посадить перед этим компьютером кого-то более умного, то это будет уже не так. Я бы, например, чтобы проверить, идет речь о разумном существе или о машине, действовал бы следующим образом: я бы рассказал историю, сказку, анекдот, шутку и потребовал от этого аппарата повторить эту же историю, с тем же содержанием, но своими словами, с другими выражениями, исходя из своих возможностей. Дословное повторение по принципу граммофона меня бы, конечно, не удовлетворило. Если бы это удалось, я бы сказал, что вероятность того, что мы имеем дело с машиной, стала меньше. Но окончательно решить я бы не смог. Еще 30 лет назад в книге «Сумма технологии» я писал, что в принципе возможно создание все более совершенных компьютерных программ, если не придавать значения финансовому вопросу. И если такими программами интересуются лишь в том смысле, в каком интересуются шахматными программами. Тут возникают следующие практические аспекты: с одной стороны, можно создать фабрику, работающую практически без участия людей, например, производить автозапчасти или целые автомобили. Фактически на такой фабрике будут работать только специально запрограммированные автоматы. Но с другой стороны, если вам нужна помощница по хозяйству, то создать автомат для выполнения этой задачи практически невозможно. Повторяющиеся функции автоматов, производящих автомобили, сегодня можно реализовать не только в Японии. Но создать автомат вместо женщины с ведром и т. д. невозможно. Возможно, это и получится, но будет стоить миллиарды долларов. Практически же это нереально. Поэтому я должен сказать, что понятие интеллекта относится к так называемым «туманным понятиям», к «fuzzy sets» или «fuzzy logic»[53] – так это называется по-английски.
Конечно, глупо прозвучал бы вопрос: «Обладают ли бактерии интеллектом?» Разумеется, нет. Мы решили считать себя разумными, так ведь? Но бактерии, которые мы уничтожаем с помощью артиллерии антибиотиков, как бы это сказать, придумали против этого иммунитет. Это не совсем точное слово, но ведь они его создали. Значит, в смысле искусства выживания они умнее нас, так как после мировой атомной войны мы все погибнем, а бактерии останутся. Если в качестве планки интеллекта использовать критерий выживания, то следует признать, что бактерии очень умны, даже умнее нас. Но потом можно вспомнить, что интеллект имеет не много общего со способностью к выживанию.
Наверное, мы можем сказать, что приближаемся не к добровольной смерти, а к глобальному самоубийству нового типа, которое произойдет благодаря медленному, но повсеместному распространению огромных запасов плутония бывшего Советского Союза? Что-то подобное ведь не исключено? Это значит, что мы стремимся уничтожить как нашу экосферу, так и нашу биосферу, хотя никто этого не хочет. Таким образом, я думаю, можно сказать, что понятие интеллекта нельзя ограничивать искусством выживания. Это как-то слишком условно. И я не думаю, что в космосе может существовать только единственная, а именно человеческая, форма интеллекта. Хотя это совершенно особый подвид, о котором можно сказать, что он просуществовал почти миллион лет, но ведь насекомые просуществовали почти 400 миллионов лет.
– Научно-исследовательские институты, которые занимаются искусственным интеллектом, располагают значительными финансовыми средствами. Смогли бы вы просто прийти туда и сказать, что все деньги инвестируются напрасно, пока не выяснится, как трактовать понятие интеллекта?
– Знаете ли, общее правило периодической печати «Publish or Perish»[54] во всем научном мире действует также в том смысле, что, если все имеющие логическое обоснование позиции уже кем-то заняты, нужно печатать всякий вздор. Недавно я читал сочинения одного ученого, который неожиданно выступил с идеей, что не человек произошел от древних обезьян, а наоборот, шимпанзе и другие виды происходят от нас. Разумеется, это чистейшая бессмыслица, но она произвела такую же сенсацию, как тот американец, который сказал, что вирус СПИДа не имеет ничего общего с болезнью СПИДа. О борьбе научно-исследовательских институтов за деньги я лучше умолчу, так как она меня мало интересует. Первые попытки воспроизвести человеческий интеллект в пятидесятые годы начались с исследования серого вещества коры головного мозга с его серыми клеточками, которые имеют такое большое значение у госпожи Агаты Кристи и ее Эркюля Пуаро. В результате выяснилось, во-первых, что кору головного мозга невозможно воспроизвести. А во-вторых, только ее недостаточно для создания языкового потенциала или логически правильной самостоятельной речи. Это невозможно. Может быть, я смогу показать это на следующем примере. Существуют два врожденных заболевания, собственно говоря, это не заболевания, а определенные патогенные отклонения наследственного вещества. Одно из них – синдром Дауна, который часто называют монголизмом. Второе – менее известный синдром Вильсона. Это два противоположных феномена. Синдром Дауна характеризуется тем, что люди с этим отклонением остаются на уровне развития 6–8-летних детей. Они могут говорить, но не могут самостоятельно существовать в обществе, работать и так далее. Однако они очень эмоциональны. Они, скорее, очень милые, симпатичные и эмоциональные дети, чем взрослые. Синдром Вильсона – это нечто еще более удивительное: очень хорошо развитая способность говорить в сочетании с совершенно недоразвитым общим интеллектом. Такие люди не могут выполнить самые простые тестовые задания. Их коэффициент интеллекта не доходит даже до 50 (средний уровень составляет 100). Но у них очень богатый словарный запас, и, что еще более удивительно, они очень грамотны. Мы совершенно не знаем, как работает человеческий мозг. Парадоксально, но можно сказать, что наше незнание с течением времени постепенно увеличивается.
Я помню, как в годы молодости во Львове штудировал отцовские книги по медицинской биологии и нашел книгу нейрофизиолога Гольдштейна об афазии. Существуют различные типы афазии, вызванные дисфункциями головного мозга. Сначала думали, что работа центра Брока и центра Вернике имеет решающее значение для развития языковой способности человека. Но потом я прочитал работы советского нейрофизиолога Лурье. Он располагал богатейшим материалом, так как занимался лечением солдат с повреждениями головного мозга после последней мировой войны. Выяснилось, что в мире не существует, наверное, даже двух мозгов, которые бы работали одинаково. К этому добавились так называемые латералисты. Это школа, которая занимается исследованием последствий разделения двух полушарий головного мозга, так называемой каллотомии. Итак, почему совсем маленький ребенок, у которого, скажем, язва уничтожила половину мозга, став взрослым, может все же достичь практически нормального уровня интеллекта, тогда как для взрослого с аналогичным недугом такой исход невозможен. Мы не знаем, почему это так.
В шестидесятые годы я часто бывал в Советском Союзе и много общался с советскими кибернетиками. Вера в то, что можно создать искусственный интеллект, была так широко распространена, что я, так сказать, заразился ею. На самом деле ведь можно привести много аргументов в пользу этого. Но постепенно, в том числе благодаря Вейзенбауму, я пришел к убеждению, что создать искусственный интеллект будет не так-то просто. В последнее время я читаю много литературы о функциях головного мозга; итак, мы действительно знаем еще очень мало, слишком мало. Нельзя копировать то, о чем не имеешь точного представления.
Если речь идет о специальных, четко обозначенных задачах, то можно написать программу, которая сможет победить человека, как это происходит на шахматной доске. Говорят, что такая программа уже смогла поставить мат даже Каспарову. Неважно, было это или не было. Но при столкновении с необыкновенным многообразием мира оказывается, что наш мозг не настолько способен к адаптации, чтобы обеспечить нам выживание так, как это происходит у бактерий (не имеющих мозга). Но в то же время постоянно выясняется, что разработчики искусственного интеллекта рано или поздно заходят в тупик, о чем можно только сожалеть. Я больше не верю в то, что из любых молекул, любых электронов, любых микросхем можно сконструировать что-то равноценное человеческому мозгу. Я верю, что это так. Доказать это я не могу.
– Каким вы видите будущее науки о человеке?
– Знаете, мы сейчас находимся на переходном историческом этапе. Мы помним, каким был мир во время холодной войны, и у нас нет серьезного представления о том, каким он станет в будущем. Чрезвычайно наивные представления Фрэнсиса Фукуямы, который верит, что с концом коммунизма наступил конец истории, что капитализм победил и впереди только бесконечная скука сытого населения Земли, – это сущая нелепость.
Должен сказать, что я, конечно, намеренно попытался поставить бактерии интеллектуально выше человека. Хотя критерий выживания неплох, но есть вещи, на которые бактерии определенно неспособны, например, добровольно уйти из жизни. Этого они сделать не могут. Ведь в этой среде нельзя предположить или обнаружить какие-либо проявления воли, это исключено.
Человек появился как социальное существо и в те времена еще питался растениями. Таковы последние утверждения американской антропологической школы. А потом он с уникальным эволюционным ускорением развился до Homo Sapiens. Мы не знаем, почему. Существует множество гипотез, лично я могу насчитать семь или восемь, но думаю, что они недостаточно убедительны. Конечно, это всегда так: если что-то уже существует, этому всегда можно найти правдоподобное объяснение в прошлом. Метеорологический прогноз вчерашней погоды можно составить очень просто как нечто неоспоримое. Но мы не знаем, почему с человеком все произошло так, как произошло.
Вот что я, пожалуй, считаю важным, – так это то, что мы должны быть скромными. Нельзя иметь в кармане какой-то однозначный ответ на любой философский или даже не философский вопрос, это просто невозможно. Поэтому нельзя также утверждать, что интеллектом обладают только те биологические виды, которые, скажем, переживут глобальную катастрофу подобно столкновению кометы Шумахера-Леви с Юпитером[55]. Если большой метеорит упадет на землю, выживут, конечно, не самые интеллектуальные существа. В последнее время молекулярные биологи подтверждают, что мы смертные существа. Единственные бессмертные клетки нашего тела – это, к сожалению, злокачественные раковые клетки. В нашем организме от девяти до десяти биллионов клеток. И если где-нибудь – в результате цепочки случайностей или из-за наследственности – возникнет метастазирующий злокачественный рак, то придется умирать, независимо от того, насколько ты умен и интеллектуален. Джон фон Нейман, один из отцов кибернетики и теории игр, был одним из умнейших ученых нашего столетия, но очень рано умер от рака.
Представим себе, что наш мозг – это единство, которое поддерживается опорой, и эта опора – наше тело. И если с телом происходит что-то плохое и оно умирает, то это не имеет особого значения, гораздо важнее статистический принцип, что какие-то другие люди выжили и могут иметь детей, так что человеческий род сможет продолжиться. Если мы попытаемся где-то локализовать интеллект как единое целое, это будет очень трудно. В одной из своих книг[56] я написал о том, что было бы, если бы можно было изготовить совершенную имитацию или модель мозга, но установить ее отдельные части в разных местах, скажем, лимбическую систему здесь, а мозжечок – там, часть передней коры – в Монреале, другую часть передней коры – в Австралии, мозговой ствол – на Аляске, все из разных материалов, это могли бы быть и неорганические соединения. Все это соединялось бы с помощью электроники и работало так, как если бы эта уникальная констелляция имела сознание. Так где в данный момент находилось бы это сознание? На Аляске? Или в Австралии? Или в Америке? Или на юге? Черт его знает, не так ли? Оно вообще не поддается пространственной локализации. Оно – результат совместной работы отдельных элементов. Проблема интеллекта в том, что недостаточно просто иметь в мозговой коре серое вещество или имитировать его.
– Ученых часто упрекают в том, что они лишают мир очарования, рассматривая жизнь просто как результат случайности. Но есть ученые, которые хотят вернуть человеку его прежнее уникальное положение во Вселенной. Существует, например, антропный принцип. На основании подавляющего количества антропофизических фактов, которые, как кажется, подтверждают его, многие ученые согласились с антропным принципом.
– Я хочу сказать только следующее: если бы не было Гитлера и Сталина, и не было бы мировой войны, и Польское государство не сместилось бы в направлении Запада, тогда я никогда не познакомился бы с женщиной, которая стала моей женой, и, таким образом, мой сын, этот молодой человек, который сейчас находится в Кракове, не появился бы на свет. Конечно, можно сказать, Сталин и Гитлер, разумеется, совершенно сами того не желая, очень хорошо поработали над тем, чтобы этот молодой человек, как и многие другие, появился на свет. Но можно ли превращать это в принцип? В этом я очень сомневаюсь.
Вопрос Хайдеггера: «Почему существует что-то, если этого совсем не может быть?» всегда очень удивлял меня, потому что, конечно, если бы этого никогда не было, то не было бы и Хайдеггера, и он не задал бы этот вопрос. Итак, мы оказываемся в заколдованном круге, и для меня этот заколдованный круг обладает очень банальным, пресным вкусом.
На самом деле все выглядит так, что мы вместе с Землей и ее жителями, с биосферой и жизнью и со всем этим хламом возникли в результате удивительной, необыкновенно длинной, продолжительностью в миллиарды лет цепочки случайностей. А еще – чтобы немного поднять наш дух и облегчить жизнь, существуют идеи о том, что имеется не только одна Вселенная, а, вероятно, поли-Вселенная или мульти-Вселенная. Это напоминает пускание мыльных пузырей. Можно ведь одновременно выдуть великое множество этих пузырей, но нельзя попасть из одной вселенной в другую, или можно только через черные дыры, или как-то еще или вообще никак. Нам удивительно повезло, то есть так сложилась судьба, что мы встретились, что мы находимся именно в этой Вселенной, где было возможно возникновение жизни, Земли и так далее. Это как в лотерее: я имею в виду не лото, где существует возможность, что никто не угадает 6 правильных цифр, такое бывает, да. Я имею в виду нормальную лотерею, где всегда есть по крайней мере один приз. Там кто-нибудь обязательно выиграет. Этот выигравший, конечно, не скажет, что существует особый космический закон, который позволил ему стать победителем. Это был, как говорят, просто случай. Итак, очень неприятно думать о том, что мы появились на свет в результате случайности, так как тогда возникает ощущение, что все, существующее вокруг нас, могло бы быть другим, но без нас. И это неприятная мысль, что нас – избави, Боже, – вообще могло бы не быть. Но, может быть, тогда был бы кто-то другой или вообще никого. Я думаю, вполне возможно, что в космосе существует множество планетных систем с солнцами в центре, с биосферой без разумных существ, то есть таких, которые могут сконструировать техносферу.
– Еще один пример – популярная теория Геи. Если следовать этой теории, можно увидеть мир в совершенно новом свете. Все, что окружает человека, имеет особую ценность, так как в определенном смысле является частью его самого. Жалеть кого-то другого – совершенно неразумный поступок, так как в результате мы причиняем себе только вред. Это звучит довольно наивно. Теория, которая хочет продемонстрировать нам особую ценность всей жизни, и одновременно соглашается с исчезновением целых видов, кажется немного странной. Но, несмотря на это, она находит восторженных приверженцев. Что можно об этом сказать?
– Вы не найдете во мне явного противника всей гипотезы Геи. Я всегда стараюсь смотреть на вещи с определенной пространственной и временной дистанции. Итак, у нас есть планета Земля диаметром 12 000 километров. При этом биосфера такая тонкая, что ее можно сравнить со стенкой мыльного пузыря. Ее толщина составляет около 10 километров. Конечно, существуют разные стабилизирующиеся системы. Например, происходит чрезмерное потепление Мирового океана, из пара образуются облака, и альбедо[57] планеты увеличивается. Это опять-таки замедляет повышение температуры, что похоже на принцип термостата в наших отопительных приборах. Но нельзя сказать, что окончательно доказано, что в жизненном пространстве Земли не будет катастроф. Такие катастрофы были и будут. Нельзя забывать о том, что примерно каждые 30–40 миллионов лет на Землю падает достаточно большой метеорит, что приводит к массовому уничтожению. Благодаря одному американскому фильму[58] много говорили о вымирании динозавров. Неоднократно повторяли примерно следующее: относительно небольшие колебания солнечного излучения или другие факторы привели к вымиранию почти всех видов в течение нескольких десятков миллионов лет. Но жизнь до такой степени стойкая, что одна ветвь всегда выживает. И если бы не было этого метеорита, млекопитающие, наверное, не получили бы преимущество, и не возникли бы человекообразные вместе с нами, людьми. Но знаете, говорят либо о космической рулетке, либо о провидении. Лично я выступаю не за провидение, но это дело вкуса.
– В каких отношениях, по вашему мнению, находятся этика и естественные науки? Как бы вы охарактеризовали эти отношения?
– А при чем здесь этика?
– Существуют философы, которые говорят, что естественные науки и этика – это два разных способа рассмотрения проблемы и поиска ее решения. Но можно также сказать, что их сходство заключается в рациональности, которая и в том и в другом случае необходима для изучения определенной проблемы.
– По-моему, из точных научных дисциплин, таких как физика, математика или геология, вообще нельзя делать аксиологические выводы, это просто невозможно. Это выглядит примерно так: можно собрать автомобиль, можно купить автомобиль, можно сесть за руль, но вопрос о том, поедете ли вы на этой машине в Краков к некоему Станиславу Лему или броситесь в пропасть, это, я бы сказал, вопрос системы ценностей, на который вы не можете ответить однозначно. Ни один конструктор автомобиля не даст вам ответ. Конечно, он, наверное, станет отговаривать вас от совершения самоубийства вместе с автомобилем, но это просто слова, которые не поддаются аргументированным доказательствам. Еще Карнап и его неопозитивисты говорили, что хотя и можно сказать: «О, вот был живой человек, а сейчас перед нами мертвое тело!», но не существует научно-эмпирической возможности доказать, что превратить человека в труп – это плохо. Это одна сторона.
А другая такова: традиционно считается, что этике нужна опора, даже больше, чем опора, скажем, фундаменты, религиозные законы, догмы. Но эти фундаменты не обязательно совпадают. В последнее время Ватикан в лице польского Папы пытается создать альянс с исламистскими радикалами, чтобы слегка атаковать Каирскую конференцию по народонаселению[59]. Но там в основном речь идет о последствиях сексуальной жизни, в точном соответствии со словами: «Crescite et multiplicamini»[60] – то есть люди могут безгранично размножаться, потому что таков божественный закон. Да, существует большая разница между Кораном и Евангелием, так как, согласно Корану, мужчина может иметь много жен, и поэтому он может размножаться и распространять свой геном быстрее, чем в христианстве, особенно в римско-католической церкви, где существует только возможность заключения моногамного брака. Это не совсем то же самое, но нельзя утверждать, что существует универсальная этика. Этика в общем недоказуема. Один польский философ[61], который сейчас живет в Англии, в своем эссе «Этика без кодекса» доказал на множестве конкретных примеров, что этика, которой мы в целом руководствуемся, взяла очень многое от евангельско-христианской этики. Она не только недоказуема, но и по большей части противоречива, потому что есть разные сложные, комплексные ситуации, где невозможно сказать, что можно или нужно действовать определенным образом. Напротив, эти «можно» и «нужно» могут быть лишь относительными.
В этике невозможно принимать решения так же просто, как, например, в арифметике: если, к примеру, здесь есть десять умирающих голодной смертью детей, а там – тридцать пожилых людей, которым угрожает эпидемия, то я не могу сказать, что я просто посчитаю количество живых и направлюсь туда, где возможно больше смертных случаев. Это нельзя решить таким примитивным образом. Одним словом, в этических вопросах нет арифметики, нет математических, автоматических, алгоритмических решений.
Но что же делать с учеными? Итак, ученые пожинают неприятные плоды того, что всегда дают нам больше свободы для самостоятельного решения. Например, сегодня мы уже знаем, что люди невольно повысили температуру Земли, то есть способствовали потеплению климата. Что нужно и можно сделать, чтобы остановить этот процесс, чтобы не допустить различных тепловых катастроф? Может быть, жара и засуха этого лета – это предзнаменование, этого мы не знаем. Но большинство ученых начинают верить в то, что действительно идет потепление климата и что необходимо как-то с этим бороться. В Германии сегодня предпринимаются попытки ввести ограничения скорости на автобанах, измерения концентрации азота и так далее и так далее. Существует бесконечное множество проблем разного рода, и у любого государства или группы государств есть свои интересы, которые не обязательно совпадают с интересами других; частично они даже сталкиваются друг с другом. Согласовать все это необыкновенно трудно, пока мы не имеем и намека на реально действующее мировое правительство или организацию. Всю слабость Соединенных Штатов мы не только увидели в последнее время на примере бывшей Югославии и Боснии, но наблюдаем и сейчас в Руанде и Сомали.
Люди, которые вообще не интересуются происходящими в мире событиями, – это только небольшая часть человечества. И внимание, как луч радара, всегда направляется в разные стороны. А, Сомали! Сейчас Сомали уже забыли. А, Руанда! Потом Руанду тоже забыли. А, сейчас есть Гаити, и сейчас у нас есть беженцы с Кубы, и еще то и это. Если посмотреть новости – я имею в виду прежде всего спутниковые программы, потому что моя спутниковая антенна принимает сигналы почти сорока каналов, – то возникает чувство, что эта несчастная Земля – страна катастроф, и что производство трупов, крови, горя, мертвых маленьких детей и так далее – основной лейтмотив всех событий на Земле. Вопрос о том, как можно создать мировое правительство, – это вопрос без ответа. Я не верю в то, что такое мировое правительство будет создано. Сегодня в газете «Интернэшнл геральд» я прочел, что американцы хотят каким-то образом переплавить свои запасы плутония, сотни и сотни тонн, и, Бог знает как, спрятать под землей. На это русские возражают, что плутоний – общее достояние и что ничего более ценного сейчас нет. Вот, пожалуйста: мы сейчас ищем решение этого вопроса, не думая о двусторонней атомной войне.
Недавно я написал в фельетоне, опубликованном в католическом еженедельнике в Кракове, что если с помощью контрабандистов распространять плутоний в совсем малых количествах, вероятность вымогательства со стороны террористов, которые могут действовать с ведома какого-нибудь государства, в следующем году будет постепенно увеличиваться, пока однажды не достигнет критической величины. Это значит, что наступит момент, когда террористы пойдут на шантаж. Нельзя сказать, будет ли за этим шантажом действительно стоять ядерное оружие, или это окажется лишь пустой угрозой.
Но ведь такая возможность существует уже сейчас? Один мой близкий друг спросил меня: «Почему ты написал так много неприятных и страшных вещей?» Я ответил: «Только потому, что думаю, что по теории вероятности, которой я очень доверяю, эта вероятность будет постепенно расти». Нельзя предотвратить потенциальный ядерный мировой пожар только с помощью всевозможных призывов, я, по крайней мере, не вижу ни одного шанса. Кроме того, есть еще русские, которые говорят: у нас ничего не украли, у нас все в порядке. Но весьма вероятно, что эти бомбы взорвутся в России не в первую очередь.
Словом, мы живем, как я уже сказал вначале, в переходную эпоху, и будущее кажется еще мрачнее, чем раньше. Потому что раньше мы знали только, что атомная война между двумя великими державами или будет, или нет. А сейчас мы знаем еще меньше. Баланс стал отрицательным. Изучая информацию, которой мы располагаем, можно убедиться, что с точки зрения эсхатологии[62] мы знаем еще меньше, чем знали раньше.
– Вы рассказали о том, как разумному решению проблем препятствует влияние личных интересов. Вы оцениваете шансы на решение наших проблем пессимистически или оптимистически?
– Начну издалека. В Германии существует так называемый Польский институт господина Дедециуса. Этот институт примерно пять лет назад хотел издать книгу под названием «Немцы и поляки», и меня тоже попросили написать статью. Тогда я закончил свою статью словами: «Германия будет крепостью, осаждаемой бедняками всего мира, а Польша станет колонией Ватикана». Вот так! А одна дама из редакции Польского института без моего согласия озаглавила мое сочинение: «Пессимистические взгляды одного футуролога». Я вовсе не думал, что это был пессимистический взгляд, это был реалистичный взгляд, этого мнения я придерживаюсь и сегодня.
Итак, я хотел только сказать следующее: я не знаю, произойдет ли глобальный конфликт, потому что, если бы я это знал, я со всеми своими знаниями сидел бы сейчас в золотом сейфе у американского президента. Этого я сказать не могу. Но я знаю, что так называемый научный прогресс увеличивает доступную людям степень свободы, то есть то, что раньше нельзя было сделать, сегодня становится возможным. Сто двадцать лет назад нельзя было доехать поездом из Бремена до Кракова, а сегодня можно. Но это имеет и свои неприятные последствия, не так ли? Раньше на человека только уличные грабители могли напасть, а сегодня может произойти катастрофа на железной дороге или даже авиакатастрофа. А когда самолет разбивается, это имеет печальные последствия. Шансов остаться в живых намного меньше, чем во время крушения поезда, а если человек находится на орбите, скажем, в отделяемом модуле – шансов меньше всего.
Такая степень свободы отражает только возможности. Оказалось, что для людей – для американцев, стало возможным за 25 миллиардов тогдашних долларов высадиться на Луне. Надо признать – это было только соревнованием во времена холодной войны. Восемнадцатый, девятнадцатый и двадцатый полеты на Луну вообще не состоялись; после 1970-х все закончилось, потому что уже было доказано: мы, американцы, побывали на Луне, русские не долетели, значит, они проиграли в этом соревновании. И точка! В принципе это не стало большим прогрессом в науке, а только значительным техническим достижением. И принесло нам мало практической пользы на Земле. Сегодня НАСА мечтает о полете на Марс.
Таким образом, степень свободы увеличивается, но одновременно возрастает и наша ответственность за это, хотим мы этого или нет. Теоретически должен наступить конец демографического взрыва. Должно установиться равновесие между смертностью и рождаемостью. Будет рождаться столько же людей, сколько умирает. Но я не знаю, произойдет ли это за счет того, что миллионы и миллионы умрут от болезней и голода в детском возрасте. Завтра мне предстоит вступить в спор на эту тему с польским епископом. Я не знаю, что думает епископ, но точно знаю, что он может сказать, потому что он будет повторять все, сказанное Папой Римским. Но над моей совестью никто не властен, это, так сказать, моя вотчина. И моя совесть говорит, что бедность и несчастья людей нужно свести к минимуму. Но доказать это научно я не могу. Основное различие между мной и Папой, с которым я лично знаком много лет[63], только в следующем: он верит в то, что мы находимся здесь только как на промежуточной станции бытия, а потом начнется вечная жизнь. Я в эту трансцендентную вечность, конечно, не верю. Можно быть уверенным только в том, что мы находимся здесь. Но что произойдет потом, после смерти? Я очень сомневаюсь, что там нас ждет награда.
Итак, данная степень свободы означает, что у нас есть возможности, но это не значит, что мы действительно используем все их правильно. У меня нет ни малейшего сомнения: все, что я скажу на польском телевидении о демографическом взрыве, ни в коей мере не повлияет на то, что произойдет в действительности. Можно только говорить то, что думаешь. В этом основное отличие сегодняшней ситуации в Польше от той, которая была десять или одиннадцать лет назад. Тогда у меня был, так сказать, закрыт рот, мне было запрещено говорить по телевидению нечто подобное. Сейчас у меня есть такая возможность, но было бы иллюзией надеяться извлечь из этого пользу для себя.
Теоретически, наверное, можно через несколько десятилетий с помощью контрацептивов ограничить численность населения двумя миллиардами, а потом, может быть, одним, – но, знаете, мне задают вопросы не для того, чтобы я рассказывал сказки; как сказал Витгенштейн, о чем нельзя говорить, нужно молчать.
– Вы изобразили мораль, в которой нет и не может быть ничего, похожего на этическое учение. Что можно сказать в таком случае о проблеме разумного образа жизни?
– Видите ли, я не знаю, что должна представлять собой научная этика. Я разделяю мнение Шопенгауэра, где присутствует определенный минимализм. Если человек не болен, не очень несчастен и не совсем одинок и так далее, и так далее, то в его жизни все в порядке. А хочет ли он, кроме этого, бесконечно есть фруктовое мороженое, купаться в сливках или отправиться куда-нибудь на далекие континенты в немецкой или не немецкой подводной лодке – этот вопрос остается открытым. Меня интересуют книги, а другие люди интересуются другими вещами. Сейчас в Польше все интересуются деньгами. Как быстро разбогатеть? Польша заразилась так называемым капитализмом.
Но что такое, собственно, научная этика? Прошлым летом у меня был в гостях один философ из Эссена, который сказал мне, что не ест мясо высших животных. Я, конечно, не стал спрашивать, причисляет ли он кроликов или свиней к высшим животным. Боюсь, что свинина, по всей вероятности, уже запрещена, потому что сегодня ведутся разговоры о пересадке людям сердец свиней. Но нам нужна пища, мы так устроены.
Когда я был немного моложе, я не очень хорошо относился к паукам, но потом прочел книгу «Жизнь пауков». Она произвела на меня такое впечатление, что с тех пор я стараюсь по возможности никогда не причинять зла паукам. Но это не касается мух, мошек, комаров и большого количества других насекомых. Но я не вегетарианец. Последовательный вегетарианец не должен также носить кожаную обувь. Нужно следить, чтобы жизнь не превратилась в своеобразный невроз, поэтому так тоже нельзя поступать. В буддизме мне особенно нравится уважение к любой жизни, и с годами я все острее чувствую жизнь не только других людей, но и других существ, в том числе зверей и так далее. Но это не имеет логической связи со всей совокупностью наук, ради Бога.
Недавно я прочитал такой вопрос: «Если бы доктор Менгеле провел в Аушвице эксперименты на людях, результаты которых сегодня могли бы положительно повлиять на решение медицинских проблем, как нам следовало бы поступить в этой ситуации?» Ответ автора гласил: «Нет, результаты таких экспериментов на людях, таких бесчеловечных экспериментов ни в коем случае нельзя использовать». Должен сказать, что я не разделяю это мнение. Похожая история: говорят, что одному нашему известнейшему кардиохирургу предложили миллионную сумму, и он мог бы спасти в Польше многих людей с больным сердцем. Но так как потом якобы выяснилось, что это были так называемые «грязные деньги», которые хотели отмыть через кардиохирургию, он отказался. С этим решением я тоже не согласен. Если речь идет о человеческой жизни, то деньги, если они уже есть, надо использовать независимо от того, грязные они или нет. Это просто несопоставимые вещи. Я же еще не знаю, что значит «грязные деньги». Это выражение многозначно, не правда ли? Каким образом они появились? Этого мы не знаем. И если попытаться мысленно вернуться назад, то, наверное, лучше оставаться в грязи, в совершеннейшем неведении. Но это мое личное мнение, и оно не является результатом чисто логических процессов.
В сложных ситуациях нет однозначного решения, с которым так или иначе согласились бы все, у кого вообще есть так называемая совесть или моральная способность принимать решения. К сожалению, у разных людей очень разные мнения. Я считаю, что человеческая жизнь, если она уже есть, имеет особую ценность. Но тогда возникает вопрос, актуальный не только для римско-католической церкви: когда начинается человеческая жизнь? Когда есть яйцеклетка и сперматозоид, который еще не проник в яйцеклетку? Или возможность появления жизни решена, когда Бог нетерпеливо ждет с душой, которую он туда вложит? Я не могу согласиться с этим. Я бы сказал, что человеческое существо появляется, когда у эмбриона формируется нервная система. Тогда можно уже говорить о человеческой жизни. Но это опять-таки моя личная точка зрения, которую я не могу доказать.
– Чем для вас обоснован тот факт, если для вас это факт, что целесообразнее интересоваться философией, чем заниматься ею профессионально? Существует ли мотивация к философии?
– Думаю, что нет. Никакого принуждения, разумеется, нет. Конечно, нам десятилетиями навязывали так называемый марксистский диалектический материализм, который я лично всегда считал полной бессмыслицей. Но ведь философствованием занимаются обычно те, кому это нравится. Это же очень просто. Есть вещи, которые нам нравятся, которые нравятся некоторым людям, а другим как раз нет. Конечно, существует, скажем, невольная и неосознанная философия, потому что каждый каким-то образом движется в потоке жизни. Мы постоянно вынуждены принимать разные решения. Это не зависит от нашего желания. Это надо делать, вы согласны? Надо ходить в школу и так далее, но не обязательно еще и обучаться в университете!
Не могу сказать, что я охотно и сознательно занимался бы философией, если бы мне однажды пришла в голову мысль: «С завтрашнего дня я начинаю заниматься философией». Напротив, я прочитал за свою жизнь тысячи книг, среди которых к чисто философским относятся только история философии, «Человеческое знание и его ограниченность» Бертрана Рассела, «Трактат о логике и философии» Витгенштейна и его «Философские заметки». Как известно, большинство философов создали только первые тома своих основных произведений, так называемые основные рубежи, а вторые – уже нет.
Лично я нахожусь в очень неловком, затруднительном положении, потому что на моем письменном столе лежат целые кипы разных научных журналов из Англии, Франции, России и Бог знает откуда, на всех языках, которыми я владею. Но я еще не нашел времени прочитать их. Должен сказать, что я всегда открываю их с определенным страхом, втайне надеясь, что в данной отрасли науки не случилось ничего нового, не произошел переворот, и мне не придется снова переучиваться или изучать что-то новое, так как это очень утомительно для стареющего ума. Но делать это приходится. Мы живем в такое время, когда нужно постоянно переучиваться, и то, что я сегодня считаю истиной, через неделю или через год оказывается совершенно неважным, так как в науке, даже в самых точных науках, также существует мода, которая проходит, как мода на женские мини-юбки. Если я сейчас и занимаюсь философией, то только потому, что чувствую, что в багаже моих знаний существует пробел, который я должен восполнить с помощью философских размышлений.
Вот, к примеру, азотная кислота дает надежный способ отличить настоящее золото от фальшивого. Но правильно ли я поступаю, когда читаю одного философа и не читаю другого? Мне помогает не что иное, как мое – то, что я сейчас скажу, очень банально, – чутье. То есть, прочитав одну страницу любого научного трактата, я знаю, что собой представляет автор и стоит ли читать дальше. Но это чисто субъективный метод. Это не передается. Я никому не могу передать этот талант, назовем его так.
В моем творчестве есть определенная часть философствования. Я знаю, что в Соединенных Штатах весьма положительные отзывы, обсуждения и рецензии на мои книги отталкивают американских читателей, если в них говорится, что мои повествования немного с философским смыслом, так как большинство людей боится философствования. Для них оно словно джунгли, а им хочется просто легкой пищи – а я люблю философию. Но это дело вкуса. В детстве я не любил шпинат, не люблю его и сейчас. Это различия, которые есть в жизни, и я могу сказать: общее количество массы вещей и феноменов, которые я считаю неприемлемыми и неприятными, намного больше общего количества массы, содержащей вещи и процессы, которые я оцениваю положительно. Но почему это так и как отделить две массы друг от друга, очень трудно объяснить. Для этого мне придется сидеть с вами еще 10–12 часов. Надеюсь, до этого не дойдет.
Универсальность мира Достоевского (интервью)
Збигнев Подгужец[64]: Из многих ваших публикаций следует, что автор «Братьев Карамазовых» вам особенно близок. По случаю 150-й годовщины со дня рождения великого писателя хотел бы, чтобы вы раскрыли эту тему. Начнем с важнейшего: чем для вас является Достоевский?
Станислав Лем: Достоевский принадлежит, на мой взгляд, к тем немногочисленным писателям, от влияния которых невозможно уйти. Никогда человек не выберется из круга впечатлений, вызванных чтением его произведений, так как невозможно превозмочь могущество личности Достоевского. Как читатель я начал знакомство с ним с «Преступления и наказания». Было это еще в гимназии. Потом пришли другие романы и рассказы. Я читал их неоднократно, но с каждым разом воспринимал по-другому. Мое отношение к его произведениям менялось – это понятно – по мере того, как менялся я сам. Достоевский неустанно рос в моих глазах. Сегодня он представляет для меня редкий пример писателя, мировоззрение которого выдержало испытание временем, абсолютно не устаревая. Достоевский для меня необычайно актуален, а его творчество носит все признаки той кислоты, которой проверяют металл, чтобы убедиться – золото ли это. Мне близок способ видения Достоевского Томасом Манном, чьи произведения как последнего великого европейского эпика я использовал с целью экземплификации отдельных теоретических вопросов в «Философии случая». Манн как бы кружил поодаль Достоевского. Вместо микроскопических снимков его жизни, которая его волновала, представляла для него загадку, он сделал контур его образа. С расстояния другого культурного круга Манн острее видел то, что в Достоевском было общечеловеческим. Кроме того, Манн с огромной деликатностью касался болезненных, щекотливых подробностей жизни Достоевского. Так называемую сексуальную извращенность Достоевского он считал, например, мыслительной манией. Так же, как и Достоевский, Манн относился к писательству. Он считал его призванием, миссией.
– Почему в «Философии случая» вы не использовали в качестве примеров, подтверждающих тезисы из теории эмпирии литературного произведения, именно произведения Достоевского?
– Это было сделано сознательно. Я опасался столкновения с книгами Достоевского. Мне представляется, что творчество автора «Преступления и наказания» вообще невозможно проанализировать. Оно не поддается никаким умозаключениям. На нем легко «обломать» любой метод подхода к литературному произведению. Желая доказать истинность своих тезисов в области литературоведения, я не мог позволить себе рисковать. Поэтому было безопаснее заняться анализом книг Томаса Манна, чем Достоевского.
– Какая-нибудь ваша работа возникла непосредственно под влиянием чтения Достоевского?
– В целом, пожалуй, ни одна. Но ряд книг я писал, обдумывая тексты Достоевского или же его писательский метод. Конкретно: некоторые сцены в «Расследовании» возникли под влиянием словесных стычек между Раскольниковым и следователем Порфирием. Ибо я не нашел в мировой литературе других текстов, которые были бы сравнимы с «Преступлением и наказанием» в том, что касается вивисекции характеров противников. Конечно, не может быть и речи о том, чтобы считать Достоевского ответственным за мое «Расследование». При написании этой книги – подчеркиваю – я был лишь как бы его учеником.
– В чем, по вашему мнению, заключается величие Достоевского?
– Значение Достоевского для мировой литературы можно сравнить лишь со значением Коперника в астрономии. Достоевский в прозе сделал примерно то же, что Коперник в науке о вселенной. Сокрушая окаменевшую поэтику и вводя в пространство литературного произведения враждебный хор рассказчиков, демонстрирующих неокончательность всяческого знания о человеческих делах, Достоевский совершил настоящую революцию. Писатель избегает, как может, авторских окончательных, высших характерологических определений своих героев. Даже когда он говорит от себя, он любой ценой уходит от «авторского всезнания» – этого типичного для прозы XIX века подхода, заменяя его именно методом множественных, часто противоречивых отношений. Отбирая у писателя право на всезнание, он занял позицию, которой соответствует «неопределенность измерения» – а это признано непреодолимым в физике. При этом Достоевский вовсе не уменьшил количества того, что можно сказать о человеческих делах, а даже наоборот – увеличил. Величие Достоевского заключается в том, что сделанное им невозможно преступить. Никто до сих пор не вышел за пределы его опыта. Во всяком случае. я не знаю таких авторов. Можно говорить лишь о подражаниях. Потому что многие современные писатели пользуются предложенным Достоевским методом работы. Я имею в виду именно это представление несвязных версий мира, видимого глазами разных персонажей, что является – подчеркиваю – поразительным открытием, совершенным Достоевским.
– А вы не думаете, что оно было случайным, результатом той поспешности, к которой Достоевского вынуждали обстоятельства?
– Ни в коем случае. Недосказанности, умолчания, являющиеся определенными и точными элементами конструктивной системы, невозможно объяснить тем, что Достоевский жил и работал в вечной спешке. Обычно результатом спешки является попросту небрежность, упорное повторение стилистических фигур и фатальные провалы в характеристиках персонажей. Это, конечно, не наблюдается у Достоевского. Мастерская Достоевского всегда меня интересовала. Несколько лет назад мне посчастливилось приобрести том «Литературного наследия» с материалами о работе Достоевского над романом «Подросток». Достаточно увидеть эти документы – и распространенная версия, что Достоевский писал необычайно быстро и очень небрежно, подгоняемый жизненными обстоятельствами, – попросту рушится. Оказывается, Достоевский был чрезвычайно озабочен окончательной формой каждого предложения, которые он написал. Свидетельствуют об этом фотокопии, приложенные к упомянутому изданию. Объем работы, вкладываемый им в произведения, весьма внушительный. Этот вопрос следует рассматривать на более высоком уровне, а не только на примерах описания персонажей или конструирования действия. И тогда оказывается, что в своем творчестве Достоевский руководствовался принципами антирационализма.
– Чем близок вам Достоевский?
– Прежде всего, методом своей работы. Мне кажется, он всегда приступал к написанию лишь с общим контуром плана произведения, и в процессе работы первоначальный замысел модифицировался, – благодаря этому его книгам присуще то, что я назвал бы углубленной перспективой. При таком подходе его книги наверняка втягивали в себя, как в водоворот, все новые проблемы. Создаваемое произведение как бы само требовало неустанных исправлений первоначального плана. Такой процесс в кибернетике называют самоорганизацией. Именно начиная с Достоевского, литературный материал можно сравнивать с разрастающейся живой тканью. Конечно, я последний, кто стал бы сравнивать себя с Достоевским. Тем не менее в начале своей литературной работы меня приводила в бешенство мысль о том, что можно написать что-либо, руководствуясь заранее установленным планом. Только размышляя о творчестве Достоевского, я понял, что установка такого рода основана на ложных предпосылках.
– А в чем, по вашему мнению, заключается актуальность Достоевского?
– Прежде всего в том, что и сегодня нет, пожалуй, таких жизненных ситуаций, которым не соответствовали бы подходящие ситуации в текстах Достоевского.
– А что у Достоевского вам представляется непонятным?
– Тот феномен, что он, будучи столь русским писателем, одновременно является писателем столь универсально-мировым. Никто не может объяснить это достаточно убедительно. Ведь если бы Достоевский лишь впитал эту душную и выморочную атмосферу царизма, если бы сконцентрировал ее в себе, насколько это возможно, и позволил ей управлять своим пером, то его произведения могли не найти понимания у иностранцев. Однако Достоевский, оставаясь до мозга костей русским писателем, свободно проникает сквозь все границы и времена. Как это объяснить?
– Вы удовлетворены переводами Достоевского на польский язык?
– От русских друзей, знающих наш язык, я слышал, что Достоевского в оригинале нельзя даже сравнивать с Достоевским в польских переводах. Впрочем, я убедился в этом сам, читая «Подростка» по-русски. Наверное, этот писатель еще ждет своего польского конгениального переводчика. Человека, работу которого над Достоевским можно было бы сравнить с усилиями Бой-Желенского в области усвоения в Польше французской литературы.
– Чем вы объясняете рост интереса к творчеству Достоевского, наблюдаемый во всем мире в последние годы?
– Прежде всего тем, что читателей в высшей степени не удовлетворяют эксперименты современной прозы. Мне представляется, что антироман, например, почти полностью отказываясь от функций, благодаря которым литература завоевала себе величие, очень многое отнимает у людей, взамен давая очень мало. Я говорю о локализации оригинальности в области самого творческого метода, благодаря чему эксперимент идет в направлении чистой игры, а не познаваемости мира. Его откровения не являются эквивалентом релятивизма в физике, потому что физический релятивизм не заключается в том, чтобы подвергать сомнению саму физику. Поэтому ничего удивительного, что в такой ситуации чувствуется потребность возвращения к источникам. А таким источником, представляющим кульминацию наиболее активного интереса к делам человеческим, является именно творчество Достоевского. Но это лишь одна из причин сегодняшнего интереса к этому писателю. Конечно, их больше. Кто знает, не играет ли определенной роли в ренессансе Достоевского душевная «раздвоенность» автора «Бесов». Реакционные политические и религиозные взгляды Достоевского как человека в его произведениях вытеснены прогрессивностью писательской гениальности. Столкновение взглядов, эта борьба позиций для наших времен – «разорванных» подобно Достоевскому – необычайно характерна. Быть может, именно поэтому его книги так близки современному человеку.
– Вы считаете Достоевского философом?
– Скорее, вдохновителем философов. Потому что Достоевский никогда не давал окончательных ответов на те вопросы, которые он ставил. Однако ставил он их таким образом, что невозможно оставить их без ответа. А ведь поиском ответов занимаются как раз философы. То, что они аннексировали творчество Достоевского, – это результат особенного интереса к человеку, что характерно для нашего времени.
– Что вы думаете об экранизациях произведений Достоевского?
– Что ж, я бы сказал, что свидетельствуют они лишь о величии этого писателя. Нашествие театра и кино не справилось с ними, не смогло их уничтожить. А уничтожают таким способом почти всех. Только Достоевского не удалось. Я видел как-то французскую версию «Преступления и наказания», в которой действие было лишено реалий России и перенесено в современность, но тем не менее сохраняло какие-то ощущения оригинала. Это является еще одним доказательством универсальности Достоевского.
II Станислав Лем размышляет
От эргономики до этики
На собственной шкуре я познал все основные типы общественного устройства нашего века: бедный капитализм довоенной Польши, гитлеризм, сталинизм в СССР, его разновидность в Польше, «оттепель» и наступившие за ней «заморозки», кризис, взрыв «Солидарности», ее упадок и начало «перестройки». Таким образом, я являюсь «учеником многих эпох»: и хотя сам не осознавал, но именно это оставило след в большинстве моих книг как результат работы воображения, ориентированного СОЦИОЛОГИЧЕСКИ. Научная фантастика оказалась для этого неплохим объектом. С помощью ее я показывал, что происходит, когда индивидуумов «приспосабливают к обществу», и наоборот – когда «общество приспосабливают к индивидуумам». Как можно ликвидировать полицейский надзор и всяческие наказания, не ввергая тем самым общество в состояние анархии? Я спрашивал – своими произведениями, – является ли человек существом, способным постоянно совершенствоваться под влиянием культуры. При каких условиях проявляются «темные стороны» человечества? Куда ведет непрерывное увеличение благ, их повсеместность, вплоть до бесплатного распространения, – не ведут ли эти «утопии пресыщения» к удивительным вариантам ада, который становится «электронной пещерной эпохой»: ведь автоматизированное окружение, исполняя любые капризы людей, делает их ленивыми, оглупляет и приводит либо к отупению, либо разжигает в них огонь бессильной агрессии, так как уже ничто, кроме уничтожения накопленного неимоверного богатства, не может стать объектом желаний и грез.
Мой писательский метод заключается в отсутствии метода: я будто бы приступаю к игре, причем даже не к игре с уже установленными правилами, как шахматы, а к такой игре, правила которой возникают в процессе написания – таким образом взаимосвязь изображаемого мира с реальным не была ПРЕДНАМЕРЕННОЙ. Но какой-то все-таки была всегда. Оглядываясь назад на те 35 или 36 книг, которые я написал, вижу, что отношение моих «миров» к действительности почти всегда отличалось реализмом и рационализмом. Мой реализм – это проблемы, которые или уже являются частью нашей действительности (и преимущественно это те проблемы, которые нас беспокоят), или проблемы, возникновение которых в будущем я считал возможным или даже вероятным. (Возникает вопрос: а откуда, мол, я могу знать, какие проблемы станут реальными, если их пока не существует? Могу только ответить, что к настоящему времени многие из таких «проблемных предсказаний» уже реализовались, то есть «я имел хороший нюх», ибо главным источником вдохновения для меня была и остается область точных наук.)
А рационализм означает, что я не ввожу в свои сюжеты сверхъестественные элементы или, говоря яснее и проще: не ввожу ничего такого, во что сам не мог бы поверить. Пишу ли я с дидактической целью? Это может показаться забавным, но дидактическая цель направлена не только на читателей, но и на меня самого. Это проще всего можно показать на примере небеллетристического произведения, каковым является «Сумма технологии». Я писал ее в 1962–63 годах, когда о футурологии никто не слышал, и писал из любопытства: каким может быть будущее вплоть до той границы, которую позже обозначил как «понятийный горизонт эпохи». Я хотел экстраполировать имеющиеся знания настолько далеко, насколько это мне казалось возможным. Основное направление, или вероятность избранной стратегии, через 26 лет оказалось верным, но здесь я хочу подчеркнуть, что «Сумма» была ПОИСКОМ, а после написания стала НАХОДКОЙ (различных допущений, предположений, мысленных экспериментов), и что заранее о таком содержании я почти ничего не знал.
В свою очередь моя «Философия случая» (1968) появилась в результате того, что меня удивлял разброс интерпретаций, прочтений, критических суждений в различных языковых и культурных кругах. А еще более удивительным было для меня то, что даже в границах одной культуры и одного языка появлялись рецензии диаметрально противоположные. Когда я спрашивал об этом литературоведов, то они не восприняли всерьез мое удивление и дилеммы. Видя, что ничего от них не добьюсь, я в течение года совершенствовался в теории вопроса, после чего сел и написал два тома, чтобы СЕБЕ объяснить, чем является литературное произведение, чем МОЖЕТ быть и почему восприятие бывает сначала «колебательное», «неустойчивое» и только потом стабилизируется. Это было очень похоже на динамику естественной (дарвиновской) эволюции видов. Однако, поскольку перед написанием «Философии» я этого не знал, правильно сказать, что я объяснял СЕБЕ, а при случае будущим читателям. (Nota bene литературоведам с гуманитарным образованием не по вкусу такие понятия, как: «стохастичность», «эргодичность», кривая нормального распределения Гаусса, кривой Пуассона и т. п. Зато гуманитарии преклоняются перед модой: структурализм, постмодернизм, «деконструктивизм» Дерриды не имеют ничего общего с методами эмпиризма или естественных наук, и потому между моей «Философией» и гуманитарностью была и остается непреодолимая пропасть). Сейчас я переписал второй том этой книги, с первым разделом «Границы роста культуры», поскольку после шести лет пребывания на Западе я увидел опасности для развития культуры, вызванные избытком предлагаемых сочинений, тотальной коммерциализацией (рынком) спроса и предложения, а также признаками вырождения в области так называемой «массовой культуры» в государствах, создающих «цивилизацию потребительской вседозволенности». Таким образом, начиная писать, я, как правило, не знал, куда это писательство заведет, и, говоря о результатах «игры» С СОБОЙ, честно говоря, о читателях не думал. Может, я рассчитывал на то, что проблемы, которые увлекают МЕНЯ, заинтересуют и других.
Следует добавить, что между мной и читателями стоял цензор. Мой первый роман, «Больница Преображения», о судьбах психиатрической больницы в Польше во время оккупации, написанный в 1948 году, был опубликован только в 1955 году, а в промежутке я был сначала принят, а затем выкинут из Союза писателей (ибо я не имел ни одной изданной книги). Я не был слепым, и времена «сталинизма» мне вовсе не нравились, но для собственной пользы я говорил себе: я уцелел среди множества военных опасностей, и желал только одного – НАДЕЖДЫ на лучшее время. И сегодня мы ПЛАТИМ за социальные перемены, которые через 20–30 лет дадут прекрасный урожай свободы, всеобщего благосостояния, расцвета науки и т. п.
Я иногда слышу и читаю, что от написания книг современной тематики, таких как «Больница Преображения», я ушел на территорию фантастики, чтобы избежать цензора. Не считаю, что я прятался в фантастике как в кукурузе. Доказательством является моя первая, наивная книжка «Человек с Марса» 1946 года, когда у нас ничего не было известно о социалистическом реализме. Писатель, используя только современную тематику, имеет пространство сюжетных маневров, заданное «граничными условиями» этой современности. (Разумеется, можно писать неправду о современности, но это меня не привлекало). Писатель в жанре НФ, кроме сюжета, должен построить мир, в котором этот сюжет развивается: это дает поле для экспериментирования, в чем – видимо – я всегда НУЖДАЛСЯ. Таким образом, во-первых, «мои миры» были, как правило, отклонены от реального мира в сторону разнообразных «преувеличений» всевозможных явлений и их зарождений, УЖЕ таящихся в действительности, и, во-вторых, я использовал средства и декорации фантастики всегда НАТУРАЛИСТИЧНО для изображения – «с проверкой на прототипах» – различных общественных ситуаций, влияния новых открытий на общественную стабильность и т. п. Знаю, что звучит это так, словно бы я писал какие-то социально-философские трактаты, наполненные очень абстрактными гипотезами, но тут я опускаю (ибо вынужден) то, что занимался я этими ИГРАМИ как одним из видов РАЗВЛЕЧЕНИЙ – серьезно, полусерьезно, иронично и т. п.
Имела ли здесь место цель ПОЗНАНИЯ? Безусловно, да, но только из-за того, что такими, а не иными были мои взгляды, мои интересы: я предпочитал читать Стива Хокинга, а не Айзека Азимова. Я писал то, что получалось, что хотел, и, возможно, даже должен был написать. Я допускаю, что написал «Диалоги» – в то время я даже не мог предположить, что получу шанс на публикацию, – поскольку кровавые «ошибки и искажения», ведущие от великих идеалов к массовым преступлениям, волновали меня. Там я высказывал свое твердое убеждение, что МОЖНО построить лучший мир, только требует он проб и ошибок, потому что ТАКИМ всегда был путь человеческого познания. Без человеческих жертв мы не могли бы научиться летать, а построить «лучший мир» несравнимо трудней, чем летающую машину.
Почему почти вся американская «научная» фантастика антинаучна, как бы с точки зрения реальности «отклонена» в сторону, противоположную моей – именно в сторону иррационализма, – не знаю. Сказать, что «с жиру бесятся»[65] – это слишком мало для объяснения. Эта все еще усиливающаяся тенденция производства «телепатических вторжений», «галактических войн», нападений вампиров, построения сюжетов по схеме «они нас» или «мы их» завоевываем – казалась мне всегда сужением возможностей, какие дает научная фантастика. Кроме того, мне никогда даже не приходило в голову серьезно показывать нечеловеческие существа с точки зрения их «психической сущности». Я считал бы это не имеющей законной силы узурпацией: мы люди и потому не можем НИЧЕГО знать о «сознании» других разумных созданий. Совокупность этих различий, вероятно, привела к тому, что американцы, и прежде всего коллеги по перу, терпеть меня не могли и, в конце концов, после ряда моих критических статей в прессе США лишили меня почетного членства в «Science Fiction & Fantasy Writers of America»[66] (при этом, чтобы еще было смешнее, Азимов написал, что Лем атакует американскую НФ по приказу своего коммунистического правительства).
Когда в фантастику вводится «всемогущество» при помощи МАГИИ, КОЛДОВСТВА, ЗАКЛЯТИЙ, ЧУДОВИЩ, заинтересованных главным образом в захвате планет и убийстве их жителей, – с печатных страниц, на мой взгляд, исчезает последняя частица ПОЗНАНИЯ: мы не узнаем абсолютно НИЧЕГО о существующем мире, а придуманный мир гораздо менее необычен, удивителен, фантастичен, чем реальный. Вирус СПИДа, битве которого с нашим видом я два года уделяю много внимания, намного более жуткий, чем все галактические чудовища, вместе взятые. Это в конце концов – вероятно – дело вкуса, но не только. Я не понимаю, откуда взялось повальное бегство от проблем нашего мира в фантастической литературе Запада. Ведь угроз, причем реальных, множество: климатических, экономических, технологических – разве их мало? Я могу только выразить свою беспомощность относительно этого эскапизма, которым руководствуются американцы.
В моих беллетристических «поучениях» и «прогнозах» всегда было много игры, иногда комической, даже когда речь шла о проблемах необычайно серьезных, – сегодня каждый может легко это увидеть. Потому что это были, например, такие вопросы, как отмена римского правила «mater semper certa est», утверждающего, что мать всегда ОДНА – в настоящее время законодатели разных государств по-разному оценивают такое достижение медицины, благодаря которому у ребенка могут быть две матери: та, чья яйцеклетка, то есть мать биологическая, и та, которая выносила плод вплоть до родов. Можно ли «нанимать» женщину, чтобы она выносила плод за другую? Некоторые говорят, что нет. Но если женщина сама НЕ может выносить плод, а хочет иметь собственного ребенка, то есть от собственной яйцеклетки? Вот дилемма. Сегодня их множество.
Когда-то я писал об отчаянной борьбе законодателей и юристов с исторически невероятными ситуациями – кто-то является «частично» естественным, а «частично» состоит из протезов, которые заменяют ему утраченные органы, но не может заплатить производителю, который в судебном порядке требует «возврата своей собственности»[67]. Еще я писал о том, что в некоей цивилизации, где генная инженерия делает возможным проектирование формы тела и разума, существует «Главный институт проектирования тела и психики» – ГИПРОТЕПС[68]. Когда я писал о таких вещах, не было еще ни «возможности двух матерей», ни «банков спермы лауреатов Нобелевской премии» (как в США), ни генной инженерии. Поэтому, чтобы придать некую живость этой сложной проблематике, я облачал ее в юмористические одеяния. И потому МОЖНО удовольствоваться только поверхностной комичностью, несмотря на то что речь идет о проблемах страшно серьезных. Более того: с каждым годом «чистая фантастичность» многих моих произведений начинает «заполнять и заселять» мир в результате ускорения развития науки вообще, а биологии и технологии манипулирования наследственностью в особенности. На самом деле, когда я писал, я никогда не думал, забавляясь написанным, что станут реальностью эти мои предполагаемые в далеком будущем ситуации – не что иное, как дилеммы, сильно запутанные в моральных антиномиях действия (антиномия действия – это такая противоречивость ситуации, когда любой выход оказывается в каком-то отношении НЕПРАВИЛЬНЫМ, а правильного нет). Поскольку же литературные рецензенты вообще не ориентируются в области развития знания, то, когда я говорил, что та или иная из моих фантазий «осуществилась», они считали, что я просто хвастаюсь. Я был скорее удивлен и поражен. Критики даже упрекали меня, что я жалуюсь на отсутствие «Лемографии». В самом деле, в Польше нет монографической и критической работы, охватывающей мое творчество. Это моя потеря, потому что неправда, будто бы писатель является наилучшим знатоком собственного труда[69].
«Производство ЗЛА» – как следствие ускорения «научного прогресса» – это вопрос сложный. Но вместе с тем он очень прост в сравнении с нашими требованиями: как мелиористы[70], мы хотели бы, чтобы плоды науки не были отравленными. Между тем эти плоды как орел и решка, аверс и реверс одной монеты: потенциальное «добро» и «зло» неразрывны. И единовременны. Благодаря изучению тактики битвы, которую вирус СПИДа ведет в человеческом организме, мы сможем принять участие в этой битве при помощи молекул препаратов, «скроенных» таким образом, чтобы расстроить поразительно точную, как бы «хитрую» стратегию вируса, не дать ему возможность «захватить власть» над клеточным механизмом, – и он бесславно погибнет, не причинив уже вреда. И это будет очень хорошо. Но достигнутое искусство «молекулярной кройки» сделает возможным синтез биологического микрооружия, быть может даже более опасного, чем вирус.
В 1979 году, когда об этом вирусе мы еще ничего не знали, я описал в «Осмотре на месте» последствия войны, которая велась «криптовоенными методами», то есть рассеиванием смертоносных вирусоподобных генов над территорией противника. И это стало бы фатальным, если учесть, что контролировать разоружение в масштабе «макро» (ракеты, самолеты, танки) намного проще, чем в масштабе «микро» (как определить, не работает ли другая сторона в подземных лабораториях над оружием, не видимым простым глазом, причем таким оружием, которое, в случае его применения, начнет убивать через 5 или 10 лет – именно на это способен вирус СПИДа?). Но можно ли отказаться от вирусологии? Безусловно, нет. И это типичная антиномия практического действия. Много ЗЛА происходит из-за «вовлечения» научных достижений в систему глобальных политических антагонизмов. Например, гонка вооружений с уже появляющимся «интеллектуальным оружием» и т. п. Но бывает зло и не зависимое от политических конфликтов. Взять хотя бы загрязнение жизненного пространства (биосферы) отходами производства. И наука здесь очень востребована, ибо делает возможным создание, как я их называю, технологий второго уровня, которые должны нивелировать (нейтрализовать, делать безопасными) отрицательные последствия функционирования производственно-энергетических технологий. Впрочем, ЗЛО, возникающее в результате развития науки, больше бросается в глаза, чем ДОБРО. Телевидение показывает нам искореженные при столкновении железнодорожные вагоны или обгоревший остов самолета, а значит – виноват Стефенсон или братья Райт. Но зато – многие миллионы людей, живущие благодаря медицине, которой удалось победить эпидемии, чуму, холеру, туберкулез, противодействовать гриппу и т. п., – эти миллионы ведь нам никто не показывает как «положительный результат» научного прогресса.
Следует подчеркнуть, что наука может только предложить нам новое решение старых проблем, но не может сама обеспечить внедрение в жизнь всего, что она открыла или изобрела. Между новшеством и его внедрением могут возникнуть непреодолимые экономические барьеры. Достижения в области электроники уже таковы, что практически через несколько лет появляются очередные поколения компьютеров, телевизоров (уже на жидких кристаллах, плоские, как картина, которые можно повесить на стену), технологии передачи информации, записи, хранения данных (например, при помощи лазеров), а самой большой проблемой для самых богатых является то, что бывшее последним словом техники 2–3 года назад и во что промышленность и заказчики инвестировали МИЛЛИАРДЫ, именно с чисто технической – достижение ЭФФЕКТИВНОСТИ – точки зрения следует выбросить на помойку. И это становится все более затратным, слишком дорогим даже для самых богатых. Поэтому разработчики должны работать так, чтобы «старый» продукт можно было как-то примирить с «новым».
Как рост земной популяции, так и ускорение темпа индустриальных изменений являются различными воплощениями ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО роста. Характеризуются они медленным стартом и ускорением, возрастающим в такой степени, что экстраполяция на следующее столетие показывает «бесконечно бо́льшую» численность жителей Земли или такую последовательность инновационных технореволюций, при которой одна революция сменяет другую в течение секунд. Безусловно, и то и другое одинаково невозможно. А относительно того, какие открытия и изобретения исторически появляются раньше, а какие позже – то можно сказать, что эту последовательность нам устанавливает сама Природа при помощи различного рода препятствий, которые необходимо преодолеть на данном этапе развития.
Я считаю – и мне представляется, что в этом вопросе я, пожалуй, одинок, – что овладение людьми «технологией», которую создала Природа в ходе биогенеза, то есть заимствование у явлений жизни БИОТЕХНОЛОГИИ, повлечет за собой такую глобальную революцию, последствия которой превзойдут как «механическую» революцию (век машин), так и «интеллектрическую» (век компьютеров). Возникнет «технобиосфера», способная к стабильному сосуществованию с биосферой. Но так как это можно счесть моими фантазиями, на этих словах остановлюсь. Сегодня неотложной задачей относительно ЗЛА, возникающего вследствие развития науки, является создание спасательных технологий, что требует активности специальных групп «экологического давления». Дополнение, которое «не окупится» ни одному из инвесторов, а «окупится» только человечеству, является задачей для всех. И эта задача труднейшая из возможных, ибо если действовать призваны «все», то, как правило, почти никто в отдельности не чувствует себя призванным.
Мы не располагаем энергией более чистой, чем атомная. Это нужно повторять, потому что экспертов, способных привести контраргументы, легко найдет каждый политик. Экспертов, «способных противопоставлять», можно найти для любого дела: как противников генной инженерии, строительства автострад, так и шире – дальнейшего развития моторизации, строительства плотин для водохранилищ, и даже есть эксперты, выступающие против всеобщей проверки на наличие вируса СПИДа, «потому что это было бы антидемократическим принуждением». Как будто некоторые обязательные прививки или получение школьного образования не являются «принуждением». Расширение и абсолютизация понятия «демократия» легко ведут к абсурдным требованиям. (В журнале, посвященном проблемам «освобождения женщин» в ФРГ, я видел анатомический разрез тела мужчины, которому во внутреннюю поверхность передней стенки брюшной полости была вживлена плацента с плодом. Это было «доказательством» того, что в принципе можно уравнять мужчин и женщин даже в вопросах беременности и вынашивания плода: роды заменило бы кесарево сечение «отце-матери». Думаю, что здесь можно воздержаться от комментариев.)
Закрытие всех атомных электростанций уже сейчас является частью политической программы партии «зеленых» в ФРГ, которая пользуется услугами экспертов (см. выше), утверждающих, что Федеративная Республика МОГЛА БЫ обойтись «без атома» и перейти на традиционную тепловую энергетику (ибо на наших географических широтах солнечная энергия слишком рассеяна, а энергия воды и ветра – недостаточна). Для богатой Германии это действительно осуществимо, но только для нее одной; если другие страны последуют этому примеру, то к 2100 году топливные ресурсы могут быть исчерпаны, не говоря уже о загрязнении атмосферы с непредсказуемыми последствиями. Можно ли на 100 % гарантировать безаварийность атомных электростанций? Нельзя. На 100 % нельзя гарантировать безопасность никакой деятельности.
Эйнштейн, один из наиболее миролюбиво настроенных людей, своим письмом Рузвельту дал толчок тому, что привело к созданию атомной бомбы. Он думал, что это соревнование с учеными Гитлера. Но следует ли принимать в расчет намерения? Это вопрос. Прогресс в медицине приводит к тому, что в реальной жизни возникают дилеммы с привкусом антиномий практического действия. Можно ли использовать нежизнеспособных новорожденных – имеется в виду рожденных без мозга (анэнцефалов), в качестве «склада запасных частей» для трансплантации людям, которые могут умереть без пересадки органов? Я считаю, что это должно быть разрешено. Римско-католическая церковь и этих анэнцефалов считает людьми, поэтому с пересадкой требует подождать, пока те умрут естественной смертью. Но после нее большая часть органов подвергается изменениям, делающим пересадку невозможной. Но и недоразвитие мозга бывает разной степени. Где провести границу между дозволенным и недозволенным? К тому же у физиологически неспособных к самостоятельной жизни людей можно поддерживать чисто «вегетативную» жизнь при помощи искусственных аппаратов (легкие, сердце, почка и т. п.). Кроме этого медицина уже умеет пересаживать все больше различных органов, но откуда их брать, если спрос превышает предложение? И это ведет к возрастанию стоимости все более передовых достижений медицины. Уже и в самых богатых странах невозможно предоставить ВСЕМ новейшие методы диагностики и терапии. Кто должен принимать решение о «предоставлении»? А речь идет о жизни и смерти. Следует ли предоставить право принятия решения врачам? Законодатель не сможет сформулировать такие разграничения, которые с врачей снимут всякую моральную ответственность за выбор поведения.
А банки спермы лауреатов Нобелевской премии? Следует ли разрешать женщинам беременеть путем искусственного оплодотворения спермой мужчин с выдающимися умственными способностями? Но можно ведь оплодотворить женскую яйцеклетку и «в пробирке», а затем перенести в организм (в матку). Когда эмбрион становится человеком? Упомянутая уже церковь утверждает, что в момент проникновения сперматозоида в яйцеклетку. Но это противоречит научным фактам, ведь после оплодотворения деление клетки может начать развитие одного ребенка, а может и двойни, тройни, и это «решение о развитии», определяющее, возникнет ли один человек, или два, или даже четыре, принимается самостоятельно на уровне одной клетки, каковой является яйцеклетка. Учение Церкви сталкивается с затруднениями, вступая в эту непонятную область, что я и предвидел в своей «Фантастике и футурологии» (1970) в главе «Футурология веры»[71]. И это дилемма не только для Церкви. Если благодаря прогрессу в медицине снижается смертность новорожденных, но это никоим образом не способствует тому, чтобы подросшие дети не умирали от голода, – то можно признать, что медицина дает жизнь и одновременно опосредованно ее отбирает, так как (особенно в Третьем мире) смертность в многодетных семьях огромна.
Между невиновностью Марии Склодовской-Кюри (которая, открыв радий, НИЧЕГО не могла знать о последствиях этого открытия) и поведением немецких ученых, которые медленно «удушали» узников концлагерей в специальных камерах, выкачивая оттуда воздух, и снимали агонию «в научных целях», простирается область широкого спектра моральной ответственности ученых. С общественной точки зрения не важно, что сам ученый думал о своем поведении. Хотя Трофим Лысенко был неучем, верившим в свою теорию «расшатывания наследственности», и тем самым не только нанес огромный вред Советам, но и способствовал гибели многих выдающихся генетиков (хотя бы Вавилова), я при этом не считаю, что его следовало бы привлечь к судебной ответственности. Моральная ответственность распространяется гораздо шире сферы действия уголовных кодексов. Я не вижу иного выхода из этой ловушки, кроме «сознательного выбора»: либо служить науке, осознавая возможность оказаться «морально ответственным за ЗЛО», или быть поэтом, сапожником, портным – ибо это единственная надежная гарантия. В процессе познания законов Природы всегда есть аверс и реверс. Чувство вины, которое преследовало Эйнштейна до конца жизни, – это моральные издержки его профессии.
Наш век бурного развития в области познания и технологии отчасти благоприятствует развитию человеческих обществ, отчасти создает угрозу их распада. Прогресс порождает одну за другой проблемы и предлагает их решения, но проблем порождает больше, чем решений, и тем самым вынуждает нас принимать решения, имеющие отдаленную перспективу СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ И ИЗДЕРЖЕК, о которых мы зачастую НЕ знаем. (До тех пор, пока никто не смог повернуть течение рек, не возникало и проблемы с принятием решения, что с такими реками делать. Пока «демократизации» не было заметно в программах коммунистов, не было проблемы, как далеко можно и нужно ее довести.)
Прямая демократия и тем самым будто бы идеальная – это не правление представителей большинства, а компьютерные терминалы, устанавливаемые в жилище каждого, благодаря чему любое предписание, любой закон подлежали бы всеобщему и тайному голосованию. Простым нажатием кнопки каждый высказывал бы свое «да» или «нет» по поводу данного проекта (например, о правительственном законопроекте о профессиональных союзах или о налогах и т. п. без конца). «Всекомпьютерный референдум», таким образом, возможен технически, но последствия его внедрения были бы фатальными, поскольку бо́льшая, и при этом постоянно увеличивающаяся, часть решений, которые необходимо принимать, находится выше уровня компетентности дилетантов. Такова антиномия практического действия: «цивилизация как правление экспертов или как правление всех».
Автоэволюция человека, как самопреобразование вида, представляется мне нежелательной и – к счастью – чрезвычайно отдаленной во времени перспективой. Я старался скорее показать – а здесь сложно говорить о ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ в прямом смысле слова, – что РАЗУМНОЕ и благодаря ЭТОМУ внутренне свободное существо нельзя никакими «переделками превратить в элемент совершенного общества». А что значит «совершенного»? Ведь это же не боевая машина (что было идеалом фашизма)! Рая на Земле никогда не будет, если в нем должны жить люди свободные и разумные. Свобода достигается в устремлениях, а не в достижениях, которые превратятся в некое «почивание на лаврах победы».
Ведь в прогрессивных проектах речь идет не о том, чтобы «все, что делаем мы сами», ЗА НАС – включая познавательную умственную работу – выполняло бы автоматизированное окружение. И здесь не важно, что такое окружение сегодня никто не в состоянии создать. А важно, чтобы изобретательность человека НЕ смогла «катапультировать» нас из нашей человеческой сути. Ибо из-за биологической и психической тождественности вида в будущем начнутся сражения (бескровные, надеюсь), которые я ТАКЖЕ пытался описать в «Осмотре на месте». Сочиняя очередные книги, после завершения я замечал их недостатки и возвращался к поднятым проблемам, – но не возвращался к темам, чтобы не наскучить ни себе самому, ни читателю.
То, что я написал в «Сумме технологии» как «Пасквиль на эволюцию» и в «Големе XIV» как продолжение этого пасквиля, сейчас, четверть века спустя после издания «Суммы», звучит более реалистично, чем звучало тогда. Потому что благодаря новым знаниям о строении нашего организма, мы заметили накопившиеся в нем в ходе эволюции как «излишние сложности», так и «слишком узкие места». Для представления и тех и других понадобилась бы фундаментально подготовленная книга. Генная инженерия сможет многое усовершенствовать в человеке, не уничтожая его человеческой сути, сконцентрированной в мозге. Наш вид не должен утратить своей преемственности в виде идентичности с историческими предками. Если бы мы уничтожили в себе эту идентичность, это было бы равнозначно уничтожению многовековой культурной традиции, созданной общими усилиями тысяч поколений, и на такую «оптимизацию» я бы не согласился, ведь ВЗАМЕН мы не могли бы получить ничего более, чем сытое довольство необычайно здоровых, не подверженных болезням животных. Неудовлетворенность собой, своими достижениями, негодование в случае любого вида измены и отречения от канонов нравственности, которые, правда, не до конца четки и последовательны, но тем не менее как «нравственный закон внутри нас» существуют, – это не атрибуты человеческого, а само человеческое в своей в дальнейшем не подлежащей изменению сути.
Урок катастрофы
I. Что неудивительно
Ничего удивительного, что Советский Союз пытался скрыть от мира и собственного населения чернобыльскую катастрофу. В этой системе сокрытие природных катастроф и технических аварий – давняя традиция. Коммунистический Китай Мао Цзэдуна долгие годы умалчивал о потерях, по меньшей мере четверти миллиона человек после сильного землетрясения, превратившего многие рудники в братские могилы. Эта система с идеологией, опирающейся якобы на крайний материализм, по сути дела придала власти налет мистической ответственности «за все». При рациональном подходе ни одна система и ни одна власть не может отвечать за стихийные катастрофы вроде извержений вулканов или землетрясения. Но тоталитарная система в советском исполнении обещает людям рай на земле, поэтому чувствует себя обязанной создать хотя бы его обманчивое подобие. Вклад иррационального фактора в функционирование этой системы изменчив. Сильнее всего это проявлялось во времена Сталина, который постановил насадить лесополосы, дабы избавить Украину от навещавших ее восточные регионы горячих ветров с юга, называемых суховеями. И после принятия этих мер засуха возвращалась с не меньшей силой, но пока жив был Сталин, о суховеях нельзя было вспоминать. Официальная идеология приобрела не столько мистический, сколько магический характер. Личности, даже лидеры партии, могут ошибаться – партия не ошибается никогда. Поэтому верно и правильно, когда нет никаких аварий и катастроф, ни искусственных, ни естественных. Усердие, с которым на Западе подается информация о подобных катастрофах, в Советах недопустима. Когда падают пассажирские самолеты, известия об этом появляются в прессе, только если на борту находились иностранцы. В 1957 году на Урале произошел взрыв плохо хранившихся радиоактивных отходов, но прошло более десяти лет, прежде чем на Запад дошла достоверная информация об этой катастрофе, которая поглотила неизвестное число жертв и превратила ряд деревень в кладбищенскую пустошь, через которую только пробегали поезда, не останавливаясь на вымерших станциях. СССР – это исключительная сила, когда надо скрыть катастрофу, повлекшую человеческие жертвы. Если бы ветры не пригнали чернобыльскую радиоактивную тучу в Швецию и Финляндию, а затем и в остальную Европу, катастрофа тоже наверняка осталась бы тайной. Атомное солнышко должно украшать жизнь, а не убивать, поэтому нет ничего удивительного и в том, как пропаганда ГДР прокомментировала взрыв реактора: западная пресса раздувает из этого сенсацию, чтобы отвлечь внимание от мирных инициатив СССР!
Также неудивительно, что периодическая печать ФРГ, почитающая прогресс, вроде «Die Zeit»[72] графини фон Денхофф, комментировала катастрофу словами: «Чрезмерная вера в силу техники ставит обе супердержавы перед опасностью». Речь шла о сопоставлении катастрофы с «Челленджером» с катастрофой под Киевом, словно это события одного порядка и можно сравнивать и сами события и последствия. Поскольку не только вышеупомянутый журнал лжет, будто его наняли для смягчения напряженности, улучшения сосуществования и ликвидации эффекта от слов Рейгана, который назвал СССР «империей зла», и поскольку за форпосты этой агрессивной системы можно принять другие журналы с миллионными тиражами, такие как «Шпигель» и «Штерн», то не стоит тратить время на опровержение красной пропаганды, поданной на мелованной бумаге немецкими журналистами.
Удивительна не сама авария реактора, а наоборот, удивительно, скорее, то, что она не произошла намного раньше, поскольку специалистам были довольно хорошо известны низкие стандарты в области проектирования, строительства, обслуживания и контроля в атомной энергетике СССР. Экспортировавшиеся в ГДР и Финляндию реакторы обеспечивались дополнительными достаточно дорогостоящими системами безопасности, от которых Советы предпочитали отказываться из-за экономии.
Неудивительно, что первомайские демонстрации проходили не только в Москве и в других городах СССР, но и в Киеве, где на поющие и танцующие колонны празднующей молодежи с неба сыпалась невидимая радиоактивная пыль. Это не необоснованное обвинение: английские студенты именно в это время были эвакуированы из Киева в Англию, и хотя дозы облучения, которые они успели получить, не были еще опасны, но они свидетельствовали о наличии непрекращающейся радиации. Невинным и несчастным придется – хотя и не скоро из-за особенностей возникновения лучевой болезни – дорого заплатить здоровьем, а может, и жизнью. Но как было сказано, в этом нет ничего удивительного.
Европейский парламент в Страсбурге, который быстро, как только мог, осудил президента Рейгана за бомбардировку ливийских городов, не сделал Москве ни малейшего упрека за замалчивание катастрофы, даже когда ее последствия уже ощущались в соседних с СССР государствах. И это молчание не удивляет. Претензии предъявила по собственной инициативе и на свою ответственность только Швейцария – разумеется, не получив ответа от Советов. (В западной прессе не было недостатка в претензиях, обвинениях и жалобах в адрес Кремля, но они не имели характера «нот» или других официальных правительственных заявлений.)
Неудивителен даже способ, каким на советскую катастрофу отреагировало общественное мнение, профессиональные активисты и разнообразные протестующие, «зеленые», так называемая «альтернатива», пацифисты и левые кармазиново-розового цвета. Они ссылаются на советскую катастрофу, чтобы усилить давление на свои правительства для отказа от развития атомной энергетики.
В итоге возникает своеобразная картина: что бы ни сделали Советы, случайно или специально, будь то сбивание заблудившихся пассажирских самолетов или первомайский сгон людских масс под радиоактивным небом, Запад трактует это как явления природы, к которым нельзя предъявлять какие-либо претензии, нельзя выдвигать в их адрес какие-либо притязания или считать их стороной, несущей ответственность за свои поступки. Это уже стало нормой, и, следовательно, не может нас удивлять.
II. Что удивительно
В последнее время в некоторых европейских и американских газетах можно было найти статьи, подвергающие сомнению надежность СССР как контрагента и партнера в переговорах по разоружению, учитывая способ, каким эта супердержава пыталась фальсифицировать крупнейшую в истории атомных электростанций катастрофу с не поддающимися пока оценке разрушительными последствиями. Уверяю, что никаких последствий от этих статей не будет, что не повлияют ни они, ни эта катастрофа на отношение Запада к СССР. Логично подходя к делу, следовало бы считать, что государство, столь всесторонне и столь безусловно лживое, которое решительно заявляет, что контролирует ситуацию и последствия ликвидированы, и вместе с тем вводит информационную блокаду для западных журналистов, не может считаться достойным доверия в переговорах по разоружению. В действительности все, что обещал и говорил Горбачев, оказывается разукрашенной декорацией с голубками, пустой видимостью, но для Запада нет альтернативы. Уже готовят хлеб, мясо, консервы, а также другие дары, которые будут продавать Советам, главным образом в кредит, как продолжение той веревки, на которой капитализм, по словам Ленина, будет повешен. Готовность угодить вовсе не удивительна.
Удивительным представляется нечто иное. Стечение обстоятельств позволило нам присмотреться к Советскому Союзу в ходе крупномасштабной атомной катастрофы, которая стала словно упрощенной моделью падения атомной бомбы. Упрощенной потому, что крупнейшая из возможных авария даже самого большого атомного реактора не может привести к атомному взрыву, как в случае с бомбой. Чтобы наступил взрыв, поднимающий температуру до миллиона градусов и образующий солнцеподобный огненный шар, тепловое излучение которого, взрывная волна, а также радиоактивность превращают все предметы и тела в газ, предкритические сегменты уранового или плутониевого заряда должны быть доведены до сверхкритической массы. В реакторе подобное никогда не произойдет. Температура не превысит нескольких тысяч градусов, и поэтому разрушительные эффекты значительно слабее и производят меньшее впечатление, чем при ядерном взрыве. Зато долговременное образование убийственных радиоактивных изотопов и гамма-лучей может продолжаться и будет продолжаться очень долго – значительно дольше, чем в случае воздушного взрыва атомной бомбы.
Советский Союз, как мог, извращал катастрофу перед миром и молчал о причинах, размерах и последствиях перед собственным населением. За пеленой этой лжи и этого умалчивания следовало, однако, надеяться как на четкую, хорошо организованную, так и быструю деятельность, направленную на тушение пожара, воспрепятствование дальнейшему выбросу радиоактивных масс и – что не менее, пожалуй, важно – на терапевтическое и профилактическое спасение окрестного населения. Принятие таких шагов казалось вещью очевидной для всего мира, который считает СССР супердержавой, прежде всего военной, способной и готовой проводить атомную войну. Такая война должна быть одновременно наступательной и оборонительной: тот, кто ее проводит, должен быть подготовлен не только к нанесению, но и к принятию атомных ударов. Известно, что СССР обладает большим наступательным потенциалом в виде управляемых ракет, установленных в укрепленных подземных бункерах и под палубами подводных лодок. Зато реакция на чернобыльскую катастрофу демонстрирует, что СССР вообще не подготовлен к ПРИНЯТИЮ атомных ударов. Если б это было не так, он имел бы в распоряжении значительные и должным образом размещенные на своей территории запасы средств противодействия лучевому поражению, хорошо эшелонированные группы антирадиационных, разведывательных, эвакуационных, фармакологических, санитарных и медицинских служб. Между тем сразу же после катастрофы Советы обратились к Западу с просьбой предоставить не только экспертов, но и лекарства! Само перечисление всех средств, необходимых при стратегическом планировании возможности военных атомных действий – что якобы является советской специализацией – заняло бы пару толстых томов. Но оказалось, что «а король-то голый». За эвакуацию населения в тридцатикилометровом радиусе вокруг точки «зеро» взялась сначала не армия со своим специальным транспортом, а обычные грузовики и автобусы из Киева. Через неделю же, когда не только в странах Запада, но даже в Польше были введены многочисленные меры предосторожности и профилактики (например, запрет выпаса скота на открытой территории, ибо в таком случае главным образом в организмах коров концентрируется радиоактивный йод и попадает в увеличенном количестве в молоко; рекомендация употребления препаратов радиоактивного йода детям и беременным женщинам и т. п.), в Советах власти ни о чем население вообще не предостерегли, никаких мер предосторожностей не опубликовали. С политической точки зрения это, может, и понятно, поскольку к светлому будущему эта система всегда шла по трупам. С точки зрения практической и по сути – это, однако, преступная глупость, поскольку последствия лучевого поражения будут давать о себе знать через многие годы, а дозы облучения, полученные за непродолжительное время после катастрофы, должны быть весьма значительны, особенно для людей, пребывающих на открытом пространстве и во время дождя. Следовательно, надо было надеяться на ввод в действие такой радиационно-метеорологической службы, какую для себя быстро сымпровизировал Запад, но в Советах не было ее ни следа.
Даже о существовании военных подразделений, специализированных в области атомной обороны, советская пропаганда напомнила только на пятый или шестой день после катастрофы.
То, что ни гражданские власти, ни военные не были подготовлены к смертельно опасному заражению значительной территории собственной земли собственными атомами, не подлежит сомнению. Поэтому возникает вопрос, что прикрывало сочетание фактического бездействия и пропагандистского лепета: оборонительную пустоту или, скорее, особую структуру советской системы?
То, что можно было наблюдать, можно объяснять двояко. Например, так, что военная атомная сила Советов – это, прежде всего, оружие чисто наступательное и не столько служит применению в войне, сколько представляет инструмент политики устрашения, шантажа, «финляндизации». И предполагается применять эту силу для различных натисков, торгов, для психического поражения общественного мнения Запада, одним словом – для блефа, который размягчает атлантический альянс, вбивает клин между Западной Европой и Америкой и, наконец, приносит Советам плоды победы без войны. Тогда отсутствие средств обороны, по качеству и количеству пропорциональных средствам нападения, можно отлично понять. Однако такую возможность никогда не учитывал ни один «кремленолог». Наоборот, многие годы они подчеркивали, что, создавая огромные противоатомные убежища, планы децентрализации промышленности, бронированные противоатомные хранилища, заполненные зерном (главным образом, разумеется, американским) на случай войны, Советы уже сейчас способны защитить свое население от атомных ударов намного более успешно, чем могут это сделать Западная Европа (за исключением Швейцарии) и Соединенные Штаты. Отсутствие оборонительных средств может, впрочем, иметь альтернативу в некоторой степени функциональную, обусловленную особой социально-системной структурой СССР. Корнелиус Касториадис определил эту систему (в книге «Перед лицом войны») как чрезвычайно «твердую» и «хрупкую». Добавим, она также необычно «жесткая». Более или менее эта система может успешно действовать и реагировать только на такие события, которые предварительно взяла в расчет и тем самым предвидела. Зато когда происходит что-то, чего не предвидит жесткая структура запрограммированных сверху начинаний, эта громада ведет себя как полупарализованный слепец, на которого внезапно напали. Незамедлительная локальная защита, незамедлительная спасательная инициатива местных властей, импровизация и самостоятельность в деле спасения в качестве самообороны – все это исключено в системе, которая боится всяческой спонтанности и самостоятельности, как черт святой воды. Не для того, чтобы оболгать граждан СССР, а для того, чтобы наглядно показать реальную ситуацию, в которой они живут. Надо сказать, что свыше шестидесяти лет Гулага, КГБ, чисток, убийств и остальной «идеологической работы» привели коллективную ментальность этого общества к деградации.
Западные корреспонденты пытались у московского Киевского вокзала брать краткие интервью у людей, после катастрофы направлявшихся на Украину. Корреспондентов поражало нежелание отвечать на вопрос об угрозе, простое пожатие плеч или пренебрежительная немногословность ответов: что, мол, если в газетах ничего об этом нет, то и не о чем говорить. Я объясняю себе эту сдержанность только отчасти тем страхом, который привит с детства каждому, кто может столкнуться с иностранцами и тем более быть сфотографирован и расспрошен, то есть может стать выразителем общественного мнения «наиболее прогрессивного строя». Страх страхом, но средний гражданин СССР чисто инстинктивно считает, что должен знать столько, сколько «положено», сколько ему власти позволили знать.
Может, такое состояние умов и не является серьезным недостатком в войне традиционной, то есть в войне с фронтами и тылом, не должно быть даже недостатком в войне авиационной с ее бомбардировками глубоких тылов. Зато война в своей ужасной сути полностью невидимая, как смерть, которую приносит весенний ветер, запах цветов, куличи из песка, которые делают дети в песочнице, – такая война ДОЛЖНА быть доведена до сознания общества, – иначе это общество окажется в ситуации, что его бросила собственная власть, абсолютно беззащитным, отданным на предательское поражение и медленное умирание – даже не зная, откуда и как приходит гибель. Сделает ли команда Горбачева надлежащие выводы из урока катастрофы под Киевом? Сомневаюсь, ибо умалчивания, обман, радостные пляски масс и скрытие гор трупов – это неотделимая часть советской жизни.
Кроме вышесказанного, хаотическую беспомощность первых дней после катастрофы можно объяснять факторами, которые мы назвали структурными. Не будем говорить о всеобщем незнании: армия, как в ее наступательной, так и оборонительной функции не интегрирована в гражданское общество, а является тщательно изолированным паразитом, для которого гражданское население является кормильцем. Такая армия подчиняется только центральному руководству, и поэтому пострадавшее население не может надеяться на помощь от ее местных представителей. На это должна поступить команда из Москвы. Однако и этот аспект централизации советского военного потенциала таит в себе непредвиденные угрозы в случае нетрадиционно проводимой войны. Вся надежда Москвы заключается в том, что ни о какой войне не может быть и речи, поскольку политики Запада, в соответствии с позицией своих обществ, умирают от страха от одной только мысли о конфронтации с советским колоссом. Урок катастрофы даст материал для размышления только скромному меньшинству интеллектуалов или политологов, которые еще не капитулировали перед Советами. В это же время вслед за катастрофой будет долго тянуться шлейф все новых и всегда трудных для проверки сообщений из сильно пострадавшей, невинной Украины.
III. Похоронный звон
Что касается моего личного мнения, утверждаю: между наступательным и оборонительным атомным потенциалом Советов существует гигантская диспропорция. Тем самым можно считать, что СССР очень легко может быть побежден в атомной войне, начатой стратегией первого удара. Эти ужасные слова можно произносить спокойно, поскольку – если вообще существует возможность абсолютно невозможная – то это атомная атака США, направленная против СССР. В военные и кровавые намерения Рональда Рейгана верят исключительно любящие мир и его советские форпосты интеллектуалы, журналисты, политики, которые охотно называют президента Америки прозвищем «Рэмбо» – по недавнему довольно садистскому и очень глупому фильму «made in USA», – а также ковбоем и т. п. Много времени и усилий требует от западных комментаторов, карикатуристов – и тех же политиков – взаимное «устрашение», которое достигло уже такого напряжения, что когда Рейган пригрозил военной операцией Сирии и Ирану в ответ на террористические акты, подготовленные на их территориях, тотчас на Западе на него посыпался град осуждений, и его государственный секретарь вынужден был объяснять, что президент говорил об этом совершенно абстрактно, вовсе не имея намерения исполнять угрозы.
До сих пор главным противником Рейгана был его конгресс вместе с европейскими союзниками, зато СССР никаких противников, готовых к действию (кроме просьб и выдачи кредитов), не имел. Сейчас же оказалось, что СССР имеет противника в самом себе, продолжая строительство и эксплуатацию атомных станций (не последней задачей которых является производство плутония для бомб), не обеспеченных в должной мере средствами безопасности. А какие изменения внутренней или даже внешней политики последуют (и последуют ли) за выявлением этого неожиданного противника, который может сеять смерть – увидим.
Антропный принцип
Двадцать три года назад, в 1966 году, в издательстве «PWN» в серии «Омега» появилась книга тогдашнего профессора философии Варшавского университета Лешека Колаковского, посвященная обсуждению позитивистской философии[73]. Позже редакция журнала «Студия филозофичне» организовала по этой «Позитивистской философии» дискуссию, в которой принял участие и я, а затем высказывания участников дискуссии были опубликованы в журнале[74].
В ходе дискуссии возник спор между тогда уже знаменитым философом Колаковским и мною. Я утверждал, что область философии с течением лет теряет все больше задач, потому что они как бы «поглощаются» и становятся собственностью науки, понимаемой как естествознание, основанной на опыте и построенных на основе опыта теориях. Колаковский плохо воспринял это мое заключение. Признав, что движением планет, которыми занимался еще Аристотель (так же как и рядом других, с точки зрения философии, «граничных» проблем), занимается физика, он посчитал мою позицию относительно философии «ликвидаторской» и, кроме того, усилил неприкосновенность первенства философской рефлексии на данной ей территории, цитируя известное высказывание французского философа Мориса Мерло-Понти, создателя экзистенциально утвержденной антропологии, который на вопрос, какие проблемы остались в сфере философии после многовековой революции в науке с ее огромными успехами, ответил: «Те же самые, что и прежде».
После этой полемики минуло почти четверть века, и вот теперь уже можно, ссылаясь на достижения естествознания, особенно астрофизики, физики и космологии, дать в порядке эмпирического опыта – а не философского размышления – ответы на вопросы, являющиеся первостепенными и онтологическими именно в философии. В послесловии к своей книге, которую я упомянул выше, Колаковский, в частности, писал: «Все же не существуют окончательные синтетические истины, т. е. истины, которые – согласно пожеланиям древних метафизиков – были бы не только покорены путем познания, но говорили бы нам о том, каким мир должен быть – а не просто каков он есть (сам вопрос о таких окончательных свойствах мира, ясное дело, с позитивистской точки зрения бессмыслен)».
И несколько дальше: «Чем объяснить эту особую претензию, веками живущую в мышлении, на установление нередуцируемых ценностей разума как власти, раскрывающей предельности мира, если именно эти предельности являются мнимыми?» («Позитивистская философия», с. 232)
Особенно «сильную форму» данный вопрос обрел у Хайдеггера, который спрашивал: «Почему существует скорей нечто, чем ничто?»
Так удачно складывается, что на вышеприведенные вопросы уже можно дать ответ, перейдя из сферы бесплодной, в данном случае философской медитации, на более плодородную почву естествознания. Зародыш нетривиального ответа на вопрос Хайдеггера содержится в звучащем все громче космологическом тезисе, известном под названием «антропный принцип» – «anthropic principle».
Именно в ходе изучения Вселенной оказалось, что между ее эволюцией и эволюцией жизни существуют необычайно многочисленные и сильные связи.
В космологии антропный принцип проявляется в двух версиях – слабой и сильной. Выводом для обеих является простое высказывание: «Космос таков, каким мы его воспринимает, поскольку существуем». Это не является ни банальностью, ни тавтологией. В слабой версии согласно антропному принципу считается, что Космос зарождался как творение разнородное, возможно, с хаотическими начальными условиями, и что в нем сформировались области как вечно мертвые, так и способные к жизнедеятельности. Согласно сильной версии наш Космос возник как один из многих, почти так, как возникает похожее на кисть винограда соединение мыльных пузырей, когда мы набираем на соломинку, в которую будем дуть, довольно много мыльного раствора. Правда, против этой сильной версии антропного принципа можно выдвигать контраргументы, перемещающие его из области науки в область чистой, внеэмпирической спекуляции, потому что из природы Космоса следует абсолютная невозможность выхода из него в какой-то другой или в какие-то «другие Космосы». Физика этих «других Космосов» может отличаться от физики нашего Универсума, мы ничего не можем узнать о них здесь, поэтому постулат об их существовании не соответствует главным условиям, которым должна соответствовать научная гипотеза.
Однако вышеприведенную дилемму мы можем оставить космологам, чтобы они над ней ломали себе головы, так как она не базируется на эмпирически подтвержденном факте существования прямых связей между свойствами мира и свойствами жизни, а сосредотачивается, скорее, на вопросе, вызванном нашими возросшими познавательными претензиями: ибо космолог спрашивает не о том, существует ли тесная связь между этапами космической эволюции и эволюции биогенетической (это уже известно), а о том, почему именно наш Космос получил столь привилегированную в вопросе рождения жизни позицию – пожалуй, уже даже в Правзрыве (Big Bang)?
До середины XX века проблемы астрофизики и биологии казались совершенно разобщенными. На вопрос об отношении космологии к биологии астрофизик твердо бы сказал, что жизнь – это один из великого множества «побочных продуктов» Вселенной, и не согласился бы с мнением, будто бы уже 20 миллиардов лет назад основные параметры как всего Космоса, так и его строительного материала были некоторым образом «весьма точно нацелены» на биогенез.
Образно говоря, отношение Космоса к жизни представлялось подобно множеству спусков, имеющихся в распоряжении лыжника на вершине горного хребта. Ведь к находящейся в долине станции фуникулера он может съехать как ему захочется, только бы достичь цели, то есть станции. Такое множество дорог, ведущих к одной цели, называется эквифинальностью.
В то же время оказалось, что сочетание параметрических свойств, а также очередность процессов, которые сделали возможным рождение жизни, напоминает не снежные склоны со множеством различных путей вниз, а скорее трассу слаломного спуска со своими «узкими» воротами. Достаточно однажды отклониться от нее, пропустить одни ворота, чтобы вылететь с маршрута и тем самым потерять шансы на выигрыш. Достаточно было остановки космоэволюционных изменений на одном из множества этапов, чтобы шанс возникновения жизни через двадцать или пятнадцать миллиардов лет был сведен к нулю.
Уже в первые секунды космического Правзрыва (Big Bang) возникла такая асимметрия (называемая Т-асимметрией), что в нем образовалось больше кварков, чем антикваров. Те и другие являются строительным материалом для протонов и нейтронов. Если бы их было равное количество, то они уничтожили бы друг друга, давая в результате Космос, заполненный одним излучением, без зерен материи, из которой потом могли бы возникнуть звезды и планеты.
Если бы гравитационная постоянная была меньше, чем есть, то Космос начал бы расширяться силой взрыва настолько быстро, что в нем дошло бы до «хаотичного сталкивания» газовых конденсатов в виде прагалактик, в которых могли бы возникнуть протозвезды.
При слишком же значительной гравитации едва вспыхнувший Космос быстро (и снова «бесплодно») погрузился бы в себя.
И поэтому постоянная гравитация должна была быть установлена именно такой, какой мы наблюдаем ее в реальности.
В прагалактиках появились звезды первого поколения. Это были шары газообразного водорода, сжимаемые гравитацией и распираемые давлением, возникающим при разогреве излучения. Когда температура превысила порог, началась ядерная реакция, во время которой водород «сгорает» до «пепла», каковым является гелий.
Если бы электрический заряд электрона незначительно отличался от его действительной величины, то звезды или не могли бы «сжигать» водород в гелий, или не взрывались бы как Суперновые.
Этот последний процесс был также необходим для более позднего возникновения жизни, которая не может появиться без химических соединений, а эти соединения – без таких тяжелых элементов, как углерод или кислород.
Поэтому квантово-молекулярные параметры были «подобраны» так, что, когда водород иссякал и в звездах оставалось все больше гелия, звезда, сжимаясь, до такой степени разогревалась, что возникали последующие ядерные реакции, в которых дошло до синтеза тяжелых элементов.
Однако и это не сделало бы возможным возникновение жизни, но эти звезды были параметрически «настроены» так, что, когда происходили взрывы, часть их содержимого рассеивалась в галактическом окружении. Из этих обломков в галактике начался процесс конденсации звезд второго поколения и только они – со структурой, подобной нашему Солнцу, – могли породить планеты, на которых появилась возможность зарождения жизни (при дальнейших благоприятствующих условиях).
Можно продолжить перечисление условий, какими должны быть свойства Космоса, чтобы это привело к биогенезу. На самом деле этих связей, похожих на некое «предначертание» рождения жизни, намного больше, чем мы перечислили. И именно все это вызывает следующий вопрос. Если столько особых условий способствовало возникновению жизни, то почему она представляет собой настолько редкое явление в Космосе, что поиски внеземных цивилизаций, продолжающиеся почти уже полвека, не дали никакого положительного результата?
Когда мы более глубоко изучаем труды профессионалов, посвященные обсуждению «антропного принципа», то с удивлением узнаем, как тонко, как детально, как многофакторно должны были «приспособиться» очередные этапы космической эволюции, а также взаимодействия электронов, законы масс, управляющие формированием атомных ядер наравне с их многослойными электронными оболочками, чтобы могла возникнуть жизнь.
Вместе с тем мы уже знаем, что ни на Марсе, ни на Венере жизни нет и ее гипотетическое «ultimum refugium»[75] в атмосфере больших планет нашей системы, таких как Юпитер, тоже представляется все меньше приспособленным к рождению какой-либо, наверняка не белковой и не размещенной в водной среде разновидности жизни.
Поэтому получается так, что мы понимаем, как много условий – и необходимых, и достаточных относительно биогенеза – должен выполнять наш Космос, и, однако, не замечаем в нем нигде ничего, что указывало бы на наличие внеземной жизни.
Известно высказывание, что стоит ли поджигать целый город, чтобы поджарить себе яичницу. Однако же диспропорция между пожаром и этим кулинарным процессом просто ничтожна в сравнении с диспропорцией, существующей между гигантскими размерами и историей Вселенной и рожденным ею микроскопическим феноменом нашей биосферы.
Поэтому начинает казаться, что мы представляем не только исключение из космического правила, провозглашающего безжизненность, но что мы являемся главным и единственным выигрышем в космической лотерее.
Отказ же от так называемого Карлом Саганом «белкового шовинизма», то есть утверждения, будто бы жизнеподобные процессы самоорганизации не могли произойти без углерода, аминокислот и белка (что сокращенно и зовут «белковым шовинизмом»), тоже ничего не дает, поскольку, если бы была возможность достичь какой-либо формы самоорганизации, молекулы должны были бы иметь способность к объединению в большие соединения, снабженные, кроме того, динамической устойчивостью. А без всеобщего господства закона Паули, «запрещающего» таким частицам, как электроны, пребывать в неизменном состоянии (внутри отношения неопределенности), вообще ни о каком объединении атомов в устойчивые соединения не может быть и речи.
Ошеломляющая констатация такого рода опровергает, как кажется, этот в общем якобы важный закон, который положил начало коперниковскому перевороту в астрономии, утверждающему, что ни Земля не находится в некоем центре Космоса, ни – идя дальше, чем сам Коперник, – Солнце, так как Космос, наблюдаемый с любой его точки, каждому наблюдателю представляется построенным именно так, как нам – из звезд, образующих галактики, которые собираются в скопления галактик, а те – в скопления еще более высокого порядка и т. д. Ничего исключительного, ничего особенно нас возвышающего над «обычными» космическими делами не является нашей привилегией, и тогда оказывается, что такая загадочная, полезная для нас привилегия это и есть «антропный принцип». Космос, какой мы наблюдаем, именно такой, каким должен быть, чтобы мы могли его наблюдать, ибо ни раньше (миллиарды лет), ни позже (вновь миллиарды лет) не могло бы быть наблюдателей. Короче говоря: наличие наблюдателей является резко ограниченной в масштабах функцией состояния Космоса.
Выход, подсказывающий наличие Создателя Намеренного Универсума и потому «апелляция к Господу Богу» тоже, к сожалению, дилемму нам не разрешает. Если даже было так, что свойства Универсума на заре его возникновения «Некто» установил таким образом, чтобы через каких-то 12–14 миллиардов лет вокруг некоей из звезд второго поколения в каком-то планетарном закоулке могла зародиться жизнь, то сейчас, за несколько лет до конца XX века, мы уже знаем, что эта жизнь, воплощенная в ее «самых разумных представителях», подготовила (не желая того) подлинно убийственное покушение на биосферу и тем самым на саму себя.
И это потому, что после трех с небольшим миллиардов лет развития эта жизнь достигла стадии техногенного разума, локализованного в одном виде, который, сотнями и тысячами ликвидируя до сих пор сосуществующие с ним виды животных и растений, отравляя свою жизненную среду, выбивая из миллиардолетнего равновесия климат собственной планеты, поглощая в невероятном темпе невоспроизводимые субстанции вместе с кислородом, без которого не может существовать, – то есть, похоже, готовит планете и самому себе полную гибель.
Эта перспектива прямо говорит наблюдателю о замене Бога на дьявола в качестве Создателя Бытия. Вселенная, если рассматриваем ее таким образом, кажется грустной космической шуткой, придуманной каким-то бесом. Латинская поговорка: «Pariuntur montes, sed nascitur ridiculus mus» – гора родила мышь – не способна передать кошмарной диспропорции между гигантски разбросанными трудами космического рождения жизни и ее способностью стремиться к катастрофе в самоубийственном финале, подготовленном человеком, который назвал себя разумным.
Попробуем подытожить сказанное. Когда-то, спрашивая, был ли создан мир как колыбель и дом для людей, можно было удовлетвориться высказыванием, взятым из Вольтера: разве падишах для того посылает корабли, груженные зерном, чтобы мыши под палубой имели достаточно корма? Раньше полагалось считать жизнь случайным, побочным, маловероятным продуктом гигантской Космогонии, а людей, как я когда-то написал, сравнивать с бактериями, размножающимися на гирях космических часов. И эти часы были созданы не для них и с их существованием имеют лишь столько общего, что делают его возможным и терпят. Однако же – как мы видели – уже не получится сохранить взаимную независимость космогонических и биогенетических процессов, разве что упрямством, не менее своеобразным, чем само соединение обоих рядов явлений, но тем не менее мы будем утверждать, что речь идет только о случайных связях и совпадениях. Можно, конечно, сделать допущение, что в «других Космосах», если такие существуют, господствуют условия, отличные от здешних, но также допускающие какое-то возрастание сложности, какие-то самоорганизующие эволюции… Но такого рода предположения не имеют под собой никакой доказательной базы и, впрочем, ничуть не объясняют «точного нацеливания» свойств мира на возникновение жизни. Более того, «всеобщая возможность жизни» в различных Универсумах ничего бы не объяснила в нашем Космосе, а скорее добавила бы загадки высшего порядка по сравнению с теми, с которыми мы должны иметь дело относительно «anthropic principle».
Наконец, зададим вопрос: выходя за пределы научной сферы, – здесь имеется в виду астрофизика с физикой, – размышляя о Космосах чисто гипотетических, нетождественных нашему, вступаем ли мы тем самым в область философских размышлений?
Считаю, что не совсем, поскольку тогда мы вступаем на территорию, не постигаемую и тем более не овладеваемую философской мыслью. В естествознании, основанном на опыте и исходя из возникающих теорий, каждое последующее достижение является новым шагом в познании, и преимущественно таким, что ответ, данный в процессе изучения и касающийся неизвестных или не понятых до сих пор явлений, открывает нам глаза на следующие загадки, о существовании которых мы прежде даже не подозревали. Так же и с антропным принципом, который усиливает свои позиции в науке тем сильнее, чем точнее мы изучаем реальный мир, поскольку доказывает концентрирование и его неизменных черт (физических постоянных), и очередных этапов космогонии в точке, где возможен биогенез. Тем самым вопрос об «окончательных свойствах мира» перемещается от философии к эмпирии, если мы уже знаем, что мы экспериментально открыли в нем такие черты, при отсутствии которых нас и быть бы не могло. Вопрос получил ответ, словно аверс, реверсом которого является загадка: почему и откуда столь тесная связь скоплений космической безжизненности с жизнью? Так или иначе – это уже не является вопросом, находящимся в ведении философов. В последнее время известный английский космолог и астрофизик Стивен Хокинг сконструировал новую модель Универсума, в котором нет ни начала времени, ни его конца. На самом деле это его время – величина мнимая и тем самым не тождественная этому «обычному» времени, в котором «все» существует. Но это уже совершенно новая и совсем другая история.
Предисловие впоследствии
Если бы некое Всезнающее Существо оказало бы мне милость и решило ответить на три моих вопроса, то эти вопросы звучали бы так:
1. Почему так много базовых свойств Вселенной космогоническо-физического характера, понимаемых как начальные и граничные условия, так однозначно связаны с появлением генетического кода, то есть жизни?
2. Является ли земное дерево эволюции видов крайне редким или все же типичным вариантом многих эволюционных процессов развития во Вселенной?
3. Существует ли все же логически связанная физика, в которой «нормальные» законы природы приводятся в соответствие с закономерностями, существующими в особых условиях – например, внутри черных дыр?
Я сейчас утверждаю, что ответы на мои вопросы, полученные от Всезнающего Существа, должны бы были быть полностью непонятны мне и, соответственно, нам всем, потому что они были бы сформулированы на таком уровне понятий, который не соприкасается с нашим сегодняшним знанием. Каждая историческая эпоха окружена в своей области познания определенным горизонтом понятий и ограничена им. Этот горизонт состоит отчасти из «окончательно признанных на сегодняшний день истин» и из промежутков невежества между ними. Большинство «пробелов», которые мы относим на счет своего невежества и воспринимаем как загадки, которые нужно разгадать, являются скорее последствиями имеющегося несоответствия между вопросами, поставленными нами в виде экспериментов и теорий, и космическими фактами. Таким образом, существующий горизонт понятий должен быть прежде всего разрушен и заново построен из новых понятий, чтобы наше познание пошло дальше.
Или скажем так: познавательно правильное мышление с течением времени превращается в технологию, в противоположность «неправильному» мышлению, которое выходит за пределы реального мира, не замечая этого, и создает фикции вроде философских систем, мировоззрений, мифов и т. п.
Еще одно: есть два вида «фантазий». Одни в конце концов перестают быть «всего лишь фантазиями» и становятся элементом окружающего мира нашей цивилизации. Фантазии второго вида, будь то труды Платона или драмы Шекспира, никогда не покинут сферу нашего сознания, чтобы материализоваться обособленно от всякого мышления.
Но чтобы все же не выглядеть, представ перед Всезнающим, жалким глупцом из-за своего ненасытного любопытства, я бы сократил все мои вопросы до одного-единственного: что имеет смысл, а что является бессмыслицей в речах выдуманного мной Колосса Искусственного Интеллекта, названного «Големом XIV»?
Я достаточно дерзок, чтобы и в отсутствие этого Всезнающего утверждать, что в моих трудах, например в «Големе XIV», заключена определенная доза пророчества. Ибо многое из того, что мои сегодняшние (компетентные в науке) читатели считают гипотезами, которые следует воспринимать всерьез, я придумал пятнадцать или двадцать лет назад, и ход времени превратил мои в то время экстравагантные или гротескные иллюзии в тему для научных разговоров сегодня.
Но сейчас я не могу заговорить с этими читателями на улице, чтобы показать им тексты своих первых изданий. Мою дерзость извиняет только то обстоятельство, что я никогда не думал о каком-либо пророчестве. Я только задавал себе вопросы, на которые никак не мог найти ответов, и из-за этого чувствовал, что вынужден ответить на них сам себе, несмотря на рискованность своего дилетантства. При этом я считаю важным признание в том, что я десятилетиями не знал, что, собственно говоря, заключено в моих книгах. Потому что в начале каждой книги не было четко сформулированных вопросов и тем более заранее предсказанных ответов. Я совершенно интуитивно шел вперед, отчасти серьезно, отчасти шутя, одним словом, это было сооружение архитектора, который строит и строит, без конкретного плана в голове или совсем без готовых штабелей строительного материала на строительной площадке.
Я пишу это «Предисловие впоследствии» не только потому, что оно предваряет сборник дебатов берлинского семинара[76], а еще и с другой, более важной целью взглянуть на труд всей своей жизни.
Пророчество имеет преимущества и недостатки. Так как преимущества банальны, о них я лучше умолчу. В этом отношении важнее недостатки, поскольку они имеют отношение не к конкретному человеку (автору), а к его «стратегической» (когнитивной) позиции. Ведь тот, кто пытается пробиться сквозь окружающий нас горизонт понятий, располагает очень примитивными инструментами: расплывчатыми представлениями, предчувствиями из разряда мечтаний (как известно, существует много мечтаний, содержание которых нельзя передать повседневным языком). Иногда, чтобы сопротивляться существующим в настоящее время взглядам авторитетных ученых, требуются любопытство, мужество и дерзость, даже еще сила воображения. При этом человек находит поддержку в определенных фактах из истории науки и/или думает, что специалисты ошибаются, когда оставляют без внимания существенные, но отдаленные для них области естествознания. В то же время нужно понимать, что нет путеводной звезды с надписью: «Все, что сегодня считается невозможным, завтра будет возможно».
Поскольку это, конечно, бессмыслица. Когда кто-то подобно мне постоянно прыгает из одной области науки в другую, как своего рода любопытная блоха, то в качестве первого правила, которому этот человек должен следовать, само собой напрашивается то, что он должен оставаться скромным в своих познавательных претензиях. Эта скромность касается как данного человека, так и всего человечества.
Я, бедная блоха, тем не менее замечаю, что различные ветви науки – как железнодорожные поезда, которые проносятся мимо друг друга в противоположных направлениях. Квантовая физика «одушевляется», так как она больше не может исключать воспринимающего и принимающего решения наблюдателя из объектной области. В то же время психология отправляется в уже покинутую физикой область, «материализуя», то есть овеществляя, субъективно-духовное (в бихевиоризме).
В сообществе естествоиспытателей, собственно говоря, должна была бы царить депрессия, граничащая с сомнением. Хотя каждый из них, как известно, доказывает, что результаты исследований легко доступны – в принципе, но ведь можно точно вычислить, с какой микроскопической долей этих публикаций можно ознакомиться за 60 или даже пусть 80 лет человеческой жизни. Кроме того, «локальные диалекты» отдельных дисциплин едва ли переводятся друг на друга. Следы некоторой депрессии обнаруживаются, по сути дела, только в философии. На мой взгляд, например, «когнитивный дадаизм» Пауля Фейерабенда, его «анархистский бунт» – это позиция с чертами насмешки, обратная сторона которой – отчаяние. Ведь его лозунг «anything goes»[77] означает, в сущности, что хотя мы и узнаем устройство реального мира довольно точным способом, сам механизм процессов познания нам недоступен. Мы намного лучше знаем, ЧТО мы знаем, чем КАК мы приходим к этому знанию.
Скромность, о которой я говорил, относится к тому, что мы являемся видом животных, снабженным эволюцией самым большим мозгом, но все же этот высоко развитый мозг является лишь «приспособлением для выживания», и его притязания на какой-либо «чистый разум» – недопустимое претенциозное предположение.
А сейчас детально остановимся прямо на главной теме берлинского симпозиума. С точки зрения космологии, физики, химии и прочего, человек, собственно говоря, не должен был бы существовать, так как ДНК-код, возникнув в археозойской эре, в своих начальных и граничных условиях являлся не более чем простым механизмом воспроизводства какого-то протокариота. Так каким образом такой механизм воспроизводства мог держать «наготове» подобный излишек скрытых творческих сил уже на своей начальной стадии, миллиарды лет тому назад? Как он смог породить огромное дерево видов? Не является ли наиболее вероятной гипотеза, согласно которой сформировавшийся в археозойскую эру ДНК-код при продвижении по эволюционной лестнице когда-нибудь приостановится? Единственный имеющийся у него в распоряжении метод проб и ошибок, который сразу не допускает большой перестройки организмов, скоро достигнет своих конструктивных границ и тем самым прекратит дальнейший прогресс.
Одно то обстоятельство, что путь к антропогенезу все еще остается необъясненным, заставляет меня думать, что здесь не может идти речь о единственном главном выигрыше в общей космической лотерее. Этот вывод означает намного большее, чем предположения о каких-то «инопланетянах». Он содержит нечто другое, что, к сожалению, нелегко сформулировать, так как нужные для этого понятия пока отсутствуют.
Задача эволюции состояла, собственно говоря, из двух разных задач. Сначала из «первобытного химического супа» должен был бы выкристаллизоваться «язык, образующий тело». Потом этому «языку» следовало бы утвердиться в широком «спектре видообразования» в качестве «автора» бесчисленных видов растений и животных, в качестве «успешного автора». Но априори задача автора, который владеет уже существующим языком и который должен «только» создать некие произведения на этом языке, является намного более легкой, чем первая задача эволюции. Таким образом, я думаю, что должны существовать такие «производные языки», которые хотя и не могут возникнуть сами из себя, но которые принципиально конструируемы. Нужно такие языки изобретать «извне», обрабатывать, материализовывать в атомарный синтаксис и грамматику, и потом сами они выполнят свою дальнейшую работу. Все, что нам как конструкторам нужно будет сделать, – это дать первые импульсы, примерно так, как заводят двигатель автомобиля с севшим аккумулятором. Ибо, на мой взгляд, все же проще было бы решать только одну задачу, чем одновременно две. Следовательно, «копирование» той технологии, которая была «изобретена» эволюцией, не представляется мне плагиатом. Я думаю не о линейном усовершенствовании сегодняшней техники генной инженерии, которая использует организмы в качестве строительной площадки и ДНК-код, ферменты, нуклеотиды, рибосомы и т. д. в качестве строительного материала. Я думаю о эволюционных молекулярных техниках в других местах спектра всех физически возможных состояний материи. О «молекулярных языках», которые не могут возникнуть спонтанно, так же как пишущая машинка или компьютер, но которые можно собрать «извне».
При этом существуют два опасения: во-первых, человечество может покончить с собой прежде, чем встанет на этот путь. Это вполне возможно, но в то же время совсем тривиально. Во-вторых, есть реальное затруднение, которое может стать непреодолимой преградой: фактор времени. Как известно, течение эволюции было неравномерным. Первоначальные временные затраты при разработке ДНК-«языка» были очень большими: они составили около миллиарда лет, если не больше. Только после этого эволюционный процесс развития смог ускориться. Если эту первую фазу нельзя сильно сократить, то есть если временные затраты должны оставаться настолько большими, мой оптимизм необоснован. Еще нет уверенности, сможет ли идущее после нас компьютерное поколение помочь в области «информационно-эволюционной псевдоязыковой технологии». У мощности компьютера есть физические границы, среди всего прочего в виде уже доказанно существующей преграды – «transcomputability»[78]. Ибо уже известны довольно простые алгоритмические задачи, которые не смог бы преодолеть даже компьютер, сделанный из материала всей Вселенной.
Таким образом, в этой области есть много неопределенности, но я не хочу заранее считать неопределенность поражением. Возможно, если мы создадим из еще неизвестного потенциала изменения материи, являющейся носителем информации и создателем, связку ключей, управляемую нами, ориентированную на цель и развивающуюся, то мы сможем открыть замок будущего, который не является воздушным замком.
Здесь мое предисловие подходит к концу. К сказанному я позволю себе добавить только свою благодарность всем, кто с терпением и большим желанием участвовал в берлинском симпозиуме. Вы полностью заслужили эту благодарность. Если я при этом не называю имен, так это только потому, что в противном случае я должен был бы перечислить всех присутствовавших.
Берлин, апрель 1982 г.
Озарение и мозг
Эту силу ощущал Эйнштейн – ту, которая притягивает людей к храму, склоняет их к молитве, священным танцам и исполнению различных ритуалов. Подобные чувства мы нередко испытываем высоко в горах или на берегу моря. Но что такое эти чувства? Присутствие ли это Бога, прикосновение трансцендентного, или же мистический эквивалент так называемого дежавю, проделки нашего разума?
Этим вопросом открывается статья в «Нью саентист», где речь идет об исследованиях Эндрю Ньюберга, специалиста в области нейрофизиологии из университета Пенсильвании в Филадельфии. Ньюберг занимается биологией религиозных явлений. Он признает, что как ученый он понимает странность своих исследований. Ему часто задают вопрос, является ли он сам человеком очень религиозным или скорее циником, который поставил перед собой цель доказать, что Бога нет. Ученый, однако, открещивается от подобных категорических определений.
Ньюберг, собственно говоря, на основе религиозного опыта изучал эмоциональные реакции, одинаковые для представителей разных конфессий. Речь идет о чувстве общности со Вселенной, которое так восхищало Эйнштейна, а также о восторге, который сопутствует религиозным проявлениям и благодаря которому подобные моменты становятся важнейшими минутами в нашей жизни.
Были выбраны восемь буддистов, которые согласились подвергнуть свой мозг изучению. Техник ввел им в вену тонкую трубочку, а затем в одиночестве и абсолютном покое они погрузились в медитацию, концентрируясь на каком-нибудь особенно близком для себя религиозном символе. Тем временем испытуемым через трубочку впрыскивалось в кровь небольшое количество радиоактивного вещества. Его концентрация в мозге, установленная благодаря компьютерной томографии, указывала на область с наибольшим кровотоком, а значит, наиболее активную во время медитации. Позже ученые сопоставляли полученные результаты с результатами активности мозга, когда участники опыта не предавались религиозным упражнениям.
Не явилось неожиданностью то, что во время медитации особую активность демонстрирует участок мозга, отвечающий за концентрацию внимания. Была установлена также особая активность части теменной доли в левом полушарии. Оказалось, что речь идет об области, в которой формируется разделение между личностью и всем тем, что ею не является. Говоря более пространно, левое полушарие отвечает за воспроизведение осознавания нашего тела, зато правое более сосредоточено на контексте, то есть на окружении, в котором мы находимся. У медитирующих усиливалось чувство отключения от мира, которое отрезало их от звуков и зрительных сигналов, облегчая другой вид контакта – хотя неизвестно, с чем. Эксперимент повторили с участием монахинь из ордена св. Франциска. Монахини молились вслух, и таким образом их внимание концентрировалось скорее на словах, чем на символических образах, как было в случае буддистов, и их мозг показывал активность участка, отвечающего за речь. Однако, так же как и буддисты, они отключились от остального мира.
Ощущение единения со Вселенной не только свойство, присущее религиозному опыту. Также оно имеет весьма сильный эмоциональный подтекст. Чувство восхищения и почитания, озарения, или illuminatio, рождается, как утверждают специалисты, в области мозга, удаленной от теменных долей, называемой emotional brain – мозг, определяющий эмоции. Речь идет о лимбической системе, покоящейся в глубине обеих височных долей. Она вступает в действие в случае особо значимых, аффектно переживаемых ситуаций, например, если неожиданно увидеть лицо собственного ребенка. Во время интенсивных религиозных служб лимбическая система становится необычайно активной. Поэтому люди, которые испытывают подобные ощущения, обычно затрудняются их описать. Вербально, зрительно или эмоционально мы можем передать только их внешнее проявление, которое ненамного отличается от повседневного опыта, а самую существенную часть переживаний – это ощущение радостной гармонии, передать невозможно.
Необычайно яркие ощущения возникают и у людей, страдающих височной эпилепсией. Достоевский говорил о «прикосновении Бога», которое он ощущал перед приступом. А наступлению болезни Альцгеймера часто сопутствует постепенное угасание религиозных интересов; у таких больных лимбическая система разрушается. Стимулирование лимбической системы позволяет выяснить, почему различные религии в значительной степени опираются на разнообразные ритуалы – утверждает Ньюберг. Церемониальные движения, литургия, музыка – все, что отличается от повседневной активности, помогает усилить религиозные чувства.
Чувство отстраненности очень близко к личному ощущению присутствия Бога. Существует такой ученый по фамилии Персингер, который считает, что, собственно говоря, каждый может встретить Бога, нося специальный шлем, создающий так называемую трансчерепную стимуляцию (transcranial stimulation). Самые обычные люди обретают тогда сверхъестественный опыт. Наилучшие результаты дает слабое магнитное поле с напряженностью в одну микротеслу. Оно активизирует височные доли, и из пяти исследуемых человек четверо ощущают присутствие кого-то невидимого. Конкретный образ, возникающий у данного типа людей, зависит от его индивидуальных особенностей и веры. Если у кого-то, например, недавно умер очень любимый человек, у него возникает ощущение его присутствия.
Персингер, который придумал этот шлем, сам испытал его действие и утверждает, что чистота эксперимента была снижена тем фактом, что он знал, каким образом функционирует все оборудование. Разумеется, представляется затруднительным сравнивать ощущения Персингера с опытом верующих людей, речь идет о вещах похожих, но не тождественных. Представитель верховного раввина Лондона сравнивал это чувство с воздействием галлюциногенных наркотиков.
Следует подчеркнуть, что наша лимбическая система сформировалась в очень давние времена и относится к наиболее древней части мозга с точки зрения его эволюции. Благодаря ей мы способны переживать ощущения, недоступные другим живым существам. То, что находится в мозге, очевидно не является Богом. Интерпретация нашего знания зависит от специфики веры, которую мы исповедуем. Вера является не частью эксперимента – это результат влияния культуры, в рамках которой личность развивалась.
Можно только сказать, что в процессе эволюции биология открыла нечто такое, что определяет множество наших ощущений относительно Вселенной. Является ли это доказательством того, что мы едины с Богом или Космосом? На этот мучительный вопрос нет однозначного ответа. В издании Американского общества атеистов в Нью-Джерси написано: нет, речь идет только об одном из видов мозговой активности. Но верующий человек скажет: это очевидно, наш мозг может испытывать такие состояния, ведь он был соответствующим образом создан Богом.
Один из экспертов привел такой пример: сонеты Шекспира можно трактовать как некую комбинацию движений пера и целлюлозы. Можно также принимать их за голос великого духа – и это тоже будет правдой. Существуют различные объяснения, каждое из которых справедливо по-своему, однако вместе они не дают однозначного ответа. «Мы только проводим эксперименты, – объясняет Ньюберг. – Зато их толкование лежит уже за пределами человеческого опыта». Нам необходим не только научный, но и более субъективный, личностный взгляд на явления, чтобы понять их природу. Мозг является приемником, наука может изучить принципы его функционирования, но не сможет ответить на вопрос, что он, собственно, принимает.
Искусственный интеллект
I. Искусственный лепет
Дуглас Хофштадтер совместно с группой специалистов, увлеченных конструированием искусственного интеллекта, написал книгу, насчитывающую более пятисот страниц, которую я в меру тщательно пролистал[79]. Труд этот, полный глубоких рассуждений, основанных, разумеется, на анализе колоссального количества работ, пытающихся наделить компьютеры интеллектуальными способностями человека, изрядно меня измучил. Поэтому, чтобы ознакомиться быстрее, я сразу обратился к последнему разделу, рассчитывая, что в нем окончательно и ясно представлены возможности организации разума в машине. Увы, квинтэссенция этого толстого тома представляет все еще очень отдаленное будущее, в котором интеллект, сформированный из электронных элементов, станет действительно неотличим от того обычного, который имеется у нас в головах.
На полях этого кропотливого труда, который по сути является антологией, объединяющей достижения множества ученых, могу отметить, что давно, лет сорок назад, мне уже представлялось, какой может быть дорога в направлении искусственного интеллекта. Я считал, что очередные этапы приведут в конечном счете к такой имитации души в машине, которую все труднее будет отличить от человеческого опыта, или, говоря немного иначе, что в соответствии с главной тенденцией, господствующей в нашей технологии, которая заключается в стирании различий между искусственным и естественным, – мысли живая и сымитированная почти соприкоснутся.
Уже не представляет серьезных трудностей запрограммировать для компьютера как синтаксические правила, так и богатый словарный запас. И как бы параллельно появились попытки публикации текстов, будто бы созданных компьютерными программами. Действительность, впрочем, прозаична. Компьютер сумеет создать формально безупречную бессмыслицу, из которой человек, следящий за печатаемым результатом, сможет извлечь более или менее осмысленные фрагменты текста, будто изюм из булки. При этом остается характерной своего рода безнаправленность псевдоповествования, напоминающего пьяницу, который, шатаясь, бредет неведомо куда. В текстах такого рода, бездушно выдаваемых машиной и выборочно отсеиваемых человеком, не прослеживается ни единой путеводной мысли или хотя бы сюжетного хода.
Несколько лучше обстоит дело с машинными рисунками, или с фрагментами музыки, или даже достаточно простыми математическими доказательствами, которые удаются неплохо, поскольку залогом их успеха, как правило, является логичный и жестко формализованный порядок. Однако все то, что действительно свидетельствует о нашей интеллектуальной жизнедеятельности, то есть цель разговора, направление мысли, ее смысловая ясность и, прежде всего, поддающийся определению способ управления волей, во всех этих искусственных продуктах отсутствуют. Стоит обратить внимание, что уже сорок лет назад была реализована программа, которая с успехом (даже у психиатров) подражала типичному способу мышления параноика. Ибо его мышление сильно ограничено из-за нарушений монотематического центра.
Одна из первых программ, подражающая человеческому разговору, спроектированная профессором Вейзенбаумом и названная «Элизой», умела неплохо вводить в заблуждение многих простодушных собеседников. Суть именно в том, что если кто-то с нами разговаривает, мы непроизвольно готовы принять его за человека. На этом фоне может возникать так называемый «эффект Элизы», который сводится к приписыванию фразам, в действительности бессмысленным, некоей, может и не совсем понятной, разумности. Впрочем, каждый, кто имел дело с современными поэтическими текстами, лишенными всякой взаимосвязи, насыщенными неоднозначными ассоциациями, отдает себе отчет в том, как иногда трудны и даже бесплодны усилия по их пониманию. Поэтому немного парадоксально, но человек, который не позволяет языковому тексту идти прямой дорогой, непроизвольно придает хаотичным фразам такой смысл, который в них, скорее всего, отсутствует. Механические сочинения могут отвечать нашим требованиям восприятия благодаря тому, что у нас остается неосознанное предположение об их человеческом авторстве. Таким образом, имитации плодов разума изобилуют множеством препятствий в реализации и распадается не только на проблемы пассивной, без сомнения, машины, но также и на проблемы, связанные с нашим активным и неустанным стремлением к пониманию всякой, хотя бы и мельчайшей, частицы мира.
II. Модели и действительность
В первом издании моей книги «Сумма технологии», которую сегодня я охотно назвал бы путеводителем по возможностям будущего, среди прочих имеется раздел под названием «Модели и действительность». Если говорить очень обобщенно, речь шла о замене экспериментальных работ их имитацией, как можно более достоверной с прогностической точки зрения и тем самым способной заменить тяжкий труд исследователей. То, что сегодня называется «моделированием».
Развитие информатики открыло в этой области совершенно новые возможности. В работах по мирному и военному использованию атомной энергии компьютерное моделирование уже позволяет почти полностью отказаться от реального испытания ядерного оружия посредством серий взрывов на полигонах, как это делалось ранее. Во многих разнообразных областях исследовательской лабораторной практики также осуществляется моделирование, касающееся, например, явлений микромира, и, в особенности, возникновения и сохранения элементарных частиц. Вероятность достижения успеха, то есть точного виртуального открытия того, что при принятых предпосылках может произойти реально, в целом высока.
Однако это не значит, что мы сумеем с заменяющим или опережающим эффектом моделировать все. Областью, в которой моделированием действительности достичь чего-либо почти невозможно, является мировая арена политических событий. Впрочем, при написании упомянутой книги я не сомневался, что будет именно так. Действительно, можно сказать, что политическое будущее мира наиболее непредсказуемо – особенно если измерять его величиной несоответствия между какой угодно ожидаемой действительностью и реально происходящими переменами. Политические события глобального масштаба, как, например, распад советской империи, вообще нельзя было осмысленно предвидеть, несмотря на то, что многочисленные данные свидетельствовали, что бетон Советов крошится по мере продолжающегося состязания с Западом.
Зато в неполитических сферах, таких как астрофизика с ее космонавтикой, в физике, экологии, геологических исследованиях, а также в случаях, когда необходимо представить, как выглядело далекое прошлое нашей планеты, – имитация ключевых процессов отличается большой достоверностью. Однако это не означает, что мы достигли такого уровня моделирования, что благодаря ему сумеем очень точно распознавать различные состояния микро– и макромира. Эффективность процедур моделирования увеличивается неравномерно. В тех же вопросах, когда невозможна подробная исходная квантификация, не может быть даже и речи о компьютерном моделировании. Так обстоит дело, например, в биологии во главе с медициной. В этом направлении возможны были только обобщенные предвидения, из которых одни исполнились лучше, а другие абсолютно не оправдали надежд.
Следует заметить, что процесс проектирования и создания искусственного интеллекта также не удалось промоделировать. Как следствие, возникшая в середине прошлого столетия уверенность первого поколения кибернетиков, что их вычислительные машины скоро достигнут возможностей человеческого мозга и даже их превысят, оказалась ошибочной. В настоящее время появилась как бы противоположная тенденция относительно намеченной ранее цели наделения машины разумом. Я, правда, допускал, что так будет, но не думал, что это направление приобретет такие масштабы, как, например, в компьютеризации американского образования. Становясь зависимыми от информационных систем, которые сегодня в состоянии реализовать программирование, интеллектуальное развитие учеников в некоторой степени снижается, так как дети учатся пользоваться компьютером в ущерб обычному человеческому умению писать и понимать.
В общем стоит сказать, что достоверность моделирования зависит от того, действительно ли реализующие его программы охватывают все существенные исходные и граничные условия исследуемого процесса. Поскольку зачастую эти стартовые предпосылки недостаточны либо ошибочны, бывает и такое, что ученых могут поджидать неприятные сюрпризы при моделировании, уже достигшем промышленного масштаба. Вероятнее всего, область применения компьютерного моделирования будет расширяться. Но мы должны ожидать здесь скорее сотрудничества, чем того, что оно позаимствует роль человека. Вопрос, возникнет ли когда-нибудь модель человеческого разума, достойного называться гениальным, остается открытым[80].
Бессмертие
I
Статью Дэвида Игнатиуса в «Интернэшнл геральд трибюн» название которой в свободном переводе звучит «Наука дает надежду на бессмертие» («Science is Warning to Intimations of Immortality» – «International Herald Tribune», 9.03.1999), открывает такой вопрос: что будет причиной смерти через сто лет? Если вам кажется, что ответ очевиден, то вы недооценили революцию, происходящую в биотехнологии. Основной причиной смерти в недалеком будущем станут несчастные случаи, убийства или войны!
В XXI веке, в результате развития «регенеративной медицины», человеческое тело сможет существовать очень долго. Смертельные сейчас недуги – болезни сердца, злокачественные опухоли, болезнь Альцгеймера и даже сам процесс старения – станут для нашего вида лишь грустными воспоминаниями.
До сегодняшнего дня ученые были уверены, что клеточный материал, из которого построены наши тела, должен изнашиваться. Несмотря на успехи в лечении злокачественных опухолей или болезней сердца, человек не может жить дольше 120 лет, и потому мысль о бессмертии перемещала человека в потусторонние миры, что нашло отражение в различных религиях. Биотехнологи, однако, утверждают, что новые достижения медицины расширят существующие сегодня границы жизни. Согласно опубликованным прогнозам, во второй половине XXI века медицина достигнет такого прогресса, что люди смогут получать порции материнских клеток, способных восстанавливать различные органы. Эти клетки, по биологической терминологии тотипотентные, находятся в оплодотворенной яйцеклетке, и из них формируется единый живой человеческий организм.
Уильям Хаселтайн, ученый, руководитель фармакологической биохимической лаборатории в Бостоне, представляет дальнейший путь развития медицины в направлении достижения бессмертия человека. «Сегодня, – говорит он, – мы научились заменять изношенные коленные или бедренные суставы, но в XXI веке станет возможным производство копий человеческих органов с использованием материалов, формирующих органы с точностью до атомной совместимости». Перечень таких микропротезных приспособлений весьма обширен: от искусственных вен до сетчатки глаза и даже – искусственной памяти, хранящейся в чипах, аналогичных нейронам мозга. Начало этого будущего можно увидеть в Роквилле, где биотехнические компании размножаются со скоростью колоний бактерий. Компания господина Хаселтайна, «Human Genome Sciences Inc.», использует конвейер под управлением роботов, что превращает старую биологическую лабораторию в современное производство. В одном крыле здания шеренги машин занимаются «расшифровкой» нуклеотидных спиралей человеческого генома. К настоящему времени уже исследовано два миллиона генных фрагментов, а из них выделено 120 тысяч разных генов. Среди них имеются «сигнальные молекулы», стимулирующие рост, обмен или смерть других клеток, и, следовательно, обладающие особыми свойствами как потенциальные лекарства.
В заключение статьи автор пишет, что одновременно прекрасно и удивительно представить достижения науки, способные изменить и даже уничтожить самый основополагающий процесс существования человека – процесс старения (сенилизации). На этом пути еще множество препятствий, которые нужно преодолеть, но руководитель биотехнических предприятий утверждает, что впервые мы можем представить себе бессмертие человека.
Вышеизложенные надежды берется подтвердить престижный научный журнал «Саентифик америкэн», в апрельском номере за 1999 год которого большинство статей посвящено зарождающейся тканевой инженерии, делающей возможным выращивание новых органов, таких как сердце, желудок, почки, которые развиваются в искусственной среде из клеток, взятых в первую очередь из так называемых эмбриобластов. Пока об этой тканевой инженерии только пишут и лишь начинают экспериментировать, но если она двинется вперед с ускорением современной науки, можно будет сказать, что далеко в будущем, в конце этой дороги, появится призрак человеческого бессмертия, о котором дерзкие перья американских журналистов уже сегодня расписывают на страницах прессы, предвещая нам достижение индивидуального бессмертия.
Все процессы, составляющие изложенную выше биотехнологическую картину, можно свести к замене изнашивающихся элементов организма новыми. Проблема состоит в том, что каждая жизнь, и не только человеческая, имеет фундамент в виде множества процессов, необратимых во времени, которые одновременно являются мотором, движущим эволюцию. Уже новорожденный, приходя в мир, несет в себе видимые для специалиста признаки будущей смерти. Поэтому нам очень трудно представить себе поворот вспять течения нормальных метаболических процессов, что открыло бы нам дорогу к бессмертию. Если бы такая идея могла реализоваться, это означало бы, по моему мнению, величайший триумф человека – победу над основными законами эволюции.
II. Старость по-прежнему не радость
Довольно большое количество исследователей, занимающихся потенциальными возможностями генетической биологии, выражают уверенность, что как создание запасных органов для человека, так и продление средней продолжительности жизни до ста лет находится в области наших реальных возможностей. Уже говорят о проектах технобиологических устройств, называемых искусственными матками. Имеются даже оптимисты, уверяющие, что на границе медико-биологического прогресса виднеется реальное бессмертие человека.
Перспектива выращивания человеческих органов представляется правдоподобной, однако очевидно, что эффективная борьба со смертью невозможна. Специалисты-медики знают, что процесс биологического старения организма, который проявляется в изменяющейся с возрастом структуре мускулатуры, начинается еще до 25-го года жизни.
Все полосатые мышцы состоят из двух видов волокон, из которых одни более короткие и способны сокращаться в быстром темпе, в то время как другие, значительно длиннее, работают дольше и медленнее. Как выявили сравнительные исследования бегунов, марафонцы обладают, как правило, большим количеством волокон, работающих устойчиво и медленно, зато у спринтеров противоположная пропорция. С возрастом у всех людей неотвратимо – ибо задано генетически – в мускулатуре происходят процессы детериорации, то есть постепенной атрофии – потери мышечной массы, при которой медленно сокращающиеся волокна начинают доминировать над волокнами, быстро сокращающимися.
Стареющий человек может замедлить потерю мышечной массы, но не может ни остановить этот процесс, ни изменить ухудшающуюся с течением времени пропорцию между медленными и быстрыми волокнами. В 80-летнем возрасте мускулатура человека составляет примерно 50 процентов от ее состояния полувековой давности. Очевидно, что проблема снижения двигательной активности, хорошо известная как так называемое старческое одряхление, не следует только из потери объема мускулатуры, потому что в некоторой степени параллельно происходят процессы торможения в центрах нервной системы, заведующей динамикой и статикой человеческого тела, которыми управляет мозг, координатором же движений является мозжечок. Одновременно происходит большое количество других ухудшений в функционировании организма.
Однако следует подчеркнуть, что сегодня медицина по крайней мере не отождествляет старение и старость с болезнью. Весь жизненный процесс, начиная с зачатия, и далее проходящий через эмбриональный, младенческий, детский период созревания, зрелый возраст и заканчивающийся старостью, – генетически запрограммирован у всех без исключения многоклеточных организмов, к которым, безусловно, относится и наш вид.
Предсказание небывалых успехов в вопросах продления жизни свидетельствует об элементарном невежестве в области биологии. Когда-нибудь органы, без четкого функционирования которых нельзя жить – сердце, почки, печень, поджелудочная железа и т. п., – действительно удастся заменять новыми, выращенными путем клонирования и накопленными в банках человеческих органов. Как-нибудь можно будет задерживать склеротизацию сосудистой системы и ухудшение нейронной структуры мозга, но, однако, речь всегда будет идти только о притормаживании в основном неотвратимых процессов.
Продление фазы поздней старости представляется, однако, менее желательным, чем обеспечение как можно более длительного существования организма в период полноценной зрелости. Зато мысль, что удастся продлить жизнь человека до каких-нибудь 200 лет, является абсурдом, потому что такого рода перемена потребовала бы полной перестройки нашей наследственной субстанции, что было бы равнозначно ликвидации вида Homo sapiens в таком воплощении, в каком его сформировала естественная эволюция на Земле.
Между видами имеются значительные различия в длительности жизни, и причины этого еще не очень хорошо выявлены. Мы, собственно, не знаем, почему крокодилы живут сто лет, лошади двадцать, а собаки только полтора десятка лет. В мире растений мы сумеем указать на представителей мафусаилового возраста по нашим меркам; к ним принадлежат американские секвойи – великаны, достигающие возраста 300 лет. Но что привело к такому большому разнообразию в вопросе продолжительности жизни – этого мы еще не можем определить.
III. Продление жизни: иллюзии и факты
Фрэнсис Фукуяма, отличающийся всесторонней некомпетентностью, особенно в излюбленных им темах, не разочаровывается, постоянно попадая пальцем в небо. По профессии он что-то вроде самозваного футуролога, которые, как известно, страдают полной амнезией в области широкого диапазона своих ошибочных предсказаний. И вообще ошибки не расхолаживают их страстного увлечения прогнозами.
Уже в названии эссе Фукуямы «Продление жизни»[81] есть противоречие, поскольку тот факт, что мы живем дольше, чем, например, наши пещерные предки, ни в коей мере не следует из дарвиновского естественного отбора. Практически мы почти не отличаемся от них набором наших генотипов, а главная причина того, что пещерные люди в среднем не доживали до тридцати лет, а мы в относительно благополучных странах доживем до семидесяти – это разница в социальных и биологических условиях. Потенциал биологического существования у наших протопластов в основном был такой же, как и у нас. Однако же их жизнь прерывали причины, с какими сегодня в основном мы сумели справиться. Ведь до XIX века никто не имел понятия о существовании бактерий, и окружающая наших предков жизненная среда действительно отличалась от нашей во многих отношениях. Они становились жертвой хищников, климатических изменений, а также антисанитарии. Они считали, что отданы на милость и немилость богов, волшебников, сглаза и всех тех таинственных сил, в которые они верили так упорно и долго, что из этих ошибочных представлений даже родились древние мифы. Одним словом, первобытные люди, также как люди эпохи Античности и Средневековья, относительно собственных жизненных процессов были полными невеждами.
Прогресс в наших знаниях терапии и профилактики, или – одним словом – в медицине в широком понимании, постепенно способствовал продлению жизни не посредством изменения управляющих ею генов, а только благодаря противодействию факторам, которые сокращают срок жизни, заданный наследственным потенциалом. Потому что этот потенциал, детерминированный устойчивостью наследственной плазмы, не изменяется тысячи лет, а в оптимальном темпе эволюционных перемен – многие сотни тысячелетий, но чаще – миллионы лет. Я сам могу служить почти классическим примером продления жизни как следствия прогресса в современной терапии, поскольку мой отец умер из-за болезни сердца, не дожив до семидесяти четырех лет, я же перешагнул уже восьмидесятилетний рубеж.
Не изменения генов, а современная фармакология и терапия делают возможным продление жизни людям, зачастую достигающим в таких странах, например, как США, девяноста лет. Именно эта совокупность процессов является причиной старения населения богатых стран, а именно Запада, и приносит известные нам уже сегодня перегрузки так называемой системы социальной защиты. Зато возможность вмешательства в наследственную субстанцию или наше освоение так называемой генной инженерии в отношении к людям все еще остаются очень скромными. Толстые тома, рассказывающие о достижениях современной медицины, с течением времени все больше увеличиваются в объеме, поскольку спасающие жизни врачебные вмешательства, включая хирургические, часто даже превосходят ожидания прошлого столетия. Однако опыт учит нас, что принципиально подлежит продлению не детородный период обоих полов, а, прежде всего, наступающий после него период детериорации, обычно называемый старением. Отрасль медицины, известная как гериатрия, также дает возможность продлевать старость, но границей является возраст порядка ста лет. Продление старости за пределы этой условной границы было бы во всех отношениях вредно для общества, поскольку вся огромная тяжесть поддержки немощных старых людей легла бы на сокращающееся число работоспособных молодых. Поэтому Фукуяма напоминает об этой опасной перспективе, но, главным образом, в ее социологическом аспекте. Зато цитируемые им оптимисты, или генетики, в своих высказываниях достигшие уже почти человеческого бессмертия, принципиально ошибаются. Американец Хаселтайн, представляющий нам картину вечной земной жизни, не воспринимается профессиональными биологами.
С некоторым преувеличением можно сказать, что почти все органы нашего тела могут быть заменены, и не только благодаря трансплантации, но и посредством введения материнских клеток, с одним исключением: если бы даже можно было на место старого мозга поставить в черепную коробку старика новый мозг, по сути, мы совершили бы скрытое убийство, поскольку идентичность сознания старика была бы уничтожена, замаскирована новым «пустым» мозгом. В перспективе ближайших ста или двухсот лет не будет недостатка в возможных усовершенствованиях головного мозга, но информационный объем тканей, фиксирующих полученную информацию, непременно должен быть ограничен. Издавна хорошо известная возрастная неустойчивость кратковременной памяти, дающей нам возможность сиюминутной ориентации, может быть изменена, в отличие от постоянной памяти. На эту тему сейчас ведутся не только теоретические рассуждения. Однако, чтобы человек мог переступить порог сто двадцатого года жизни, следовало бы, несомненно, удалить у него значительную часть памяти, отвечающую за сохранение личной идентичности. Распространенные мнения о значительных резервах, или пустых областях, нашей памяти, которые будут заполнены в будущем, это безответственные фантазии для каждого, кто мало-мальски ориентируется в хранящей информацию архитектуре человеческого мозга.
Наверняка можно себе вообразить настолько продуктивные операции генной инженерии, что благодаря им можно было бы создать более вместительный мозг, чем наш, но бо́льший мозг, естественно, означает большую черепную коробку, бо́льшая же черепная коробка требует расширения родового канала у женщин, что невозможно сделать без серьезного изменения костного состава таза; это же, в свою очередь, привело бы к преобразованию значительных частей человеческого скелета. Это представляется тем более нежелательным потому, что построение «нового человека» потребовало бы применения метода проб и ошибок, который стоит в радикальной оппозиции к медицинской деонтологии[82]. Ведь первым ее принципом является primum non nocere[83]. Разумеется, я даже не касаюсь в этих кратких замечаниях законодательных аспектов при проведении пренатальных исследований для удаления на самой ранней стадии развития зигот, проявляющих патологические изменения. Значительную часть таких зигот организм оплодотворенной женщины удаляет сам, без ее ведома. Однако существует очень много признаков дефектного строения генотипа, которые не производят подобный отсев.
Краткое подведение итогов мечтаний о вечной бренности нашей жизни можно выразить следующим образом: человек, возникший в процессе естественной эволюции, смертен и за редкими исключениями не может преодолеть барьера столетнего возраста. Его могло бы преодолеть какое-нибудь существо, спроектированное генинженерами в процессе не существующей даже в общих чертах автоэволюции, но это был бы уже совершенно другой вид разумного существа. В целом же добавлю, что справедливо требуемая всеобщая свобода слова должна быть ограничена условием, что о проблемах, требующих действительно профессиональных знаний, можно говорить только хорошо подготовленным экспертам.
IV. Будем ли жить дольше?
Сейчас лето – мертвый сезон, но в последнее время почти не обращают внимания на время года. На страницах прессы, причем не ежедневной, а научно-популярной, появляются заявления ученых, которые не скупясь обещают значительное увеличение продолжительности жизни человека, в исключительных же случаях даже авторитетно предрекают новую эру – эру бессмертия. Действительно, мы живем в эпоху запасных частей, к которым также принадлежат такие важные человеческие органы, как сердце, почки, печень или бедренные суставы. Имеются примеры, когда приверженцы значительного продления жизни создавали специальные хранилища, накапливая почти все, что может быть естественно пересажено или искусственно протезировано. Характерным является то, что авторы таких сенсационных заявлений, зачастую дипломированные, сами не пожилые люди. После активного распространения своих вздорных идей, которые, как правило, встречают доброжелательный интерес публики, они без шума сходят со сцены, то есть исчезают бесследно. Особо раздражают уверения о возможности удвоения срока средней продолжительности жизни, представляемого как достаточно реалистическое. Отдельные органы действительно можно пересаживать, но ведь есть один, который никоим образом заменить не удастся. Я имею в виду мозг. Как можно узнать из любого современного учебника по нейрофизиологии, именно в мозге происходят почти все процессы, решающим образом оказывающие влияние на нормальное функционирование нашего тела и нашей психики. Однако мало кто отдает себе отчет в том, что мозговые центры, управляющие как симпатической, так и парасимпатической нервной системой, ведают даже такими мелочами, как потливость отдельных участков кожи или темп роста и биохимический состав наших ногтей.
Если даже предположить, что замещение старого мозга новым возможно, это означало бы просто создание совершенно другого человека вместо прежнего владельца этого органа. Поэтому такая процедура, как исключительно фиктивное продление жизни, была бы не только напрасна, но и представляла бы собой нечто вроде убийства, совершенного в отношении оперируемого. Новый мозг должен стать источником новой субъективной тождественности. Несмотря на это, статьи, представляющие возможность замены всех вышедших из строя органов, появляются непрестанно и обещают нам, смертным, выдуманный заменитель почти-бессмертия.
Во что верит тот, кто не верит?
I (17.01.2001)
Подтверждая получение письма от ксендза[84] с содержащимся в нем вопросом «Во что верит тот, кто не верит?», отвечаю следующее.
Согласно «Большому варшавскому словарю»: «верить» – это то же самое, что «исповедовать какую-либо религию». Таким образом, семантически неизменная трансформация поставленного ксендзом вопроса внешне противоречива, как значащая только то, какую религию исповедует тот, кто не исповедует никакой. Указанное противоречие освобождает меня от ответа, поскольку заданный вопрос приблизительно равен следующему: «Как существует то, чего не существует». В моем понимании логика обязательна в той же степени для сторонников различных вероисповеданий, как и для атеистов, поэтому, собственно говоря, на этих словах я мог бы закончить свой ответ. Однако могу добавить, что я впитываю огромное количество убеждений, уверенностей, предположений, догадок, гипотез и даже ряда предсказаний будущего, но все это касается исключительно бренного существования, поскольку я отрицаю любую форму трансценденции.
Я не принадлежу к так называемым воинствующим атеистам, тем, кто занимается, например, поиском неудобоваримых кусков в Священном Писании христиан. Я не намерен также убеждать сторонников какой-либо религии, что, служа ей, они бесполезно тратят жизнь, но если мне задают вопрос таким образом, как это сделал ксендз, то я отвечаю, соглашаясь с Колаковским: «Религия – это способ, при помощи которого человек воспринимает жизнь как неизбежное поражение». Что же касается моих убеждений, выходящих за рамки беллетристики, я представил их в ряде книг, к чтению которых ни в коей мере не смею призывать ксендза-редактора.
II (30.01.2001)
Раз уж ксендз воспринял мой ответ как уклончивый и при этом сообщил, что мои небеллетристические книги имели честь оказаться в его библиотеке, – попробую ответить тем способом, который выражает мои убеждения, но не мою веру. Согласно моим убеждениям фронт так называемого технобиотического развития, расширяющийся все быстрее и быстрее, будет угрожать основам любой религиозной веры. Разумеется, каждая конфессия может и будет защищаться ссылками на известные, снимающие противоречия заявления вроде «credo, quia absurdum est» или «quia impossibile est»[85]. Я допускаю, что появится сложный на сегодняшний день для определения пограничный порог аккумуляции данных, исходящих из нашего опыта, который сделает весьма затруднительным удержание веры в доброжелательном – главным образом – объеме трансценденции. Модели граничных процессов такого рода, которые размывают основы верований, высказанные с сатирической эмфазой, можно найти, например, в «Двадцать первом путешествии» в моих «Звездных дневниках». Такие критики, как Ежи Яжембский, довольно точно осуществляли небеллетристическое толкование содержащихся в названном тексте смыслов.
Правда, картины такого рода борьбы, то есть эмпирического наступления и конфессионной обороны, я изображал гротескным образом. Правда также, что я считаю биотехническое ускорение, уже направленное на человека, большой угрозой, поскольку перед нами возникла вероятность разрушения биологических основ нашего вида. Стивен Хокинг недавно объявил автоэволюционное изменение нашего вида почти обязательным в секулярном измерении. Хронометров, определяющих такого рода изменения hominis sapientis[86], нет. Однако же ускорение возрастает, из генетики родилась геномика, из геномики – протеономика, и научная периодика обрушивает на меня потоки информации, перед которой очень трудно устоять. Дело в том, что мы никак не влияем на темп вторжений в субстанции человека – как и на любой автокаталитический процесс большого масштаба. То, что я считал возможным, происходит скорее, чем я мог себе это представить как обычный представитель вида homo. Мысли на эту тему рассеяны в различных моих текстах, которые создавались не на пороге эры опасных триумфов биотехнологии, а во времена безразличного молчания, то есть фактически в вакууме. Это значит, что осуществившиеся предсказания не вызывают у меня удовлетворения.
III (01.02.2001)
В завершение предыдущего письма ксендз написал: «Я был бы искренне рад, если бы Вы захотели кратко изложить причины несостоятельности веры тем людям, для которых именно вера является основой надежды». Благодаря переписке с ксендзом я понял, что имею дело с человеком благородным и разумным. Однако исполнение высказанного им желания невозможно. Почему? Как известно, Эйнштейн в первый раз получил Нобелевскую премию не за теорию относительности, ибо наверняка она казалась для шведской Академии слишком фантасмагоричной, а за объяснение броуновского движения. Оно обосновано математически, поэтому если бы кто-то спросил о нем или самого Эйнштейна, или же другого компетентного в данном вопросе эксперта, и рассчитывая, что ответ будет «изложен кратко», он услышал бы примерно такое: «нечто крошечное все время хаотично движется».
По проблеме, затронутой вами, мириады томов написаны, мое же убеждение о не существовании конфессионно определенной трансценденции словно изначально было продиктовано мне каких-то семьдесят лет назад в виде своего рода равнодушия к вопросам религии. И это первоначально довольно примитивное и наивное юношеское равнодушие преобразовывалось в ходе последующих семидесяти лет моей жизни в информацию, которая подтверждала его, углубляла и усиливала. В переносном смысле я могу сказать, что все, чему я учился (по образованию я не гуманитарий), только цементировало мою уверенность в том, что любое существование, любое бытие, имеющее начало, имеет также конец. Я понимаю это таким образом, что после моей смерти со мной будет точно то же самое, что было перед моим рождением. Я также считаю, что эта бренность космически универсальна. Огромные потоки, если не сказать – потоп данных, подтверждающих это принципиальное убеждение, мы можем наблюдать на всем пути своего существования. Какая-то их часть, допускаю, нашла отражение в нескольких десятках написанных мною книг. Поскольку ни эти книги, ни опыт своей жизни я не могу кратко сформулировать, то и не могу, несмотря на величайшее желание, удовлетворить просьбу ксендза. Отмечу только, что, как я написал уже в первом направленном ответе: атеизм мой не является воинствующим по отношению к какой-либо вере, причем я считаю, что все сосуществующие религиозные верования равноправны. Допускаю, что если бы ксендз родился на Тибете, то стал бы буддийским монахом, но, разумеется, у меня нет никаких данных для подтверждения вышеприведенной экстраполяции. В определенном, как я считаю, глубоком смысле человек в целом верует или не верует. Я не верую.
IV (02.02.2001)
Вы не можете себе представить, как меня огорчило ваше письмо от первого февраля, поскольку последняя роль, на какую я бы претендовал, это advokatus diaboli[87]. Ясное дело, я отдаю себе отчет в том, что было бы с моей стороны плохой шуткой, если бы я пытался завуалировать доставленное вам разочарование. Однако, рискуя показаться глупцом или же стать посмешищем, скажу, что огромное расстояние отделяет веру от неверия. Изучая этот вопрос столькими способами, сколькими мог себе позволить, я создал, между прочим, такие тексты, как «Не буду служить» (в книге «Абсолютная пустота»), причем в них я превратил категорический атеизм в отчасти более удобоваримую для верующих форму, называемую deus absconditus[88]. Потому что апокалипсическая мельница огромна и выходов из нее много – ведущих не сразу в пекло англиканского небытия. Наш электронный диалог напомнил мне еще раз о простой вещи, что тот, кто подрывает веру, даже если ее не подавляет, отнимает у другого человека ценность, которую ничем не сможет заменить. Понимая это, я действительно неохотно вступаю в дискуссии подобного рода и упрекаю не спрашивающих, а себя за плохие ответы, которые давал, поскольку, не веруя, я имею совесть, и потому не могу лгать.
V (08.07.2001)
Свой атеизм я считаю абсолютно личным делом. В моем восприятии он не имеет ничего общего с подавленностью, которую вызывает у меня ситуация, господствующая в мире и особенно в нашей стране. В ежеквартальнике «Bez Dogmatu», присылаемом мне редакцией бесплатно, в последнем номере опубликован текст[89], много дающий для размышления, и основная мысль которого такова, что антисемитизм, который остался у нас после уничтожения евреев, не только и не столько локализирован в отдельных людях, сколько в основной сети межчеловеческой коммуникации, каковой является язык. Это очень странно, но объяснимо, как наличие устойчивого запаха гари после пожара, где осталось только пепелище. Я считаю, что этот «антисемитизм без евреев» бросил на наше общество мрачную тень морального равнодушия по отношению к непристойным явлениям, не имеющим ничего общего с расизмом.
Глухое молчание Церкви относительно всего, что в рамках программ «реалити шоу» представляет наше телевидение, с какими-то «Амазонками», которые будут – как рассказывают газеты – совершать непристойные действия, приводит меня в оцепенение. Как раз сегодня я читал письменное обращение наших главных режиссеров, призывающих кого только можно к противостоянию этим «circenses»[90], которых я никогда не видел и не увижу, но опасаюсь, что миллионная аудитория посчитает представленные программы развлечением, тем самым принося телевидению миллионные барыши.
В этой ситуации редакция, которая согласно вашему письму должна заменить настоящую[91], станет для меня собранием, спасающимся бегством от человеческой действительности. Вопросы этики, проблема моральных ценностей не были для меня никогда функцией какой-либо трансцендентальной санкции. Я не могу ничего посоветовать относительно того, что есть. Меня захватил шквал информации об ускорениях на биотехнически-компьютерных фронтах, и я вижу все шире раскрывающиеся ножницы между великолепием технологических достижений человечества и бесстыдно безучастной скоптофилией[92] массовой культуры, которая использует самые современные изобретения для удовлетворения множащихся никчемных потребностей. Кроме того, признаюсь, что я не могу понять, почему впечатлительность или, более того, отвращение ко всяческой оскорбляющей мои чувства гадости могут свидетельствовать либо о моей личной вере, либо о неверии в любую вневременность. Отсутствие веры в загробную справедливость, – которая карает непристойность и вознаграждает добродетель, в моем понимании усиливает ответственность за то, что происходит в нашей действительности, хотя здесь и отсутствуют возможности успешного противостояния злу.
Добавлю также, что в последнее время я вернулся к чтению таких книг, как «История Польши 1918–1939» Мацкевича-Цата и биография Пилсудского авторства Енджеевича. Это было грустное чтение, а напоследок еще как раз перечитывал Норвида. Я думаю, что не надо объяснять ксендзу, что в последней инстанции каждый человек отвечает за самого себя, а поэтому не может ни тыкать пальцем в других, ни оправдывать безобразия своих поступков историческим переплетением событий или политической ситуацией и т. д. Я считаю, что Колаковский в свое время ошибался, написав, что личность уже в силу самого факта существования берет на себя ответственность за всех живущих. Impossibilium nulla obligatio[93]. Главным недостатком обретения свободы является для меня свобода слова. Это очень много, ведь если говорят все, возникает бессмысленный шум. Мы живем во времена массового привлечения безвинных к участию в охлократических провинностях. Это не выражение осуждения, а только обычная констатация. Для меня вопрос веры и неверия находится на континенте, возможно, секулярно огромном, но полностью обособленном и почти не пересекающемся с повседневностью обычной человеческой жизни. Наша ситуация, впрочем, абсолютно симметрична, поскольку, узнав из электронного письма, что ксендз удивляется мне, я удивляюсь ксендзу.
VI (13.07.2001)
Благодарю за статью Уолтера Онга, которую ксендз пожелал мне прислать, а также и за само письмо.
Ответ мой, дабы не быть похожим на статью из энциклопедии, должен быть лаконичным[94]. Мы оба живем в несоприкасающихся, нигде не пересекающихся вселенных дискурса. В моей библиотеке есть полка, на которой, кроме книг Старого и Нового Завета, стоит польское издание Корана, а также много различных книг, присылаемых мне представителями различных направлений буддизма и сектантами. Дополняют эту скромную коллекцию французские религиоведческие тексты, посвященные главным образом верованиям ацтеков и майя, и, кроме того, представлены другие подобного рода работы, названий которых я не помню, поскольку в них не заглядывал, так как не располагаю лишним временем. Отвечая кратко, я вынужден уподобиться сильно выжатому лимону, то есть говорить кисло. Все разновидности религиозных конфессий мне одинаково чужды в том простом смысле, что к любой вере я одинаково невосприимчив. Разумеется, на том элементарном основании, что родился в католической стране, я должен был пропитаться элементами католицизма сильнее, чем, например, ислама. Возможно, что определенные основополагающие элементы моих этических установок и правил выведены из христианства, и я должен был бы сойти с ума, чтобы это влияние вытеснять. Тем не менее эстетическая притягательность верований может быть различной, но сила их воздействия на мое мировоззрение, подкрепленное умозаключениями, равняется нулю. Ни в какой подобного рода поддержке я не нуждаюсь. Уолтер Онг, судя по аббревиатуре SJ (Societas Jesu) после фамилии, также является иезуитом как ксендз. Поэтому он должен быть конфессионально пристрастен, и при этом жаждет подтверждения положений своей веры от современной науки. Мне кажется, что я скорее беспристрастен, когда говорю, что вера – ни одна – не требует подтверждения данными науки et vice versa[95].
О детективном романе
1
Первые детективные романы появились в девяностые годы девятнадцатого века. Отцами жанра в Европе были Габорио, Леру, Конан Дойл и Леблан. Уже в тот младенческий период возникли эталоны героев жанра. Конан Дойл создал классический образ детектива-любителя, Шерлока Холмса, мастера дедукции, отчасти представляющего богему fin de siècle[96], Габорио – детектива-полицейского, Леру – репортера-детектива и, наконец, Леблан – Арсена Люпена, джентльмена-грабителя, нынче уже вышедшего из моды.
Описанный в книгах моральный кодекс этих персонажей существенно отличается друг от друга. Полицейский является наиболее заурядной фигурой. Этот слуга закона представляет измерение справедливости, а его сила заключается не столько в разуме, сколько в организации, часть которой он сам составляет. Его этика должна быть наиболее традиционной и точно соответствовать общепризнанным нормам буржуазного общества девятнадцатого века. Остальные три типа характеризуются, в разной степени, индивидуальным подходом по отношению к преступлениям или злодеяниям. Наиболее «независим» в своих оценках, естественно, грабитель. У него есть свой кодекс чести, он является далеким потомком Вийона и тех диких «разбойников», которые, руководствуясь прихотью или лихим великодушием, раздавали отобранную у богачей добычу, осчастливливая самых убогих и обиженных. Проводимое такой личностью мелкое перераспределение общественного дохода, конечно же, не является неким бунтом против громады государства – это очередное воплощение мифического, опасного для магнатов, но добросердечного по отношению к маленькому человеку разбойника с собственным взглядом на мир. Любопытно, что Дойл, как и Леблан, для своих, столь различных на вид, антагонистичных фигур детектива-гения и гениального преступника не пожалели «художественных» черт, – видимо, такое предрасположение диктовала аура времени. Люпен у Леблана – артист прегрешения, ему чуждо корыстолюбие, он действует под влиянием каприза, фантазии, ставит перед собой сложные проблемы, в промежутках между искусными кражами не чурается решения криминальных загадок, демонстрируя этим, что в сущности он является детективом, только свернувшим с правильного пути (впрочем, весьма благородным образом). Впрочем, Арсен Люпен далеко не всегда чужд правилам хорошего тона, обязательным для общества полицейских и обывателей, ибо встреча с чудесной невинной девушкой, которая принимает его за джентльмена безо всяких оговорок, приводит его к болезненному душевному разладу; так что этот французский разбойничий атаман очень сентиментален, и под личиной циника, индивидуалиста и дерзкого человека скрывается склонное к раскаянию сердце, что прекрасно соответствует культурному фону девяностых годов.
Несколько иной, может, более нетрадиционный герой – это Шерлок Холмс. Прототипом его был Дюпен Эдгара Алана По. Дойл сделал своего детектива натурой нервной, с причудами (наркомания, игра на скрипке, периоды депрессии), ярчайшим явлением на фоне тяжеловесно, монотонно функционирующего полицейского аппарата, который не может Холмса ни использовать правильно, ни оценить по-настоящему. Метод холмсовской дедукции был не раз – и это неплохо – осмеян в различных пародиях и литературных шаржах, поскольку разбор случаев, описанных в новеллах, показывает, что этот метод – в высшей степени ненадежен, – впрочем, в действительности тип холмсовских рассуждений не имеет ничего общего с дедукцией, на самом деле он является как раз индукцией[97], умозаключением о целом по мельчайшим частицам (например, по описанию корпуса золотых часов, по клочку ткани, по форме старой шляпы Холмс создает портрет хозяина этих вещей, образно представленный в пространстве и времени, – портрет, который, учитывая реальную многозначность этих мелких деталей, мог бы – если бы не рука писателя – оказаться совершенно ошибочным).
Детектив-репортер Гастона Леру уже в значительной мере вторичен. Я упоминаю его, потому что в лице Рультабия Леру ввел на страницы романа представителя общественной силы – прессы, журналиста, который расследует преступление, чтобы написать о нем большую статью, а может быть, даже сделать специальный выпуск.
2
Частный детектив со своим приятелем, предусмотрительно глуповатым, склонным к неумеренным восторгам Ватсоном, в меру суровый джентльмен-грабитель и дотошный, предприимчивый репортер – три рыцаря буржуазного общества – были таким образом созданы для участия в жизни детективного романа.
Классический детективный роман являет собой загадку, последние страницы которой отвечают на вопросы: кто совершил преступление, каким образом и почему. Автор – этого требует условность – обязан предъявить читателю виновника, его мотивы и технику содеянного.
Достижение гармонии в этом всегда было трудно достижимой целью. Обычно подводит один из трех конструкторских элементов: или личность преступника неправдоподобна, или его мотивы «растолкованы» как-то натужно, или, наконец, техника злодеяния близка к чуду.
Очень быстро – практически в самом начале популярности «детективных романов» – авторы сообразили, что лучше всего использовать собственного, переходящего из книги в книгу детектива. Как правило, любителя. И они выбирали его из самых разных вариантов. Были среди них и домохозяйки (у Мэри Райнхарт), и экзотические чужеземцы (китаец Чен Эрла Дерра Биггерса), и толстые гиганты, страдающие от гормональных расстройств (Ниро Вульф Рекса Стаута), и даже священники (отец Браун Честертона).
Такое разнообразие было попросту вызвано яростной конкурентной борьбой на книжном рынке, иначе говоря, – каждый автор в поисках собственной золотой жилы прибегал к героям и усложнениям все более своеобразным, утрачивая в конце концов последние связи с реальностью. Таким образом возникли, например, богатые бездельники, коньком которых является расследование преступлений (Фило Ванс Макдональда[98], лорд Питер Уимзи Дороти Сэйерс); но вся эта конкурентная борьба велась в пределах застывшей схемы – конструкция интриги у всех авторов оставалась без изменений. Роман начинается с экспозиции. Читатель должен запомнить пару фамилий и элементарные черты характера, по которым он будет распознавать действующих лиц; для облегчения этой «умственной работы» было модно, особенно у американцев, подавать в начале романа список основных персонажей с однострочной характеристикой. Затем обнаруживается труп, первый (или даже единственный во всем романе); конструкция закрытая (дом отрезан от мира, один из жителей совершил убийство) или открытая (убийца X, один из миллиона жителей большого города, – в таком случае чаще наблюдается серия преступных злодеяний); подозрение падает на многих, детектив начинает следствие, проводит допросы, изучает алиби, – хитрый читатель уже знает, что виновником окажется тот, кого меньше всего можно заподозрить.
Мотивом преступления в подавляющем большинстве случаев являются деньги; зажиточные люди – в соответствии с картиной, которую рисует детективный роман, – окружены родственниками, то есть бандой потенциальных убийц; я не встречал книг, в которых богатый завещатель протянул бы дольше, чем тридцать первых страниц. Я не проводил статистических вычислений, но думаю, что можно спокойно разместить на втором месте так называемые «сведения личных счетов» – то есть убийцей оказывается мститель, который (но это может касаться и жертвы) ведет «двойную жизнь»; а вот мотив эротической страсти относительно редок – скорее, его охотно используют для создания фальшивого обвинения, авторы вообще очень любят играть с уликами, накручивая кажущуюся неразрывной сеть вокруг совершенно невинных лиц. Нередким является мотив, заключающийся в отсутствии мотива, иными словами – убийство оказывается совершено с целью демонстрации «чистого искусства преступления», и личность жертвы была выбрана «художником» более или менее случайно, или же – это относительная новинка – жертва пала в результате ошибки; убить должны были кого-то другого, но убийца – вследствие сложившихся запутанных обстоятельств – неправильно направил пулю, нож или яд. Наконец, случается – но это уже настоящая редкость – непреднамеренное убийство (ребенок заменил баночку с лекарством на другую, в которой оказался яд).
Таков европейский роман. Характерным для него является то, что – прошу извинить за вульгарность терминологии, но к ней меня подводит обсуждаемый предмет, – отдельные личности выступают против других индивидуумов, убивают их собственными руками и для собственной, личной выгоды. Америка XX века – со своими корпорациями, среди которых, естественно, встречается и неофициальная, но весьма популярная в детективных романах «Murder Inc.»[99], – вывела на сцену банды гангстеров, сражающихся друг с другом, используя отменно подготовленных «ганменов» (я убиваю твоего гангстера, а ты – моего); на страницах романов появляется мафия, разветвленные организации, занимающиеся контрабандой наркотиков и гримирующиеся под безвредные предприятия, всякого рода специалисты-рэкетиры, и трупы возникают, когда кто-то кому-то мешает в преступно-торговой деятельности. Понятно, что автоматы в руках «ганменов», равно как широта интересов и величина сумм, за которые ведется игра, тянут за собой настоящий «оптовый» размах преступлений; тем самым – об этом следует сказать с некоторым сожалением – утонченная техника злодеяний, запутанность и точность смертоубийств, характерная для европейских авторов, этих неисправимых индивидуалистов, практически сходит на нет.
А технике этой стоит посвятить несколько слов. По мере того как росло ужесточение конкурентной борьбы, критерии жизненного правдоподобия – никогда nota bene[100] слишком серьезно не соблюдаемые – становились в растущей степени маловажными. Искушенного читателя уже сложно удивить – подсунуть жертве мамбу или гремучую змею в бомбоньерке, это уже банальность; орудием преступления оказывается клюшка для гольфа, из которой после удара выскакивает и вонзается в живот жертвы отравленный дротик (Рекс Стаут); или же записанный на граммофонной пластинке голос служит для создания преступнику железного алиби («The Canary Murder Case»[101] – Ван Дайн) – одним словом, техника, токсикология, вся совокупность человеческого знания оказывается на службе преступника.
Но особенности применения убийственных инструментов, скорее, уже пройденный этап. Современный европейский вариант главный упор делает на организацию, если можно так выразиться, – места работы. План преступления, его timing[102] – подробная раскладка деталей во времени – становится важнейшим делом. Здесь мы встречаем ряд излюбленных ситуаций: классической является «наглухо закрытая комната», в которой находят покойника; типичный пример – «Тайна желтой комнаты» Гастона Леру; к этому типу романов услужливо прилагаются планы места преступления, чтобы тем наглядно показать, как загадочно убийца покинул помещение. Представляемые в этой теме ужасы полны абсурда. У Эдгара Уоллеса жертву убивают… по телефону (позвонив ей, убийца подключил к трубке высокое напряжение; конечно, таким способом можно разве что уничтожить собственный телефон). Леру в уже упомянутом романе создал преступника-демона, который менял (буквально) лицо на бегу: убегал в одну сторону коридора как X, а возвращался как невинный Y, в совершенно новом облике. Для оправдания автора следует добавить, что такое изменение лица, которое приводило к тому, что жена и дети встречали преступника, загримировавшегося под их мужа и отца, ласковыми приветствиями, было во времена Леру ходовой монетой; сегодня ни один уважающий себя автор не использует гримировочные приемы, кроме «камуфляжных» (темные очки, надвинутая на глаза шляпа, женщина, переодетая в мужчину, или наоборот).
Иногда говорят, что детективный роман – это настоящий учебник преступности, а массовое чтение может превратить каждого чуть ли не в опытного (потенциально) убийцу. Что касается мордобоя и потоков крови, которыми «украшена» сегодня «черная серия» американских криминальных произведений, – то отсюда действительно можно что-то извлечь, поскольку массовое чтение может по крайней мере познакомить человека с симптомами агонии, трупного окоченения и т. п., – а вот технике убийств в таких романах обучиться невозможно. Ведь читатель не подвергает сомнению разгадку тайны в книгах, – это вопрос условности, но под обликом реализма действий на самом деле скрывается сказочная невозможность. Как часто преступник, создавая себе алиби, допустим, это партия в бридж, и имея в распоряжении несколько минут, когда он выступает в роли «болвана», взбирается по веревке на верхний этаж, убивает жертву, уничтожает все следы, иногда еще и переодевает труп, чтобы труднее было определить, кто, как и почему. Потом умывается, спускается по веревке и заканчивает роббер, как ни в чем не бывало, – или даже убийство совершается (у славной Агаты Кристи) именно в той комнате, в которой играют в карты, когда жертва задремала в кресле поодаль, а ловкий преступник между одной и второй взятками тихонько прокалывает ее сердце шпилькой.
Подобным действиям, естественно, ничто не может соответствовать в реальном мире; игроки в бридж плохо карабкаются по веревкам, рассчитать время убийства с точностью до минуты вряд ли удастся, и ни один человек, даже в глубоком сне, не умрет так тихо, как это нужно автору, когда его начнут публично закалывать стилетом; под видом якобы реализма (комната, дымоход, обычные люди, игра в бридж) мы в сущности имеем перед собой сцену столь же вымышленную, что и разговор Яся и Малгоси[103] с переодетым в бабушку волком; однако никому из читателей это не мешает, даже если они по профессии криминологи или врачи. Я подчеркиваю эти неправдоподобия не для того, чтобы придраться к Агате Кристи (она наводит на меня скуку другим – бабской, несносной болтовней и психологией из третьих рук), а чтобы показать, в какой мере восприятие детективного романа является условным, так что неправдоподобия определенного типа не воспринимаются по крайней мере как ошибки исполнения. Трупы, веревки, пятна крови – это условные знаки, которые не следует проверять, а если бы кто-то это сделал, то стал бы таким же посмешищем, как дикарь, недовольно простукивающий пальцем крепостные стены театральной декорации. Головокружительность методики убийства – это гимнастические «раз-два-три-четыре» преступника, который, как хорошо смазанная машина, прокрадывается, наносит удар, удаляет следы, переодевает труп, уходит и снова ведет оживленную дружескую беседу, – все это представляется мне, хотя это может показаться странным, более волшебным, чем маленькие зеленые человечки с летающей тарелки, поскольку таких человечков можно встретить хотя бы в собственной галлюцинации, тогда как человек, который убивает, продолжает оставаться человеком, а потому, когда для сохранения криминальной шарады нарушаются элементарные законы психологии или физиологии, мы оказываемся на территории вымысла столь же бессодержательного, сколь и безвредного. Кто не верит, может попробовать сам.
Европейский вариант криминальной истории, о котором и идет речь, чарует своей математически точной гармонией, чем-то он напоминает изготовление маленьких парусников в бутылках. Ни один из этих корабликов не смог бы плавать, но не об этом ведь речь; дело в том, что факт наличия парусника внутри бутылки удивляет нас и восторгает; если не нас, то наших детей; детективный роман – признаемся в этом – игрушка для взрослых.
3
Все это правда; единственной неопределенной и необъясненной до сих пор деталью являются те персонажи детективного романа, наличие которых необходимо в первую очередь, хотя сами они бездействуют; я, конечно же, имею в виду трупы. Правда, что все эти чудовищные явления, которые европейский (подчеркиваю это!) автор представляет читателю, имеют весьма условный характер; если даже с останками происходят неслыханные вещи, если тело несчастной жертвы посмертно бывает выкрадено, загримировано, переодето, даже захоронено и эксгумировано, если исчезают или бывают заменены головы трупов, все это не слишком ужасает, потому что мы знаем, что ненамеренный, ужасный юмор этой кадавральной эквилибристики служит для невинного одурманивания рассудка читателя, который все-таки является изощренным гурманом и понимает, что речь идет не о трупном смраде, что это всего лишь простой маневр, отвлекающий внимание.
Детективный роман без трупа… разве такое возможно? Нет. Почему? Он во многих отношениях подобен производственному роману, и в конце концов только кровь является тем особенным помазанием, которое доказывает, что в отличие от воспитаннейшей своей разновидности он не терпит смертельной скуки (хотя иногда и кровь не помогает…). Вопреки кажущейся видимости, он интересен только как части некой машины – это «машина преступления», хотя и представляет нам фальшивую схему этого преступления.
В некотором смысле криминальная история – особенно европейская – представляет собой некий суррогат научного, логического мышления, выстраивания причинно-следственных цепочек (характерно, что условность исключает выведение на сцену сверхъестественных факторов, – преступник должен пользоваться только «материальными» средствами). Однако не стоит обманываться: условность – условностью; формальное подобие шаблонному роману на производственную тему, хоть и бесспорно, не объясняет (скорее, даже наоборот!) популярности этого вида литературы. Эксперименты показали, что мотором, оживляющим эти механизмы, является и должна быть человеческая, пролитая кровь. Нам нужна она – пусть для вида, пусть условная, – но все-таки. Откуда эта потребность в герметическом перемешивании с виду интеллектуальной, а значит, сухой загадки с убийством? Ведь детективный роман, в котором действуют грабители, пусть даже с мировой славой, даже самого крупного калибра – медвежатники, всегда останется бледной тенью той настоящей, волнующей легионы читателей истории, которая повествует о Первом Трупе.
Может быть, это пугает? Ведь мы любим пугаться – любим быть напуганными; ужас, умело созданный и дозированный, – это великолепная вещь! Почему? Может быть, это самое обычное и рудиментарное извращение, свойственное человеческой натуре? Но что такое человеческая натура?
Завели разговор о детективных романах, а оказались в какой-то трясине; забава с трупами – и все (или почти все) это любят; судорога страха, неопределенность вины, проблема поиска и наказания виновника; почему это нас так интересует – всех?
Смерть – это крайность. Убийство человека человеком – это самое страшное, что можно испытать; отсюда ожесточенность чтения, сопереживание с деятельностью сыщика, отсюда желание возмездия, возвращения нарушенного в глубочайших наших ощущениях естественного порядка человеческого бытия, – когда невинные оказываются на свободе, а преступник повешен, как же это справедливо… Может быть, детективный роман – это некая вульгарная версия призыва к нашим этическим чувствам? Производственный роман, приправленный эсхатологией?
Боюсь, что все не так просто. Во-первых, авторы, как правило, ничего или почти ничего не делают, чтобы мы познакомились – при жизни – с жертвой; очень часто мы знакомимся с ней только после смерти; можно было бы сказать, что вызывать симпатию совершенно не нужно, потому что любое убийство требует общественного возмездия, – но почему в таком случае мы так легко миримся с убийствами, позволяемыми законом или даже совершенно противоречащими им, которые совершает, скажем, детектив, сражающийся с мафией, и делающий это не всегда в качестве необходимой самозащиты? Сказать, что детективный роман апеллирует лишь к светлым, требующим гармонии, справедливости и добра сторонам нашей натуры, – могло бы, боюсь, изрядно фальсифицировать предмет разговора. Ибо дело в том, что он – как правило – представляет образцы: и смерти, и жизни, и правосудия. Эта система фокусов, эквилибристики сулит исполнение определенного молчаливого обещания; смерть в романе должна заострить наши ощущения, втянуть нас, взволновать, заинтересовать, пусть даже вызвав мгновенное отвращение. Одним словом, это спекуляция на том нездоровом в нас, что требует противоречий с существующим порядком, с коварным использованием жестокости, всех тех вообще неосознаваемых слабостей и наклонностей, которые можно найти – развернутые в солидные конструкции и нашпигованные латинской терминологией – в специальных психологических и психиатрических трудах. И этот запрещенный товар продается нам в упаковке справедливости, с этикетками, гарантирующими, что со словом «конец» все расчеты будут так тщательно выверены, что мы сможет оставаться совершенно спокойными, поскольку все будет приведено в порядок, объяснено и закрыто. О том, в какой мере спекулируют именно на наших слабостях, яснее всего свидетельствует детективный роман – в своей современной американской версии.
4
Где-то в тридцатых-сороковых годах практика криминального романа пережила отход от европейской конвенции, которая вела к росту совершенства преступления. Это платоническое идеализирование, этот «конструктивизм» в области криминалистики, почти лишенный последних жизненных аналогов, двойное совершенство преступника и детектива, от всего этого американский роман избавился одним ударом, вводя через вышибленные обычной жизнью двери элемент двойной ошибочности: двойной, поскольку она в равной степени касается как детектива, так и преступника.
Совершенство обоих было принятой европейцами аксиомой. Детектив, будучи гением, должен был иметь равного себе противника. Холмс дедуцировал; отец Браун прочувствовал своих преступников, необыкновенным мастерством интуиции превращаясь в каждого из них; господин Пуаро гениально анализировал. Одним словом – натура детектива была совершенно логичной, а преступника – совершенно подобной – только как бы с противоположным знаком.
В чисто формальном отношении приемы европейских авторов имели явный характер действий, замедляющих развязку. Главным недостатком книг, написанных по этому рецепту, была настойчивая выразительность этого замедления и оттягивания развязки, обилие туманных комментариев, а все писательское мастерство служило той продуманности медлительных процедур, чтобы читатель проникался любопытством, а не пожимал плечами, чтобы в нем росла заинтересованность, а не скука; к сожалению, часто случалось как раз наоборот.
Новый тип детективного романа в Штатах начался с нарушения обязательной для Европы условности. Авторы отказались, по крайней мере частично, от гениев как среди преступников, так и среди следователей, и это пошло им на пользу. Поединок права с преступлением был в какой-то мере спущен с небес платоновских идей на Землю и наделен многочисленными его недостатками.
Прошу принять во внимание: Шерлок Холмс действительно употреблял морфий, но одурманенного Холмса автор тактично нам не показал; а уж побитого Холмса мы не сможем себе представить. Филип Марлоу Раймонда Чандлера половину книги ходит пьяный, голова у него трещит с похмелья, а регулярные побои для него хлеб насущный. Новая концепция не ограничилась отказом от европейских рецептов и по закону противодействия перепрыгнула к противоположному полюсу. Так возник «черный» детективный роман. Раймонд Чандлер – его известнейший представитель, но из-за того, что умеет писать, не совсем типичный. Что происходит в «черном» романе? Если выразиться коротко: там все прогнило. В глазах европейцев поединок закона с преступлением велся как процесс, изолированный от здорового общественного фона; в черном детективном романе безнравственностью, моральной изжогой, двузначностью затронуты все без исключения персонажи, даже герой-детектив. Это во-первых. Далее: в европейской условности некоторые персонажи не могли оказаться преступниками, например, это касалось молодых красивых девиц. Их задачей было увенчать в конце своей добродетелью детектива, или, возможно, его верного Ватсона. Эту привилегию у них отобрали американцы, утверждая, что хорошенькие девчата могут убивать, а также быть убитыми. Наконец, в-третьих, – и кто знает, не было ли это самым непристойным, – американцы ввели на сцену преступления деньги как всеобщую и исключительную мотивацию действия.
Материальному корыстолюбию, как я уже вспоминал, европейские авторы приписывали первоочередную роль, но тут произошло существенное отличие. Из-за денег действовал только гнусный преступник; в американском романе рыцарем доллара оказывается также и детектив.
Мы как-то не слышали о размере гонораров, когда Шерлок Холмс решает проблемы своих клиентов. Мсье Пуаро Агаты Кристи также изящно умалчивает об этом, отец Браун ни с кого не взял бы и гроша, – такая застенчивость чужда Филипу Марлоу Чандлера или адвокату Перри Мейсону Эрла Стенли Гарднера. Едва нарисуется дело, как уже нужно платить, уже ведется торг, тут и издержки на бензин, и ежедневные ставки, и дополнительные расходы привлечения детективов, – перед глазами читателя весьма реалистично выписываются чеки и пересчитываются банкноты.
Тем самым деградации подвергается светлая миссия расследователя: действует он не из барского каприза, как Фило Ванс, не для спасения души ближнего, как отец Браун, наконец, не из любви к чистому искусству, как Холмс, но весьма обыденно, для заработка. Что весьма отрадно для любителя реализма.
Раз уж мы вспомнили обоих ведущих писателей жанра – Чандлер, умерший не так давно житель Калифорнии, автор относительно небольшой серии книг, создал образ частного детектива, одинокого, очень американского и совершенно непохожего на свой прототип воплощения Холмса. Это мужчина не первой молодости, который хорошо знает «изнанку жизни», человек без иллюзий (не говоря уж о пристрастии к алкоголю). В романах Гарднера персонажи постоянно действуют с легким «шумом» в голове – навеселе, но так, чтобы можно было сесть за руль автомобиля. Однако под панцирем цинизма и жестокости скрываются, немного ослабленные давним холостяцким одиночеством, идеалы анахроничного романтизма, благородства, либеральной добродетели; хотя совесть позволяет Марлоу даже переспать с женщиной, за которой он следит, но в финансовой сфере он проявляет абсолютную чистоту: с тех, с кем он переспал, денег не берет. Мои колкости, может быть, не совсем к месту, потому что Чандлер, как я уже говорил, умеет писать; особенно хороша в его книгах «густая» общественная атмосфера и эта, уже упомянутая при общей характеристике нового жанра, имманентная гниль, пропитывающая все в мире богатых американцев, обращающихся к услугам частного детектива. Так что Чандлер показывает другой, мрачный облик Голливуда, он вообще лучше всего чувствует себя в Калифорнии, которую знал досконально, поскольку провел в ней значительную часть жизни. Его детектив работает в обществе вечно разводящихся супругов, пресыщенных мужчин и сексапильных женщин, сменяющих партнеров в вялом промискуитете; одним словом, его книги дышат такой Америкой, действуют в них люди, похожие на настоящих, а не одни лишь схемы и тени. Это можно распознать хотя бы по тому, что даже преждевременная подача ключа криминальной загадки в этих книгах не делает совершенно излишним чтения в целом.
Иначе представляются основные черты одного из наиболее плодовитых, хотя и не совсем типичного, лишь частично связанного с «черной серией» Эрла Стенли Гарднера. В лице Перри Мейсона, адвоката-детектива, он создал героя бесконечной галереи романов, вечно повторяющих одну и ту же ситуацию. Мейсон нередко прибегает к вступающим в противоречие с законом уловкам, чтобы выиграть дело клиента (естественно, невиновного). Ни Чандлер, ни Гарднер – что их роднит – никогда не защищают злодеяний, они рыцари «настоящей» справедливости, той, которую невозможно описать недостаточно «жизненными» кодексами. Разумеется, лишь авторское вмешательство приводит к тому, что их клиенты, всегда отягощенные уликами, не оказываются в конце концов виновниками преступлений.
Герой Чандлера интересен тем, что, вступая в поединок, вынужден действовать в среде полностью коррумпированной полиции, прислуживающей местным «боссам» или даже обычным гангстерам. Он пьет в одиночестве дома или в пустой конторе, но посещает также (профессионально) и изысканные заведения, служащие игорными притонами или ширмой роскошного распутства калифорнийских богачей, делающих состояние на темных махинациях, вроде контрабанды и торговли наркотиками. В этом мире каждый второй полицейский – прислужник грязного доллара, и именно эти представители закона нередко задают Марлоу изрядную трепку. Эти коррумпированные или полукоррумпированные полицейские в конце концов – под давлением собранных честным детективом неоспоримых доказательств – арестовывают настоящего виновника преступления, так что справедливость восстановить в этом прогнившем мире удается лишь, так сказать, временно и локально: Чандлер не принадлежит к тем американским авторам, которые предписывали бы своему детективному супермену управиться со всеми показанными в книге авгиевыми конюшнями. У Чандлера убийца отправляется на электрический стул, но продажные полицейские, в том числе и те, которые украдкой избивали Филипа Марлоу, остаются на своих должностях. Это очень реалистично, не правда ли?
Частный, работающий за долларовую ставку детектив, – самая популярная в американском криминальном романе фигура. Таков Питер Чемберс Кейна, безумно сильный и красивый тип, на которого слетаются элегантнейшие клиентки, причем автор, далекий от викторианского пуританизма, под покровительством которого родился Шерлок Холмс, по крайней мере своему герою не запрещает заниматься чувственными утехами. Таков Майк Шейн Бретта Холидея, этого замечательного детектива автор настойчиво (во вступлениях к книгам) представляет как абсолютно реальную фигуру и даже отвечает на письма читателей, сообщая о самых личных перипетиях Майкла. Таков Мило Марч – детектив М. Чейбера, – специализирующийся на услугах для крупных страховых агентств (которые действительно часто используют в своих интересах детективов). Все эти атлетически сложенные мужчины переживают множество любовных (а скорее, постельных) приключений, начинают день (около двенадцати часов) со стопочки, носят «люгеры» под мышкой и незаметны для местной полиции.
Гарднер, этот Крашевский[104] американского детективного романа, адвокат по образованию, лучше всего чувствует себя в зале судебных заседаний и с большой точностью демонстрирует поединки защиты с обвинением, – его Мейсон выходит из них, естественно, всегда победителем. Мифичность книг Гарднера явно проступает, если сопоставить их, – тогда оказывается, что Перри Мейсон, адвокат с плечами атлета, как и его очаровательная секретарша Делла Стрит, – это люди без возраста, словно олимпийские божества; также вневременны их отношения: Делла обожествляет шефа, шеф восхищается Деллой, но Гарднер не укладывает их в постель, возможно, для того, чтобы не замутить этим прозрачность детективных сюжетов. Иными словами, все взятые вместе романы о Мейсоне – это в сущности одна, повторяемая множество раз ситуация, с расписанными по-иному диалогами и новым, но в каждом случае столь же неправдоподобным криминальным решением.
Однако типичный американский роман из «черной» серии находится довольно далеко от лидирующей группы, в которую входят Чандлер с Гарднером; он полон глухих отзвуков мордобоя, стрельбы, чрезвычайно подобных «вестерновским», поскольку именно оттуда и позаимствованных (стреляют, конечно, быстро, по принципу «кто первый»), в нем очень много раздетых, гибких женщин, часто выступающих – как уже было сказано – также в роли покойниц. Все это в принципе лишено криминальной загадки даже в виде предлога, потому что мы с самого начала знаем, кто и почему, а остальные двести страниц служат лишь подробному представлению того – как. Время от времени какая-нибудь книга, в стремлении к подлинности, описывает – почти по-репортерски – реальное следствие, мне встретилась и такая, автор которой (Р. Деминг в «The Case of the Courteous Killer»[105]) во вступлении сообщает о длительном пребывании в штабе чикагской полиции – на правах «художника на месте». Это забавно напоминает происхождение некоторых наших унылых производственных романов…
5
Как видим, триллер, начинавшийся как обновление жанра, быстро застыл в корсете родовой условности. Американская модель попросту переносит акцент с интеллектуального удовлетворения от разгадки запутанной головоломки на саму интригу, делая ее заинтересовывающей своевременно и беспрестанно (раздетые девицы, большое количество крови), а не только с помощью элемента мастерски дозированной и растянутой длительными допросами задержки. Оказалось, что разумный аргумент уступает смачному удару в челюсть. Формальные отличия конструкции несомненны, существенных – не наблюдается. Для обеих моделей характерно отсутствие настоящей проблематики вины и наказания, обе пусты, а измятые развратом постели, блондинистые call girls[106] в мотелях и добросовестные, с кровавым смаком исполненные побоища, порывающие с символической условностью европейского романа, в котором труп является лишь предпосылкой полицейского расследования, а не «вещью в себе» для наслаждения, – все это попросту вопрос проявления и обнажения того, что классический детективный роман подавал завуалированно и намеками. Различия здесь количественные, а не качественные. Создатели таких книг – это точные конструкторы и проектировщики интриги в Европе или же поставщики садистских кушаний в Америке, – но все заканчивается на уровне технического описания, хотя понятно, что технологию преступления отделяет от его психологии пропасть. В последние годы Европу (особенно Францию и Скандинавию) затопили уже родные, написанные «туземными» авторами «черные» романы, свидетельствующие, какими смышлеными учениками мастеров «натуралистического» детектива оказались европейцы, едва выяснилось, что его перченость дразнит аппетит и на старом континенте.
6
Любопытным, пока не исследованным социологически феноменом являются некоторые штампы, появляющиеся во второразрядной литературе, которым по-настоящему совершенно ничто в действительности не соответствует, так что они представляют собой такие же вымышленные явления, как, например, чудовища из сказок. Однако ни по замыслам своих творцов, ни по убеждениям массового читателя эти высосанные из пальца, современные суррогаты мифов не должны иметь сказочного, иррационального характера. Начнем с рассмотрения фигуры преступника, как ее изображала детективная литература, поскольку уже прототипы носили все черты оторванного от жизни вымысла. Одной из популярнейших была фигура «гениального преступника». Такой тип действовал жестоко, но возвышенно, то есть творил «искусство для искусства». Того, что он мог на своей гнусности заработать, он вообще не принимал во внимание. Развитие и варианты такого персонажа мы можем наблюдать у европейских авторов: от Конан Дойла (профессор Мориарти, который чуть не победил Холмса), от Э. Уоллеса (только по ему известным причинам этот автор поднял до ранга совершенных преступников в большинстве своих книг… представителей английской адвокатуры), и до Агаты Кристи (например, сэр Юстес Педлер в «The Man in the Brown Suit»[107]). Как видим, «гений преступления» не исчез с книжных страниц до сегодняшнего дня. Конечно, мировая криминология помалкивает о таких типах, которые сочиняют преступления так, как Вагнер – симфонии.
Долгую жизнь мифического «художника» можно объяснить несколькими причинами. Кое-что дополнительно объяснит нам тот факт, что когда-то давно эта незаурядная фигура была представителем научного мира (профессор Мориарти Дойла, безумные ученые Эдгара Уоллеса). Ученый был существом непонятным, пустым понятием, мешком, в который можно было всунуть, кто что хотел. Сегодня «ученых психопатов» не встретишь в детективном романе, за исключением абсолютно вторичных книг, которые попросту пытаются эксплуатировать старые схемы. Вторым фактором, который способствовал рождению гения порока, была гениальность самого детектива: ведь он должен был найти себе достойного противника! Наконец, такой персонаж облегчал накручивание самой невероятной интриги, поскольку ему чужда была нормальная человеческая мотивация, вращающаяся в узком диапазоне страстей между жадностью, ненавистью и завистью. Из того же семейства произошел и преступник-безумец, разуму которого мог бы позавидовать не один нормальный человек. Его безумие было той лазейкой, с помощью которой автор спасался в конце книги от требующих хоть какого-нибудь объяснения читателей. Слова «ведь это сумасшедший» должны были их успокоить. Этот прием, всеми признанный халтурным и недобросовестным в рамках принятой условности, авторы давно забросили, и преступник-безумец умер, не оставив потомства, чего не скажешь, к сожалению, о его гениальном побратиме.
Второй, как бы параллельной, большой ложью детективного романа является ее пренебрежение к реальной проблеме профессионализма преступного мира. Это не касается американского романа, описывающего деятельность гангстеров. Как известно, львиную часть всех преступлений совершают профессиональные уголовники, чаще всего – рецидивисты, как правило, хорошо известные полиции, а вот в книгах злодеяния совершают, как правило, если не «гении», то личности из так называемых «высших сфер».
Я уже упоминал выше о пристрастии, которое проявлял Уоллес по отношению к адвокатам, лишь изредка перемежая их учеными или врачами (якобы врачам легче убивать, потому что они и нужными специальными знаниями владеют, и легче яд раздобыть).
Объяснить такой выбор злодеев нетрудно. Профессиональные преступники не читают детективных романов, разве что посмеяться, а читатели в общем происходят из тех же слоев общества, что и авторы, так что области их жизненного опыта в какой-то степени перекрываются. О профессиональных преступниках авторам нечего сказать, потому что они их не знают, к тому же введение на сцену профессионала часто считают дешевым, неуместным приемом. Вот когда весьма уважаемая особа в конце окажется виновником преступления, тогда читатель будет захвачен врасплох.
Оба эти фактора: игнорирование таких преступников, которые встречаются в реальности, и замена их выдуманными, приводят к тому, что романная интрига оказывается далека от реальной жизни.
7
Работа писателя при создании детективного романа начинается, как правило, – и это очевидно – с придумывания интриги. То есть: нужно выдумать жертву преступления, личность убийцы, а также стратегию и тактику его действий. Вот об этих последних я и хотел бы сделать несколько весьма существенных замечаний. Авторы криминальных историй являются – на практике – преформистами, а не эволюционистами. План преступления возникает – это ясно из анализа фактов ex post[108] – в мозгу преступника и затем реализуется быстро и без помех, воплощаясь в жизнь с точностью, которая наводит на мысль о концепции предопределенной гармонии. В первой фазе действий убийцы – все «удается»: он выполняет все пункты программы именно так, как задумал, и лишь необычайным способностям детектива мы обязаны тем, что в следующей фазе, во время расследования, весь этот воплощенный в жизнь (а точнее, в смерть) механизм поступков удается воссоздать во всех подробностях. И именно в подобной методике конструирования действий кроется один из величайших, хотя иногда и с трудом (особенно у искусных писателей) раскрываемых обманов всего жанра. Я имею в виду столь очевидное явление, что многие люди вообще его не замечают. Именно такое вот, запланированное заранее, человеческое деяние чрезвычайно редко реализуется в задуманном виде. Внешние факторы, независимо от планов, вводят мелкие изменения, корректировки, ошибки в процессе осуществления замысла, и то, что происходит в материальном мире, является, как правило, результатом воли преступника и всякого рода вмешательств, иногда препятствующих, иногда способствующих задумке – что случается реже, – но и то и другое управляется слепым случаем.
Таких непрекращающихся внешних вмешательств в нашу деятельность мы вообще не замечаем, поскольку они не имеют большого значения; если мы хотим купить выключатель, а магазин электротоваров, в который мы направились, окажется закрытым, мы пойдем в другой магазин. При изменении программы кинотеатра направимся в другой квартал; неожиданная встреча знакомого хоть и может перечеркнуть нам весь послеобеденный план, может быть воспринята как приятная неожиданность. Все это, конечно, может принимать другую форму, если в игру вступают особые явления. Например, оккупация дала большому количеству людей в Польше (даже слишком большому…) возможность пережить такие минуты, то ли в роли несостоявшихся жертв, то ли конспираторов, когда они должны были с оружием в руках атаковать гитлеровцев или освобождать пленных. Каждый, кто находился в подобных ситуациях, знает из собственного опыта, как самые прозрачнейшие (я говорю об их структуре, а не о жестокости) на первый взгляд ситуации может замутить – или даже перевернуть вверх ногами – ничтожнейший случай: какая-то происходящая на третьем плане возня отвлекает внимание немецкого офицера, принимающего решение открыть огонь, на секунду или две, но за это время тот, кого должны были убить, успевает уйти из зоны обстрела, кто-то во время налета поднимается из подвала домой, чтобы напиться, – и остается жив, а вся оставшаяся в убежище родня погибает от взрыва залетевшей гранаты. Нервозность обстановки приводит к тому, что прекрасный стрелок с трех шагов выпускает весь магазин не в гитлеровца, а в воздух; пустая бочка, свалившаяся с повозки на перекрестке, где планировалось остановить автомашину, чтобы отбить узников, нарушает весь старательно спланированный план операции; вместо намеченной личности убивают – по ошибке – кого-то совсем другого…
В эсхатологических ситуациях ярче всего предпочитает проявляться имманентная, так сказать, трагикомичность человеческой судьбы. Я намеренно использую слова такого калибра, так как смешение страсти со смехотворностью, ужаса с юмором, какое встречаем у величайших писателей, представляющих сцены такого рода, не является, понятно, их вымыслом или изобретением. Это точное прочтение реальности, которая обладает своей типичностью, свойственной наиболее необычным ситуациям.
Элемент хаоса, перемешивания важных, потрясающих факторов, с неважными и пустяковыми, но – в то критическое, единственное мгновение – с одинаковой, равной силой оказывающихся решающими в каком-либо «быть или не быть» героя, акции, плана, – с особенной настойчивостью проявляется именно в неотвратимых и внезапных, окончательных ситуациях, таких как расстрел или совершаемое убийство. И вводить такие ситуации в произведение искусства, в детективный роман, придавая им шероховатую фактуру реальности, – пожалуй, одна из труднейших задач. Здесь нужно действовать (речь, ясное дело, идет все-таки о писательстве, а не об убийствах) интуитивно, на ощущениях, маневрируя между Сциллой мертворожденного, чрезмерно упорядоченного скелета действия, и Харибдой полного хаоса, абсурдной чрезмерности случайных движений, слепой лотереи, в которой воля человека редуцируется до нуля.
Реализовать в книге все эти, иногда невыносимые, иногда комические рикошеты наших стремлений, ошибки и невероятнейшие случайности, которыми так изобилует жизнь, отобразить их с флером мимолетности – как качества, которые лишь драматическая ситуация возводит на вершины Рока – об этом мечтает каждый писатель – кроме, пожалуй, автора детективного романа. Ибо тому сама мысль о введении элемента непредвиденности в планы преступника замутила бы кристальный характер книги, ведь он изобретает новые, прекрасные алиби, которые предоставят преступнику несколько минут, необходимых для убийства жертвы, уничтожения отпечатков пальцев и проведения (измененным голосом) вводящего в заблуждение телефонного разговора… Но воздержимся от перечисления этих элементов, кочующих из книги в книгу, легко меняемых, как отдельные фигуры всех шахмат мира. Часовой механизм интриги убивает жизнь в детективном романе; исключений так мало, что они лишь подтверждают правило.
8
Мы познакомились с двумя моделями, вернее, с двумя крайностями детективного романа: с европейской – «сдержанной» и американской – «брутализационной». Существуют ли какие-то другие разновидности, варианты, новые изобретения в области сенсации?
Неустанные усилия, предпринимаемые тысячами авторов, время от времени приводят, естественно, к возникновению книги, если не совершенно новой, то во всяком случае «отшатнувшейся» от бараньего стада преступности. В случае удачи такая книга, конечно, тут же тянет за собой хвост более или менее убогих подражаний.
Нормальная следственная схема бывает окрашена опасностью, которая грозит герою, обвиненному по ошибке; часто он уже сидит в камере приговоренных к смерти, и детектив, чтобы его спасти, должен найти настоящего преступника в течение нескольких часов. Но и это уже было. Поэтому такой невинный никак не может быть защищен, автор его вешает, и единственным свидетелем убийства, свершенного правосудием, является читатель.
Используется также и мотив жуткого преступника, убийцы, терроризирующего общественность, который, скажем, глумливо пересылает полиции отрезанные уши своих жертв, – но эта мысль ведет свое происхождение еще с рассказов Конан Дойла. Убийца-психопат имеет свой реальный прототип в лице легендарного Джека Потрошителя. Однако ни один автор, насколько я знаю, не отважился представить цепочку сексуальных убийств (если не принимать во внимание роман Дюрренматта, который все-таки не является обычным «детективным романом»). Что характерно: я встретил три-четыре американских романа, которые в начале показывают тело молодой женщины, изувеченное как бы дегенеративным садистом, но в каждом случае в конце оказывалось, что преступление совершил кто-то, лишь пытавшийся симулировать сексуальное убийство, а в действительности речь шла о чем-то другом, например, о мести, об убийстве из ревности и т. п. Таким образом, конвенция на наших глазах уничтожает даже шанс подлинности (неважно уже, какой ценой) детективного романа.
Довольно редкий фабульный вариант представляет в старых книгах «The Red House Mystery»[109] А.А. Милна (автора Винни-Пуха), в какой-то мере повторенный, например, в «The Red Right Hand»[110] Дж. Т. Роджерса. Покажу его на примере книги Роджерса, потому что именно в ней он лучше всего реализован. Рассказчик сразу вводит нас в атмосферу неясного ужаса, то забегая вперед, то снова возвращаясь к различным событиям, которые – в целом – касаются какого-то красноглазого бродяги демонического вида. Этот тип, как выясняется, убил жениха некой девушки, когда его подвозила в автомобиле молодая пара. Но потом оказывается, что все было «не так»: убийцей был жених, убитым – бродяга, а девушка тоже стала бы жертвой, если бы обстоятельства позволили преступнику реализовать свой план. Это типичный маскарад, с переодеванием мертвого тела, с подстановкой qui pro quo[111], в финале переворачивающий все наши знания, полученные в ходе чтения, вверх ногами. Инновация заключается в том, что не только подозрения относительно личности преступника оказываются ложными, но неожиданностью становится и сама идентификация жертвы, равно как и всей интриги. Тенденцию ошеломления читателя любой ценой демонстрируют также такие книги, как «The Bride Wore Black»[112] Вулрича, в которой мы становимся свидетелями ряда неожиданных смертей разных мужчин, – предвестницей этих смертей и одновременно их виновницей является таинственная женщина, а расследование пытается найти какой-то давний факт, который бы – в прошлом – как-то связывал очередные жертвы с демонической (как потом окажется) мстительницей.
Стоит отметить еще несколько особенностей американского детективного романа последних лет. Для того чтобы усилить аутентичность повествования, авторы часто выступают в качестве частного детектива, то есть полностью отождествляют себя со своим героем. (Например, Энтони Роум, Джордж Багби, публикующие как бы псевдомемуары о своих успехах.) Первый из них (Роум) при этом, видимо, установил своеобразный рекорд по сбору шишек: его героя, то есть как бы его самого, бьют так много, долго и с таким подробностями, как, наверное, никакого другого private investigator[113]. Предпринимаются также попытки «освежения» среды действия. У Багби убийство совершается среди «современной молодежи» – так называемых beatniks[114], при этом жертвой преступления оказывается (естественно, прекрасная) beatnik babe[115] – по-нашему, фифочка, а расследование ведется среди американских «экзистенциалистов». Понятно, что показывают нам лишь истертые реквизиты (jam-session[116], порванные свитера, отсутствие собственного счета в банке, сексуальная свобода). Пресловутые Микки Спиллейн и Джеймс Хедли Чейз занимаются в основном представлением убийств со стороны преступника. Последний (его chef d’oeuvre[117], «No Orchids for Miss Blandish»[118], обсудил в свое время З. Калужинский) иногда показывает мотивы преступления (любовь к замужней женщине, супруга которой нужно убрать, в «Shock Treatment»[119]), но иногда («The Case of the Strangled Starlet»[120]) они отсутствуют, действие происходит в условные времена, вообще. Попросту богатый, смертельно скучающий молодой человек планирует убийство (удушение молоденькой «звезды» в Каннах), все остальное – только рутина. Такие вот мотивы – любовь, деньги или просто от нечего делать. В романах последнего типа (а их много!) вопросы психологической мотивации или отсутствуют, или едва намечаются. Это особенно поразительно, если вспомнить о высотах сложнейших переживаний и побуждений, которые выстраивала европейская литература («Преступление и наказание»…), приближаясь к области преступности. Вся эта, на самом деле красная от крови, набирающая сил в последние годы серия представляется очередной – уж неведомо какой по счету – попыткой разъяснить, каким легким занятием является убийство. Последней же данью «нравственности» оказывается (как правило) поражение преступника, которого окружает полиция. Пока я не встречал книг, которые показывали бы убийцу, оставшегося безнаказанным, но давление конкуренции на рынке наверняка возьмет свое.
9
Итак, мы обозначили фальшь и ошибки самого разного рода в детективном романе – начиная с пренебрежительного отношения к физиологии и психологии и заканчивая изображением неправильной (невозможной) структуры событий. Мы дали также понять, на каких не заслуживающих уважения сторонах нашей натуры спекулирует этот вид литературы.
Список этих упреков можно было бы значительно расширить. Так, например, создатели «обычной» литературы давно уже отказались от божественного всеведения о своих персонажах; детективный же роман не намерен отступаться от этой привилегии, – и поэтому то, что он собой представляет, является абстрактным логическим скелетом в англо-европейском варианте или же бойней – в версии Нового Света. Авторское всеведение являет собой, конечно, неприкрытую узурпацию, поскольку отвергает то, что наиболее существенно в показе преступления: образ настоящего, действующего человека, непостижимость этого самого отчаянного из возможных поступков, всевозможные повороты и противоречия, значение противоречивых фактов – всю эту рассыпчатую «кашу» жизненных крупинок, которая свидетельствует, что любая реконструкция частична и увечна, а определение личности преступника представляет начало, а не конец литературного расследования. Лишь смыв с себя красную краску и сокрушив гипсовый корсет конвенции, этот роман мог бы выйти на пути настоящей литературы, в поисках аутентичной проблематики преступления, вины и наказания, – но кто из авторов «детективов» отважится это сделать, коль скоро чего-то совсем другого ожидают от него массы читателей?
Примечание от составителя (Язневича В.И.)
Эссе «О детективном романе» написано в 1960 г. и свидетельствует о том, что в начале своей деятельности как профессионального писателя Станислав Лем достаточно досконально изучил теорию детективного (криминального) произведения и позднее к этой теме уже не возвращался. Но изучил, скорее всего, именно для того, чтобы попытаться написать что-то свое, не выходящее за рамки и законы жанра, но при этом отличающееся от всего написанного другими. В результате получился роман «Расследование» («Śledztwo»), опубликованный в 1959 г., который, впрочем, не в полной мере удовлетворил писателя, поэтому впоследствии появился роман «Насморк» («Katar»), опубликованный в 1976 г. и имеющий много общего со своим предшественником.
Параллельно с «Расследованием» Станислав Лем работал и над другим детективным романом, который, к сожалению, остался незаконченным и сохранился в архиве писателя в папке с надписью «Очень неудачный детектив», при этом в отличие от остальных неудавшихся произведений его рукопись, к счастью, не была уничтожена писателем. Этот незаконченный «Неудавшийся детектив» был опубликован в Польше в первом посмертном Собрании сочинений Станислава Лема (Lem S. Sknocony kryminał. Dzieła, Tom XVI. – Warszawa: Agora SA, 2009, s. 4 – 127).
Чтобы хоть как-то представить, о чем этот роман, приведем перечень действующих лиц, составленный пиСатеЛЕМ:
«Принимают участие:
Пэт Роберт Кэвиш: главный герой, близкий коллега по профессии Филипа Марлоу;
Кирилл (ака Криспин) К. Mэйстерс: покойник, излучающий богатство;
Милфорд Крис Уошер: друг жертвы, у которого разорвалось сердце;
доктор Эдгар Джонстон: все дороги ведут в его клинику;
кладбище Паддельтропс: сюда ведут все дороги из клиники доктора Джонстона;
Амбер Памбер 19: злополучный адрес (лечебный стационар доктора Джонстона, затем автором был переведен на бульвар Плэсид);
Центральный банк (ака Централ Ипсилон Банк): трудно из него что-либо вытянуть;
Фонд Гопстопера: подозрительная фирма, что видно даже из названия;
Браунер: дежурный редактор;
Нэнси Прэнси: барменша, у который был слишком длинный язык;
миссис Кормик: яркое доказательство того, что нельзя выпить дважды один и тот же стакан;
Зузанна Уошер: не так бела, как ее рисуют;
Пимпардула: первый самолет вылетает туда в 7.30;
Сто восемнадцатое шоссе, 93-й мильный камень: будьте внимательны на поворотах;
Мирдифирди-авеню: место в Нью-Йорке, где можно перекусить;
мисс Пинглларс & Томми Пинглларс: яблоко от яблони не далеко падает;
Мэйфаир 617: абонентский ящик для контактов;
Уильям Фолкнер ака Ф.К. Хартли: наверняка убийца, но неизвестно кого;
Мамбер Драмбер: офис следственного отдела Нью-Йоркской полиции;
лейтенант Драммонд: бывший партнер Кэвиша, работающий в государственном секторе;
Хопс Клопс: здесь главный герой паркует запасной автомобиль;
Карел Аддамс: трагическая своими последствиями ошибка;
счетчик Гейгера, стетоскоп: стандартное оснащение каждого частного детектива».
III Станислав Лем рецензирует
Рецензия на «Дневник и различные наблюдения» Т.А. Эдисона
В Нью-Йорке издана книга «Дневник и различные наблюдения»[121] Томаса Эдисона, который в определенной степени стал символом изобретателя-самоучки, собственным трудом и изобретательностью добившегося признания общества. В книге, которую я хочу обсудить, он пишет de omnibus rebus et quibusdam aliis[122]. При этом автор затрагивает темы музыки и ее будущего в Соединенных Штатах, кино, атомной энергии, радикализма (т. е. социализма), конференций по разоружению и ликвидации войн, критикует существующие методы воспитания, представляя проект собственных, занимается проблемами молодежи, философии, прогресса, влияния механизации жизни на общество, положения изобретателя в мире, и, наконец, экономическими (золотой стандарт), философскими и онтологическими проблемами, записывая собственные взгляды на суть жизни и смерти, контакт с духами и т. п.
Из всех этих статей – именно такую форму имеют заметки по вышеперечисленным темам – возникает фигура автора, возможно, более интересная для писателя, чем для ученого, если только этот последний особо не интересуется ошибками мышления и квазинаучного предвидения. По сути, хотя Эдисон многократно повторяет, что люди «слишком мало пользуются серым веществом своего мозга», сам он часто использует свои мозговые клетки не лучшим образом. В пророчествах, которые должны показать будущие судьбы мира, он совершает многочисленные ошибки социологической или психологической природы, часто также обнаруживает незнание элементарных фактов (когда, например, утверждает, что можно будет использовать для движения машин вращение Земли вокруг своей оси). Эти ошибки особенно ясно видны при обсуждении социализма, который он называет радикализмом. Эдисон просто считает, что «агитаторы лгут», но американский рабочий, к счастью, по сути «хороший», поэтому его следует уберечь от подлых обманщиков, которые готовы испортить его благородную нравственность. На первый взгляд автор демонстрирует определенную ориентацию в основополагающей социалистической литературе, но иногда аргументирует в пустоте, преодолевая постулат «равенства» в форме, в какой употреблял его, пожалуй, Сен-Симон, а не творцы научного социализма. Не в состоянии выбраться из мыслительных схем, рожденных капиталистическим строем, Эдисон считает, что строй этот есть единственный, окончательный и освященный во веки веков. Это не очень сильно нас удивляет, так как достаточно вспомнить, что он был изобретателем в самом американском смысле этого слова: типичный self made man[123], бизнесмен и техник в одном лице. Из бесчисленного множества его изобретений трудно выбрать хотя бы одно действительно его собственное, которое до того, как он им занялся, не находилось уже в стадии более или менее удачных проработок. Будет ли это фонограф, лампочка или кино, роль Эдисона сводилась, главным образом, к систематическому рассмотрению проблемы, а также к разработке ее при помощи большого штата специалистов, причем успеху главным образом сопутствовал метод проб и ошибок, неоднократно используемый и в точных науках, но точно не принадлежащий к наилучшим инструментам, какие знает современная методология. Вспоминаю об этом, потому что слова «я» или «мой» повторяются в работах Эдисона очень часто. Категоричность его утверждений соответствует их наивности. Как мы узнаем, в своей лаборатории он даже пробовал решить проблему атомной энергии. Ничего удивительного, что ему это не удалось, потому что метод «молотка, клещей и здравого рассудка», который позволил сконструировать лампочку, фонограф и динамо-машину, в этой области должен был подвести. Кажется несомненным, что время «изобретателей божьей милостью», применяющих эдисоновский метод, прошло, как прошла эпоха либерализма. Дорога ведет сегодня от теории к практике, а не наоборот. В то же время Эдисон уверен в чем-то обратном: он считает, что изобретатель-техник является пионером всякого, не только технического, прогресса, что он прокладывает дороги, которыми вслед за ним движется социолог, политик, педагог и художник. Трудно без улыбки читать его необычные замечания о музыке. Они напоминают, пожалуй, высказывания багетчика о художественной ценности вставляемых им полотен. Эдисон, который, как утверждает, любит музыку, делит ее на «сочиненную» и «сделанную из ничего», причем этот последний эпитет является sui generis[124] похвалой и достался он, среди прочих, Бетховену.
Несмотря на эти и другие промахи, которые иногда соседствуют с абсолютной наивностью («единицы жизни», «духи»), ему нельзя отказать в оригинальности некоторых взглядов, а также в способности краткого изложения мысли. В книге представлено много идей, заслуживающих внимания, например, в деле воспитания и образования при помощи кино (visual education), или на тему изучения памяти, а также особого научного бессилия американцев, но подавляет их совершенно не замечаемый Эдисоном субъективизм. Из каждого предложения видно, что написал его человек повсюду известный и знаменитый, который сам в полной мере поверил в свое величие (не только в области применяемой техники).
Намного интереснее Эдисона-музыковеда, социолога, биолога и философа Эдисон как человек: что есть в нем типично буржуазного, как в своих порой удивительных взглядах и мыслях он представляет яркий образец своего типичного соотечественника. К сожалению, эта тема выходит за рамки данной рецензии, изложенной с науковедческой точки зрения.
Рецензия на «Левую руку тьмы» У. Ле Гуин
Научно-фантастический роман, который серьезно оценивается по критериям большой литературы, представляет собой странный феномен. На обложке пейпербека можно прочитать, что «Левая рука тьмы»[125] даже похожа на «Дюну» Фрэнка Герберта; если это и так, такое родство никак не добродетель, что мы позднее объясним.
Невозможно забыть этот роман сразу по окончании чтения, он принуждает к обдумыванию; и это также удивительно для НФ. Заметно, что Ле Гуин – дочь великого Кребера. Набросок чужой культуры богат на выдумку и выполнен уверенной рукой; предполагаемое антропологическое образование и сила фантазии первоклассны. Итак, вероятно, это НФ, которая уже принадлежит большой литературе? Но если произведение НФ проламывает стены гетто, чтобы образовать часть литературы, оно должно стать вровень с ее мировыми вершинами, так как объем проблематики НФ имеет склонность к достижению космических и онтологических размеров. Только в типичном случае такие мощные проблемы бывают в НФ неправильно поставлены и неправильно решены. К сожалению, этот роман – не «большая литература». Он содержит важные суждения, которые, однако, не развиваются и остаются страдающими одышкой, поскольку центр тяжести сюжета расположен неправильно. Главной задачей является борьба планеты Зима за право быть принятой в космический союз, замечательная бисексуальность кархидцев образует, напротив, только (очень интересный) фон. Все, что могло стать онтологической глубиной, оказывается в конце только чистой экзотикой. Как жаль! Ведь процесс должен был стать обратным; игра за введение «другого человечества» в планетный союз должна была по ходу действия уйти в тень, а замечательное качество судеб кархидцев должно было разъяснить нам нашу собственную судьбу. Почему так? Ведь то, будет ли Зима принадлежать космическому союзу или нет, не может быть причиной экзистенциальных различий в дальнейшей жизни кархидцев любые альтернативы не меняют в их сущности ничего, и эта сущность такова, что может передать нам немало прозрений в нашу собственную судьбу.
Все пути НФ, которые в конце не ведут назад к людям, не могут нам предложить ничего сверх богатств галактического паноптикума. В романе Ле Гуин есть, к сожалению, зияющий провал, так как антропологическая проницательность примерна, в то время как психологическое сопереживание остается только удовлетворительным, иногда даже неудовлетворительным. Ле Гуин сделала биологически правдоподобное и беллетристически ценное изобретение: она изобрела «других» людей, которые не только периодически приобретают пол (подобное можно найти в НФ, как и бисексуальность), но которые периодически во время течки становятся или мужчиной, или женщиной, причем невозможно заранее знать, какую половую инкарнацию переживешь в ближайшем будущем. Автор не знала, как изобразить проистекающую из этого ужасную безжалостность индивидуальной судьбы, или она не могла, или не хотела; она так многое разъяснила в повествовательных главах, но она не претворила этот антропологический материал в одну-единственную жизнь. А ведь при данных обстоятельствах в качестве важнейших должны навязываться два экзистенциальных вопроса: первое, кем я буду во время следующего «кеммера», мужчиной или женщиной? Нормальная, хорошо нам известная неопределенность собственной судьбы становится тут внезапно, вопреки всем стереотипизированным мнениям, болезненно увеличена сексуальным индетерминизмом. Речь идет ведь не только об ответе на тривиальный вопрос, буду ли я в следующем месяце обрюхачен или буду брюхатить, но о целом классе новых психологических задач, ролей, которые таятся для меня на обоих полюсах половой альтернативы. И второе: вопрос, к кому из круга знакомых мне, но сегодня безразличных людей, я почувствую себя внезапно эротически притягиваемым? Если подумать, что и они в это время бесполые существа, и что биологическая судьба никогда не может окончательно отвердеть, детерминироваться, однако может нас поразить все новыми и новыми сомнительными превращениями уже знакомого, только тогда вырисуется вся неопределенность, вызов, который в ней находится, который парализует слабых, а сильных побуждает к бессильной борьбе против этого вида биологической Мойры. Никогда человек не есть и не остается он или она, но должен в неизвестной заранее метаморфозе как раб подчиниться собственным половым железам. И как вообще в таких обстоятельствах может утверждаться любовь – не сексуальное притяжение, а его сублимация? Прекращают ли любить, как только прошел период течки? Но это было бы в качестве утверждения полностью неправильно, так как мы располагаем достаточными знаниями об эротических механизмах человеческой психики, чтобы такое утверждение по праву опровергнуть. Разве невозможны были истории кастратов, которые безумно влюблялись в женщин? Кончается ли любовь с приходом климактерического периода, будь то мужского или женского? Часто бывает, что она сохраняется и дальше. Она должна только пережить свое воспламенение, которое может состояться и во время «кеммера»; даже если потом сексуальное будет потушено, психическое пламя горит дальше. И во всяком случае такие происшествия должны быть частыми. Да, и страшная ирония судьбы – кто-то во время течки полюбил другого как женщину, а через несколько месяцев они оба становятся «женщинами» или «мужчинами» – вероятно ли, что они отправятся разыскивать себе наиболее биологически соответствующего, то есть гетеросексуального партнера? Утвердительный ответ на этот вопрос не только бессмыслица, но и явная ложь, так как мы располагаем лучшим знанием – о власти культурно-психологической организации внутренней жизни, противоречащей биологическим стремлениям. Так что на планете Зима множество горя, множество несчастий; а также и «извращений», проявляющихся в том, что «прежние» мужчины должны чувствовать намного большее притяжение «прежних» женских любовных партнеров – даже если сегодня они бесполые существа или мужчины, – чем тех, кто сегодня готов, согласно диктату желез, играть женскую роль. Что за возможности для ужасной, причудливой, даже дьявольской комбинаторики! Ведь в таких вариациях имеются предпосылки к прямо-таки адской и интенционально побуждающей злости, и такое положение должно было бы стать главным пунктом всех культурологических усилий этого человечества. Ведь вся земная история учит нас, что человек никогда не склонен признавать слепые статистические силы как таковые, то есть как единственного властелина своей жизни и смерти. Он изобрел культуру как религию и миф, чтобы превратить ужасную нейтральность по отношению к нему слепой статистики в детерминированную трансцендентность. Так как задача, перед которой стояли кархидцы, была намного, намного труднее, чем такая же перед Homo sapiens на Земле, тамошние культурные труды должны были оформиться соответственно. Ведь человек просто не может стать пассивным рабом сил течки; он будет бороться против неизбежного, и эта иррациональность и есть, вероятно, то, что делает его человеком.
Так как я не могу здесь набросать этот другой роман, который Ле Гуин не написала, займемся лучше тем, что «стоит в книге». Политическая интрига оставляет меня холодным, она, к сожалению, имеет некоторые общие черты с гербертовой «Дюной», а тем самым с плоскими стереотипами и клише НФ. Я извлекаю из романа ту истину обо мне, то есть обо всех людях, что, как ни мучительно иногда может складываться наша жизнь в эротическом или сексуальном отношении, данная нам половая однозначность в своей ограниченности в конечном счете является для нас милостью, а не тюрьмой (кархидцы, естественно, должны думать совсем по-другому и считать нас «ненормальными», как Ле Гуин правильно показывает, ведь всегда возможно судить, оценивать и реагировать, только исходя из собственного этноцентризма). Так, кархидцам удалось кое-что, чего мы лишены (они не знают, к примеру, войн), но много больше они потеряли. И, хотя это может звучать немного комично, я должен это сказать: роман Ле Гуин доказал мне, что наши тела, такие, какими их сформировал эволюционный процесс, представляют собой не худшее в области реализуемого; и что мы не являемся более всех потерпевшими в антропогенетическом процессе. Если можно сказать что-то такое in abstracto, так, он позволяет на конкретном примере – а для меня роман таким и является – понять, что нас могло ожидать и от чего мы избавлены. Я узнал из этой книги о некоторых атрибутах моей человеческой судьбы, в ее онтологических, то есть окончательных качествах, хотя эта онтологическая идея судьбы только обозначена, а не воплощена. Премного благодарен и за это, так как такое переживание в НФ приходится ценить… Однако вернемся к роману. Он хорошо написан – как стилистически, так и с точки зрения полноты «обычаев и нравов» другой культуры, хотя и не полностью последователен: ведь, как хотел нас убедить автор, на планете нет женщин, но вот мужчины там имеются, если не в сексуальном, то в социальном смысле, ведь по их одежде и манере разговора, обычаям и поведению кархидцы являются мужчинами. И мужской элемент в социальной области одержал окончательную победу над женским. Поскольку Ле Гуин, вероятно, не хотела взрывать ортодоксальную НФ-структуру, имеется там довольно-таки типическая последовательность: земной уполномоченный считает своего лучшего помощника вследствие qui pro quo своим противником, есть довольно бледная карикатура на некое бюрократическое централизованное государство и на некое феодальное, есть заключение в тюрьму, освобождение, героизм, самопожертвование и в конце happy end, когда на планету величественно опускается звездолет. Было ли это необходимо? Еще раз: что меняет новое политическое положение людей Зимы в их интимнейших экзистенциальных проблемах? Разве мы маленькие дети, которых может утешить такой happy end? Должно ли огорчительное родство с НФ (в чертах подобия с «Дюной») уничтожить все онтологические потрясающие возможности? Что за проклятие лежит на всей НФ, если самые блестящие идеи в ее области так быстро меркнут и пропадают?
О романе «Дыра в нуле» М.К. Джозефа
1. Этот роман[126] обещает бесконечно много: он – словно попытка освобождения от любых ограничений, которые формируют наше существование, но это лишь декларировано, а не реализовано. Говоря серьезно, он обещает слишком много; ведь снятие всех ограничений по результатам равносильно самоуничтожению, потому что в этом случае мы получаем бесформенное ничто. Тем не менее, попытки отказаться от всех возможных ограничений – парадигматически, традиционно накладываемых – сегодня очень популярны во всех видах искусства. Словно отказ от любых правил, освобождение от любых устойчивых форм идет на благо творческому процессу, приводит к его общему обновлению. В научной фантастике рискованные попытки такого рода могут привести к элефантиазу, потому что научная фантастика не останавливается на рассмотрении человеческой психологии, но прорывается дальше, до физических пределов понимания, – и это также принимает «нечеловеческий», «внечеловеческий» характер. Такая попытка освобождения в своей высшей фазе эскалации обдуманно предпринята в романе М.К. Джозефа – здесь накопление огромных ресурсов в виде технологического антуража и соответствующих знаний используется для того, чтобы пробить «стену» Вселенной. В подготовительной части романа писатель настраивает нас довериться ему; общая ситуация, человеческие фигуры, роботы, весь фон выписан тщательно, уверенной рукой. Это зарождает у нас большие надежды; ведь мы, в качестве читателей, должны вместе с героями покинуть нашу Вселенную, весь этот Мир Пространства-Времени со всеми присущими ему законами, чтобы все-таки понять и познать нечто Иное, Внефизическое («Патофизическое»?), Непостижимое. Намеченная таким образом программа невыполнима в полном объеме (если только не прибегать к высокоабстрактной математике, язык которой сегодня, как и всегда, находится за пределами области литературы). Но если не все, то многое можно осуществить. В романе М.К. Джозефа действие начинается вблизи границы Вселенной, в ее нулевой точке; этот «нуль» должен быть проломлен, и мы должны попасть «на другую сторону». Этот потусторонний мир, это сверхфизическое разнообразие не должно быть пространством «ординарной метафизики», потому что следует отказаться от базовых соглашений, обязательных для всей научной фантастики. Ведь мы совершенно уверены (это также соответствует духу науки и исходит от него), что такого принципиально не могут дать никакие технологии, как современные, так и те, что будут через миллиарды лет, никакие эмпирические средства, никакие физические приборы, которые могли бы перенести нас в метафизическое царство (так, как это понимается во всех системах верований, мифах и легендах). Технически и физически невозможно добраться ни до рая, ни до ада. Наука всегда останется тут бессильной. И если нужно добраться к месту метафизического бытия, невозможно проложить туда путь эмпирически или технически. Все эти соображения Джозеф представил в начале романа в виде основной предпосылки, то есть громко объявил о программе «ухода из этого мира», и сделано это интересно и многообещающе. То есть, когда мы начинаем этот путь, то заранее уверены, что не обнаружим «там» никакой физики и никаких антропоморфных разновидностей.
2. Декларированная таким образом программа «аннулирования мира» равносильна тому, что автор принимает на себя колоссальное обещание по отношению к читателю романа. Заранее ясно, что эта программа не может быть реализована в полном объеме. Поэтому мне было очень любопытно, как писатель намерен исполнить свои обещания, чем он собирается заткнуть эту «Дыру в нуле». Мои туманные ожидания имели определенные общие логические направления. Уход из Вселенной, если его понимать буквально, должен быть равнозначен уходу из жизни, но возможность физического или внефизического описания судеб трупов я, конечно, исключал. Однако если жизнь и смерть, как и принцип причинности, должны быть отменены, остается, пожалуй, еще возможность общей трансформации, которая окончательно отменит эти границы, навсегда отделяющие друг от друга объекты и субъекты. Что я, собственно, ожидал? Я могу показать лишь неясные очертания этого: можно было попробовать подняться к «центру приложения воли», как это понимал Шопенгауэр, то есть к той имманентной силе, которая скрывается в недостижимом внутреннем пространстве всей феноменалистики. Можно было ожидать попытки описать это посредством постоянных противоречий, самоотречения и насилия над языком по отношению к действующему началу, когда не остается ничего человеческого, ничего психологического, и все-таки существует некий фокус, некий центр, как бессознательный противоречивый конгломерат, причем там должно быть сплавлено воедино серьезное с причудливым гротеском, правдоподобное с невозможным ни при каких обстоятельствах. Больше мне нечего сказать по этому поводу, да и не хочется, ведь моя задача заключается не в том, чтобы рассказать, что я стал бы делать на месте автора после таких обещаний. Я бы вообще добровольно не избрал такой путь, и мои неясные мысли, изложенные выше, это всего лишь эскиз, некие общие наброски моих попыток оттолкнуться от исходных позиций, которые я все-таки должен был предпринять, исследуя «Дыру в нуле». Я ожидал, по крайней мере, большой виртуозности – какой-то уникальности, смелости, рискованности в литературном направлении, потому что мы – и я, и автор – уже не дети, которых можно удовлетворить первыми попавшими под руку объяснениями. Когда вам обещано огромное, бесконечное величие, вас не удовлетворят крошки. Но горы обещаний и надежд породили мышь. Под «Дырой в нуле» оказался сомнительный рай сказок и мифов.
3. Разочарование мое было очень сильным, прямо пропорциональным величине и степени всех объявленных потрясений на этой стороне «Дыры в нуле». Это внезапное разочарование не позволило мне правильно оценить имманентные эстетико-семантические достоинства рассматриваемого романа. Даже если бы он был высочайшей вершиной во всей фантастике, его признание было бы изначально невозможно по тем же психологическим причинам, по которым неохотно слушают сказочника в университетском зале люди, приглашенные познакомиться с настоящими тайнами космоса. Представленная сказка может быть гениальной, но ты надеялся на что-то другое, на реальное получение информации. Невозможно увидеть самый распрекрасный сон, если вы настроились бодрствовать и не желаете засыпать.
В конце концов я согласился принять правила игры, потому что не было выхода, – альтернатива в таких случаях – только прекратить чтение. Однако мне пришлось переосмыслить в обратном порядке все прочитанное, чтобы отказаться от прежних дословных толкований. «Физический» инструментарий и события подготовки, описанные в начале романа, следовало понимать, как я теперь осознал, лишь в качестве магических заклинаний, волшебных слов, некоего метафорического способа речи. Лишь перестроившись таким образом, я смог постичь внутренние связи изображаемого. Но поскольку автор объявил об отмене всех известных нам видов порядка, в результате образовалась некая литературная задолженность, которая ни в коем случае не позволяет останавливаться на границе Буквального-Реалистического-Эмпирического. Эта сильно возросшая задолженность должна быть перекрыта огромными ресурсами. Я имею в виду следующее: если мы не можем ожидать никаких физических чудесных событий, то должны получить, по крайней мере, их эквивалент в «чисто фантастической валюте». «Дыра в нуле» не может быть нафарширована старым сказочным и мифологическим хламом. Я был готов, следуя велению автора, на время чтения забыть физические и реалистические связующие звенья, но я по-прежнему ожидал отваги, то есть Еще-Никогда-Несказанного, потому что лишь это могло спасти положение. Я согласен отказаться в романе от всего мира, от всех законов, солнц и планет, если этого требуют правила игры, – но только не за пять грошей! Когда кто-то обещает ребенку достать луну с неба и в качестве «подходящего для этого устройства» показывает рыболовную сеть, дитя, возможно, и поверит в это, но я сомневаюсь, что подобная демонстрация удовлетворит взрослого человека. Во всяком случае, я не столь доверчив. И если неподходящее средство не может обеспечить обещаемого результата, то и сколь угодно большое количество таких средств не сможет претворить его в жизнь. Я думаю, что эта проблема чрезвычайно важна, поскольку она представляет собой точку, с которой начинается эскалация и вызываемая ею инфляция слов в фэнтези. Тысячекратно повторенные попытки лишь подтверждают результат, кратко сформулированный Гёте: «В умении обходиться малым виден мастер». Эту преграду нелегко преодолеть.
4. Итак, что же такое «Дыра в нуле»? Некое собрание всех сказочных (фэнтезийных) структур, всех хорошо известных лейтмотивов, которые уже многократно были использованы. А именно: лейтмотивов миров с принцессами, заколдованными мечами, монстрами и замками; миров с «необратимыми» изобретениями (нарушители спокойствия) и молниеносными поединками разведок и контрразведок; миров с «лирическими» объектами (пальмы, маленькие золотые солнышки, металлические птицы); миров с разветвленной (как вариант, бинарной) структурой времени и т. д. Из этого множества «на пробу» возьмем только «один мир», в котором события происходят в одновременной параллельной временной последовательности, и рассмотрим его под микроскопом. Это мир, в котором наблюдаются все последствия нормальной (хотя и альтернативной) человеческой деятельности. При его конструировании подстерегают две трудности: одна – чисто идеографического характера. То есть она возникает, когда вам приходится последовательно описывать то, что в принципе происходит синхронно, одновременно. Эту трудность Джозеф даже не пытается преодолеть по-настоящему, он просто описывает одновременные события поочередно. И вторая трудность – семантического и онтологического характера. Параллельные временные потоки в этом мире наполнены событиями, которые описаны совершенно нейтрально и не определены в семантическом и онтологическом плане. Мы находим здесь наихудшую слабость мира Джозефа, ее имя – банальность. Мы узнаем, что служащий может потерять работу, если не будет уделять достаточного внимания своей деятельности; а вот если бы он не ленился, то смог бы сделать успешную карьеру. Еще развилка: он мог жениться на дочери своего начальника, а мог и не жениться. В первом случае жена могла бы ему изменять, и тогда он мог бы убивать своих соперников и уходить от правосудия. Если ему не удастся сбежать, его осудят, и т. д. ad libitum[127]. Какие гениальные откровения, какие душераздирающие истины глубочайшего смысла человеческой судьбы, которые никогда не удастся разглядеть в монотемпоральном мире! А ведь так называемая бинарная матрица пространства-времени действительно предоставляет возможность для показа интересных поворотов судьбы и демонстрации некоторых онтологических принципов. В качестве примера приведу несколько возможностей:
I. В эквифинальной[128] онтологии при обозрении параллельных потоков времени люди смогут принимать различные решения, которые в окончательном варианте не изменят их судьбы, либо потому, что жестко детерминированы врожденные структуры характеров и личностей, либо потому, что череда страданий и страстей, побед и поражений приводит к похожим (в смысле опыта) или даже идентичным результатам. В соответствии с принципом эквифинальности судьбы все человеческие жизни равны в своей имманентности, а отличаются только внешне. Заботы и страдания короля и тирана подобны заботам невольника, – только люди не могут заметить это в мире с сингулярным потоком времени, а потому и не понимают этого до конца. (Эквифинальная онтология предлагает и другие пути решения этой проблемы, которые я не могу привести здесь из-за недостатка места.)
II. В стохастическом мире характер человека определяется внешними обстоятельствами. Он становится святым или преступником в соответствии с результирующей силой стохастически случайных совпадений (последовательностей «неудач» и «счастливых случаев»): нет никакой предопределенности личности; существование – это игра с асимметрично сформированной функцией выигрыша.
Эти возможности могут быть использованы (по отдельности или в сочетании) в ироническом, гротескном, псевдореалистическом, драматическом ключе. Как использовал Джозеф множество этих возможностей? Да никак. Он довольствуется описанием самых банальных и наивных событий, которые имеют поверхностный, незначительный характер. Он даже не знает о существовании таких проблем. Эта слепота в интеллектуальных размышлениях вполне типична для всей литературы фэнтези, как характерна она для всех типов приключенческой литературы. Поверхностный взгляд типичен и для всей фантастики, и не случайно так глупо и легкомысленно выглядят авторы, которые серьезно стремятся к всемогуществу, потому что пределы действия для них являются не имманентной составной частью (любого) существования, а ограничениями, налагаемыми на их безудержный полет фантазии. Если в историческом романе, претендующем на правдивость, чистый анахронизм – доказательство полного невежества, то в фэнтези любые благоглупости как бы заранее оправданы тем, что это фэнтези, но на самом деле это мистификация, в которой часто ищет убежища творческая импотенция. Битемпоральная Вселенная позволяет ответить на вопросы о том, как люди и миры соотносятся друг с другом в двойной системе случайностей, как они скрытно коррелируют (спутаны) на физическом (или метафизическом) уровне. Но нашего автора такие проблемы не интересуют, потому что его вообще не заботят никакие реальные проблемы.
Джозеф заимствует из сокровищницы фэнтези все банальности, чтобы количеством лейтмотивов прикрыть внутреннюю нищету. Но дыру в нуле невозможно заполнить другими нулями. Тем не менее следует добавить, что Джозеф довольно ловко строит свое обозрение фэнтези, что он излагает свои истории с определенным изяществом, что он не лишен литературной культуры и изобретателен в области «лирических» метафор. Он проявляет хороший вкус, пользуясь различными стилевыми особенностями, хорошо строит диалоги, четко, внятно и ясно показывает фантастические объекты и целые сцены. Все это совершенно правильно. Но это только азы литературы; непременные основные условия, исполнение которых является абсолютным минимумом литературного мастерства и профессиональной сноровки. Джозеф делает все это гораздо лучше, чем «классик» Ван Вогт, который беспрестанно спотыкается на элементарных деталях и теряется в собственной структуре повествования, – что лишь доказывает, как низок уровень научной фантастики. Только в заведениях для слабоумных хвалят высокий слог пациента за то, что его чуточку связная речь так красиво выделяется на фоне глупого лепета всех остальных обитателей клиники. Либо научная фантастика станет разделом нормальной литературы, равнозначным другим видам, либо не имеет смысла серьезно рассматривать произведения этого жанра и проблемы, с ними связанные. И если только отдельные работы могут избежать всеобщего осуждения, то следует, вероятно, вспомнить, что Содом могли спасти всего лишь десять праведников.
Рецензия на «Похитителей завтрашнего дня» С. Комацу
В этой книге[129] помимо романа, давшего ей название, опубликованы короткие рассказы японского писателя-фантаста Комацу. Его нравственные позиции, как это становится ясно при чтении, безупречны. Комацу выступает за гуманизм, мир, за равенство людей, против угнетения, эксплуатации, войн и т. д. Это очень приятно и отрадно, особенно в НФ, но этого недостаточно для того, чтобы автоматически использовать этот диагноз для оценки литературного и научного качества материала. К сожалению, в литературе такой подход не срабатывает. В первом рассказе книги – «Покинутые», дети всего мира обратились к взрослым с ультиматумом: либо мир будет немедленно «улучшен», либо дети «покинут» его, используя неназванный способ, если они увидят, что их ультиматум не будет принят всерьез. Они исчезают, дети; даже новорожденные испаряются из колыбелей. Как они это сделали, как даже новорожденные получили это известие, этот «приказ на выступление», в рассказе не сказано ни слова. Смысл и значение всех других рассказов аналогичны. Мир плох, как выясняется, и очень плохо, что это ТАК плохо. Было бы гораздо лучше, если бы все было лучше. Излишне говорить, что стоило хотя бы на секунду задуматься о том, что на самом деле могли бы сделать так называемые взрослые, чтобы предотвратить катастрофу и исчезновение детей. Даже в лучшем из остальных рассказов, «Цветы из дыма», – продемонстрирован такой же мотив. На одной далекой планете существует благородное, граничащее с религией искусство создания «цветов из дыма». Люди из алчности экспортируют это искусство, заплатив большие деньги, а в результате оно начинает вымирать, как на Земле, так и на родной планете. Ведь это нехорошо, не правда ли, использовать в коммерческих целях нематериальные, неуловимые качества и ценности. Этот последний рассказ недурно написан, хотя и воплощает древний мотив, этакое наивное поучение сказочного характера. Даже если сказке не присущи какие-то интеллектуальные достоинства, она может стать очаровательной благодаря стилистическим качествам обработки материала, благодаря лирической (или жестокой, или гротесковой) ауре, благодаря обаянию и т. д. Стилистика Комацу – или, говоря осторожнее, русского перевода – напоминает газетный фельетон из воскресного выпуска, в котором предпринята рискованная попытка растрогать человеческое сознание прописными истинами, которые все знают наизусть, если только не забыли со школьных времен, когда на уроках закона божьего читали добрые проповеди. Трудно говорить и об обаянии, когда наивности преподносятся в виде вновь открывшихся важных истин. У рассказов Комацу есть одно преимущество, которого лишен его роман: они действительно так коротки, что не успевают наскучить читателю. О романе этого не скажешь. Он наивен и выстроен весьма примитивно. Инопланетянин, который маскируется или выдает себя за персонажа классического театра кабуки, совершает вынужденную посадку на нашей планете. Он создает (сначала в Японии) «акустический вакуум» (когда никто не слышит ни голосов, ни вообще никаких звуков), потому что ему мешал страшный шум большого города. Эта внезапная могильная тишина, вызывающая хаос, описана во многих сценах, что должно, видимо, вызывать то комический, то драматический эффект (но не у такого читателя, как я). Затем чудесным образом создается другой вакуум, уже не в рамках «частных дел», но в распространении на весь «злой мир»: все взрывчатые вещества оказываются «парализованы», как в атомных бомбах, так и в бензиновых двигателях. Но это не приводит к массовому вымиранию людей во внезапно онемевших городах по всему миру, потому что паралич не охватывает все процессы горения (как я понимаю, «парализующий принцип» не распространяется на реакции между углеродом и кислородом, так что «отключаются» лишь динамит, атомные ядра и бензиновые моторы). И в конце рассказчик, который поведал нам всю эту историю, слышит от волшебника-инопланетянина, что решение о том, восстанавливать ли все, как было прежде, зависит от него. Бессильный рассказчик не осмеливается принять это решение, и вопрос остается открытым для читателя. Вполне возможно, что в романе имеются отсылки к элементам японского фольклора, которые я не могу осознать, и чтение воздействует на японца не так отупляюще, как на европейца, который просто незнаком с традициями театра кабуки: что касается меня, я их не знаю. Роман, как и короткие новеллы, это никакая не научная фантастика, а фантазия, вернее, собрание избитых истин, наивных притч и аллегорий, глубиной от 2 до 3 сантиметров. В японском литературном мейнстриме есть отличные писатели; но тамошняя НФ, судя по представленному образцу, ориентируется на умственно отсталых, так же, как и НФ на Западе.
Рецензия на «Время перемен» Р. Силверберга
Этот отмеченный наградами роман[130] (Небьюла, 1972) представляет собой крайне интересное явление: применяя врачебное выражение, мы имеем перед собой патогномически классический случай, по которому можно выяснить типическое сегодняшней научной фантастики.
Правда, действие происходит в среде, которая имеет обыкновение отталкивать людей, которые помнят хотя бы свою юность: а именно в среде планетарных аристократов, септархов, маркизов и других благородных, которые, видимо, представляют собой космическую постоянную. Но на этот раз в такой среде зарыта первостепенная проблема. На планете Борсен потомки переселенцев с Земли создали культуру, которая активно отрицает и принуждает к молчанию индивидуальность. Это можно заметить даже по языку, так как употребление всех я-центричных слов на планете запрещено. Не разрешается говорить «мой, мне, я», но нужно использовать нейтральную форму («радостно» вместо «я радуюсь» и т. д.). Запрещено также делиться с другими своими личными переживаниями, и если кто-то все же должен довериться другому человеку, то на этот случай он должен быть обслужен одним из «исповедников», «религиозных специалистов», который за соответствующее вознаграждение обязан выслушать исповедь и все, что ему при этом откроется, подобно католическому священнику, сохранять в тайне. Немногое из того, что составляет частную жизнь, можно доверить и другим, а именно «культуральным родственникам», т. е. не настоящим родственникам, но так называемым «названым сестрам» и «названым братьям». Эта культура становится для героя постепенно невыносимой, особенно когда он тайно влюбляется в свою «названую сестру» – но отношения между «назваными» родственниками строжайше табуированы. Неудивительно, что такой герой оказывается неспособен противостоять чужаку, землянину по имени Швейц, когда тот передает герою наркотик с поразительным действием. А именно: если два человека примут это средство одновременно, они переживают некое Communio Spiritualis[131], то есть слияние души, равно как и накопленных воспоминаний. И когда такое происходит, то возникает состояние чудесной платонической любви к ближнему.
Герой переживает такое communio с этим человеком, и затем ему удается испробовать это communio со своей «названой сестрой». Тогда у него появляется мысль с помощью этого средства устроить на планете «культурную революцию», но его заковывают в кандалы, и теперь в камере смертников он ожидает своей участи, рассказывая свою историю, которую мы только что изложили.
Проблема формулируется так: разрешается ли воздействовать наркотиком на жестокую, даже бесчеловечную культуру? Кто такой герой этого романа? Прогрессивный борец за свободу или презренный наркоман, который хочет превратить всех своих близких в таких же наркоманов?
Антитеза «культура – наркотик» представляет собой в наше время, как известно, весьма реальную проблему. Но в романе Силверберга нет ни культуры, ни наркотика. По этой простой причине НЕВОЗМОЖНО серьезно обсуждать так красиво и многозначительно заявленную проблематику. Точнее, в романе все же есть некая культура и некий наркотик, но оба такого вида, который бывает только в сказках. Понятием «культура», как и понятием «наркотик», я не могу манипулировать совсем уж произвольно, без какого-то ограничения. Ведь, если позволить такое, можно обсуждать что угодно, изменяя присущие предмету обозначения на свое усмотрение. Так что излишне ломать себе голову над тем, что лучше: использовать против человеческой агрессивности синюю или красную магию? На планете Борсен не существует культуры в смысле антропологии или социологии, а есть околдовывание человеческого «я», и против этого колдовства есть одно-единственное средство, которое представляет другое колдовство, по воле автора получившее обозначение «наркотик». Так что вопрос, который действительно поставлен в романе, звучит так: позволительно ли злым волшебством бороться со злым колдовством? Если и можно обсуждать эту проблему правдоподобно, тотчас исчезнет всякая релевантность, когда мы перенесем это из сказочного мира в наш реальный мир. Ведь в нашем мире все возможные волшебства, магии и заклинания имеют одну и ту же ценность, а именно – нулевую.
Силверберг ведь привык заимствовать так много из соседних с НФ областей, при этом он использует для НФ не только сказки, но и типичные клише вестерна (что доказал Сам Лундвалль в книге «Научная фантастика – о чем это», когда перевел один из рассказов Силверберга назад в «вестерновский», а именно «Конец пути» (Journey’s End), что было очень просто проделать, переводя «бластер» как парадигматический кольт, «пятиногих» как команчей, а «розового монстра» как обычную лошадь).
Итак, мы имеем единственную оставшуюся проблему: почему, собственно, такие маскарады и «заимствования» должны быть запрещены в НФ? Почему Томасу Манну разрешено ввести мифическую парадигму фаустовского мифа в его великий роман «Доктор Фаустус» как матрицу; а автору НФ нельзя позволить проделать подобное со сказкой, и такой образ действий объявляется безобразием или даже надувательством? Ответ на редкость прост. Слияние реалистичной и мифической структур повествования разрешено, если этот процесс НЕ утаивается и если художник признается в своем намерении, как это ясно можно заметить в романе Манна, название которого прямо указывает на родство с фаустианским мифом. Семантика некоторых таких произведений выстраивается тогда двуслойно; и напряженные отношения, которые возникают между почитаемой парадигмой и действием, представляют собой – по намерению автора – собственное проблемное поле. Но если парадигматическая структура тайно «заимствуется» и как таковая НЕ должна узнаваться, поскольку именно она выдается за что-то совсем ДРУГОЕ, здесь – за беллетризирование культурной проблематики, – узнавание «одолженной» структуры в ее первоначальной имманентности равнозначно дисквалификации произведения. Поскольку, само собой разумеется, автор НЕ желает, чтобы узнали, как поверхностно, только введением новых наименований, вестерн был превращен в псевдо-НФ, или как сказка, которая повествует о разновидностях волшебства, выдается за «антропологическую дилемму». Мы видим перед собой «генологический инцест» как попытку обмануть читателя, и общий эффект повествования можно поддерживать лишь до тех пор, пока мы не узнали настоящее положение дел.
Последний вопрос, который нам осталось обсудить, таков: как случилось, что онтология сказки оказалась выдана за онтологию реального мира, и сказочное, то есть никогда-невозможное, за реально проблемное? Как приходят к убеждению, что механическое изменение отдельных наименований, подмена сказочных проблем на «реальные» может результировать в новосозданной культурной проблематике? Одним словом: зачем упорно заниматься МИСТИФИКАЦИЕЙ, причем не одному автору, который как одиночка всегда ведь может ошибиться, но и высокому совету, жюри SFWA[132], которое удостоило эту мистификацию премии? Разве не понимают эти почтенные мыслители, что они оказывают делу НФ худшую из возможных услуг, открыто показывая свою коллективную слепоту в элементарных вопросах искусства? Разве не ясно, что роман Силверберга, если бы он вызвал восторг членов жюри – должны были наградить ТОЛЬКО как сказку, но НЕ как научную фантастику. Если же они наивно камуфлированной сказке дали премию КАК НФ, эта награда представляет собой акт самоосмеяния всего жанра, который даже не знает, что он, собственно, делает.
Рецензия на «Игру со страхом» М. Выдмуха
«Игра со страхом»[133] является хорошо сбалансированным компромиссом между теоретическим трактатом и путеводителем по фантастике ужасов. Во введении автор сопоставляет наиболее важные определения этого вида литературы (Р. Кайуа, Ц. Тодорова и Л. Густафссона), без которых так легко свалиться в пропасть философских умозаключений – этих нынешних современных рассуждений, особенностью которых является то, что они затемняют, а не проясняют позицию исследователей. О фантастике сегодня пишут или с позиции любителя, и тогда мы имеем дело с наивной апологетикой без малейшего критического дистанцирования, или с позиции теоретика литературы, который, как, например, тот же Тодоров, подходит к этому с готовым представлением, что он «всегда прав» – то есть корпус этого вида беллетристики зажат в тиски предубеждений. Небольшая, но убедительная книга Выдмуха написана рационалистом, который поставил перед собой четкую и определенную задачу. О теоретическом в ней сказано лишь то, что было необходимо. Основная проблема литературной теории заключается в вопросе о связи между повествованием и реальным миром. Этот латентный для «обычной» беллетристики вопрос особенно остро стоит по отношению к фантастике. Пространство реалистической литературы в широчайшем диапазоне так прочно связано с повседневным опытом реального мира как авторов, так и их читателей, что не существует широкомасштабных расхождений между уровнем достоверности того, что рассказывает автор, и того, что читатель готов принять без колебаний. А в случае с фантастикой не так уж часто писательская исходная позиция совпадает с читательской, во всяком случае, гораздо реже, чем в реалистической литературе. Фантастика лишена этой двусторонней стабилизации, поскольку система координат, которая связывает автора с читателем за пределами произведения, является не реальным жизненным опытом, а своеобразным соглашением, принятым для данного вида литературы, как бы сложившейся системой правил игры. В жанре литературы ужасов эти правила игры сформировались из данного этноцентрического фольклора, из местной системы взглядов, которые выкристаллизовались в «литературном» процессе, то есть в культурно-эстетической эволюции, являющейся частью истории литературы. Может быть, по этой причине мало кто из нас способен переместить чуждые нам культурно фантастические истории в нашу читательскую перспективу. Так, например, у европейцев всегда возникают трудности с правильным пониманием древних японских историй о призраках, потому что верования и суеверия, нашедшие отражение в более поздних литературных переработках этих историй, весьма далеки от понятийного аппарата христианства – именно поэтому то, что на Востоке имело серьезные очертания, в наших глазах принимает причудливый оттенок. Таким образом, фантастика ужасов жестко локализована, и Выдмух занимается исключительно ее западным вариантом. Во введении он указывает на сильные и слабые стороны современного, то есть сегодняшнего осмысления жанра, причем он решает остановиться на общей, но очень показательной концепции Густафссона, ключевой особенностью которой является «фантастическое восприятие мира», называемое им «непроницаемостью» мира в целом. Этой непроницаемости свойственно наличие некой нелокализируемой тайны, которая не обязательно принимает наивные, грубые формы оккультных сил или другие виды сверхъестественных феноменов. В таком мире возможно появление неожиданных, парализующих рациональный разум явлений, что в литературе чаще всего представлено в виде столкновения «натуралистической самоуверенности» с разрушающими эту уверенность «другими» правилами (например, правилами поведения духов).
Затем Выдмух знакомит нас с тактикой и стратегией авторов, стремящихся «максимизировать» «воздействие ужасного»: используемые для этого приемы и способы рассмотрены в трех главах («Инструменты страха: вампиры и големы», «Механизм страха: заброшенные дома», «Увеличение страха: Лавкрафт»). Выдмух показывает на нескольких примерах, как это сложно – выстроить в ходе weird story[134] постоянное напряжение и при этом не скатиться к постыдно-разочаровывающему нагромождению реквизитов, вызывающему у читателя незапланированное веселье или скуку. Речь идет о хорошо известной опытным авторам дилемме: жанр почти всегда оказывается несостоятельным, потому что обещает больше, чем это возможно сделать. Действие любой weird story должно подводить к некоей кульминации, в некоторой степени она является кассой, из которой обещанный и объявленный ужас должен быть оплачен в твердой сверхъестественной валюте. Эту валюту вряд ли можно заметить при дневном свете – все эти чудовища, изготовленные из лягушачьих тел (Лавкрафт), волосатые пауки (М.Р. Джеймс), старые кости, черепа и т. п., могут напугать лишь детей или инфантильно настроенных читателей; это верно и для других аксессуаров «иного мира». «Существа-призраки» в сравнении с реалиями нашей цивилизации стали простенькими, добродушными, вроде обитателей уютного чулана. Таким образом, сами источники страха не могут быть показаны в weird fiction, они и не показываются, так что читатель остается разочарован, а жанр непрерывно колеблется между слишком большим и слишком малым количеством феноменалистики ужаса. Выдмух иллюстрирует эту ситуацию несколькими хорошо подобранными примерами. И эти главы, составляющие основную часть книги, могут даже рассматриваться как руководство для начинающего писателя, потому что они учат, как можно найти оптимальное решение, избегая крайностей.
Бедность мысли в фантастике для меня неудобоварима: а потому должен сознаться, что книгу Выдмуха я воспринял скорее как развлечение, а не серьезное обсуждение классики ужасов. В двух последних главах Выдмух отходит от имманентного способа описания своего объекта; он делает это в два этапа. В предпоследней главе («Скомпрометированный страх: нонсенс и смех») он показывает разрушительное воздействие, которое юмор оказывает на weird fiction, а в заключительной главе («Vacuum horroris[135]») отмечает проблему пустоты жанра, который может служить лишь исключительно для развлечения. Но свои рассуждения о «бессмыслице и смехе» Выдмух не может проиллюстрировать множеством примеров, потому что практически нет юмористически или, вернее, иронически ориентированной фантастики сверхъестественного, – ее столь же мало, как и юмористической порнографии, которая отказывается от шуток, черпая вдохновение в копролально-генитальной области. На мой взгляд, юмор является краеугольным камнем, определяющим неизменное качество всей литературы. Те жанры, которым противопоказаны сатирические или юмористические компоненты в тексте – поскольку под их воздействием они подвергаются разложению, – тем самым обнажают свою фальшивость. Они не являются подлинными, так как предлагают внелитературные эрзац-заменители того, что недоступно читателю непосредственно, например, оргии, гаремы, распутство в порнографической литературе. Как порнография является эрзацем сексуальных поступков, которые как бы совершаются «от имени читателя», то есть per procura[136], так и weird fiction – но только современная – является разновидностью массового потребления, суррогатом метафизических феноменов, способных достичь глубины человеческой души. Поэтому я всегда теряюсь, когда меня просят назвать лучшие Horror Stories[137]. Но я без колебаний могу рекомендовать этот маленький бедекер Выдмуха по литературе о призраках, потому что он разумно и объективно доносит правду о ложной сущности фантастики.
Рецензия на «Земную Империю» А. Кларка
Написанное Артуром Кларком в пятидесятые годы введение в космонавтику занимает в моей библиотеке почетное место. Я получил эту книгу двадцать четыре года назад от друга в качестве свадебного подарка. Без преувеличения можно назвать Кларка моим тогдашним учителем. Тем труднее мне говорить о его последнем романе[138]. Но я не могу промолчать: как рассказчик Кларк очень хорош. Более того, ему удается избежать большинства грехов современной научной фантастики, ее судорожного пораженчества, ее технологического и социального ада. К сожалению, то, что автор не совершил множества ошибок, еще не гарантирует ему успеха. Компетентность Кларка перерождается в романе во множество слабых описаний, которые замедляют сюжет вместо того, чтобы его поддерживать. Пристрастие Кларка к научным лекциям напоминает Жюля Верна, но это лишь внешнее сходство. Если романы Верна излучают некий уникальный старомодный шарм, когда он преподносит приключения своих пуританских героев с наивной искренностью и романтическим энтузиазмом, свойственным духу девятнадцатого века, то Кларк поступает так механически, прицепляя одно «научное чудо» к другому. Нельзя отрицать, что Кларк прилагает надлежащие усилия в качестве собирателя новейших гипотез (даже черные микродыры он предлагает использовать как источник энергии для будущих космических аппаратов), но такие детали не в состоянии предотвратить окончательное поражение рассказчика. Проще всего обосновать этот удручающий приговор на примере цитат.
Герой Кларка, который живет на Титане, спутнике Юпитера, впервые посещает Землю XXIII века. Даже в то время у всех есть семьи, поэтому в романе присутствуют «семейные разговоры», примерно такого типа: «Шестьдесят – замечательное круглое число, которое можно составить несколькими способами. Самый легкий – умножить десять на шесть. Такую площадь имеет эта коробочка: по горизонтали в ней умещается десять квадратиков, а по вертикали – шесть…» И т. д., и т. п. Так беседует «бабушка» с внуком на Титане. Речь идет об известной сегодня игре в пентамино, и это громоздкое описание занимает страницы с 43-й по 61-ю.
Роман также должен быть остроумным и забавным. Разумеется, выглядит это так: «Фамилия Роберта Кляйнмана[139] служила поводом для непрекращающихся шуток, поскольку рост этого атлетически сложенного человека был почти два метра».
Наличествует также понимание экономики будущего: «Дункан и до этого знал, что все терранцы богаты. Да и могло ли быть иначе, если в роду каждого из них насчитывалось сто тысяч поколений?» «Доказательство» этого утверждения граничит с гротеском; обратите внимание, что уже сегодня у нас почти такое же количество поколений в роду, и все же вряд ли можно назвать всех живущих сегодня людей богатыми.
Должен быть в романе и сенсационно-захватывающий космический перелет: «К числу прочих событий, разнообразящих скуку корабельной жизни, относились получасовые выпуски новостей с Земли. Их передавали в восемь утра с повторением в десять. Вечерний выпуск начинался в семь и повторялся в девять. В начале полета новости приходили с полуторачасовым опозданием, но постепенно разрыв сокращался…» и т. д.
Чудеса межпланетных пейзажей: «Диаметр самого дальнего спутника Сатурна всего пятнадцать километров, однако Мнемозине принадлежат два скромных рекорда. У нее самый долгий период обращения вокруг Сатурна – 1139 дней, при среднем расстоянии в двадцать один миллион километров» и т. п. Если к этому добавить, что все герои, включая и «прекрасных женщин», напоминают деревянных марионеток, лишенных искры жизни, и что такое вязкое действие романа продолжается целых 266 страниц, – то явно излишне описывать свое впечатление от чтения.
Как роман, то есть как произведение искусства, эта книга – явная неудача. Остается вопрос лишь о его прогностических достоинствах. Кларк известен как футуролог, хотя и самопровозглашенный, но других среди исследователей будущего не бывает, потому что нет университетов, которые выпускали бы футурологов. Описанная Кларком в романе техника представляет некоторый интерес, однако его общественно-политические и экономические представления лишены всякого разумного смысла. Левые критики и читатели, которые обвиняют Кларка в упрямом консерватизме, неправы, потому что консерваторы должны обладать хотя бы минимальным чувством реальности, в то время как панорама будущего по Кларку показывает лишь его несогласие с уже признанными жесткими фактами цивилизационного развития. Нельзя этот роман назвать и сказкой, потому что в нем отсутствует сказочная атмосфера. Если рассматривать книгу как объективно-прогностическую, то это порождает множество головоломок. Это такая утопия? Разве что для одиннадцатилетних и тех взрослых, которые безнадежно застряли в детстве. Только если вы любите современные романы, в которых описание двигателей внутреннего сгорания заменяет любую психологию людей, пользующихся автомобилями, а данные генетики и биохимии используются в качестве эрзаца любви, только в этом случае вам стоит приобрести новый роман Кларка. Лишь тогда вам гарантирована светлая радость при чтении.
Рецензия на роман «Марсианский инка» Й. Уотсона
Обычно я не рецензирую научно-фантастические книги, поскольку они плохи. Обсуждение подобного романа только тогда представляется мне оправданным, когда это поднимает вопрос, значимый в контексте культуры – почему умные и одаренные авторы публикуют в этом жанре плохие книги.
Многообещающий английский автор, Йен Уотсон, поставил себе в своем последнем романе «Марсианский инка»[140] задачу, ставшую классической, – изображение первого контакта иной формы жизни с человеком. В «Марсианском инке» рассказаны две идущие параллельно истории: о первой пилотируемой американской высадке на Марс и о странных событиях вокруг вернувшегося с Марса советского зонда, который, разбившись в Боливии, заражает людей живым марсианским носителем, вызывающим у них таинственные душевные изменения. Неизвестный носитель с Марса превращает боливийского индейца в воскресшего Великого Инку, который хочет снова возродить свою мертвую империю, для чего возглавляет восстание против нынешних властителей Боливии. В то же самое время два американских ученых, высадившихся на Марсе, становятся просветленными пророками, испытав подобное же превращение, но их новообретенные способности оказываются ни к чему, поскольку они гибнут в марсианской пустыне от песчаной бури.
Как и полагается в научной фантастике, книга Уотсона дает причинное объяснение этим чрезвычайным событиям. На Марсе, согласно фантастической гипотезе автора, имеются специфические микроорганизмы типа неизвестных нам вирусов, сначала люди опасно заболевают, а потом эти микроорганизмы необратимым образом меняют всю структуру мыслительных процессов. Достигнутое таким образом внутреннее превращение ученого напоминает такое же превращение примитивного индейца – в обоих случаях оно приводит к мистическому состоянию души, которое делает возможным сверхчувственный контакт с сущностью всех вещей. Вирусы с Марса не создали цивилизацию, поскольку они вообще не вступали на этот обременительный путь технического прогресса. Они не нуждаются ни в науке, ни в технике, ни в культуре, так как они обладают интеллектом, принципиально отличным от земного. Они способны познавать мир таким образом, который не требует ни органов чувств, ни языка, ни инструмента. Эти предположительно примитивные вирусы на голову превосходят людей. Оба зараженных вирусом человека получают потрясающее откровение в драме существования, бытия, и если им это знание, полученное словно от короткого замыкания, не приносит пользы, то только потому, что эти люди принадлежат разумной расе, которая уже использовала свой шанс и проиграла. Идеи этого романа можно редуцировать до утверждения, что человеческая цивилизация пагубно заблудилась, поскольку остается в тупике материалистической и рационалистической цивилизации. Был и на Земле правильный путь, а именно на Дальнем Востоке, где когда-то расцвел мистицизм, но эта возможность была упущена, а этот путь растрачен агрессивным обществом потребления. Это послание НФ-романа Уотсона я считаю неверным. Мистическое, идущее с Востока отношение к жизни и ее глубинному смыслу может, вероятно, пойти на пользу одиночке, но оно совершенно бесполезно, если хочется эту восточную мудрость сделать цивилизаторской программой. По своей внешней форме книга Уотсона современна, по содержанию же фальшива и вводит в заблуждение. На Востоке никогда не было Святого Грааля, никакой окончательной истины, никакого откровения в истоках пассивного мистицизма, которые для нас потеряны и которые мы теперь должны оплакивать. Правда здесь только то, что подобный ход мысли сегодня в моде, и что многие люди, прежде всего среди молодежи, эту преходящую моду считают философским камнем. А то обстоятельство, что гипотеза Уотсона не может выдержать никакой рациональной проверки, в данном случае совершенно несущественно, ведь в литературе все средства хороши, если достигается цель. Наивная идея, выраженная Уотсоном, достойна ребенка, так как он молчаливо предполагает, что во Вселенной есть царский путь разума – простой, безопасный и легкий, путь всеобщего блага, усовершенствования и осчастливливания, и что мы сами себе закрыли этот путь. Но во Вселенной такого царского пути нет. Есть лишь выбор между уравновешенностью примитивного существования и опасным технологическим прогрессом. Однако разума обитателей планеты не хватает, чтобы понять всю значимость этой развилки для будущего – и сознательно сделать выбор. Драма существования не допускает решений типа короткого замыкания, так как нет единственно правильной истины, которая может сделать всех разумных существ навсегда счастливыми. Есть только суровые факты и сказочные мифы – и в литературе существует только это разделение, характерное и для научной фантастики. Очень жаль, что такой высокоодаренный, образованный и интеллигентный писатель молодого поколения, как Йен Уотсон, не в состоянии отличить поверхностный блеск мистицизма от сути дела. Уотсон применил свои обширные знания только лишь для того, чтобы выдать мелкую сказочку за утраченное спасение нашей цивилизации. Его роман дает мне больше информации о путанице, которая царит в лучших головах молодых людей сегодня, чем о реальном состоянии дел на земле и в небе, откуда Марс смотрит на нас как вызов. О настоящих загадках Вселенной, открытие которых нам предстоит, роман Уотсона не говорит ничего. Уотсон посвятил хороший – в смысле, хорошо написанный – роман плохому делу. Лишь когда Йен Уотсон сам придет к такому выводу, мы сможем ожидать от него полноценное произведение научной фантастики.
Рецензия на «Космическую революцию» У.С. Бейнбриджа
В этой книге[141] на основе фактического материала предпринята попытка доказать, что космонавтика возникла не только как грозное техническое средство, созданное на предприятиях великих держав с целью завоевания космоса, но и в результате столкновения противоречивых государственных интересов, которые использовала горстка искусных и упорных фанатиков космических полетов. Необходимые условия для «большого шага человечества» были созданы в ходе подготовительного этапа в Третьем рейхе, когда Вернер фон Браун и его единомышленники строили ракеты Фау-2, тем самым исполняя «мечту о возмездии» Гитлера. (Можно сказать, что это было лишь предлогом, поскольку затраченные ресурсы и мощности ни в какой мере не были оправданы военными и политическими результатами.)
Те же самые фанатики космических полетов были готовы после войны служить тем, кто был способен помочь воплотить их мечты – или, если угодно, капризы, – и завершилось это в конце концов тем, что американцы оказались первыми людьми на Луне. Если на первом этапе их тяговой лошадью была «горячая война» (как мировая война), то на следующем этапе – холодной войны – по той же технологии противостояние Востока и Запада послужило «рабочей лошадкой» для реализации спутников и лунных проектов. Действительно, первые поколения ракет-носителей возникли первоначально из немецкого «оружия возмездия», а затем американцы и русские создали МБР[142], но идеологи космических полетов с обеих сторон прилагали все усилия, чтобы «сделать из необходимости добродетель». Вначале, таким образом, было оружие, которое можно было использовать в качестве прототипа космического корабля, а затем в результате специализации, как это происходит и с любой новой технологией при ее дальнейшем развитии, космические аппараты отделились от носителей бомб, и мирное использование внеземного пространства стало независимым от первоначального общего военного попечения. Но мирная отрасль космонавтики не освободилась полностью от «низменной» побудительной причины: соперничество Востока и Запада продолжает определять, какие максимальные средства используются для дальнейшего прогресса космонавтики. (Ведь продолжали развиваться и военные функции космонавтики, например, в виде «спутников-убийц» и т. п.)
Доводы социолога Бейнбриджа весьма убедительны, и следует заметить, что эти рассуждения в обобщенном виде не могут быть применены к любым другим направлениям технического прогресса. Ведь авиация, железные дороги, кибернетика НЕ возникали как достижения «фаустианского» человека, не запланированные заранее, на которые одиночкам удавалось вырулить. Космонавтика во всех отраслях современной технологии является исключением, она занимает среди них особое место, потому что не обещает никакой выгоды ни сейчас, ни в обозримом будущем. Завоевание Луны (имевшее лишь символический смысл, потому что ее пришлось оставить на неопределенное время) и исследование планет с помощью зондов не дает прибыли в экономическом смысле, и невозможно предсказать, когда это станет возможным. По этой причине космонавтика по-прежнему нуждается в защите от вполне разумных контраргументов, в первую очередь экономических. Как бы ни выглядело ее далекое будущее, Бейнбридж считает, что порог «космической революции» она перешагнула безвозвратно.
В этой книге есть также глава, которая называется «Субкультура научной фантастики». По понятным причинам Бейнбридж отказался от любой художественной оценки НФ. Он хотел выяснить, действительно ли субкультура НФ способствовала «космической революции», поскольку она представляла на протяжении нескольких десятилетий «человечество в космосе» как необходимый этап истории, как неизбежное продолжение цивилизационных тенденций, пока такие идеи не стали составной частью массовой культуры нашего времени.
Бейнбридж также попытался аналитически определить, можно ли рассматривать НФ и ее аудиторию – «фэндом» – в качестве фактора технологического вдохновления и обновления. Его ответ на этот вопрос явно отрицательный. Используя статистические таблицы, Бейнбридж доказывает, что даже большой «бум» НФ в 50-е годы никак не связан с полетом первого спутника, потому что этот «бум» являлся частью большего «бума» – дешевой литературы комиксов, и когда начали выходить на орбиту Земли первые искусственные спутники, кульминация НФ (определявшаяся в первую очередь тиражами изданий) уже пошла на спад. Общий энтузиазм, вызванный высадкой американцев на Луне, имел незначительные последствия в НФ и фэндоме (разве лишь в виде хвастовства самозваных представителей НФ, которые пытались приписать жанру пророческие свойства).
Не обнаружил Бейнбридж и вдохновляющей роли НФ в деле технического прогресса. Все, что представлено в НФ в области технико-социальных и научно-познавательных новшеств, по отношению к технике и науке, каковы они на данный момент в своем развитии, – все это или водянисто-вторично, или сказочно-фальшиво. Даже «прорыв» космонавтики – согласно Бейнбриджу – не смог взорвать стены гетто, в котором живет НФ. (Я склонен сравнить, на свой страх и риск, отношение НФ к настоящей науке с отношением детективных романов к криминологии; детективы нисколько не способствуют решению реальных проблем преступности, в них эти проблемы сведены – за очень редкими исключениями – к десятку ходовых сюжетных приемов и, таким образом, также сфальсифицированы.)
Кому-то этот диагноз социолога Бейнбриджа покажется спорным. Я же, к сожалению, не принадлежу к таковым. Многие годы ни для кого не секрет, что я считаю научную фантастику великим, но упущенным шансом литературы нашего времени.
Прочитал «Любовь в Крыму» С. Мрожека
Мрожек присылал мне эту пьесу по частям: сначала первый акт, пронизанный пародией на «Вишневый сад» Чехова, потом два следующих. Я видел, что произведение было задумано эпическим и гротескным одновременно. Читал я поспешно, поскольку по просьбе Мрожека должен был передать рукопись Яну Блонскому[143], и с тех пор ее не видел (Блонский передал пьесу дальше). Поэтому, собственно говоря, не имею права писать что-то вроде обдуманной, серьезной «критики», по меньшей мере, по двум причинам сразу. Во-первых, пьеса в рукописи – это не произведение, а его эмбрион, и неизвестно, особенно невежде в драматургии, коим я являюсь, удастся ли и каким образом ее рождение, объединенное с «созреванием» на сцене. Во-вторых, говоря в общем, я думаю, что писать о едва прочитанной в спешке пьесе-эмбрионе – это выпад против всевозможных способов критики, осуществляемой lege artis[144], и единственным оправданием для меня будет то, что мне когда-то сказала (как соредактор моих книг) Хелен Вольфф из нью-йоркского издательства «Harcourt Brace Jovanovich», что именно временной перерыв между чтением и оценкой любого произведения является существенным критерием его ценности, поскольку то, что не сумеет как следует врезаться в память, незаурядностью не грешит. Таким образом, я позволю себе писать не о пьесе, а о реминисценции, которая, вероятно, после нового прочтения, изменилаcь бы, однако установленный редакцией журнала «Диалог» срок издания «Любви…»[145] вынудил взять слово, возможно, оказавшееся скорей эхом, при этом некомпетентным.
Сам Мрожек в интервью, данном в Кракове (скорее всего еженедельнику «Тыгодник повшехны»), признал, что в пьесе действительно повествуется о любви на фоне бурной (мало сказать) российской истории двадцатого века, а Крым является чем-то вроде места, служащего для театральной локализации, потому что действие ведь где-то должно происходить. Я понял это иначе: «Любовь…» уже по названию показалась мне слегка ироничной, даже слегка язвительной, и здесь нагота царицы показана особенно ярко, ибо длится она всего лишь мгновение во втором акте. В моем понимании, и оборотень с гусем, и кровавое обезглавливание огромных безмолвствующих фигур второго плана нигде, кроме как в язвительном тексте, появиться не могло: представьте себе брызжущие кровью трупы неких Монтекки, например, в пьесе, которую о трагической любви Ромео и Джульетты написал бы некий Шекспир. Впрочем, наверняка как раз сегодня современный режиссер и Шекспира бы приправил кровью животных. Но Мрожек, так же как я, хотя и не обо мне здесь речь, является противником таких осовремениваний. Отсюда уже публиковавшееся требование Мрожека, чтобы театры, а точнее говоря режиссеры-постановщики, никаких «экспериментов» с его текстом не проводили. Театр я не посещаю годами, смотрю только маленькие фрагменты по ТВ, не польскому (по спутниковой тарелке), и поэтому знаю, что ничто не подверглось такому растаптыванию и выбрасыванию на «свалку истории театра», как реализм (возможно, эксперты предпочли бы термин «натурализм») постановки по методу Станиславского. При этом осовремененным театром, основанном на различных криках, наготе, извращениях, я просто брезгую, потому что вижу, что всей вложенной туда оригинальностью и изобретательностью, которая заставила бы перевернуться в гробу авторов-классиков, удается принципиально отредактировать произведение до такой инверсии, чтобы то, что написал драматург, обязательно было показано и срежиссировано наоборот. Впрочем, я хорошо знаю цену своим притязаниям к этой «современности», поскольку уже давно считаю себя невеждой в области театральной жизни, но раз уж «Диалог» и сам автор пожелали услышать мой голос, incipiam[146].
Как уже говорилось, «Любовь…» у меня осталась в памяти только как тень, как передний, прозрачный, воздушный план пьесы: в то, что ее следовало бы (напомню, что оцениваю по памяти) трактовать серьезно, не могу поверить. Пьеса напоминает мне скорее большое музыкальное произведение, которое в письменную или читаемую прозу непереводимо в принципе: поэтому я сказал пани Ленцкой в интервью для журнала «Политика»[147], что это пересказать (и тем более кратко) не получится. Прошу – если со мной не согласны – взяться за изложение словами «Девятой симфонии» Бетховена, впрочем, можно и «Пятой».
Очень спокойный первый акт подобен чеховскому, а насмешливый выпад, сделанный Лениным, удачно меняет настроение – как большое вступление оркестра, скорее ржущего, чем симфонически иерихонского. Как предзнаменование – очень хорошо воздействующее на зрителя и одновременно его одурманивающее, ибо в пьесе эта роль из всех ролей со словами наиболее молчаливая. Выясняется, что главная задача Ленина – забрать у беседующих банку с вареньем и сожрать его в финале I акта, когда падает занавес: мне это показалось очень по-мрожековски.
Сразу после прочтения пьесы, зная уже, что краковский «Старый театр» готовится к премьере[148], памятной ночью с субботы на воскресенье я сидел, наблюдая «вживую», благодаря Си-эн-эн, Эc-эй-ти I и другим телекомпаниям, огненно-смертельный штурм телевизионного центра в московском Останкино, и бывшее здание СЭВ, уже занятое различными озверевшими антиельцинистами, и когда я увидел легкость, с какой атака удалась, у меня промелькнула мысль, что вопреки финалу пьесы НИЧЕГО в России не кончилось (ни коммунистического, ни прокапиталистического). И если Руцкой и Хасбулатов возьмут верх, пьеса до премьеры не доживет, по крайней мере в Польше, которая лишится уже всякого хвастовства и политической наглости и будет обтесана до соответствующего формата на европейских картах – неизвестно даже, отважится ли на премьеру в свете такого поражения и такого триумфа традиционно робкий Париж[149]. Зато на следующий день я узнал, что армия спасла не только Ельцина, но и пьесу Мрожека[150]. Это не является каким-то бессмысленным наблюдением, ведь история также не является несущественным, вневременным фоном для различных театральных действий. То, что произошло, подвергло пьесу испытанию и – за счет символически представленной на сцене действительности – усилило, поскольку проявилась театральность или тем самым аллитерация, антибуквальность краткого изложения исторических событий, особенно во втором акте, потому что в нем изображается то, что рассказать (написать) обычно нельзя. Потому что симфонии необходим целый оркестр, ведь ни одно сочинение, созданное тем же Бетховеном, ни соло, ни речитативом исполнено быть не может.
Таким образом, симфоничность пьесы в том, что в ней одновременно присутствуют различные планы убитых-погибших во время революции и живых контр-, ре– и деформаторов, а еще звучит кровавый аккомпанемент напоминания о том, что происходило и происходит за сценой, – именно ЭТО мне пришлось по вкусу. Не любовь, повторю, потому что игры в этой пьесе немного пахнут привидениями, кладбищами, разумеется, почти невидимыми. Это summa summarum[151], довольно взрывная смесь, ПОКАЗАТЬ которую или поставить должно быть чрезвычайно трудно, и потому простое следование ремарочной директиве автора не может оказаться спасительным, потому что даже густейший лес мрожековских указателей направления, которые являются запретами и предписаниями одновременно – оставляет большое, пустое поле для драматургической изобретательности режиссера.
Что сделать, чтобы то, что мы схватываем на лету при ЧТЕНИИ (а варенье – это очень русская добавка к самовару и чаю), визуально также было бы узнаваемо, чтобы зритель понимал эту целостность, ведь то, что говорится о варенье на сцене, является информацией, которая для зрителя должна быть больше, чем просто варенье, названное в рукописи? И это только очень малый эпизод, ведь пьеса, соответствующая всем наказам Мрожека, в дальнейшем получит различные интерпретации, расшифровка которых может доставить трудности. Я, скажем, знаю, как россияне из этого круга одевались в 1908 году, и это мне помогает отличить мертвых (или не изменившихся) от живых, искаженных Великой Октябрьской революцией во втором акте. Но разве зрительный зал так же разбирается в костюмах и в обычаях? Боюсь, что здесь возникает необходимость чего-то такого, как в какой-то пьесе Виткацы[152], там над сценой появляются различные менее или более метко комментирующие ход действия НАДПИСИ. Впрочем, это уже было, но тем не менее вызов, брошенный изобретательности режиссера, остается, так же как и старательно мною до сих пор замалчиваемый, главный вопрос: «хорошая» ли эта пьеса, то есть такая ли, которая не только с удовольствием прочитана, но и МОЖЕТ быть поставлена? Первый акт еще достаточно прост для инсценировки, но дальше – боже мой! Это путь преград, очень трудный для театра, для режиссера, и я думаю, что там, где власть Мрожека не распространяется, недостаточная сообразительность и чрезмерная инициатива втиснут в произведение различные глупости. Но возможна ли вообще «ИДЕАЛЬНАЯ» постановка, удовлетворяющая и автора, и общественность, и last but not least[153] даже самого Ленина из I акта (а также остальных актеров)? На этот вопрос я не смогу ответить, так как не очень-то умею предсказывать, а также с учетом моего невежества в области драматургии – в чем я неоднократно признавался, – и при отсутствии визуализационных способностей: я знаю одно, именно то, о чем писал Мрожеку еще до его отъезда на жительство в Мексику. Это, писал я, пьеса, которую легко испортить, а поставить как наслаждение для глаза и уха очень трудно, это поистине не только cross country steeplechase[154], сколько crosstime – бег наперекор истории, а такой просто не может быть не рискованным. Поэтому я вижу различные проблемы, которые будут, то есть могут быть, равно и усилителями-ускорителями, и ловушками и силками для тех, кто Мрожека ставит, и для тех, кто будет сурово осуждать или возносить до небес. Что касается возносителей, я имею в виду людей, ставящих Мрожека рядом с Мицкевичем, вынужден в этом вопросе апеллировать к будущей истории, потому что решать его будет XXI век, сегодня для таких авансов еще не время: штурм Верховного Совета и сотни трупов, окутанные клубами дыма танки на московских проспектах – это мне окончательно открыло глаза на то, что невозможно определить значимость и место, опережая ход событий. Впрочем, поэтому dixi et salvavi animam meam[155], ибо столько раз уже выше я успел признаться в театральном и драматургическом невежестве, когда писал только о том, что у меня в ослабевшей с годами памяти осталось после торопливого чтения. Больше всего меня интересует, как Мрожек в этом виде может быть принят в России: здесь, однако, мои предположения должны быть равны нулю, поскольку о новом российском зрителе в стране столь близкой, ибо соседской, – мы ровным счетом ничего не знаем. Впрочем, знаю ли я, что ничего не знаю? Может, Дравич[156] более толково и метко захочет высказаться как лучший, чем я, знаток русской души.
Написано 8 октября 1993 г.
Post Scriptum. Я не считаю, будто бы мое обращение к музыке как к уместному, хоть и не полному набору критериев, было обычным увиливанием от детального рассмотрения достоинств и недостатков произведения, поскольку легко – особенно в свете последних российских событий – понять, что православные басовые песнопения в церковных окнах-витражах на фоне темно-синего неба не удастся интерпретировать так, будто бы Мрожек, став духовным близнецом мистера Фукуямы[157], серьезно считал конец своей пьесы эквивалентом окончания кровавого советского семидесятилетия. Поэтому не следует принимать эту церковную коду как символ финала также и самой истории России. Как финал «Пятой» Бетховена не равен «решению вопроса» СУДЬБЫ и как какая-либо другая симфония «решает» какие-то вопросы вне музыки, так и приложение пьесы к историческому фону и к историческим событиям было бы в высшей степени неуместно. Попросту степень отстраненности может быть в разных областях искусства разной, но искусство так может относиться к действительности, как священное к мирскому: всегда проявляются мнимые совпадения и не совсем уже мнимые расхождения, однако всякий «редукционизм» будет подозрительным. «Крымские сонеты» Мицкевича НЕ были отражением колебания биржевых цен какого-нибудь зерна в России, а «Любовь в Крыму» не ЯВЛЯЕТСЯ списыванием с истории России, несмотря на то, что ЧТО-ТО из ее трагического, мучительного и кровавого сожительства с Марксом (даже внутри Белого дома в виде гротескных черт ужасного целого) было хорошо видно – так как ужасное и иронически язвительное сходятся в крайностях, как говорят французы, и ЭТО по-своему передает искусство (les extrêmes se touchent[158]). Так и у Мрожека.
IV Станислав Лем рекомендует
Послесловие к «Убику» Ф. Дика
Никто в здравом уме не ищет психологического оправдания преступлению в детективных романах. За этим следует обратиться к «Преступлению и наказанию». Инстанцией высшего уровня по сравнению с Агатой Кристи является Достоевский, но никто в здравом рассудке не будет по этой причине высказывать упреки романам английской писательницы, поскольку они пользуются полномочиями развлекательной литературы, и задачи, которые ставил перед собой Достоевский, им чужды.
Аналогичный переход от литературных упрощений к художественной полноте не удастся выполнить, если кого-нибудь НФ не удовлетворяет в качестве раздумий над будущим и цивилизацией, ибо над этим жанром нет высшей инстанции. В этом не было бы ничего плохого, если бы американская фантастика не претендовала, используя факт своей исключительности, на место на вершинах мысли и искусства. Раздражает претенциозность жанра, который отметает упреки в примитивизме, ссылаясь на свою развлекательность, а едва такие упреки затихнут, возобновляет свои притязания. Будучи одним, но выдавая себя за другое, НФ занимается мистификацией, впрочем, с молчаливого согласия читателей и издателей. Заинтересованность фантастикой в американских университетах ничего не изменила в таком положении вещей – вопреки тому, на что можно было бы надеяться. Рискуя crimen laese Almae Matris[159], ради истины надо сказать, что критические методы теоретиков литературы выявляют свою беспомощность относительно основанных на мистификации тактик научной фантастики, но нетрудно понять причину этого парадокса. Если бы проблематике преступления были посвящены исключительно произведения типа сочинений Агаты Кристи, то на какие, собственно говоря, книги должны были бы ссылаться хоть бы и наимудрейшие критики, чтобы доказать детективной литературе ее умственное убожество и художественную посредственность? Стандарты и ловушки качества устанавливают в литературе конкретные сочинения, а не постулаты критиков. Нет такой вершины теоретических рассуждений, которая могла бы заменить присутствие выдающегося произведения как высшего образца в жанре романа. Критические труды экспертов историографии не пошатнули позиции «Трилогии» Сенкевича, поскольку не было польского Льва Толстого, который посвятил бы эпохе казацких и шведских войн свою «Войну и мир». Одним словом, inter caecos monoculus rex[160], там, где есть дефицит первостепенности, ее роль выполняет второстепенность, ставящая себе облегченные задачи и решающая их облегченными способами. О том, к чему приводит отсутствие таких произведений, больше чем сочинения говорит смена убеждений, что подтвердил Дэймон Найт, одновременно автор и уважаемый критик, в университетском периодическом издании «Science Fiction Studies» («Исследования научной фантастики»). Он заявил, что ошибался, отказывая в уважении книге другого американца, Ван Вогта, за невразумительность и иррационализм, потому что если Ван Вогт пользуется огромной популярностью, то тем самым писательская правда должна быть на его стороне, а задачу критика нельзя видеть в дискредитации таких творений во имя произвольных ценностей – если читающая публика не хочет их осознавать. Задача критика заключается в раскрытии тех черт сочинения, которым оно обязано популярностью. Такие слова в устах человека, который годами пытался преследовать дешевку в фантастике, это больше чем признание собственного поражения – это диагноз общего состояния. Если даже многолетний защитник художественных ценностей сложил оружие, то что же в этой ситуации могут сделать менее значительные личности?
По сути дела, нельзя исключить, что высокие слова Конрада о литературе как об «оценке видимого мира» станут анахроничными, что независимость литературы от моды и спроса станет чем-то вроде фантастики, и тогда то, что сразу получит признание как бестселлер, будет считаться тем самым и наиболее ценным. Это весьма мрачные прогнозы. Культура любого времени – это смесь того, что удовлетворяет вкусы и прихоти, а также того, что не выходит за определенные границы, что потворствует вкусам и представляет собой развлечение – зарабатывает успех сразу же или никогда. Ибо невероятно, что через сто лет приобретут славу непризнанные сегодня представление престидижитатора или футбольный матч. С литературой иначе. Ее создает происходящий в социуме естественный отбор ценностей, необязательно отодвигающий в тень сочинения, если они являются также развлечением, но предающий их забвению, если они являются исключительно развлечением. Почему так? Об этом можно много говорить. Если не рассматривать человека как индивидуальность, требующую от общества и мира чего-то большего, чем немедленное удовлетворение, то исчезнет и разница между литературой и развлечением. Однако, поскольку мы все еще не отождествляем ловкости фокусника с личным выражением отношения к миру, то нельзя измерять литературную ценность числом продаваемых книг. Как же все-таки это происходит: то, что менее популярно, может в беге на длинную историческую дистанцию сохраниться в отличие от того, что получает быстрое признание и может даже заставить умолкнуть своих противников? Происходит это в результате названного естественного отбора в культуре, удивительно похожего на отбор в биологической эволюции. Изменения на эволюционной сцене, благодаря которым одни виды сходят с нее в пользу других, редко когда являются результатом больших катаклизмов. Пусть потомство одного вида выживает на одну миллионную чаще, чем другого, и через какое-то время останется в живых только первый вид – причем различия в их шансах разглядеть вблизи невозможно. Так и в культуре: книги, в глазах современников так похожие друг на друга, что, собственно говоря, равны друг другу, расходятся через годы; проходящая простая красота проигрывает со временем более сложной. Так возникают закономерности восхода и заката сочинений, что придает развивающее направление духовной культуре эпохи.
Все же возможны обстоятельства, в которых этот естественный отбор терпит поражение. В биологической эволюции результатом будет регресс, дегенерация и, по крайней мере, застой в развитии, характерный для отрезанных от мира популяций, истощенных собственным воспроизводством, потому что именно таким популяциям не хватает плодотворного разнообразия, которое обеспечивает только существование, открытое к внешним воздействиям. В культуре аналогичная ситуация приводит к возникновению закрытых в гетто анклавов, в которых духовное производство также попадает в застой от собственного процесса как беспрерывного повторения все одних и тех же образцов и созидающих тактик. Внутренняя динамика гетто может казаться интенсивной, однако спустя годы видно, что это кажущееся движение, потому что оно никуда не ведет, потому что оно не питается из открытой территории культуры и само не становится ее притоком, ибо не создает ни новых образцов, ни течений, ибо в конце концов имеет самые ложные представления о себе, так как ему не хватает справедливой оценки своим начинаниям, идущей извне. Книги гетто становятся похожими друг на друга, создавая безликую массу, причем те, что лучше, сталкиваются этой средой вниз к тем, что хуже; поэтому произведения разного качества встречаются в вынужденном их усреднении, как бы на полпути. В такой ситуации тиражный успех не только может, но и должен стать единственным критерием оценки. Критериальный вакуум невозможен, и поэтому там, где нет качественных оценок, их заменяют на меркантильно обоснованные. Именно такая ситуация господствует в американской научной фантастике – территории стадного созидания. Стадность его в том, что книги разных авторов представляют как будто бы разные партии все той же самой игры или различные фигуры одного и того же танца. Следует подчеркнуть, что в литературной культуре как в естественной эволюции – результаты явлений, благодаря обратным связям, становятся причинами: художественно-интеллектуальная пассивность и заурядность сочинений, расхваливаемых как гениальные, отталкивают потребителей и авторов с большими требованиями, поэтому деиндивидуализация НФ – это одновременно причина и результат закрытия в гетто. В НФ нет уже места для творчества, жаждущего посвятить себя не мистифицированной, не облегченной, не только развлекательно трактуемой проблематике нашего времени – например, размышлению над местом Разума в Универсуме, над областью применения придуманных на Земле понятий – как инструментов познания, или над такими последствиями контактов с внеземной жизнью, которые выходят за рамки отчаянно примитивного перечня идей научной фантастики (замкнутых внутри альтернативы «мы их» или «они нас»). Эти идеи относятся к серьезно трактуемой проблематике названого рода подобно тому, как детектив относится к проблематике зла, существующего в человеке. Если кто-то противопоставляет таким идеям труды сравнительной этнологии, культурной антропологии и социологии, то он слышит в ответ, что стреляет из пушек по воробьям, ибо речь идет о развлечении. Когда он замолкает, вновь слышатся голоса апологетов культуротворческой, предвосхищающей, прогностической и мифотворческой роли научной фантастики. Она ведет себя словно фокусник, достающий кроликов из-за пазухи, и – под угрозой личного осмотра – стучит в наш адрес по лбу, снисходительно объясняя, что он использует трюки, после чего мы сразу слышим, что среди публики он считается подлинным чудотворцем. Возможно ли в таком окружении не мистифицированное творчество?
Ответ на этот вопрос дают романы Ф.К. Дика. Хотя они отличаются от фона, на котором возникли, нелегко уловить разницу, потому что Дик использует те же самые реквизиты и мотивы, что и другие американцы. Весь избитый набор телепатов, космических войн, параллельных миров, путешествий во времени Дик берет со склада, который стал уже общей собственностью авторов. В его романах происходят ужасные катастрофы, но и это не является никаким исключением из правил, ведь удлинение списка изощренных концов света принадлежит к стандартным темам НФ. Но если у других фантастов источник гибели назван и ограничен как социальный (земная или космическая война) или как естественный (стихийные силы Природы), мир диковских романов подвергается разным изменениям по причинам, которые так до конца и не определены. То есть речь идет не о том, что все гибнут, потому что вспыхнула звезда или война, или наступил голод, эпидемия, засуха, потоп, бесплодие, или марсиане прибыли под окошко, а о том, что действует непостижимый фактор, очевидный в проявлениях, но не в своем источнике, а мир ведет себя так, будто заболел злокачественным раком, который атакует метастазами сферы жизни одну за другой. Это, скажем сразу, удачно – как уменьшение значимости историографической диагностики, потому что человечество, по сути дела, не распознает во всей полноте движущие причины преследующих его недугов. Достаточно вспомнить, как много различных и порой взаимно исключающихся факторов выдают сегодня эксперты, видя в них источники кризиса цивилизации. Это верно и как креационное предположение, поскольку литература, предоставляющая читателю абсолютно полное знание всех событий романа, представляет сегодня анахронизм, защиту которого не берет на себя ни теория искусства, ни теория познания.
Силы, вызывающие мировой коллапс в книгах Дика, являются фантасмагорическими, однако они не были выдуманы для того, чтобы шокировать читателей – это мы покажем на примере «Убика», который можно, впрочем, считать также фантастическим гротеском (рассказом ужасов) с неясными аллегорическими подтекстами, загримированными по образцу обычной НФ.
Впрочем, если смотреть на него именно как на произведение научной фантастики, самой простой окажется такая вот версия событий. Телепатические явления после овладения ими внутри капиталистического общества подвергаются такой же коммерциализации, как любая другая техническая инновация. Поэтому предприниматели нанимают телепатов, чтобы воровать у конкурентов производственные тайны, а те, в свою очередь, защищаются от «экстрасенсорного промышленного шпионажа» при помощи «инерциалов», то есть людей, психика которых глушит «пси-поле», делающее возможным перехватывание чужих мыслей. Появились специализированные фирмы, нанимающие на время телепатов, а также «инерциалов», и Глен Рансайтер, «сильный человек», является владельцем именно такой фирмы. Медицина уже может остановить агонию людей, пораженных смертельным недугом, но не может еще их вылечить. Поэтому таких людей удерживают в состоянии «полужизни» в специальных учреждениях – «мораториумах» (неких «оттягивателях» – смерти, очевидно). Если бы они располагались там в ледяных саркофагах без сознания, это было бы ничтожным утешением для их близких. Поэтому возникла технология, поддерживающая умственную деятельность таких «замороженных». Мир, познаваемый ими, является не частью реальности, а фикцией, созданной благодаря соответствующим приемам. Тем не менее нормальные люди могут контактировать с замороженными, так как аппаратура крио-сна имеет встроенные для этого средства, нечто вроде телефона.
Эта концепция, согласно данным науки, не совсем абсурдна – идея замораживания неизлечимо больных, чтобы они дождались времени, когда появятся средства от их недугов, дождалась уже серьезных обсуждений. Можно также в принципе поддерживать жизненные процессы мозга у человека, тело которого умирает (правда, мозг этот сразу же подвергся бы психическому распаду в связи с так называемой сенсорной депривацией). Мы знаем, что раздражение мозга электродами вызывает у подвергнутого такой операции переживания, субъективно неотличимые от обычных ощущений. У Дика мы встречаем усовершенствованное продолжение таких технологий, хотя в романе он и не говорит об этом явно. Здесь возникают многочисленные дилеммы: не следует ли «полуживого» известить о его состоянии? Можно ли удерживать его в плену иллюзии, что он ведет нормальную жизнь?
В соответствии с текстом «Убика» люди, пребывающие в ледовом сне многие годы, как жена Рансайтера, хорошо об этом знают. Иначе дело обстоит с теми, кто, как Джо Чип, едва не погибли в результате несчастного случая и проснулись, считая, что избежали смерти, в то время как они были помещены в мораторий. Признаем, что в произведении это пункт неясный, но прикрытый, однако же, дилеммой. Потому что если мир переживаний замороженного является его миром чисто субъективным, то любое вмешательство извне в этом мире должно стать явлением, нарушающим обычное положение вещей. Значит, если кто-то обращается к замороженному, как Рансайтер к Чипу, то этот контакт сопровождают в переживаниях Чипа странные и удивительные явления – это похоже на то, как если бы явь вламывалась бы в глубину сна «только с одной стороны», не вызывая тем самым разрушения сна и пробуждения спящего (который не может, впрочем, проснуться как нормальный человек, ибо не является нормальным человеком).
Однако идем дальше, не возможен ли также контакт двух замороженных? Собственно говоря, ничто ему не мешает. Не могло ли одному из этих людей сниться, что он здоров и цел и что из своего обычного мира он обращается к другому – или что только с тем, вторым, произошел несчастный случай? И это возможно. И в конце концов, можно ли себе представить полностью безотказную технику? Таковой быть не может. Поэтому какие-то нарушения могут влиять на субъективный мир замороженного, которому тогда будет казаться, что его окружение охватило помешательство, что даже само время может подвергаться разрушению! Объясняя себе таким образом представленные события, мы приходим к выводу, что все герои романа погибли на Луне от бомбы, после чего все были размещены в мораториуме, и с этого момента автор пересказывает уже только их бредовые миражи и видения. В реалистическом романе (но это contradictio in adiecto[161]) этому соответствовала бы та версия повествования, в которой, дойдя до гибели героя, далее следует описание его загробной жизни. Реалистический роман не может описывать эту жизнь, ибо закон реализма исключает такие описания. Однако если мы представили технологию, делающую возможным «полужизнь» умерших, автору ничего не запрещает остаться верным героям и устремиться в повествовании вслед за ними – в глубь их ледяного сна, с этого момента уже единственной доступной им формы жизни.
Поэтому роман можно рационализировать вышеприведенным способом, на котором, однако, я бы не настаивал слишком серьезно сразу по двум причинам.
Во-первых, абсолютная согласованность действий в соответствии с выше предложенным невозможна. Если все люди Рансайтера погибли на Луне, то кто завез их в мораториум? Никакой рационализации не поддается также талант девушки, которая одним мысленным усилием сумела изменить настоящее, благодаря перемещению каузальных стрелок в минувшем уже прошлом. (Происходит это перед происшествием на Луне, когда нет никаких оснований принять представленный мир за чисто субъективный мир какой-то «полуживой» фигуры). Похожие сомнения вызывает также сам Убик, «Абсолют в спрее», которому мы уделим внимание несколько позже. Если подходить к миру романа педантично, ничто его не защитит, ибо он полон противоречий. Если, однако, воздержаться от подобных упреков и спросить об общем смысле произведения, придется признать, что он близок по смыслу другим книгам Дика, хотя на первый взгляд они сильно отличаются. По сути, в них всегда присутствует подобный мир – стихийно развязанной энтропии, распада, атакующего не только, как в нашей реальности, порядок материи, но разъедающий даже порядок уплывающего времени. Дик упрочил, а значит, придал монументальность и одновременно сделал чудовищными определенные фундаментальные свойства реального мира, придавая им драматическое ускорение и размах. Все технические инновации, замечательные изобретения и вновь укрощенные человеческие способности (вроде телепатии, которую наш автор необычайно многократно «специализированно» расчленил) ни на что, в конце концов, не годятся в борьбе с беспощадным разрастанием Хаоса. Поэтому дом Дика – это «мир предопределенной дисгармонии», сперва скрытой и не проявляющейся во вступительных сценах романа. Именно для того они и представлены без спешки, со спокойной деловитостью, чтобы тем больший эффект вызвало появления разрушающего фактора. Дик – плодовитый автор, я говорю только о тех романах, что создают «главный ряд» его наследия; каждое из этих названий (я причислил бы к ним «Три стигмата Палмера Элдрича»[162], «Убик» и «В ожидании прошлого года»[163], а также, возможно, «Реставратора Галактики»[164]) является несколько иным воплощением одного и того же драматического правила – превращения на наших глазах всеобщего порядка в руины. Внутри мира, пораженного безумием, в котором даже хронология событий подвергается конвульсиям, нормальность уже сохраняют только люди. Дик подвергает их ужасному испытанию, и в его фантастическом эксперименте нефантастической остается только психология героев. Они борются до конца, стоически и яростно, именно как Джо Чип, с напирающим со всех сторон хаосом, источники которого остаются, собственно говоря, непостижимы, так что в отношении них читатель предоставлен собственным догадкам.
Особенности миров Дика возникают, главным образом, в результате того, что явь в них подвергается глубокому расщеплению и размножению. Иногда расщепляющим средством становятся химические субстанции (типа галлюциногенов – как в «Трех стигматах Палмера Элдрича»), иногда – «техника ледового сна» (как в «Убике»), иногда – как в «В ожидании прошлого года» – комбинация наркотиков и «параллельных миров». Конечный эффект всегда одинаков: невозможно разграничить явь и видение. Техническая сторона этого явления не слишком существенна, не важно, чем именно вызвано расщепление яви: новой технологией химической манипуляции разумом или же, как в «Убике», – технологией врачебных процедур. Дело в том, что мир, оснащенный инструментом расщепления яви на ее неотличимые подобия, практически создает дилеммы, известные только теоретическим спекуляциям философии. Это мир, в котором эта философия словно выходит на улицу и становится для каждого, кто ест хлеб, делом не менее злободневным, чем для нас, например, угроза биосферы. Речь не о том, чтобы тщательной бухгалтерией фактов рационально сбалансировать роман, тем самым удовлетворив требованиям здравого смысла. Защиту «научной фантастичности» мы не только можем, а должны в определенный момент приостановить также по другой, не высказанной до сих пор причине. Первую причину продиктовала нам попросту необходимость: если произведение в своих составных частях астигматическое, то в результате этого его не удастся до конца соединить. Вторая причина имеет более существенную природу: несвязность текста вынуждает нас к поиску его совокупных смыслов не в пределах самих событий, а в их конструктивной основе, именно той, которая астигматизм устанавливает.
Если бы такого разумного правила найти не удалось, пришлось бы назвать романы Дика мистификациями – потому что каждое произведение должно защищать себя или в плане того, что собой представляет, или в плане подразумеваемом – то есть более глубокой смысловой ценности, не столько присутствующей в тексте явным образом, сколько признаваемой этим текстом. По сути дела, произведения Дика кишат непоследовательностями, и каждый достаточно терпеливый читатель может без труда подготовить списки событий, противоречащих как логике, так и эмпирии. Чем, однако, является – выразим уже сказанное иначе – непоследовательность в литературе? Это признак бездарности – или же отказа от одних ценностей (таких, как вероятность случаев, как их логичная когеренция) в пользу других ценностей. Здесь мы доходим до щекотливого пункта наших рассуждений, поскольку ценности, о которых идет речь, нельзя сравнить объективно. Нет универсально верного ответа на вопрос «можно ли в произведении пожертвовать гармонией в пользу провидения» – потому что все зависит от того, какая это гармония и какое провидение. Романы Дика комментируются по-разному. Есть критики, такие как Сам Й. Лундвалль, говорящий, что Дик занимается «мистическим вариантом» НФ. Однако речь не идет о мистике в религиозном понимании, скорее, об оккультных явлениях. «Убик» дает основания для такого вывода – разве человек, который вытесняет из тела Эллы Рансайтер ее душу, не ведет себя как «посещающий дух»? Не принимает ли он разные воплощения, борясь с Джо Чипом? Следовательно, такое понимание допустимо.
Другой критик (Т. Тарнер) отказал «Убику» во всякой ценности, заявляя, что роман является нагромождением отрицающих друг друга абсурдов, что можно показать с карандашом в руке.
Однако я считаю, что критик должен быть не обвинителем сочинения, а его защитником, таким, впрочем, которому нельзя врать. Ему можно только представить произведение в самом выгодном свете. И поскольку книга, полная ничего не говорящих противоречий, также малоценна, как книга, говорящая о вампирах и других загробных монстрах, – ибо обе не касаются проблематики, заслуживающей серьезного обдумывания, – я предпочитаю мою версию «Убика» всем другим.
Мотив гибели в НФ был уже так затаскан, что казался бесплодным, и только книги Дика стали доказательством тому, что речь шла о легкомысленной мистификации. Потому что в научной фантастике конец мира провоцирует либо сам человек, например, развязанной войной, либо катаклизм столь же внешний, сколь и случайный, а значит, такой, которого также наверняка могло бы не быть. Зато Дик, вводя в игру на уничтожение, темп которой убыстряется в ходе действия, орудия цивилизации (например, галлюциногены), доводит до такого перемешивания конвульсий техники с конвульсиями человеческих переживаний, что уже неизвестно, что именно создает опасные чудеса – Deus ex machina или machina ex Deo[165] – исторический случай или историческая необходимость. Выяснить диковскую позицию в этом отношении трудно, потому что отдельными романами он давал не совпадающие друг с другом ответы на поставленный нами вопрос. Поэтому обращение к трансценденции появляется однажды как чистая возможность читательских предположений, а в другом случае – как почти уверенность диагностического определения. В «Убике», говорили мы, домысел, не объясняющий события в соответствии с какой-либо версией оккультизма или спиритизма, находит поддержку в технологии – правда, странноватой – «полужизни» как последнего шанса, предложенного медициной людям на пороге смерти. Но уже в «Трех стигматах Палмера Элдрича» главный герой становится источником трансцендентального зла, являющегося, впрочем, метафизикой достаточно низкого качества. Зла, состоящего в родстве с низкопробными версиями «наитий» и «вампиров», и от фиаско сочинение спасает только повествовательная эквилибристика автора. Но в «Реставраторе Галактики» мы имеем дело со сказочной притчей о соборе, затопленном на какой-то планете, и борьбе за его поднятие, ведущейся между Светом и Мраком, стало быть, там последняя иллюзия реальности событий исчезает. Дик коварен, как мне кажется, в том, что не дает однозначных ответов на возникающие вопросы, что ничего не соотносит и не объясняет «научно». Он именно запутывает, не только в самом действии, а в высшей категории: литературной условности, в рамках которой ведется рассказ. Ибо хотя «Реставратор Галактики» близок к аллегории, но роман не занимает этой позиции ни однозначно, ни окончательно, и подобная жанровая неопределенность характеризует и другие романы Дика, и в еще даже более высокой степени. Мы сталкиваемся здесь с той же трудностью жанрового определения сочинения, которую продемонстрировало нам творчество Кафки. Надо подчеркнуть, что определение жанровой принадлежности произведения – это не отвлеченная проблема, важная только для теоретиков беллетристики, а обязательное условие чтения сочинения: разница между теоретиком и обычным читателем сводится к тому, что этот второй помещает читаемую книгу в определенном жанре непроизвольно, под влиянием усвоенного опыта – так же, как непроизвольно мы пользуемся родным языком, даже если не изучали его грамматику и синтаксис. Условность, свойственная конкретному жанру, с течением времени приобретает все большую силу и известна всем образованным читателям. Поэтому «каждый знает», что в реалистическом романе автор не может провести героя через закрытые двери, зато может раскрыть читателю содержание такого сна героя, о котором тот забудет перед пробуждением (хотя одно так же невозможно, как и второе, с позиции здравого смысла). Условность детективного романа требует раскрытия виновника преступления, условность же научной фантастики требует рационального объяснения случаев, достаточно невероятных и даже с виду вступающих в противоречие с логикой и эмпирией. С другой стороны, эволюция литературных жанров основывается именно на преодолении уже застывших повествовательных условностей. Романы Дика в некоторой степени ломают условности НФ, что можно признать его заслугой потому, что благодаря этому они приобретают значения с дополнительным аллегорическим смыслом. Смысл этот нельзя определить точно; именно так возникающая неопределенность благоприятствует возникновению ауры загадочной тайны в сочинении. Речь идет о писательской стратегии современного происхождения, которую кто-то не может выносить, но которую нельзя обоснованно порицать, поскольку требование абсолютной жанровой чистоты в современной литературе является анахронизмом. Критики и читатели, упрекающие Дика в генологической «нечистоте», являются закоренелыми традиционалистами, а эквивалентом их позиции в литературе было бы требование, чтобы прозаики впредь писали так и только так, как Золя с Бальзаком. Благодаря вышесказанным замечаниям можно лучше понять особенность позиции, занимаемой Диком в научной фантастике, позиции, единственной в своем роде. Множество читателей, привыкших к стандартной фантастике, его романы приводят в замешательство, конфуз и провоцируют столь же неумные, сколь и гневные претензии: Дик, вместо того чтобы давать в эпилоге «подробные объяснения», вместо того чтобы решить загадки, бросает концы в воду. В отношении Кафки аналогичная претензия будет требованием, чтобы «Превращение» завершало явно «этнологическое доказательство», выявляющее, когда и при каких обстоятельствах нормальный человек может превратиться в жука; чтобы «Процесс» выявил, за что, собственно говоря, обвинили господина К.
Ф. Дик не облегчает жизнь своим критикам, потому что не столько выполняет роль проводника по своим фантасмагорическим мирам, сколько создает, скорее, впечатление заблудившегося в их лабиринте. Тем более ему нужна была помощь критиков, но он не получил ее и с приклеенной этикеткой «мистика» писал, предоставленный исключительно самому себе. Нельзя сказать, изменилось ли и как именно его творчество, если бы оно попало в центр внимания критиков таким, как оно есть. Быть может, не изменялось бы так сильно к лучшему. Второй по многозначительности жанровой характеристикой, свойственной сочинениям Дика, является не лишенная привлекательности низкопробность, ибо напоминает она ярмарочные поделки – сделанные на скорую руку и наивно примитивные, в которых больше таланта, чем самосознания. Бедность элементов композиции Дик перенимал обычно от рутинно-фантазирующих американцев, профессионалов НФ, добавляя порой настоящего блеска оригинальности избитым уже концепциям и, что пожалуй более важно, создавая из такого строительного материала уже подлинно собственные конструкции. Ибо мир, подвергшийся безумию, со спазматическим бегом времени и лабиринтом причин и следствий или мир с безумной физикой является несомненным его изобретением как возвращение знакомой нам нормы, согласно которой только мы, но ни в коем случае не наше окружение, можем испытать психоз. Герои научной фантастики встречаются только с двумя категориями недугов: социальными, как «полицейско-тиранские кошмары», а также естественными – такими, как катаклизмы, вызванные Природой. Итак, зло причиняют людям или другие люди (пришельцы со звезд являются попросту людьми-чудовищами), или слепые силы материи.
У Дика терпит поражение само правило столь выразительного расчленения поставленного диагноза. Мы объясним это себе, направляя в адрес Убика вопросы именно в названном порядке: кто вызвал опасные чудеса, поражающие людей Рансайтера? Покушение на Луне было делом конкурента, но ведь не в его силах было стать причиной коллапса времени. Объяснение, апеллирующее к медицинской технологии «ледяного сна», так же, как мы показали, не все может рационализировать. Щели, зияющие между фрагментами действия, не удаляются и наводят на мысль о какой-то необходимости высшего порядка, которая представляет фатум диковского мира. Живет ли этот фатум во временности или вне ее, сказать невозможно. Если взвесить, насколько нам уже повредила вера в непогрешимую доброту технического прогресса, представленное Диком сращение культуры с Природой, инструмента с фундаментом, который приобретает агрессивность злокачественного новообразования, не кажется уже только чистой фантасмагорией. Это не значит, будто бы Дик предсказал какое-то конкретное будущее. Распадающиеся миры его романа, некоторым образом обратная сторона Генезиса, Гармония, превращающаяся опять в Хаос, это не столько предвиденное будущее, сколько будущий шок, выраженный не прямо, а включенный в фиктивную действительность, то есть предметную проекцию страхов и соблазнов, свойственных человеку нашей современности.
Поражение цивилизации привыкли отождествлять – фальшиво и узко – с регрессом до какой-то минувшей фазы истории, хотя бы до пещерной или просто животной. Именно такая уловка часто используется в НФ, ибо недостаточность воображения находит спасение в упрощенном пессимизме. С помощью нее самое далекое будущее нам показывается тогда как жалкое феодальное, родоплеменное или рабское существование, или как будто атомная война или звездное вторжение отбросили человечество назад – аж в глубину доисторического существования. Говорить, имея в виду такие произведения, что они выдвигают концепцию некоей циклической (например, спенглеровской) историософии, это то же, что утверждать, что беспрерывно по кругу пиликаемый мотив граммофонной пластинки является концепцией некоей «циклической музыки», в то время когда речь идет о дефекте, вызванном тупой иголкой и стиранием бороздок пластинки. И значит, такие произведения не подчиняются циклической историософии, а только обнажают этим приемом недостаток социологического воображения, для которого атомная война или звездное вторжение оказываются полезным предлогом, позволяющим тянуть нить не кончающейся саги о первобытном существовании племен под видом показа самого далекого будущего. Нельзя также утверждать, будто бы такими книгами было высказано «атомное кредо» в пользу неизбежности катастрофы, которая сразу сокрушит нашу цивилизацию, поскольку названный катаклизм является попросту предлогом, позволяющим уклониться от более серьезных созидательных обязанностей.
Эти приемы Дику чужды. Прогресс цивилизации продолжается у него дальше, но как бы сам собой раздробленный, становящийся чудовищным на достигнутых высотах, и это как прогностическая точка зрения более оригинально, чем действительно несенсационный тезис, что если техническая цивилизация погибнет, то люди будут вынуждены вернуться к примитивным орудиям, хотя бы палкам и каменным орудиям.
Обеспокоенность цивилизационным разбегом находит сегодня выражение в лозунгах «возврата к Природе» после разбивания вдребезги и отбрасывания всего, что «искусственно» – то есть науки и техники. Эти мечты можно встретить также в научной фантастике. К счастью, их нет у Дика. Действие его романа разрывается во времени, в котором ни о каком возвращении к природе или об отходе от «искусственного» не может быть речи, так как сращение «натурального» с «искусственным» уже давно произошло.
В этом месте стоит обратить внимание на дилемму, которая стоит перед фантастикой, сориентированной на будущее. Согласно довольно распространенному мнению читателей, фантастика должна показывать мир функционального будущего не менее выразительно и понятно, чем писатель, вроде Бальзака, показывал мир своего времени в «Человеческой комедии». Провозглашающий этот постулат не отдает себе отчета в том, что не существует никакого мира вне– или сверхисторического, общего для всех эпох и всех культурных формаций человечества. Это как мир «Человеческой комедии» – кажется нам ясным и понятным до конца, но не является действительностью полностью объективной, а представляет только определенную (XIX века и потому близкую нам) версию мира, понимаемого и переживаемого конкретным способом. Привычность бальзаковского мира не означает тогда ничего больше, чем простой факт, что мы с этой версией действительности отлично свыклись и поэтому язык бальзаковских героев, их культуру, их обычаи и способы удовлетворения потребностей духа и тела, а также их отношение к природе и трансценденции мы принимаем как понятные. Тем временем ход исторических перемен может наполнять новым содержанием понятия, принимаемые за фундаментальные и застывшие – например, понятие «прогресса», которое в соответствии с подходами XIX века было равнозначно оптимизму, уверенному в существовании нерушимой границы, отделяющей то, что человеку мешает, от того, что ему благоприятствует. В настоящее время мы начинаем подозревать, что установленное таким образом понятие теряет актуальность, поскольку вредные рикошеты прогресса не являются его побочными, легко удаляемыми примесями, скорее это выгода, полученная такой ценой, которую прогресс на определенном этапе пути ликвидирует. Короче говоря, абсолютизация стремления к «прогрессу» может оказаться стремлением к гибели.
Итак, картина будущего мира отталкивается от картины современности, словно бы «смешение языков», описывающих мир и отношение к нему человека, – не может ограничиться в будущем видении некоторой суммой технических инноваций, и не в этом смысл задачи прогнозирования, чтобы современность, нашпигованную поразительными усовершенствованиями или открытиями, выдавать за будущее.
Трудности, которые встречает читатель произведения, действие которого происходит в отдаленном историческом времени, это не результат некоего своеволия писателя, склонности к «приданию необычности», желания шокировать и провести по ложному пути, а неотъемлемая часть художественной задачи. Ситуации и возникающие термины можно понять из того, как они соотносятся с уже знакомым, но когда слишком большой промежуток времени разделяет людей, живущих в различных эпохах, то следует уничтожить основу соглашения как общности жизненных опытов, которые машинально и непроизвольно мы принимаем за неизменные. Поэтому автор, которому действительно удалось бы представить картину далекого будущего, не достигнет литературного успеха, поскольку наверняка не будет понят. Поэтому качество истинности в романах Дика можно приписать только их обобщенной основе, заключенной приблизительно в таких словах: когда люди становятся муравьями в лабиринтах воздвигнутой ими самими техносферы, мысль о «возврате к Природе» не только становится утопией, но не может даже быть толково высказана, поскольку никакой технически не преобразованной Природы уже многие века не существует. О «возврате к Природе» мы сегодня еще можем говорить, поскольку являемся ее реликтами, только незначительно переделанными в биологическом отношении в лоне цивилизации, однако представьте себе лозунг «возврата к Природе» в устах робота: ведь это означало бы возвращение в залежи железной руды. Невозможность цивилизационного «возврата к Природе» попросту уравнивает необратимость истории, и приводит Дика к пессимистическому выводу, что углубление в будущее представляет такое осуществление грез о власти над материей, которое превращает идеал прогресса в чудовищную карикатуру. Этот вывод не возникает неизбежно из авторских предположений, а представляет действительность, которая также должна быть принята во внимание. Впрочем, говоря так, мы уже не излагаем содержания сочинения Дика, а предаемся размышлениям над ним, ибо сам автор, кажется, так увлечен своим видением, что не заботится ни о его буквальной вероятности, ни о его дословном значении. Тем более жаль, что критика не показала мыслительной непоследовательности диковского сочинения и не назвала возможностей, таящихся в его вероятном продолжении, шансов и последовательности, полезных не только для автора, но и для всего жанра, ибо Дик предоставил нам не столько отличные свершения, сколько захватывающие предсказания. Тем временем было как раз наоборот – окружающая критика невольно старалась в некоторой степени освоить произведения Дика, удержать их в определенных смыслах, подчеркивая то, что в них подобно остальному, существующему в жанре, и умалчивая о том, что отличается – если за это отличие не отказывала им попросту в ценности. В этом продвижении отчетливо проявляется патология естественного отбора сочинений, этот отбор должен отстранять от себя кустарную посредственность и много сулящую оригинальность, а не приближать одно к другому, потому что такое «демократическое» действие на практике сравняет мусор с ценным металлом.
Однако мы признаем, что привлекательность книг Дика далеко не безупречна, то есть с ними почти как с красотой некоторых актрис, которых не следует разглядывать слишком пристально вблизи, так как есть риск разочароваться. Не надо измерять футурологическую вероятность таких подробностей, как двери квартир и холодильников в этом романе, с которыми жильцу приходится спорить, это составляющие компоненты вымысла, созданные так и для того, чтобы выполнить две задачи одновременно: ввести читателя в мир, явно отличающийся от сегодняшнего, а также чтобы при посредничестве этого мира вручить ему надежное послание.
Двухсоставным в вышеупомянутом смысле является любое литературное произведение, потому что каждое показывает некоторый предметный мир и каждое этим миром что-то выражает. В различных жанрах и сочинениях все же изменяема пропорция обоих элементов. Реалистическое произведение содержит много первого элемента и мало второго: потому что показывает действительный мир, который сам в себе, вне дела, никакого послания не несет, а только существует и все.
В литературном произведении все же появляется второй элемент, поскольку автор, когда пишет, совершает определенный выбор и именно этот выбор придает труду характер обращенного к читателю высказывания. В аллегорическом произведении есть минимум первого элемента и максимум второго, потому что его мир это, некоторым образом, прибор, сигнализирующий о соответствующем содержании, то есть послание потребителю. Тенденциозность аллегорического произведения обычно явная, реалистического – лучше или хуже скрытая. Произведений внетенденциозных нет вовсе, значит, если кто-то говорит о таких, он, собственно говоря, имеет в виду произведения, лишенные выразительной тенденциозности, которые нельзя «переложить» в конкретное мировоззренческое кредо. Задача эпики – это именно построение мира, который можно толковать многими способами, так же, как многими способами можно толковать внелитературную действительность. Однако когда эпики касаются острые инструменты критики (структуральной, например), можно обнаружить спрятанную и в таких произведениях тенденциозность, поскольку автор является человеком, и тем самым – участвует в экзистенциональном процессе и потому полнота беспристрастности для него недостижима.
К сожалению, только в реалистической прозе можно обращаться непосредственно к реальному миру, и потому горькую участь научной фантастики представляет заранее обреченное на неудачу желание показать миры, которые одновременно и плод воображения и ничего не значат, то есть не имеют характера послания, тем самым как бы приравнивая их к объективной суверенности всех вещей нашего окружения – от мебели до звезд. Это фатальная ошибка, скрытая в самой основе фантастики, потому что там, где тенденциозность не допускается намеренно, она просачивается невольно. Под тенденцией мы понимаем пристрастность, точку зрения, которая не может быть абсолютно объективной; эпика именно в силу этого может казаться нам объективной: в том, что она представляет, незаметно для нас спрятано то, как (с какой позиции) она представляет – поэтому эпика тоже является пристрастным соотношением событий. Но при этом тенденциозность мы не обнаружим, ибо сами разделяем такую точку зрения и не можем выйти за ее рамки. О пристрастности эпики мы узнаем через века, когда ход времени преобразует канон «абсолютного объективизма» и в том, что должно было быть соотношением истины, мы видим уже способ, каким изложение истины было когда-то понимаемо. Потому что нет только одной истины, как нет одного-единственного объективизма. Тут кроется неотъемлемый фактор исторической относительности. Таким образом, фантастика никогда не сравняется с эпикой, ведь то, что представляет фантастическое произведение, принадлежит одному времени (чаще всего будущему), а то, как оно излагает – другому времени, современности. Если даже воображение сможет сделать правдоподобным то, как будет (как может быть), не сможет оно полностью порвать с реальным сегодняшним способом соотношения событий. Этот способ – не только художественная традиция, а значительно больше – это тип классификации, интерпретации и рационализации видимого мира, свойственный эпохе. Потому проблемное ядро эпики может быть глубоко скрыто, зато содержимое фантастики должно быть четко выявлено – в противном случае рассказ, отказываясь от невымышленной проблематики и не достигая эпического объективизма, неизбежно соскальзывает к какой-нибудь опоре – будь то стереотип сказки, сенсационной авантюры, мифа, детективного романа или их столь же эклектичный, сколь и низкопробный кроссворд. Выходом из дилеммы могут быть сочинения, анализ состава которых, – дабы отделить «предметное» от того, что есть собственно «послание» (сразу же видимое), – оказывается полностью невыполнимым. Читатель такого произведения не знает, должно ли то, что ему показывают, существовать словно булыжник или табурет, или оно должно что-то означать сверх того. Неопределенность такого воплощения не уменьшается от авторских комментариев, потому что автор может в них заблуждаться, как человек, пытающийся объяснить нам истинный смысл своих снов. Потому я считаю несущественным для анализа произведений Дика именно его замечания.
В этом месте мы могли бы дать некое отступление на тему возникновения фантастических концепций Дика, пусть же нам будет достаточно только примера, взятого из «Убика», а именно: само название книги. Оно происходит от латинского ubique – везде. Это сплав (контаминация) двух разнородных понятий: понятия Абсолюта как вечного и неизменного Порядка, происходящего из системной философии, а также понятия «gadget» – удобного приспособления для ежедневного подходящего случая, продукта конвейерных технологий потребительского общества, девиз которого – облегчить людям выполнение всяческих действий от стирки белья до завивки волос. «Баночный абсолют» – это, следовательно, результат столкновения и проникновения двух разновековых мыслительных стилей, и вместе с тем – включения абстракции в образ конкретного предмета. Такое поведение в научной фантастике – это исключение из правил и собственное изобретение Дика. (Хотя речь идет о родстве очень отдаленном, упомяну, что включением синхронно в поэтическую метафору понятий конкретных и абстрактных добивался необычных эффектов в своих стихах Ц. Норвид.)
Упомянутым способом скорее нельзя создавать объекты эмпирически вероятные, то есть имеющие шанс возникновения когда-либо. Тем самым в случае «Убика» речь идет о процедуре поэтической, то есть метафорической, а не о какой-то футурологической. Убик выполняет в романе важную роль, подчеркнутую еще его «рекламой», представляющей эпиграфы к очередным разделам. Является ли он символом, а если да, то чего именно? Ответить на это нелегко. Абсолют, украденный технологией, который должен спасать человека от губительных последствий Хаоса или Энтропии так, как дезодорант защищает наш нюх от вони промышленных свалок, это не только доказательство типичной сегодня тактики действий (например, преодоление побочных эффектов одной технологии другой технологией), это выражение тоски по потерянному царству совершенства нерушимого порядка, – но также это и выражение иронии, потому что «изобретения» этого все же не удастся объяснить серьезно. Убик, кроме того, выполняет в романе роль его «внутренней микромодели», ибо содержит in nuce[166] всю свойственную книге проблематику – борьбы человека с хаосом, в которой после временных успехов бесповоротно ждет проигрыш. Баночный как аэрозоль абсолют, спасающий Джо Чипа от гибели, но только временно, – не это ли парабола и mene tekel[167] цивилизации, что принизила Sacrum[168] сталкиванием его в Profanum[169]? Продолжая такой ряд ассоциаций, можно, в конце концов, увидеть в «Убике» литературную насмешку греческой трагедии, в которой роль античных героев, напрасно сражающихся с мойрой, предназначена штатным телепатам (скорее, телеатактитам, потому что они побеждают телепатию) под начальством служащего большой корпорации. Если «Убик» и не является именно так задуманным произведением, то смотрит в эту сторону.
Творчество Ф. Дика заслуживает, пожалуй, лучшей судьбы, чем уготованная ему местом рождения. Если оно не является ни монолитным, ни полностью точным, то, однако, только силком удается втиснуть его творчество в эту мешанину содержаний, лишенных интеллектуальной ценности и оригинальной конструкции, которые демонстрирует НФ. Причем любителей НФ привлекает в Дике именно то, что наиболее скверно: типичный для американской фантазии размах, достигающий звезд, плавность действия, идущего от неожиданности к неожиданности, но они упрекают его в том, что вместо разгадывания загадок, он в конце оставляет читателя на поле боя, затянутым аурой столь же гротескной, сколь и удивительной тайны. Но его ужасные сращения галлюциногенных и трансцендентных техник также не прибавили ему сторонников вне стен гетто, ибо там ему ставят в вину тенденциозность реквизитов, взятых из арсенала НФ. В самом деле, творчество это иногда совершает промашки, а ведь мы остаемся под воздействием его очарования, как это бывает в случае борьбы одинокого воображения с избытком распирающих его возможностей – борьбы, в которой уже неполный проигрыш может напоминать победу. Не о снисходительности к этому роману я прошу читателя, – она не имеет никакого отношения к книгам, а о внимательном и доброжелательном чтении, этом необходимом условии писательского творчества, потому что кем бы были даже наиболее искушенные и внимательные авторы без искушенных и внимательных читателей?
Послесловие к «Необыкновенным рассказам» C. Грабинского
Мне кажется интересным, но не изученным должным образом, параллелизм между фантастикой научной и мистической. Разделить их просто: научная фантастика дает естественные объяснения событий, тогда как мистическая – сверхъестественные. Непонятной остается подчиненное положение и той и другой в области литературы, причем не только в настоящее время, но и исторически. Оба жанра имели свои крупные фигуры: Г. Дж. Уэллсу соответствует Эдгар Алан По в мистической литературе. Произведения этих авторов до сих пор остаются не только востребованными, но во многих отношениях и непревзойденными. Если же сосредоточиться – имея в виду данную книгу[170] – на мистической литературе (необыкновенного), трудно сразу объяснить себе, почему в нашем веке она выполняет исключительно развлекательные функции. Поначалу напрашивается мысль, что сомнительность этих произведений вытекает из сомнительного характера самих явлений, в них представленных, ибо речь идет о всякого рода призраках, духах, нечистой силе и т. п. Но это объяснение следует категорически отвергнуть. Ведь призраков, духов, нечистую силу мы можем найти и в выдающихся шедеврах мировой литературы. Дьяволы, например, в ней просто кишат (дьявол «Братьев Карамазовых», дьявол «Доктора Фаустуса»). Я утверждаю, что дело не в самой фантастичности литературных объектов, а в отношении к ним автора, следовательно, и произведения.
Чем являются в «необыкновенном» рассказе призрачные стихии, черная и белая магия? Что происходит в их мире с героем? Ничего, кроме возможностей эффективного действия. Такой герой – это «неортодоксальный технолог», пользующийся «загробной» или «дьявольской» энергией вместо химической или тепловой, заклятием как «наводящим инструментом» вместо оптического или электромагнитного прицела, а также спиритическим посвящением, или же чернокнижным, вместо политехнических исследований – как теоретической основой деятельности. И когда – так часто бывает в этих рассказах – действия не оправдываются или дают кошмарные результаты рикошетами темных сил – мы имеем дело с такой стихийной катастрофой, которой в сфере рациональной техники будет соответствовать, например, буря, молниями сжигающая электрическую сеть, или наводнение, сносящее плотины.
Учитывая эти особенности, мистическая литература состоит в близком родстве с производственным романом. Как в романе на производственную тему речь не идет ни о каких внепроизводственных проблемах, стало быть, ни о каких вопросах психологии личности, так и в литературе необыкновенного не представлено ничего, кроме показа конкретных действий и проявленных умений или неумений. И разница только в том, что демонстрация сахарного производства или строительных технологий занимают читателя меньше, чем изображение столкновений с потусторонними силами.
Значит, по сути дела, рассматривающему литературу необыкновенного может быть все равно, существуют ли ее главные объекты или не существуют, если в произведении не затронуты подлинные человеческие проблемы, ведь и производственный роман обходил их стороной. Можно сказать и проще: доказательство существования призраков, вампиров и демонов ни на волос не увеличило бы полезность мистического жанра. Ведь производство сахара и стройки, без сомнения, реальны, но это не влияет на достоинство производственных романов. Проблема жизненной аутентичности сверхъестественных сил, не воспринимаемых чувствами и т. п., не принадлежит к первоочередным вопросам, занимающим исследователя литературы. Дело не в том, существуют ли эти чудеса вне книги, а в том, какая от них польза внутри книг.
Сегодня сверхъестественные явления противоречат прежде всего науке, как разумному порядку вещей в нашем мире. Повторяю: они противоречат науке, но необязательно предположениям отдельных ученых. Пойдите в лабораторию лазерных физиков с прутом лозы и скажите им, что сделали из него лазерный излучатель, и они вышвырнут вас за дверь. А вот если вы придете с таким прутиком и объявите им, что актом воли остановите автомобиль, что мыслью умеете гнуть ключи и ножи, физики с готовностью пригласят вас на эксперименты, контрольные условия которых будете устанавливать вы, а не они. Я это вовсе не придумал, именно так происходило в последнее время в Англии и в Америке, а то обстоятельство, что ловкий фокусник умеет то же самое, что и претендент на обладание чудесными дарами (Ури Геллер), вовсе не решило проблемы. Многие ученые поверили ему, поскольку хотели ему поверить[171]. И такая готовность поддаться обману может объясняться только мировоззренческой ограниченностью ученых, настолько узко специализированных в своей области, что, собственно говоря, потому они и беспомощны вне сферы своей специализации. О том, сколь поверхностен рационализм таких специалистов, свидетельствует энтузиазм, с которым они готовы избавиться от него после одного необычайного представления. Разумеется, это реакция не всей научной среды; часть ученых называет феномены необъяснимыми, часть ставит под сомнение их реальность, часть, наконец, пытается их «объяснить» рационально.
Однако это не является, как можно было бы подумать, просто столкновением физики с метафизикой. Прошу принять во внимание, что сегодня эти явления противоречат науке, но так было не всегда. Раньше они противоречили религиозной вере. И значит, не только физика, но и метафизика (системной веры) имела в «тайном знании» противника. Чары, порчи, колдовство, левитации создавали теологам проблемы намного раньше, чем начали создавать их ученым. Даже реакция тех и других была довольно схожа. Правда, теологи норовили все это как-то умолчать, замять, отдалить, приговорить к изгнанию, зато ученые делали попытки обосновать эти явления. Разумеется, попытка «одомашнить», «приручить» такие провокационные явления в области физики должна выглядеть иначе, чем в области метафизики. В физике говорится об излучениях, о механизме причинно-следственных связей, о неизвестных формах энергии, а в теологической метафизике – о кающихся душах, о связях с дьяволом и т. п.
И значит, метафизическая природа не представляет для нас сущности этих явлений. Сущность эту следует видеть в подрывной работе, атакующей такой вид порядка, который в данный исторический момент имеет основополагающий характер.
Похоже, что сначала человек с превеликим трудом создает порядок, а затем подвергает его риску возникновения хаоса. Вначале он меняет невежество на знание, а потом готов избавиться от этого знания в пользу поразительного невежества, поскольку оно является тайной. Я убежден, что если бы практическому знанию удалось тщательно рационализировать и усвоить явления, не воспринимаемые чувствами, то есть тем самым выполнить акт их «натурализации», то они тотчас же потеряли бы свою прежнюю привлекательность, и в поиске вызывающей неразбериху тайны люди начали бы искать Непостижимое где-то в другом месте. Итак, речь идет, как я считаю, об определенной потребности, свойственной человеку, о необходимости hybris[172], то есть преступающего меру нарушения общественного и космического покоя, которую прежние общества удовлетворяли литургизированными обрядами, например, оргиастического типа. Следовательно, человек сам как-то вводит в упорядоченную им картину мира дозы таинственного беспорядка. Когда же он это сделает, то берется за упорядочение таких прививок хаоса, и из этой борьбы возникает особенная историческая диалектика. Когда изученные в данную историческую эпоху таинственные явления, в свою очередь, подчинятся надлежащему, то есть свойственному нормальной человеческой деятельности упорядочению – тогда, например, возникнут уже астрологические таблицы, классификации чародейства, содержащиеся в книге тайного знания, выкристаллизуется некая «теория спиритизма» и т. п. Или когда в первичном беспорядке непонятного появятся метод, схема и ключ, то тогда приобретенные таким способом и как бы уже освоенные явления потеряют свою изначальную привлекательность и подвергнутся постепенной отмене, выраженной в форме растущего к ним безразличия. Затем, в следующем веке, следующие поколения с их новыми глашатаями Необыкновенного начнут снова работу по упорядочиванию, борясь с Непостижимым, так, словно у них не было предшественников вовсе. И поскольку конкретное обличие Тайны всегда тесно связано с духом времени, старые воплощения Загадочного Хаоса – явленные в магиях, волшебстве и оккультизме – в настоящее время заменяют псевдорациональные слухи о космических пришельцах или летающих тарелках. Меняется форма и конкретное содержание, но не изменяется сущность поединка, ведущегося с Хаосом, – к нему стремятся, одновременно желая уничтожить своими усилиями и все упорядочить. Вероятно, все испытанные людьми на этом пути разочарования могут свидетельствовать о том, что такая таинственная стихия с большим трудом поддается пониманию. Однако я считаю, что тщетность таких усилий (ведь ничего дельного магия не родила, так же как не дали результата поиски гостей из Космоса или летающих тарелок) свидетельствует о чем-то совершенно ином, а именно о том, что чувство опасности перед будто бы дикими непознанными стихиями людям просто необходимо. Тем самым проблема оказывается серьезной, так как вопрос «потребности Необыкновенного» является еще более необычным по сравнению с вурдалаками или призраками, которыми эта потребность питалась. И потому роман ужаса является заменителем этого hybris, который раньше люди представляли себе реально, заменителем слабеньким, десятой водой на киселе, и потому сегодня он может быть только мелкокалиберным развлечением.
На основе вышесказанного мы сейчас можем дать ответ на ранее поставленный вопрос. Важнейшие функции литературы в культуре не заменимы. Литература высокого полета не дает никаких суррогатных удовлетворений, но если она к ним все-таки обратится, то для того, чтобы углубиться в их непознанные, необъяснимые механизмы. Если, например, в обществе господствует наркомания, то задачей литературы не является соперничество с наркотиком, замена галлюцинации, вызванной химически, – видением, вызванным словами. Задача литературы – обратиться к корням всего комплекса психосоциальной неразберихи, который наркоманию порождает и кормит.
По аналогии литература необыкновенного – чтобы не выполнять функций суррогатного заменителя, должна отказаться от дешевых приемов и стремиться к более глубокому исследованию явлений, это значит – обратиться к сфере непознанного методами не производственного романа, а антропологического исследования. Разумеется, тогда она должна перенести акцент с мистического ужаса перед призраками на изучение их реальной социально-психической почвы. Одним словом, эта литература должна быть ориентирована антропологически. Именно такие зачатки антропологической ориентации в мистической литературе можно найти в произведениях Эдгара Алана По, в многочисленных его рассказах они скрыты насмешкой за чудовищным или таинственным фасадом – насмешкой, воплощенной порой весьма коварно, как, например, в лекциях о каком-нибудь магнетизме животных. Это лекции столь торжественные, столь напыщенные, столь заумные, украдкой приправленные иронией, потому что опираются на легкую шутку, а не на научные позиции. Однако эти примеси сегодня нам трудно обнаружить, потому что продолжатели дела По упустили этот шанс для облагораживания жанра совсем. Достаточно ли бесспорно данное утверждение? Говорят, что По (как когда-то и Уэллс на параллельной дороге) стоял на распутье, которое сам создал. Он мог стать родоначальником литературы необыкновенного, которой человек никогда не может насытиться, или литературы необыкновенного как легкого развлечения. Как попадание в зависимость от наркотика или как заменитель наркотика. Этот выбор пути, не сделанный в то время, осуществился не самым неблагоприятным образом для жанра, для культуры и, наконец, для самого прародителя.
Последний пункт моего перечисления может показаться неожиданным до абсурда. Как же то, что происходило после смерти По и не в его книгах, могло ему навредить? Но именно навредило – аналогично, впрочем, произошло и в случае Уэллса. Потому что если бы эти родоначальники явились инициаторами восходящего вверх течения литературы, если бы их произведения запустили цепную реакцию, заполняющую библиотеки беллетристикой наивысшей пробы в художественном и интеллектуальном измерении, то сияние, идущее от такого воплощения, падало бы и на них. А поскольку произошло наоборот, поскольку возникшая благодаря им литература, отрезанная от потенциальных возможностей, стала чисто развлекательным притоком для массовой культуры, от такого состояния дел пошел рикошет назад, и потому ни По, ни Уэллс в глазах наиболее требовательных знатоков литературы не принадлежат к ее самым значительным фигурам.
Вышесказанное объясняет, на чем основана сегодня беззащитность литературы ужаса и мистики. Если рассказ не ужасает, то наводит скуку; если он не затронет читателя до мозга костей, то не затронет его вовсе. Поэтому такая литература с течением лет подвергается постепенной деградации. Все меньше можно найти в ней серьезно трактуемой тайны, и все больше – трюков, подтасовок и цирковых штучек. О самых лучших современных рассказах ужаса можно только сказать, что они искусно написаны. Первобытная культура, практиковавшая определенную магию, была ей верна так же, как Ватикан – католицизму, и мысль, что эта культура могла бы заменить свою магию на какую-то другую, так же бессмысленна, как идея, что Ватикан может вдруг перейти в буддизм. В то же время современный автор мистической литературы тасует и комбинирует элементы фикции, как кубики детской игры. Всякие приемы, любые анахронические смеси хороши, если затронут общественность. Именно поэтому согласующийся с почтенной христианской верой сатанизм, скрытый в «Экзорцисте», дал возможность этой книге и фильму[173] получить бурный отклик, поскольку речь шла об исключении из правила чистой развлекательности и возврате к проблематике, имеющей еще признаки неразвлекательной аутентичности. Но успех возник согласно закону, что на безрыбье и рак рыба.
А что же со Стефаном Грабинским, которому посвящено это послесловие? Скажем сначала: habent sua fata libelli[174]. Как же мечтал этот львовский учитель гимназии войти в мир большой литературы, и как поздно довелось осуществиться его мечтам – хоть и в неполной мере. Грабинский сегодня не только читаем в нашей стране, но и зарубежные специалисты восторгаются жизнеспособностью его произведений, не признаваемых полвека.
Прежде чем говорить о причинах этой жизнеспособности, надо сказать, что и Грабинский не пошел по так называемой дороге антропологического проникновения в мистическую тематику. Не пошел по ней, хочу отметить, полностью осмысленно, последовательно – ведь он не пользовался ни дистанцирующей от ужаса насмешкой, ни психологической проницательностью. Он не пошел в этом направлении, хотя…
Его романы, надо сказать, далеки от нас. Не выдержали испытания временем, поскольку предполагают эрудицию в области оккультизма. «Саламандра», например, это просто классический случай «магического производственного романа». Магия «Саламандры» – это техника борьбы, со свойственным «оснащением», с запасом профессиональных знаний, с прицельными, спусковыми устройствами и т. п. Так же, как в производственном романе, авторское внимание приковано не к мотивационным проблемам действующих сторон, их высоким помыслам и выбору, а к свойственным им праксеологическим умениям. Вроде бы говорится о поединке Добра и Зла, но как же избиты, расплывчаты, банальны эти видимые причины столкновения не на жизнь, а на смерть! Показаны они ничуть не оригинальнее, да и лучше, чем в производственном романе. Тут добро, а там зло, тут абсолютная ясность, там полный мрак – и этим диагнозом читатель должен удовлетвориться. Если же суть произведения сводится к демонстрации успешности действий, то суть эта стоит столько, сколько сами действия. Производственный роман, показывающий полную жертвенного самоотречения борьбу за ввод в действие смолокурни как последнего слова техники, должен был сразу стать неумышленной юмористикой. Поэтому неотразимой становится наивность поединка на заклятиях и чарах, территорией которого является «Саламандра».
Сохранилась прежде всего новеллистика Грабинского. Особенно хорошо звучат для нас рассказы цикла «Демон движения», в которых сверхъестественный элемент проявляется неявно, в двухзначных опосредованиях. Ничто так не портит ужаса потустороннего мира, как показы, как бы сказать, панорамно открытые. Дело в том, что небесхитростно сконструированный потусторонний мир представить нельзя. Эту слабость литература разделяет со всеми разновидностями оккультизма: прибывая на сеансы, духи даже самых великих мыслителей, призванных из потустороннего мира, всегда мололи чепуху, как это удостоверяют сохранившиеся протоколы. То, что можно было от них узнать о потусторонних мирах, нечто среднее между безграничным примитивизмом и безграничной банальностью. Поэтому спириты иcпользовали специальные гипотезы ad hoc[175], чтобы объяснить столь неприятное для них состояние дел, например, объявляли, что духи поддерживают связи с нами всегда в состоянии духовной недееспособности, ибо установление контактов с медиумом очень тяжелая работа. Впрочем, это были гипотезы явно неудачные, что подтверждает любой пример (случалось, что призрак говорил во время сеанса о своем отвыкании от курения – представляя тем самым потусторонний мир с фабриками по производству табачных изделий). Следовательно, элемент необыкновенного сродни сильным ядам, ибо может действовать возбуждающе только в малых дозах. При превышении дозы он убивает – правда, не читателя, а сами произведения.
Впрочем, пора отказаться от столь язвительных замечаний, потому что не в них я вижу смысл моего послесловия. Расскажу об одной из известнейших новелл Грабинского, о «Любовнице Шамоты», потому что – невольно или по воле автора! – она раскрывает те возможности раскрытия психологических истин, которые заключены в жанре в латентном виде. Это, как гласит подзаголовок, «Страницы из найденного дневника», то есть история, рассказанная от первого лица. Молодой, наивный человек – наивность и даже провинциальность изложения бросается в глаза – неожиданно получил письмо от возвращающейся в страну женщины, пани Ядвиги Калергис, первой красавицы столицы, известной своим богатством. Письмо, недвусмысленно приглашающее его на любовный тет-а-тет с этой дамой, хотя до сих пор обоих ничего не объединяло – кроме одностороннего поклонения, которое юноша питал к недосягаемой пани. Только издали он отваживался не сводить с нее глаз на концертах, в театре, украдкой ходил под окнами ее изящного особняка, но не осмеливался к ней обратиться – осознавая непреодолимую дистанцию. Откуда же ее догадка – о его чувствах – и откуда благосклонность письма, при всей своей лаконичности предвещающего невероятное свершение? Не веря своим глазам, юноша показывает конверт знакомым, что со стороны выглядит не по-джентльменски, но это приходится отнести на счет его наивности.
Любовные свершения превосходят все надежды Шамоты. Хотя постепенно, в процессе естественного развития романа, он начинает все отчетливее замечать странность его сценария, а также, если можно так сказать, методов. Это роман чисто чувственный, столь сведенный до физической сути, что протекает вообще без слов – в спальне, в «глубокой нише на ложе, украшенном резьбой в giallo antico[176]» (несмотря на наивность, юноша, оказывается, является знатоком искусства). Амуры невероятно страстные, и при этом активной стороной в них все время является дама, искупающая свое каменное молчание утонченностью ласк. Через пару месяцев Шамоту в конце концов начинает беспокоить такая форма связи – овладев телом, он добивается и души. Но в ответ только молчание или приходящие после любовных ночей письма с просьбами не спрашивать ни о чем, не преследовать и т. д. Тем временем он, счастливый, производит мимолетные наблюдения. Пани Калегрис имеет такие же знаки («родинки») на теле, как и у него. Как и он, отличается загаром, согласно канонам времени, пожалуй, не украшающим даму. Когда однажды, раздраженный манерой поведения любовницы, он колет ее булавкой, из его, а не из ее тела брызжет кровь…
Наконец через год после первого знакомства роман обрывается странным и чудовищно неприличным образом. Пани Калергис принимает его в спальне в темноте, зовет шепотом, но мужчина не может найти в постели ее головы, лица, рук – ничего, кроме «огня плоти», как говорится в тексте. Оскорбленный в чувствах он вскакивает, зажигает свет и видит, что «в пене кружев… бесстыдно раскинулось обнаженное до живота женское лоно – одно лишь лоно… ни груди, ни плеч, ни головы…»
Шамота в ужасе убегает – чтобы через месяц узнать, что Ядвига Калергис мертва уже около двух лет, а это значит, что он пережил роман с трупом.
История эта излагается согласно типовому канону спиритизма – и это обычно отмечала критика. Самый пытливый из исследователей произведения Грабинского, Артур Хутникевич, автор монографии о нашем писателе (мало какой польский литератор нынешнего века удостоился столь добросовестной и всесторонней разработки всего творчества), представляет два варианта толкования рассказа – как два варианта спиритического объяснения. Первый заключается во временности данного явления, потому что этим ограничивается сфера спиритической феноменолистики. Шамота сошел с ума в эротическом плане. Письма якобы от любовницы он писал сам себе, а будучи одарен способностями медиума (о чем не обязан был знать), «идеопластически» материализовал личность якобы Ядвиги Калергис, которая была его фантомом, но с течением времени уменьшающаяся фантомообразующая энергия дала о себе знать: все дольше он должен был ждать появления любовницы, пока в результате привидение не сократилось до области половых органов – дело понятное, говорит Хутникевич, если принять во внимание природу психологических побуждений, которые стояли у истоков явлений. Второй вариант толкования, также допустимый, следует из окончания рассказа: нельзя исключить, что Шамота пережил роман с призраком мертвеца, причем тогда (добавлю от себя) для материализации дух Ядвиги пользовался спиритическим даром Шамоты так, как типичные призраки во время сеансов пользуются для этого «эктоплазмой», излучаемой усыпленным медиумом, или же материализация происходила как-то прямо (или без посредника), а ее постепенное сокращение вызывало эти «понятные трудности», с которыми должен сталкиваться любой дух умершего, который пытается преодолеть преграды, отделяющие его от мира живых.
Хутникевич также добавляет, что в некоторой степени созидательной матрицей и вместе с тем аллегорическим резервом этой чудовищной истории может быть библейский стих, представляющий способ, каким бог из части тела Адама создал Еву.
Мне представляется бесспорным, что процитированные толкования соответствуют как канонам классического спиритизма, так и авторским намерениям. Однако же рассказ допускает другой вариант интерпретации, настолько интересный, что, перечеркивая спиритические объяснения, которые ему вовсе не вредят, он перемещает дело в поле проблематики одновременно натуралистической, рациональной и психологически достоверной. Отбрасывая как медиумистическую, так и «загробную» парадигматику, мы оказываемся не перед сочинением, бессильно проваливающимся в небытие, а получаем такое, которое становится необычно проницательным анализом эротических событий на их бессознательном уровне.
А именно: я допускаю перемещение всех событий в область психики героя, эротическая одержимость которого переступила границу духовной нормы, или, если кто-то пожелает, сексуальное помешательство которого стало содержательным источником галлюцинаций. Если мы примем такую версию, то окажется, что он это сам себе все придумал, сам окружил себя фантазиями, которым ничего объективно не соответствовало, ибо он вступал в такую область призраков, в которой его до сих пор подавленные эротические мечты могли наконец раскрыться. И могли сорваться с цепи приличий, сильной в то время, когда разворачивается действие, именно благодаря спиритическим сеансам, в которые герой сам горячо верил. Если бы все это шло не из него, и если бы о том, что все именно так, он хорошо знал, то никогда не осмелился бы себе позволить наглое воображение. Следовательно, спиритические сеансы представляют обязательную предпосылку дерзкого романа.
Психологическая интерпретация, которую я предлагаю, не надумана, так как соответствует всем деталям повествования. Фамилия «Калергис» звучит, как я считаю, не случайно – мы хорошо знаем роль, какую подлинная пани Калергис сыграла в жизни Норвида. Тем самым она стала прообразом эротически недоступного идеала прекрасной женщины, прелестями которой наслаждаются другие. Ведь подлинная пани Калергис не была весталкой, а была мукой героя, который пламенно, но безнадежно любит. Герой рассказа Грабинского даже не пытался признаться своей Ядвиге Калергис в своих чувствах, неизбежно сознавая безнадежность такого шага. Значит, он был ей неровня в глазах общества, ведь в отсутствии страстных чувств его трудно было бы обвинить. Любовь, питаемая тайно на расстоянии, обращается наконец против самой себя, когда уже в подсознании скопились въевшиеся в симпатии недовольства: значит, вожделение исходит из платонических грез, страстно желая исполнения настолько непристойного, насколько и невозможного. В этой фазе уже страсть не молящая, о снисхождении, а готовая мстить недоступной избраннице. Отвергнутому, не допущенному даже и близко к красавице, уже недостаточно в качестве компенсации эротического акта, благосклонно увенчанного соответствующей доброжелательностью. Нет – в реализующейся мечте теперь он будет стороной желаемой, а она желающей, она проявит просто бесстыдную активность, отдаваясь ему так, чтобы удовлетворить его похоть в обстоятельствах, ее унижающих. (Напомню здесь аналогичный прием смены ролей, наблюдаемый в «Преступлении и наказании», где Мармеладову снится, что маленькая девочка пытается его соблазнить). Свойственные бессознательности механизмы исполнения желаемого предполагают такие короткие замыкания, чтобы грезящий субъект получил полнейшее удовлетворение, пусть и лишенное всяческих правил хорошего тона. Итак, по плану, бессознательно задуманному молодым человеком, должно произойти так, чтобы надменная избранница не только ему отдалась, но чтобы, кроме того, этим еще проявила свою непристойность в сравнении с ним – потому что только в этом случае компенсация окажется полной. Он, прежде нижестоящий, будет возвышен, а она, прежде вышестоящая, будет унижена. Ибо психологический вывод тут такой: «я получил ее – как того и хотел, но она меня не стоит, потому что я благороден, а она развратница, поэтому даже о моих прошлых неудовлетворенностях я не должен уже жалеть». По сути сложно придумать более сильное удовлетворение амбиций – и не только эротических – героя. Разумеется, названных планов он не мог бы реализовать сознательно в воображении, потому что поведение это оказалось бы явной «delectatio morosa»[177], просто онанистическим сном наяву. Поэтому он должен был использовать систему самообмана, составить проекцию во внешний мир своих распаленных желаний, которые даже самому себе не отважился бы открыть, и потому всю ответственность за разнузданность он свалит на мнимую партнершу. Она была холодна и неприступна, а он напрасно охвачен страстью. Зато теперь его мужское благородство уязвлено ее распущенностью, и поэтому он накажет ее, бросив, что для него будет настолько приятно, насколько и справедливо, а ее унизит. А почему ему все представляется в таком согласии с канонами спиритизма? Ответ будет прост: поскольку во время, соответствующее действию, каноны эти известны были каждому члену «общества» и по правилам хорошего тона в них надлежало ориентироваться. И потому и бессознательное Шамоты формирует, согласно с этими канонами, свои проекции видений.
Следовательно, рассказ Грабинского может быть трактован как произведение натуралистическое, направленное на демонстрацию бессознательных механизмов эротики, или как психологически проведенный анализ компенсационных самоудовлетворений. Потому что мы находим в нем все типичные для психоанализа механизмы, вроде подавления, перемещения, проекции, символической многозначности, а также типичного для отношений, господствующих между «Ego» и «Id»[178] – самообмана и защиты аутентичных мотивов – системой заслоняющих их подобий. Такими подобиями станут именно совокупности запущенной спиритической феноменолистики, которая не может быть просто отброшена, поскольку выполняет в рассказе важную роль, хотя радикально отличную от той, которую приписала ей критика вместе с самим писателем.
Этим своим успехом – я говорю о возможности различного толковании рассказа, который может быть понимаем как действительно психологический при полном отрицании всяческих притязаний спиритизма, – он обязан в первую очередь отсутствию авторских комментариев, которые бы пытались удостоверить, собственно говоря, спиритическую базу явлений. Это отсутствие следует из формы повествования, ведущегося от первого лица. Из этого замечания должно следовать, что если процесс перемещения смысловых акцентов с антинатуралистической основы в сферу натуралистической подлинности (например, из спиритизма в глубины психологии) окажется невыполнимым, то произведение должно разделить участь той дискурсивной среды, которая его породила. Или, говоря то же самое иначе, если авторское изложение событий нераздельно срастается с самими событиями, то произведение жизнеспособно настолько, насколько жизнеспособно это изложение. Если же начинает вызывать жалость тайное знание, являющееся предметной средой рассказа, то необыкновенность идет вместе с этим знанием в чулан.
Именно оттуда берет начало фатальная закономерность, разделяющая сегодня труды Грабинского на две части. К сожалению, он пошел неправильной дорогой, становясь все более прекрасным глашатаем оккультизма и именно из-за этого все более беззащитным автором, поскольку чем больше таких сведений он вводил в произведения, тем к худшему это вело.
Впрочем, превращение восхитительных предположений дискурсивной мысли в мертвую букву – это вовсе не недуг жанра, в котором творил Грабинский, а обыденность литературы, и потому самим ходом времени испытывается правило, предписывающее писателям доверяться естественному течению событий, для которых объединяющим фактором должно стать произведение, а не каким-либо однозначным дискурсивным и комментирующим интерпретаторам этих событий. Иначе говоря, литература никогда не должна браться за иллюстрирование каких-либо гипотез или теорий, взглядов или предположений, сведенных к единому знаменателю неоспоримой истиной, не должна видеть свою миссию в доказывании этой истины историями – что является партикулярным воплощением системно единой концепции. Эта директива не может, разумеется, касаться комментариев, относящихся к персонажам повествования, – ведь те всегда могут подвергнуться переобоснованиям или просто «объяснениям», похожим на то, которое мы привели выше. Без сомнения, знание описываемой темы писателю необходимо, дело только в том, чтобы он не стал ее слишком страстным популяризатором, принимающим, например, произведения за доказательства истинности необыкновенных явлений. Очевидно: нельзя всю литературу ужаса и мистики в той ее части, которая (подобно книгам Э.А. По) успешно противостоит разрушающему воздействию времени, воспринимать как подвластную проведенной мною «натурализации» ужаса благодаря ее переводу в область психологии. Жизнеспособным произведениям свойственны различные виды смысловой глубины, как аллегорической, так и символической – или же вплетенной в далекие друг от друга области человеческого знания. Но здесь я не брался за обсуждение всего жанра, создающего довольно много дилемм, поскольку я прежде всего хочу обратиться к творчеству писателя моей львовской молодости, который не потерялся в соперничестве со своими ровесниками европейцами. Надо не столько сокрушаться над тем, что многие его книги для нас устарели, сколько, пожалуй, выразить восхищение полету его воображения – раз уж его плоды пережили кончину сомнительной метафизики, которая когда-то служила им в качестве опоры.
Грабинский создал не много произведений столь прекрасных, как «Любовница Шамоты», но он создал их достаточно, чтобы не стать забытым писателем.
Послесловие к «Рассказам старого антиквара» М.Р. Джеймса
Монтегю Родс Джеймс – выписываю я из примечания английского издания – родился в 1862 году. После учебы в Итоне и Кембридже – то есть там, где следует, – занимался археологией, исследованием Библии, изучал археологические находки и апокрифы. Рассказы о привидениях писал с 1894 по 1908 год, когда был директором Музея в Кембридже. О его серьезных научных работах, наверное, мало кто помнит даже и из специалистов, а вот рассказы, собранные в этом томе, к которым сам автор относился без пиетета, сохранили свое очарование, о чем свидетельствуют хотя бы многочисленные в Англии переиздания. Ибо Англия на переломе столетий была страной, весьма благосклонной к необыкновенным существам, навещавшим старинные трактиры на перепутьях (пустых тогда) дорог, угрюмые и возвышенные кладбища, а также просторные резиденции разных лордов. Удобству призраков замечательно помогал полумрак долгих вечеров и еще более долгих ночей, поскольку это была эпоха свеч и газовых ламп, тех самых, при свете которых Шерлок Холмс одолевал честную (прекрасно реконструируемую логическим путем) преступность британской Империи. Легко представить, как затруднило бы наличие электрических лампочек выступления тех кошмарных сил, которые роятся в книге Джеймса. Антикварную ученость, которой автор украсил действие своих рассказов, он сам же демаскировал в примечаниях к английскому изданию, подробно указывая в них, что и как выдумал, – в чем естественно проявилась типичная английская черта этого типа «ghost story»[179]: Джеймс, как можно судить по этому признанию в выдумке, не только сам не верил в духов, но даже и не старался скрыть это от своих читателей. Несмотря на это, в его дышащих стариной рассказах таится обаяние, которого уже не встретишь в новейшей новеллистике «ужасов». Я думаю, что это обаяние скромным произведениям Джеймса придает солидная вещественность или, может быть, даже в первую очередь, обстоятельства времени и места, то есть Викторианская эпоха. Эта эпоха создала мертвый ныне образ Англичанина – господина, посвятившего себя делам Империи наравне со своими частными тайнами в старинной резиденции, – с безупречными слугами, с запертыми комнатами, куда не заходят годами, с глубокими подземельями, где привидения также отличались консерватизмом, пугая в соответствии с давным-давно установленной традицией. Если даже привидений не существует, не может быть подвергнуто сомнению существование этой традиции, следовательно, речь идет о своеобразной форме фольклора, многократно обработанного различными способами, а Джеймсом любовно изображенного в антикварно-музейной детальности, – и именно этот загробный фантастический педантизм обеспечил рассказам Джеймса живучесть.
Эти истории должны отличаться особенной привлекательностью прежде всего в глазах англичанина, и такой читатель воспримет обстановку кошмарных видений иначе, чем мы, поскольку для нас она интересна прежде всего старосветской экзотикой. Можно, наверное, попробовать проанализировать эти произведения социологически, чтобы показать, что призраки викторианской Англии соблюдали классовое расслоение общества и потому вели себя по-разному в отношении хозяев и их слуг, но такая въедливость излишня, потому что может уничтожить обаяние наивной, но, в сущности, славной забавы. Я хотел бы лишь в нескольких словах объяснить, почему я выбрал Джеймса, а не такого более позднего и известного автора, как Говард Ф. Лавкрафт. Так вот, Лавкрафт был одержим миром кошмаров и передавал его с помощью героев, трясущихся от страха почти с первой страницы. Эти герои, демонстрируя по ходу дела все надлежащие симптомы ужаса: вставшие дыбом волосы, стынущая кровь в жилах и замирание сердца, должны были добиться собственного леденящего состояния от всех читателей. О том, что эти герои видели, что именно узнавали, как это воспринимали, у Лавкрафта мы прочитаем гораздо меньше, чем о том, как чудовищно боялись эти несчастные. А вот Джеймс пишет сдержанно, флегматично и трезво, а когда уж принимается описывать кошмар, делает это чуть ли не со смущенной медлительностью. Таково первое отличие этих двух крайних типов литературы ужаса.
Что же касается второго отличия, то мир Джеймса является не только сценой аутентичных традиций Империи, но и средой, запечатленной с натуралистической точностью, демонстрирующей даже коммерческие подробности сделки, приводящей к ужасным явлениям. Это очень меткое попадание, ведь фундаментом британского могущества была именно торговля, поэтому даже необыкновенная история не может обходиться без указания конкретных текущих цен. А вот мир Лавкрафта – это на глазах исчезающий крохотный островок нормальности, заминированный глубинными обиталищами каких-нибудь монстров или демонов, и невозможно охватить разумом ни смысл, ни цель их омерзительных поступков. Этот мир, на мой взгляд, является с первого до последнего слога неправдоподобным преувеличением, а самое худшее – он как будто размыт в каждой детали, поскольку наблюдается глупеющими глазами. Когда свидетельством необыкновенных явлений служит потрясение героев, нарушающее течение самой истории истерическими выкриками и иными проявлениями эмоционального коллапса – то для меня это наихудшие из всех возможных свидетельств. Как невозможно передать чей-то прекрасный или ужасный облик с помощью экстатических общих фраз, поскольку такой рассказ должен отличаться в первую очередь детальностью и точностью, так и повествование об ужасных существах должны отличать – и в еще большей степени – добросовестно холодный, скептический голос рассказчика, его бдительная внимательность и невозмутимость, потому что именно такой личности можно поверить скорее, чем заранее обезумевшим от страха героям Лавкрафта.
Речь идет, разумеется, о моих личных предпочтениях в литературе (и не только в литературе ужасов), которые, скорее, вступают в противоречие с мнениями, например, читателей Америки, где о спокойном Джеймсе молчат, а у невротика Лавкрафта полно восторженных поклонников. Это расхождение я могу объяснить лишь диаметрально противоположным отношением обоих писателей к теме Необыкновенного. Джеймс скорее развлекался с чудовищами, а Лавкрафт скорее торжественно верил в них. Первый создавал литературу художественных апокрифов, второй же – литературу устрашающих символов веры. В случае привидений и монстров следует все-таки всегда иметь в виду, что речь идет о вере из самой низкой, как бы придонной сферы метафизики, поскольку эта необычайная стихия – вульгарная и дикая сверхъестественность, творимая из хаотической свалки уже анахроничных суеверий, предрассудков или вообще психотических галлюцинаций. Могу сказать, что я любитель фантазии и апокрифов, как интеллигентной забавы, но при соприкосновении с неврозом, вызванным навязчивым страхом или верой в заклятия, реагирую скорее как психиатр, а не литератор, и потому вместо Лавкрафта рекомендую Джеймса – создателя тронутых патиной игрушек минувшего столетия, не лишенных обаяния и морали.
Послесловие к «Пикнику на обочине» А. и Б. Стругацких
Существуют темы, которые невозможно охватить в полном объеме. Такой темой является Бог для теологов. Как исчерпывающе представить то, что является неисчерпаемым по определению, как описать, если описание накладывает ограничения, а у такого существа все свойства в принципе беспредельны, то есть ничем не ограничены? Здесь использовались различные стратегии: пытались обойтись общими фразами, но тогда никакого цельного образа не возникало; использовали сравнения, но тогда приходится низводить божественные атрибуты на уровень слишком конкретных категорий; пробовали приблизиться к сути по спирали извне, то есть заменяли окончательные определения аппроксимациями, но и этого было недостаточно.
Оптимальной в теологии оказалась стратегия сохранения Божьего таинства. Правда, если следовать этой стратегии, следовало бы вообще молчать, а молчащая теология перестает быть теологией, поэтому она использовала (в более поздних версиях, например, в христианстве) стратегию явных противоречий. Всеведущий Бог знал, что созданный им человек не устоит перед грехопадением. Но тем не менее создал его свободным. Если Богу заранее было известно о неизбежности падения человека, значит, человек не был свободным, хотя он был именно таким – согласно теологическому учению. Так категорически устанавливаемые противоречия создают тайну, в отношении которой разум должен умолкнуть.
Для фантастической литературы темой, которую невозможно охватить, являются разумные, но не человеческие существа. Как автор-человек может показать существо, обладающее разумом, но не являющееся человеком? Голословного заявления недостаточно, потому что литература должна оперировать фактами. И здесь напрашиваются различные стратегии. Стратегия сохранения тайны, наилучшая для теологии, не может быть использована, поскольку «Иные» – это не божества, а такие же материальные существа, как и мы, следовательно, описывать их, множа явные противоречия, значит – требовать от читателя веры в абсурд, но писатель не в силах устанавливать какие-либо догмы.
В соответствии с простейшей стратегией разумные существа могут отличаться друг от друга физически, и только это будет полем их своеобразного отличия, а в умственном отношении они будут или идентичны человеку, или приближены к нему, поскольку разум может быть лишь один. Почти сто лет назад Уэллс воплотил такой подход в своей «Войне миров». Его марсиане – это существа чудовищного облика, но такого, который когда-то должен стать обликом людей. Тела их редуцировались почти до одних голов в соответствии с предположением, что и у человека в будущем будет исчезать часть внутренних органов в пользу мозга. О культуре марсиан в романе ничего не говорится, словно и она подверглась атрофии и не содержала ничего, кроме технических способностей и приравнивания насилия к норме космического права. То есть будущее у Уэллса упрощает как физиологию, так и культуру. В людях марсиан ничто не интересует, кроме их крови. Они пьют ее, словно вампиры. Техническое вооружение марсиан по-прежнему вызывает у нас уважение, но убожество их культуры – это наибольшая слабость произведения. Отвратительный облик не имеет особого значения, он может быть сформирован средой обитания, но разве позиция марсиан не представляется хотя бы неосознанной карикатурой крайнего рационализма? Правда, нападение марсиан Уэллса оправдывает то, что они жители планеты, гибнущей в пустынях. Марсианам плодородная Земля нужна для захвата жизненного пространства. Но этот частный случай, обоснованный в рамках Солнечной системы, стал – бездумно позаимствованный – образцом для всей научной фантастики. Послеуэллсовская фантастика занедужила хронической чудовищностью звездных пришельцев, при этом причины, объясняющие облик марсиан у Уэллса, замалчиваются. А поскольку авторы хотели любой ценой перещеголять отца жанра, они в показе ужасных «Иных» быстро перешли границу правдоподобия. Наделяя их все большей мощью, они заполнили весь Космос цивилизациями, агрессивность которых совершенно иррациональна. Чем большую мощь приписывали «Иным», тем более иррациональным становилось их посягательство на Землю. Научная фантастика в этой фазе стала фантастикой инсинуаций и параноидального бреда, поскольку утверждала, что космические державы точат зубы на человечество, словно Земля с ее скарбом представляла бесценное сокровище не только для общества маленькой пустынной планеты типа Марса, но и для любой цивилизации в галактике. А ведь мысль, что такая мощь, располагающая армадами звездолетов, может прельститься нашим скарбом, столь же наивна, как и мысль, что великое земное государство мобилизует армию, чтобы захватить продуктовый магазин. Издержки подобного нападения будут всегда больше стоимости добычи. Значит, такое вторжение не может быть вызвано материальными интересами. «Иные» атакуют Землю, потому что им нравится это делать. Уничтожают, потому что хотят уничтожать, порабощают человечество, так как тираническая власть доставляет им удовольствие. Так научная фантастика заменила уэллсовский межпланетный дарвинизм на садизм, ставший постоянной составляющей космических отношений между цивилизациями. Работа творческого воображения была заменена проекционной работой (в понимании глубинной психологии). Свои страхи и химеры авторы проецировали во Вселенную. Так они построили параноидальный Космос, в котором любая жизнь нацелена на захват Земли, а сам Космос представляет собой поставленный на людей капкан, поскольку развитие в нем нацелено на то, чтобы реализовать принцип «цивилизация цивилизации – волк». Потом этот Космос – пещера разбойников – многократно менял свой знак. Всеобщая недоброжелательность механически преобразовывалась в доброжелательность. «Иные» нападают, но для того, чтобы взять над нами опеку и тем самым спасти нас от самоуничтожения (этот мотив стал особенно популярным в годы холодной войны). Или же не нападают сразу, а только угрожают, благодаря чему человечество объединяется: перед лицом звездной угрозы побеждает солидарность. Отсюда пошли дальнейшие комбинации игры в пришельцев, но ни один из вымышленных вариантов не выдерживает проверки размышлением, поскольку не в состоянии ответить на такие элементарные вопросы, на которые роман Уэллса отвечал по-своему, но все-таки толково. Это вопросы о мотивации звездных путешествий, не сводимые ни к какому-нибудь «так им захотелось», ни к играм в разбойников и жандармов. Это вопросы о главной ориентации культуры на высоком уровне материального развития, о форме устройства общества на том уровне, когда достигнуты возможности астротехнической деятельности и т. п. И среди них есть первостепенный вопрос – почему набор реальных культур человека на Земле представляет огромное богатство многообразия, а почти все космические культуры в научной фантастике отличаются плачевной до однообразия униформизацией?
На такие вопросы научная фантастика не может ответить, потому что размышления о судьбах разума в Космосе она заменила на сенсационные стереотипы межпланетных авантюр. В результате этого тенденция ее развития в рассматриваемой теме была противоположной по отношению к той же тенденции в науке. И когда ученые всерьез взялись рассматривать проблему цивилизаций во вселенной, проблему установления контакта с ними, когда сформулировали гипотезу о множестве форм разума, о том, что нельзя свести все возможные формы интеллекта к его человеческому виду, фантастика была уже антиподом такого мышления, вытесняя со своей территории остатки реалистических подходов явно сказочными заимствованиями. Желая наделить «Иных» еще большим могуществом, она приписывала им уже способности Протея, – такое существо может по желанию преобразоваться в пень, в кусок ракеты, даже в человека, может также «захватить его разум», что опять же является реинкарнацией старого мифического мотива (одержимость злым духом). С межкультурными барьерами эта фантастика справлялась одной левой, спокойно приписывая «Иным» какое-нибудь телепатическое всемогущество, или же формировала космические отношения между планетами, опираясь на упрощенные образцы земного происхождения (в соответствии со штампами колониализма, конкистадорства, правил возникновения имперских коалиций), пренебрегая всевозможными возражениями как из области социологии, так и из области физики, – связанные с огромностью пространственно-временных расстояний в Космосе. С этим препятствием фантастика разделалась раз и навсегда, приписав звездолетам способность передвигаться со сколь угодно большими скоростями. Одним словом, если в скромной попытке Уэллса местожительством марсиан был, в соответствии с данными современной ему науки, реальный Космос, то научная фантастика своих «Иных» поселила в тотально фальсифицированном Космосе, в котором не действуют законы астрономии, физики, социологии и даже психологии. Она развивала хищническое хозяйство, рыская в поисках вдохновения по различным историческим справочникам так же успешно, как и по таблице Линнея, чтобы наделить разумом ящеров, каракатиц со щупальцами, ракообразных, насекомых и т. д. Когда и это поистерлось и наскучило, тема практически угасла, а ее «чудовищные» крайности НФ переняли третьеразрядные фильмы ужасов, лишенные всякого умственного содержания.
Писательская среда в Америке не соглашается с таким диагнозом положения вещей, имея в союзниках читателей, привыкших к легко перевариваемым сенсациям, предлагаемым в качестве научной фантастики. Но сказочный характер этой фантастики очевиден. Никто не спрашивает, почему в сказках драконы такие злобные и кровожадные, почему Баба-яга в них предпочитает есть детей, а не цыплят. Это аксиомы сказки, потому что ее мир изначально пристрастный, зло появляется в нем для того, чтобы оно могло потерпеть поражение от добра. Ясно, что это зло должно быть сильным, иначе конечный успех добра оказался бы неубедительно бледным. А вот мир научной фантастики должен быть беспристрастным миром, в котором зло появляется не для того, чтобы его могли побеждать объединенные межпланетные добродетели. Мир НФ даже не может быть пристрастным миром с отрицательным знаком, миром какой-то антисказки, в которой прекрасное, пухлое и благонравное добро взращивается для того, чтобы доставить наибольшее удовлетворение воплощенному злу, которое его схрумкает. Кстати, такой антисказочный мир выдумал маркиз де Сад, которого, правда, трудно счесть автором научной фантастики. Мир научной фантастики должен быть попросту реальным миром, то есть таким, который заранее никого не ставит в привилегированное положение, в котором ничья судьба не определена изначально. Человек не является ангелом, так что нет надобности наделять ангельскими свойствами «Иных», но человек, хоть и убивает мух, не отправляется специально с этой целью на другой конец света. Поэтому и «Иные», даже если относятся к нам, как к мухам, вряд ли станут искать нас на Земле.
Автор, показывающий иной тип жизни или разума, нежели земной, находится в более выгодном положении, чем тот, кто представляет вторжение на Землю из Космоса. Первый может ограничиться (как, например, я это сделал в романе «Солярис») указанием феноменов, в огромной степени отличающихся от всего, что известно человеку. Второй исходит из «интервенционной» предпосылки: предполагая, что «Иные» прибыли на Землю, следует понять, что могло толкнуть их на это предприятие по-настоящему астрономического масштаба. Какие причины могли их на это подвигнуть? Если не военные и не разбойничьи, то или познавательные, или развлекательные (они прибыли, чтобы немного поиграть с нами…). Как видим, не так уж много альтернативных возможностей. Поэтому наилучшей стратегией в этом вопросе остается сохранение тайны «Иных».
Хочу особенно подчеркнуть, что выбор этой стратегии обоснован прежде всего не художественными критериями, то есть повествование должно хранить тайну «Иных» не для того, чтобы неустанно интриговать читателя и поддерживать его в состоянии очарования великой неизвестностью. Ибо эта стратегия совпадает с основными директивами теории конфликтов. Так, например, в военных училищах от будущих стратегов требуется, чтобы они предварительно приписывали противнику намерения действий, наиболее опасных для их стороны. В отношении «Иных» из космоса это требование не в военном, а в познавательном смысле. При этом приписывание пришельцам безусловно враждебных намерений вовсе не представляется наихудшей из всех возможных вероятностей. По крайней мере враждебная позиция четко определена; гораздо хуже, когда мы вообще не в состоянии понять свойств этой чужой позиции, когда не можем объяснить себе чужое поведение.
Стратегия сохранения тайны, будучи оптимальной, требует подробной конкретизации. Нельзя использовать ее так, как это делает теология, оперируя противоречиями. То есть нельзя приписывать пришельцам явно взаимоисключающие намерения, – например, что они одновременно и хотят, и не хотят нас поработить. Но можно создавать видимость такого противоречия, – например, когда пришельцы считают, что делают нам добро, но мы воспринимаем их действия как вредные. Здесь открывается область событий, драматургически обещающих многое в виде недоразумений, вызванных резким отличием обеих цивилизационных сторон. Попытки такого рода можно найти в научной фантастике, жаль только, что межцивилизационные недоразумения в ней обычно являются необычайно примитивным ребячеством, которое не имеет смысла рассматривать серьезно. Интеллектуальный вклад автора в конструкцию qui pro quo[180], которое омрачает встречу двух различных культур, должен быть не какой попало. Чем больше разнообразных факторов участвует в таком «недоразумении», тем лучше. Нужно также осознавать, что такая встреча – это не поединок двух героев, а изрядно усложненная игра, в которой участвуют разные, чуждые друг другу по структуре, смыслу и целям действия – коллективные организации. Огромное количество произведений научной фантастики может служить наглядным образцом того, как не стоит показывать тему вторжения. Тем большее удовлетворение приносит произведение, которому удалось победоносно справиться с этим заданием. Тактику сохранения тайны использовали с прекрасным результатом братья Стругацкие в «Пикнике на обочине», который тем самым уходит как от канона, установленного Уэллсом, так и от традиций научной фантастики.
«Пикник на обочине» основан на двух концепциях. Первая – это уже названная нами стратегия неразгаданной тайны пришельцев. Неизвестно, как они выглядят, неизвестно, к чему стремятся, неизвестно, зачем они прибыли на Землю, каковы были их намерения по отношению к людям. Эта неизвестность так совершенна, что даже нет полной уверенности в том, высаживались ли они вообще на Земле, а если высаживались, то уже покинули ее…
Вторая – это реакция человечества на Посещение, отличная от обычной в научной фантастике. Итак, что-то приземлилось, или – осторожнее – упало с неба. Жители Хармонта трагически испытали это на себе. В одних кварталах слепли, в других – заболевали загадочными болезнями, обычно называемыми чумой, а когда город опустел, там возникла Зона с опасными и непонятными свойствами, резко отграниченная от внешнего мира. Собственно, само Посещение не было каким-то мощным физическим катаклизмом: дома от него не разрушились, и даже стекла повыпадали из окон не везде. О том, что происходило в этой первой фазе возникновения Зоны, из повести можно узнать немногое. Тем не менее этого достаточно, чтобы понять: эти события и их последствия нам не удастся уложить ни в одну из существующих классификационных схем. Люди, которые смогли уйти из Хармонта, поселяясь где-либо в других местах, становились центрами непонятных событий, что проявлялось в серьезных отклонениях от статистической нормы. Например, 90 процентов клиентов парикмахера, который покинул Хармонт, гибнет в течение года, причем совершенно «обычно» – в гангстерских перестрелках, в автомобильных катастрофах. Там, где эмигрантов из Зоны было больше, пропорционально увеличивалось количество стихийных бедствий, как об этом говорит Пильман Нунану. То есть здесь мы наблюдаем нарушения причинно-следственных связей непонятного характера. Это замечательный повествовательный прием: он не имеет ничего общего с фантасмагориями типа «наития», ведь ничего сверхъестественного не происходит, но в то же время «нарушение принципа причинности – гораздо более страшная вещь, чем целые стада привидений» (как говорит доктор Пильман). Если бы кто-то уперся и захотел найти гипотезы, объясняющие такие эффекты, а это в принципе возможно (допустим, речь идет о локальных возмущениях определенных физических констант, ответственных за типичное в статистических процессах нормальное распределение вероятности; это простейшее объяснение, которое годится лишь в качестве наброска к определению направления дальнейших исследований, а вовсе не решение проблемы), то оказалось бы, что даже если бы он придумал такой физический процесс, который рационально объясняет механизм этих необыкновенных явлений, то ни на шаг не приблизился бы к сути дела, то есть к природе самих пришельцев. Поэтому оптимальная стратегия заключается в том, чтобы отдельные действия пришельцев были такими загадками, решение которых или вообще не объясняет нам природу самих пришельцев, или делает ее еще более непостижимой! И это не высосано из пальца, не выдумано для большей фантастичности, как это может показаться, поскольку обычно именно таков характер нашего познания мира: познавая определенные его законы и свойства, мы не только не уменьшаем тем самым количество решаемых проблем, но в ходе совершения открытий начинаем узнавать о существовании дальнейших тайн и дилемм, о которых раньше не имели понятия. Как видим, порядок научного познания может стать сокровищницей чудес, более «фантастических», нежели детские чудеса сказочного репертуара.
Итак, в «Пикнике» все происходит совсем иначе, чем у Уэллса. Его марсианское вторжение – это кошмарный, но одновременно и монументальный крах человеческого мира, это драматическое, все увеличивающееся разрушение цивилизационного порядка от ударов, наносимых явно. Известно, кто враг, известно, как он действует, известны и его окончательные цели (трудно было бы их не домыслить!). Ничего этого нет у Стругацких. Вторжение произошло как бы по-настоящему, его следы в форме Зон действительно нельзя удалить, его результаты Земля не в состоянии ассимилировать, но в то же время человеческий мир продолжает существовать, как обычно. Грозные чудеса, космическим дождем выпавшие в шести местах планеты, становятся центрами разнообразной человеческой деятельности – легальной и нелегальной, – как и любой источник даже очень рискованной выгоды. Стратегию сохранения тайны Стругацкие реализуют очень коварной тактикой – почти микроскопических приближений. О том, что в каких-то лабораториях ведутся опыты с найденными в Зонах «магнитными ловушками», о том, что где-то работают ксенологические институты, рассматривающие природу Посещения, в повести лишь кратно упоминается. О том, что думают о Зонах правительства, как их возникновение повлияло на мировую политику, мы не узнаем ничего. Мы лишь подробно наблюдаем фрагменты жизни сталкера, контрабандиста нового типа, который ночами выносит из Зоны различные объекты, поскольку на них есть спрос. Повесть молниеносными вспышками показывает процесс обрастания Зоны, как чужого тела, вбитого в живой человеческий организм – тканью противоречивых интересов, ибо там действуют и официальные представители ООН, и полиция, и контрабандисты, и ученые, не без участия бизнеса развлечений. Это обрастание Зоны обручем лихорадочной деятельности показано с большой социологической меткостью. Правда, односторонне, – но авторы вправе были направить объективы на такие фигуры, деятельность которых и особенной интенсивностью, и совершенно естественным способом противостоит схематизму научной фантастики. Очарование и удрученность, которые пробуждают в читателе «сцены из жизни сталкера», составляющие стержень повести, – это результат обдуманно ограниченного поля зрения. Несомненно, научная и ненаучная литература, возникшая в результате Посещения, должна быть полем яростных разногласий. Оно неизбежно вызвало также возникновение каких-то новых умственных подходов и течений, должно было коснуться и искусства, и религии, но для нас все ограничивается спорадическими картинами судьбы несчастного, который в драме цивилизационного столкновения играет буквально роль человеческого муравья. Хорошо было бы осознать более широкие аспекты проблемы. Каждый согласится со словами доктора Пильмана, что вторжение является в человеческой истории переломным событием. Таких переломных моментов, вызванных хоть и не космическим вторжением, было в этой истории немало, и каждая из них отличалась усилением до крайностей черт человеческой натуры. Каждый такой переломный момент имел свои монументальные фигуры и свои плачевные жертвы. Чем стремительнее вираж истории, тем пронзительнее в нем диапазон между великим и малым, между достоинством и убогостью человеческих судеб. Великолепные морские битвы, которые когда-то решали судьбы империй, характеризовались батальными красотами на расстоянии и подлыми мерзостями вблизи, – достаточно припомнить, что гребцы, прикованные к лавкам на галерах, молча горели в греческом огне, потому что перед битвой должны были сами вставлять себе в рот специальные затычки, которые не давали им кричать. Их кошмарные вопли деморализовали бы воинов! Такая битва выглядела бы совершенно по-разному с высот полководцев, преследующих имперские цели, и с точки зрения этих агонизирующих бедолаг, – а ведь эти агонии были неотъемлемой составляющей исторических переломов. Даже такие, следует признать, порядочные и чистые открытия, как рентгеновское излучение, имели и свою чудовищную сторону, потому что первооткрыватели, не зная свойств таких лучей, в результате чрезмерного облучения лишались конечностей, которые приходилось ампутировать. Сегодня дети, медленно умирающие от лейкемии, – это один из побочных эффектов промышленного развития в мире, мы знаем об этом, хотя здесь причинные связи и нельзя наглядно продемонстрировать. Я хочу сказать, что ужасные судьбы сталкеров – это не какой-то чрезвычайный курьез, вызванный космическим Посещением, а именно правило «переломных моментов истории», которое разнообразно конкретизирует всегда одну и ту же, всегда неизбежную связь живописного величия и отвратительной убогости. Так что Стругацкие оказались здесь прежде всего – реалистами в фантастике, поскольку реализм в ней – это настойчивое и честное изложение всех последствий принятых предположений. Даже этот дикий развлекательный бизнес, которым обрастает Зона, кажется правдоподобным, да нет, обязательным, ведь составные элементы человеческого поведения в повести те же, что и в жизни, разве что авторское внимание обращено прежде всего на «самое дно космического контакта», – а конкретную форму событиям придает тот факт, что чудо вторглось в пространство потребительского общества. Ведь это не такая формация, которая лишь усерднее других производит продукты, наиболее привлекательные для потребления, как иногда о ней судят. Это формация, которая старается сделать предметом потребительского наслаждения все в своей сфере, а значит, не только автомобили, холодильники, духи, но и секс, и кровь, и даже смерть, которая каждую вещь приправляет по вкусу. В средние века Зоны неминуемо стали бы очагами центробежной паники, бегства, миграционных движений, а потом, кто знает, может быть, и возникновения новых верований, реакции под знаком Апокалипсиса, рассадником пророчеств и откровений. В нашем мире их следует попытаться «приручить» – потому что если их нельзя понять или уничтожить, то можно хотя бы суррогатно потребить. Поэтому Зоны становятся не предметом эсхатологических размышлений, а целью автобусных туристических экскурсий. Ведь именно аппетитом к явлениям, которые когда-то считались лишь омерзительными, можно объяснить такую популярность искусства, заменяющего красоту – гадостью. Таков дух времени, которому подчиняется то, что – как тайна «Иных» – обнаруживает полную независимость от человека. Взятое в целом, говорит повесть Стругацких, Посещение для 99 % человечества прошло без следа, и этим оно противопоставляется всей традиции научной фантастики. Это не банальная оппозиция. Доктор Пильман называет человечество «стационарной системой», потому что привык использовать термины из физики; в переводе на язык историка эти слова означают, что контакт с «Иными» не может, если только не вызывает глобальной катастрофы, внезапно отменить течение человеческой истории, поскольку человечество не в состоянии вдруг «выпрыгнуть» из своей истории и войти – благодаря космической интервенции – в совершенно другую историю. Эту догадку, которую я считаю правдивой, научная фантастика, лакомая на сенсации, обошла молчанием. Так что Посещение в «Пикнике» – это не странность для странности, а введение исходных условий для мысленного эксперимента в области «экспериментальной историософии», и в этом заключается ценность этой книги.
Только в одном пункте я с удовольствием с ней поспорю, – он касается не человеческих дел, нет, их повесть передает безошибочно, – но самой природы Посещения. Дискуссию я предварю четырьмя предпосылками. В соответствии с первой, обязательными для нас являются показанные в книге факты, но не обязательно мнения об этих фактах, разделяемые персонажами повести, даже обладающими дипломом лауреата Нобелевской премии. Это значит, что мы имеем точно такое же право выдвигать гипотезы о пришельцах, как и герои повести. В соответствии со второй, не существует стопроцентно безошибочной техники действий на всех возможных уровнях знания. Ибо такая безошибочность предполагает получение полной информации о том, что может произойти в ходе реализации какого-либо предприятия, а вселенная является местом, в котором получение абсолютной информации о чем-либо невозможно. В соответствии с третьей предпосылкой, и мы, и все другие существа в Космосе используют принцип непротиворечивости в рассуждениях. Это значит, что из двух противоположных утверждений обязательно является верным лишь одно: если «Пришельцы» знают о существовании людей на Земле, то не может быть одновременно так, что они этого не знают. Если у них были по отношению к людям какие-то намерения, то не может быть так, что никаких намерений они не имели и т. д. В соответствии с последней предпосылкой, для объяснения неизвестных явлений следует всегда предпочитать самые простые гипотезы в понимании бритвы Оккама. Если, например, мы живем по соседству со знаменитым магом и за стеной длительное время наблюдаем мертвую тишину, то можно, конечно, объяснять ее множеством различных способов: что сосед растворился в воздухе, что он превратился в пресс-папье, что улетел через окно на небо, но скорее всего мы прибегнем к совершенно банальному объяснению, – что он попросту тихо вышел из дому. И только если удастся эту гипотезу доказательно опровергнуть, мы будем вынуждены искать другую, менее банальную.
Таковы позиции, с которых мы выйдем на встречу с пришельцами[181]. В Посещении следует отличать то, что пришельцы оставили в Зонах, от того, как они это сделали. По мнению доктора Пильмана, представляющего общее суждение экспертов, межцивилизационная пропасть оказалась слишком большой, чтобы люди сами могли ее преодолеть, а другая сторона отказалась им помогать. То, что оставили пришельцы, человечество может себе присвоить лишь как крохи чужой технологии, действующей непонятным образом. Большую часть земная наука не может даже толком исследовать. Что же касается того, как пришельцы передали людям указанные объекты, мнение доктора Пильмана, центральное для повести, поскольку вынесено на обложку в виде заглавия, представляется нам в виде притчи. Человечество оказалось в ситуации животных, которые выбрались из своих укрытий на обочину или на поляну, где находятся непонятные предметы, и копаются в хламе, оставшемся после пикника. Эта притча – проявление убеждений самого Пильмана, а в разговоре с Нунаном он перечисляет и другие ходячие гипотезы о Посещении. Доктор Пильман – серьезный ученый, получивший Нобелевскую премию и открывший «радиант Пильмана». Он – мизантроп, каких хватает среди выдающихся ученых. Такие люди мучительно переживают двузначность своей общественной роли. Они необходимы цивилизации, которая строится на основе результатов их ума, но одновременно относится к ним весьма жестоко. Политические силы отчуждают ученых от их открытий, но в то же время общественное мнение их же делает ответственными за результаты такого отчуждения. Осознание этой ситуации не настраивает на любовь. Оно толкает к бунту или цинизму, а тот, кто считает бунт бесполезным, а цинизм – отвратительным, старается вести себя как стоик. Он привык выбирать наименьшее зло, а когда его пытаются припереть к стенке вопросами, отвечает уклончиво или издевательски. Именно такова позиция Пильмана, позиция по сути оборонительная, которую он занял в открывающем повесть интервью.
В разговоре с Нунаном Пильман уже не так язвительно лаконичен, как с журналистом, так как говорит с глазу на глаз со знакомым, да еще и навеселе. Отсюда склонность к искренности. Другое дело, что Пильман, метко показанный в психологическом отношении, небеспристрастен в своих суждениях о Посещении. Образ мусора от пикника, которым он воспользовался, может быть, и передает ситуацию людей в связи с находками в Зонах, но слишком снисходителен по отношению к пришельцам. Так называемый мусор, объекты, опасные для любой жизни, не были выброшены на каком-нибудь пустом месте. Их бросили посреди города. Известно, что совокупная поверхность всех городских построек не занимает даже одного процента поверхности Земли. Поэтому, хотя Космос и «забрасывает» Землю метеорами тысячи лет, ни один метеор до сих пор не упал ни на один город. Поэтому выглядит так, что Посещение в Хармонте не было делом случая. Можно предположить, что пришельцы высадились в городе, потому что им так захотелось. Устроили пикник не на обочине или на пустой поляне, а на человеческих головах. Это меняет положение вещей. Одно дело – расположиться пикником рядом с муравейником, и совсем другое – облить его маслом из автомобильного двигателя и поджечь. Пикник на обочине, этот образ Пильмана, предполагает полное безразличие к судьбам человеческих муравьев. А вот образ умышленного уничтожения предполагает наличие злой воли большой силы, поскольку пришлось преодолеть большое расстояние, чтобы уничтожить этот муравейник. Безразличие и злая воля – не одно и то же. К сожалению, в повести не сказано, произошло ли хоть одно из остальных Посещений в месте человеческого скопления. Как видим, речь идет о главном вопросе, ключевом для выяснения отношения пришельцев к людям, и о таком вопросе, который наверняка известен всем персонажам повести. Одно Посещение в городе могло быть делом исключительного случая. Два – уже наверняка – нет. Поэтому мы вынуждены сделать следующий вывод. Пикник на обочине явно был бы фальшивым образом, если бы пришельцы высадились, кроме Хармонта, еще и в другом городе. Но поскольку Пильман все-таки использовал именно это сравнение, будем считать, что речь идет об уникальном факте. Это очень важно для наших дальнейших рассуждений.
Доктор Пильман перечислил различные гипотезы о сущности Посещения. Но одну он опустил, хотя она напрашивается. Представляем ее, прежде перечислив доказательства в ее пользу.
1. Поразительны два независимых друг от друга свойства почти всех объектов, найденных в Зонах. Одно таково, что эти предметы сохранили определенные функциональные характеристики, то есть это не инертные, мертвые, бездействующие отбросы или мусор. Второе таково, что эти объекты соизмеримы по величине (и весу) с человеческим телом. Видно это уже по тому, что один человек может почти все их вынести из Зоны на собственном горбу, не проводя никаких работ по демонтажу. Ничто там не нужно отделять или выламывать из чего-то большого, – в снаряжение сталкеров не входят инструменты для этого. Объекты эти разбросаны по отдельности. Если представить, что мы выбрасываем на острова Самоа большое количество промышленных отбросов нашей цивилизации (разбитые автомобили, промышленные устройства, шлак, старые конструкции мостов, использованные станки), то туземцы нашли бы гораздо больше объектов, несоизмеримых со своими телами, чем соизмеримых. Если же в каком-то месте нашлось бы множество вещей, рассыпанных порознь и сравнимых по размерам с человеческим телом, то можно a priori выдвигать правдоподобную гипотезу о том, что насыпанное было предназначено для нашедших. Конечно, всегда можно утверждать, что соизмеримость с телом человека объектов, найденных в Зоне, – дело чистого случая. Но вопрос требует новейшего рассмотрения, когда много «чистых случаев» начинают складываться в многозначительный узор.
2. Среди многих свойств Зоны поражает то, что ее границы четко обозначены и неподвижны. Ни летающие объекты (некий «жгучий пух»), ни любые другие внутренние явления Зоны («комариная плешь», термические удары и т. п.) никогда не пересекают демаркационную линию Зоны. Здесь снова можно утверждать, что эта «самосдержанность» Зоны, которая устанавливает для себя постоянную границу, результат другого «чистого случая». Но a priori более правдоподобной будет гипотеза, что это не так, что Зона «держит себя в повиновении», поскольку содержит что-то, что по плану и по намерениям пришельцев придает ей такую замкнутость.
3. Все объекты в Зонах разбросаны хаотично. Видимо, именно это навело доктора Пильмана на мысль о пикнике на обочине, после которого остался мусор. Действительно, похоже на то, что эти вещи раскидывали как попало. Но также можно считать, что никто их не разбрасывал, а разлетелись они хаотически, когда разрушились емкости, в которых их привезли.
4. Объекты в Зонах часто имеют характер очень опасных ловушек. Бомбы и мины по сравнению с ними – это простые детские игрушки для обезвреживания. Опять нельзя исключить того, что они были брошены где попало пришельцами, безразличными к человеческой судьбе, как и того, что они отнеслись к людям так, как маньяк-убийца относится к детям, разбрасывая в детском саду отравленные конфеты. Хотя допустимо и другое объяснение: что эти предметы действуют не так, как должны, поскольку были повреждены во время Посещения.
5. Среди сил, действующих в Зонах, поражают такие, которые вызывают «эффект вставания из гробов». Человеческие трупы под их воздействием встают и начинают ходить. Это не воскрешение мертвых, наделяющее их снова нормальной жизнью, а «реконструкция по скелету», как гласит повесть, при этом вновь возникшие ткани – это не то же самое, что обычная живая ткань. «Можно, – цитирую Пильмана, – у них (у этих живых трупов. – С.Л.), например, отрезать ногу, и нога будет ходить… то есть не ходить, конечно… в общем, жить. Отдельно. Без всяких физиологических растворов». (Доктор Пильман утверждает, что такое псевдовоскрешение нарушает второй принцип термодинамики; это не обязательный вывод, но не будем здесь спорить с ученым, так как это завело бы нас слишком далеко.) «Псевдовоскресительная деятельность» очень важна для понимания сути Посещения. A priori более правдоподобным кажется, что «воскрешение» – результат целенаправленных действий, нежели безадресных. Это означает, что наверняка легче воскресить некоторые конкретные формы жизни (например, земные, белковые), чем всевозможные формы жизни в Космосе. Мы не знаем, верно ли это. Не знаем также, не был ли эффект нацелен исключительно на самих пришельцев (может быть, так действует что-нибудь из «арсенала их дорожной аптечки»). Но, так или иначе, эффект «воскрешения» подтверждает, что пришельцам многое известно о физиологии земной жизни.
Таким образом, мы собрали доказательный материал в пользу нашей гипотезы. Мы утверждаем, что никакого Посещения не было. Наша гипотеза говорит о другом. В окрестности Земли прибыл транспорт, наполненный емкостями, которые содержали образцы продуктов высокой цивилизации. Это был не корабль с экипажем, а что-то вроде автоматически управляемого зонда. Так проще всего объяснить, почему никто не наблюдал ни одного пришельца. Любая другая гипотеза должна быть построена или на том, что пришельцы невидимы для людей, или на том, что они умышленно скрывались. Транспорт потерпел аварию при подходе к Земле и развалился на шесть частей, которые поочередно упали с орбиты на Землю. Сказанное, казалось бы, противоречит открытому доктором Пильманом радианту его имени, радианту, якобы свидетельствующему о том, что Кто-то шесть раз выстрелил в Землю с Альфы Лебедя. Однако никакого противоречия между нашей концепцией и радиантом нет. Радиант – это астрономический термин, обозначающий кажущееся место на небосводе, откуда прибывает определенный рой метеоров. Определение радианта вовсе не является в астрономии определением места, из которого метеоры фактически прибывают. Они могут двигаться по эллипсу или по параболе, а радиант – это точка на небесной сфере, которую видит земной наблюдатель, когда продолжает касательную к такой кривой в направлении, противоположном движению метеоров. То есть если метеоры называют по имени созвездия, в котором находится их радиант, то это вовсе не означает, что они на самом деле прилетели из того созвездия, имя которого им присвоили астрономы. Так и радиант Пильмана вовсе не говорит нам о том, что все упавшее в Зонах на самом деле прилетело с Альфы Лебедя. О том, откуда прибыли шесть снарядов или зондов, радиант Пильмана ничего не может сказать, хотя повесть и создает именно такое впечатление. Это ложное впечатление, вызванное не вполне точным высказыванием Пильмана, когда он отвечал на вопросы журналиста во вступлении. О том, чтобы зонды действительно летели к Земле прямо с Альфы Лебедя, не может быть и речи. Преодоление такого расстояния идеально «прямым» курсом в космолоции невозможно, так как по пути на траекторию полета воздействуют многочисленные возмущения (прежде всего, гравитационные). Также можно математически доказать, что кривую, возникающую на поверхности шара после шестикратной стрельбы в него (когда шар, как и Земля, вращается), невозможно отличить от такой кривой, которая возникает в результате проецирования на поверхность шара фрагмента орбитальной траектории. Иначе говоря, определение радианта Пильмана вовсе не исключает гипотезы шестикратного падения фрагментов развалившегося корабля. Зная радиант метеора и его конечную скорость, можно рассчитать его настоящую траекторию полета, поскольку метеор, как неуправляемое тело, не может произвольно менять курс и подчиняется законам небесной механики. Зная радиант космического корабля, ничего нельзя узнать о его происхождении, курсе, скорости передвижения и т. п., поскольку это управляемое тело, имеющее двигатели, а значит, может выполнять перед посадкой любые маневры, исправления курса, изменения скорости движения и т. п. Одним словом, из так называемого радианта Пильмана не вытекает ничего такого, что помогло бы выбрать ту или иную гипотезу о Посещении.
Конечно, мы не знаем точно, потерпел ли катастрофу звездный корабль. Но принятие этой гипотезы объясняет все, что произошло, причем наипростейшим образом. Почему, собственно, нельзя согласиться с тем, что Посещение не удалось? Если считать необычность вещей в Зонах доказательством высокого мастерства пришельцев, и что это исключает аварию их корабля, то такой вывод будет логически неправильным. Совершенство пришельцев, в результате которого не могло дойти до аварии их корабля, – это не факт и даже не гипотеза, которую можно было бы рационально обосновать, а догмат. Мы считаем, что совершенными до безошибочности могут быть только такие существа, которыми занимается теология. Мы считаем, что не существует безотказной техники. И мы не утверждаем, что авария действительно произошла, а лишь то, что аварией можно сразу объяснить все, что произошло, вследствие одной общей причины. Итак, факты, перечисленные нами в первом пункте, вполне соответствуют тому, что Кто-то послал в направлении Земли контейнеры с технологическими образцами. Факт из второго пункта увеличивает правдоподобность первого. Коль скоро Отправители не могли быть стопроцентно уверены в том, что с их кораблем не случится катастрофа при Посещении, они должны были по крайней мере позаботиться о минимализации ее последствий, а для этого поместить на борту такое предохранительное устройство, которое не позволит результатам катастрофы распространиться, но как бы герметически замкнет их в одном месте. Конечно, такое устройство должно выдержать катастрофу. Оно не подвело. Факт из третьего пункта увеличивает правдоподобие аварии, так, нет ничего более естественного, чем хаотическое разлетание содержимого контейнеров, когда они внезапно рухнули на Землю. Факт из четвертого пункта также оказывается результатом той же причины. Не только контейнеры разорвались при падении, но и большинство их содержимого также подверглось различным повреждениям. Произошло все так, как если бы кто-то сбросил на острова Самоа на парашютах контейнеры с продуктами, лекарствами, инсектицидами и т. п., но некачественные парашюты не раскрылись, груз упал, контейнеры развалились, из-за чего в шоколаде полно гексахлорфенола, в пряниках – рвотные средства и так далее. Жители островов могли бы подумать, что кто-то совершил на них очень злобное покушение, но не так должны на их месте думать ученые. Итак, мы считаем, что грозный характер космических даров не выражает намерения «Иных», поскольку они не забросали нас никаким убийственным мусором для забавы, а в хлам их хорошо продуманную посылку превратил несчастный случай – дефект звездного корабля. (Не будем далее подробно развивать нашу гипотезу; детали могли бы выглядеть примерно так: поскольку от этого корабля не осталось ни следа, то наверняка он не должен был сам осуществлять посадку, а должен был лишь сбросить контейнеры; сами контейнеры в свою очередь вовсе не обязательно должны иметь материальную форму, они могли быть «пачками вещей», удерживаемыми воедино каким-нибудь видом силового поля; эта «упаковка» подвела в решающую минуту и содержимое «пачек» обрушилось градом на Землю.) Авторы повести могли бы нам сказать, что гипотеза «образцов» тоже была отражена в книге; ведь доктор Пильман сказал в беседе с Нунаном: «Некий высокий разум забросил к нам на Землю контейнеры с образцами своей материальной культуры. Ожидается, что мы изучим эти образцы, совершим технологический скачок и сумеем послать ответный сигнал, который и будет означать реальную готовность к контакту». Но эта версия, не допускающая возможности прибытия посылки в состоянии фатального повреждения, получает в повести сильно дискредитирующее ее ироническое звучание. Как – объекты, более опасные, чем бомбы, посылают неизвестным получателям в качестве подарков, приглашающих установить связь? Это как если бы кому-то послали приглашение на бал, а в конверт вложили заряд, который взорвется при открытии конверта. То есть по версии повести эта гипотеза сама себя компрометирует в свете чудовищных свойств Зон.
А вот гипотеза аварии, объясняющая события совершенно обычно, кроме того сразу же реабилитирует и «Иных», как Отправителей, и людей, как Получателей данайского дара с небес. Отправителей, потому что они ни в чем не виноваты, и даже предвидя, как и следовало, наихудшую возможность, снабдили посылку предохранительным устройством, благодаря которому любая активность Зон заканчивается, как обрезанная ножом, в определенном месте. Это свойство Зон проще всего объяснить именно предусмотрительностью Отправителей, которые, не имея возможности предотвратить любую катастрофическую случайность, позаботились локализовать ее последствия. Авария реабилитирует и людей, особенно ученых, поскольку их беспомощность в отношении дара оказывается тем более понятной, что им мешают дополнительные трудности, так как они не знают, что в предметах из Зон является их свойствами, предусмотренными инженерным планом, а что – результатом повреждения в катастрофе.
Не стоит тратить много слов на объяснение того, почему авторы обошли нашу версию Посещения молчанием. Она не могла соответствовать их замыслам, потому что отнимает у произведения его грозный и одновременно таинственный смысл. Но именно в этом умолчании возможности аварии кроется их ошибка. Мы хорошо понимаем, в чем дело. Дискредитации должны были подвергнуться обе стороны цивилизационной встречи. Люди могут использовать дары лишь никчемно или самоубийственно, потому что они таковы по сути, а Отправители отнеслись к ним со смертоносным безразличием, так как высокий разум не интересуют проблемы низшего. Столь крайняя версия темы вторжения также заслуживала раскрытия, тем более что превосходит все, что создала в этом направлении научная фантастика до сих пор. Но если так, то следовало в повести предусмотреть нашу гипотезу дефектного дара, чтобы затем ее отклонить, то есть сделать невероятной. А вот умолчание как попытка сокрытия этой версии было неправильной писательской тактикой.
Из сказанного вытекают выводы общего характера, касающиеся оптимальной стратегии в теме вторжения[182].
При выборе стратегии сохранения тайны необходимо в обязательном порядке выполнять два условия. Во-первых, нельзя вызывать у читателя подозрение в том, что автор умышленно скрыл от него определенные факты, причем такие, которые известны персонажам повести (ведь все герои «Пикника» должны знать, есть ли еще какая-нибудь Зона, кроме хармонтской, которая накрыла город). Читатель должен оставаться в убеждении, что авторское сообщение является исчерпывающим до границ возможности. Тогда тайну защищает сам ход и образ показываемых событий, представляя как бы непроницаемую маску, за которую не может заглянуть ни один человек. И дальше, этот эффект можно создать только очень точной балансировкой событий. Они не должны быть ни слишком однозначно сконцентрированы, ни подвержены чересчур хаотичному разбросу. Их смысл должен находиться в неопределенном состоянии, как бы на расстоянии от различных альтернатив, не склоняясь определенно ни в одну сторону.
А вот наши замечательные авторы в конце повести переусердствовали в очернении пришельцев. То, что Золотой Шар может исполнять желания, естественно, является наивным преданием, одной из народный легенд, возникших после Посещения. Авторы понимали, что им нельзя сделать этот Шар какой-нибудь адской машиной, так как это было бы преувеличением, изменяющим смысл произведения, поскольку это превращало бы мрачный, но все-таки двузначный характер Зоны в однозначность ловушки, преднамеренно поставленной для людей. Поэтому они сделали Шар как бы нейтральным объектом, и не в нем таится смерть, а рядом, в виде «прозрачной пустоты, притаившейся в тени ковша экскаватора», которая удавливает Артура на глазах Рэдрика. Но сопоставление первого похода Рэдрика в Зону (с Пановым) с последним походом (к Золотому Шару с Артуром) обнаруживает «черно-сказочную» структуру этой второй эскапады. Легко заметить эту сказочность: герои должны, направляясь к желанному сокровищу, по дороге преодолеть различные опасные и ужасные препятствия, словно доблестный рыцарь, который отправляется за живой водой или магическим кольцом, а кроме того, Рэдрик еще знает, что подходы к Золотому Шару охраняет таинственная «мясорубка», которую нужно «насытить», принеся ей человеческую жертву. Поэтому он позволяет Артуру бежать первым к Шару, – и Артур действительно гибнет на его глазах, своей смертью как бы на время уничтожая Злые Чары, благодаря чему Рэдрик может пройти к Золотому Шару. Авторы в этом месте обрывают повествование словом «конец», но эта уловка лишь ослабляет положение вещей, но не меняет его.
Авторы утверждают, – я обсуждал с ними эту тему, – что сходство сказочного мотива и опасности Золотого Шара возникает лишь в мозгу читателя, будучи результатом случайности и человеческого воображения. Но, как мы уже сказали, нельзя устраивать слишком много «случайностей», ведущих исключительно в одну и ту же сторону. Ибо тогда не верится в их случайное возникновение. Последнее путешествие в Зону выпадает из жанровых свойств научной фантастики. Реалистическая система событий превращается в сказочную[183], потому что очередные «случайности» совпадают с упомянутым нами стереотипом похода к заколдованному сокровищу, а не должны совпадать ни с каким. Тайна не сохраняется последовательно до самого конца, из-под нее просвечивает истина, потому что мы догадываемся, кем являются пришельцы: это снова чудовища, хотя и в невидимом варианте. Авторы пытаются отвести читателя от напрашивающегося именно такого умозаключения, подчеркивая, например, что Золотой Шар своим положением создает впечатление, будто его случайно уронил какой-то неизвестный гигант, но это – неверная тактика. Не авторский комментарий должен уводить нас от навязываемого структурально решения, а сами события в их объективном виде. Поэтому локально мощный эффект эпилога портит прекрасное целое книги.
Макс Фриш в своем романе «Homo Фабер» воплотил в современной нам действительности миф об Эдипе, и отец там вступает в кровосмесительные отношения с дочерью так же безотчетно, как Эдип, когда овладел своей матерью. Фриш организовал события в романе так, чтобы все они имели совершенно обычное, реалистическое правдоподобие, и чтобы при этом целое структурально соответствовало мифу об Эдипе. Так вот, разница между подобием «Homo Фабер» мифу и подобием «Пикника» сказке заключается в том, что у Фриша возникающее подобие было задумано, а Стругацкие этого подобия вовсе не желали. Именно поэтому я говорю, что они «переусердствовали», ибо только сдержанность в организации событий могла спасти финал повести от нежелаемых ассоциаций с действием и тем самым со смыслом сказки. Сохранение тайны в «Пикнике» не составило бы трудности для теолога, который волен оперировать противоречиями. Но наука не имеет таких полномочий, поэтому не будет преувеличением утверждение, что труд писателя-фантаста, стоящего на стороне науки, бывает более тяжелым, чем хлопоты теолога, утверждающего совершенство Божественной природы…
Послесловие к «Волшебнику Земноморья» У. Ле Гуин
«Я спрашиваю о Чужом, о существе, отличающемся от Тебя. Это существо может отличаться от Тебя полом или годовым доходом, образом жизни, речью или одеждой, наконец, цветом кожи или количеством ног и голов. Иными словами, существует сексуальный Чужой, социальный Чужой, культурный и, наконец, расовый. А что с социальным Чужим в НФ? Что там, в терминах марксизма, с «пролетариатом»? Где он в НФ? Где там бедняки, которые тяжело работают и отправляются спать голодными? Встречаются в НФ когда-либо такие личности? Нет. Они появляются там в качестве больших безымянных масс, убегающих из чикагских трущоб от слизистых монстров или гибнущих от радиоактивного заражения, или в качестве безликих армий, ведомых в бой генералами и государственными мужами. В фантастике «меча и магии» они ведут себя как фигуры на школьном представлении Шоколадного Принца. Среди них можно встретить девушку с пышными формами, за которой ухаживает офицер Генерального Земного Штаба, или же в экипаже ракеты есть славный старый повар с шотландским или шведским акцентом, представляющий Мудрость Простых Людей. Потому что люди в НФ – это не люди. Это массы, существующие для того, чтобы ими могли управлять великие.
С общественной точки зрения львиная часть НФ невероятно плоская и регрессивная. Все эти галактические империи, ведущие происхождение от Британской Империи 1880 года. Все эти планеты – удаленные друг от друга на 80 триллионов миль! – показанные как государства воинствующих националистов, или как колонии, подлежащие эксплуатации, или как протектораты доброжелательной империи Земли, под управлением которой они должны идти в сторону саморазвития, везде – опять Бремя Белого Человека. (…) Единственной общественной переменой, встречающейся в НФ, является движение к авторитаризму, превосходство элитарной власти над темными массами, иногда показываемое как предупреждение, но чаще – с удовлетворением. Социализм никогда не подлежит рассмотрению как альтернатива, а демократия подвергается забвению. Богатство по умолчанию считается достойной целью, отождествляемой с личными заслугами. Американская НФ одобряет установленную иерархию от высших к низшим; на вершине – агрессивные, богатые, самолюбивые самцы, за ними – большая брешь, а дальше, на дне, – бедные, темные, безымянные, – вместе с женщинами. Если можно так сказать, целостный образ удивительно «не американский». Это настоящий патриархат павианов, с альфа-самцом во главе, которому с уважением подмурлыкивают подчиненные самцы. (…) Пришло, я думаю, время, чтобы творцы НФ – или их читатели! – перестали грезить о возвращении века королевы Виктории и начали думать о будущем».
Все это написал не ортодоксальный марксистский критик, не этот каверзник, этот пасквилянт Станислав Лем, отплачивающий американским коллегам за почетное членство в Science Fiction Writers of America[184] – клеветой об их творчестве (см. «Forum SFWA» 1975 года). Написала это Урсула Ле Гуин, автор сей книги, в кратком выступлении, опубликованном в посвященном ее произведениям ежеквартальнике «Science Fiction Studies» в 1975 году (издает «SFS» университет в Индиане). Сегодня никто не сравнится с ней в Штатах на поле фантастики, за исключением разве что Ф. Дика, «Убик» которого открыл нашу – Литературного издательства и мою – серию книг. Разница между Ле Гуин и Диком в принципе такая же, как разница между женским и мужским, статистически обобщенным, складом ума. Дик одаривает нас внезапными неожиданностями воображения, иногда поднимается выше, иногда падает вниз. Зато творчество Урсулы Ле Гуин на всех фазах развития демонстрировало в большей мере умеренность, дисциплину, порядок, сдержанность, можно сказать, – разумную и теплую хозяйственность.
Наибольшую известность принес ее роман «Обделенные», изданный три года назад. Это смелая попытка смоделировать под стеклом фантастической изоляции самые жгучие политические дилеммы нашего века. Тут сопоставлены в качестве умышленно обособленных моделей (размещенных на парных планетах – словно на Земле с Луной) две антагонистические формации – капитализм и анархизм. Капиталистическое сообщество избавилось от своих радикалов, посылая, а точнее, ссылая их на малую планету, бедную, почти пустынную, и в таких условиях возникло общество без денег и торговли, в котором жить нелегко, но тяжесть существования равномерно раскладывается на всех. Подзаголовок романа: двусмысленная утопия. Анархия Ле Гуин не является раем. Герой романа – гениальный физик, который в бедном обществе не может полностью реализовать свои способности.
Впрочем, дело не только в бедности. Уррас и Анаррес, планеты-государства, не поддерживают никаких отношений. Неприязнь к давней отчизне сохранилась и выразилась в том, что анархисты не принимают оттуда ничего, в том числе и новые знания. Поэтому герой отправляется туда, где его ждут светлейшие умы и лаборатория. В обществе этот шаг сочли предательством, – толпа провожает его к ракете, забрасывая камнями.
«Обделенные» – это ненамеренная пародия фаустовского мотива, это Фауст в типичной для него ситуации выбора, на этот раз – и политического также. Этот Фауст договаривается с «дьяволом», пользуется его дарами, чтобы увидеть наконец механизм насилия, к которому испытывает отвращение. Добившись своего, он решает вернуться, – но не раскаявшимся блудным сыном. Роман начинается сценой его отлета, а завершается за минуту до приземления, впереди неожиданности и риск, поскольку встретит его скорее всего презрительная ненависть.
В этом эпически скроенном произведении многое можно подвергнуть сомнению. Прежде всего – репрезентативность государственных моделей. Защитник капитализма скажет, что Ле Гуин облегчила себе задачу дискредитации, показав вместо «оптимальной» модели, типа какой-нибудь шведской, – политический слепок, располагающийся где-нибудь между Соединенными Штатами, Южной Америкой и, к примеру, Персией или Грецией. Но и поборник социализма не будет рад модели «утопии», так как прочность и надежность ее эгалитаризма привнесена в общество как бы извне. Ведь крутую иерархизацию общества, неоднородность распределения достатка сводят на нет физические условия планеты. Это их напор, обрекая все общество на героические усилия, выводя иногда просто на фронтовые позиции, именно этим давлением «сплющивает» коллектив, ввергая в ситуацию, приближенную к военному коммунизму, с той существенной разницей, что бороться нужно с естественными невзгодами, а не с вражеским нападением. Значит, дисциплина эгалитаризма имеет внешние причины. Эту дисциплину устанавливает планетарная физика, а не только добровольность общественного соглашения. Роман старается уменьшить значение этого принуждения для сплочения общества, поскольку, хотя в нем и хватает принципиальных разговоров, они не касаются вопроса о том, как вело бы себя такое общество в менее спартанском окружении. Так что, коли должна быть показана анархия, то есть общество, добровольно отказывающееся от пользования неограниченными свободами, не следует заменять политические сдерживания – физическими. Невелика премудрость быть спартанцем, когда невозможно им не быть.
Подчеркнем все-таки, что альтернатива, показанная Ле Гуин, не приводит к противопоставлению равенства в нужде – радостям потребления. Не все, что есть в достатке, отягощено злом, и не все, что приносит эгалитаризм, заслуживает одобрения. Полный эгалитаризм не является полной справедливостью, так как ликвидирует отклонения от общественного среднего как отрицательные, так и положительные. Тем самым предпочтение оказывается посредственности. Доказательством этого служит герой: он не может получить столько свободы для развития, сколько требует его духовная исключительность. Правда, именно эта его исключительность представляет самый слабый, наименее убедительный элемент романа. Выявим эту слабость, сопоставляя «Обделенных» с «Волшебником Земноморья».
«Волшебник» – из более раннего периода творчества Урсулы Ле Гуин. Критика почти забыла о нем, признав «Обделенных» самым выдающимся достижением писательницы. Я думаю, это неправильно. Суждение критики частично основывается на том, что несомненной является политическая актуальность «Обделенных», а кроме того, сказочная фантастика, к какой можно отнести «Волшебника», считается менее серьезным подвидом, более развлекательным, нежели научная фантастика. Это разграничение: фэнтэзи и научная фантастика, я считаю систематической ошибкой американской критики, которую поддерживает и европейская. По мнению американцев, если кто-то в произведении летает на ковре-самолете, речь идет о сказочной фантастике, а если на антигравитационной табуретке, то мы находимся в научной фантастике. При использовании аналогичных поверхностных критериев в биологии получалось бы, что летучие мыши находятся в более близких родственных отношениях с горлицами, чем с мышами, потому что мыши не летают. Ни летучая мышь, даже наряженная в чужие перья, не является птицей, ни сказка, украшенная наукоподобными терминами, не является научной фантастикой. Жанровый вес произведения зависит не от «научности» появляющихся в нем терминов, но от того, как оно их использует. В послесловии к «Необыкновенным рассказам» Грабинского я уже вспоминал о функциях, которые могла бы исполнять необыкновенная фантастика, кроме развлекательных.
«Волшебник Земноморья» является прекрасным примером именно таких функций. Это роман о том, как юноша в вымышленной стране обучается у выдуманных мудрецов, владеющих фантастическим искусством магии. Одновременно это реалистический роман – о формировании личности, о преодолении трудностей, о том, как запальчивая легкомысленность становится зрелостью. Наконец, это изящная притча о том, как можно дорасти до преодоления собственной смерти, не впадая ни в жалкий страх, ни в глупую спесь. Повествование ведется чисто и спокойно, в камерном приглушении. Роман сохранил свое звучание и в переводе, благодаря Станиславу Бараньчаку, который не потерял ни капельки поэтичности «Волшебника». Впечатляюще передано настроение туманного Архипелага среди бурных вод Севера, великолепна естественность перехода от скромного и тяжкого труда моряков и рыбаков к появлению потусторонней стихии. Эта стихия является не только традиционным стаффажем сказки, она представляет собой переодетую в необычные одежды, трактуемую аллегорически мощь, соответствующую действительным силам, которые человек высвобождает в Природе. Чары оказываются такими же увечными, сомнительными и обоюдоострыми, как научные открытия. Напомню о спасительном превращении молодого Геда в птицу, которое действительно высвобождает его из затруднительного положения, но само становится для него новой угрозой. Ведь это просто образцовая ситуация человеческого познания, ведь и наука, одаривая нас новыми свободами, одновременно подвергает нас новым опасностям. Именно этим двузначным отношением к высвобождаемой силе «Волшебник» приобретает абсолютную цельность, и потому более достоверен, чем «Обделенные». Политическая проблематика отодвигает на задний план личность и дела героя в «Обделенных». Его открытие, столь желанное для влиятельных персон, уподобляется магическому сокровищу, скрытому в его уме.
Неужели я хочу заявить, что сказка Урсулы Ле Гуин более реалистична, чем ее научная фантастика? Да, именно это я хочу сказать. Случаются в литературе такие парадоксы, как этот, – когда роли, исполняемой волшебством в одной книге, можно приписать больше реализма, чем роли научного открытия – в другой. Но этот парадокс – мнимый. Дело в том, что произведение создает мир, управляемый по собственным законам, как суверенное целое, и в том, что судить, насколько подлинно произведение, можно лишь по этому целому, а не по его фрагментам, например по терминам, взятым из словаря науки.
И потому не словари обеспечивают правдоподобие явлений, описанных в тексте, а сам мир произведения. Он единственный может быть поручителем проблемной аутентичности таких явлений. Проиллюстрировать это положение может такой пример.
Когда мы строим мост, его целостная конструкция более важна, чем вид отдельных частей. Если мост стальной, его пролеты могут быть смоделированы в форме драконьих хвостов. Это не изменит его грузоподъемности, зато оригинальность технической конструкции, выполненной из элементов экзотической формы, может придать ему дополнительные свойства. Если же мост будет в основном стальной, но один пролет будет изготовлен из бумаги, он ни на что не будет годен, даже если этот бумажный пролет по виду будет искусно имитировать сталь. Прочность всех остальных пролетов не будет иметь никакого смысла, потому что по мосту нельзя будет проехать.
В настоящем романе волшебство является главным мотивом духовной жизни героя. И это волшебство, для данного персонажа, нельзя заменить ничем иным. Если бы чары, которым учится Гед, были безотказными и всемогущими, роман сразу же провалился бы. Эффект также был бы ничтожным, если бы эти чары юноша мог познать легко, словно таблицу умножения, не затратив никаких усилий. А вот эпохальное открытие, с которым носится ученый герой «Обделенных», является легко заменяемым предлогом, который должен обосновать его поступки. Речь идет о новой теории времени, но ее могла бы заменить какая-нибудь другая теория или гипотеза, а также какое-нибудь техническое изобретение, наконец, сам герой мог бы быть не ученым, а, к примеру, художником. Это также не изменило бы существенно произведения, поскольку речь в нем идет о конфронтации двух политических систем, а герой в этом процессе исполняет роль объектива, через который мы смотрим. Это, пожалуй, главная слабость «Обделенных». Гениальный ученый, конечно же, мог бы сделать свой выбор в пользу революции, но не перестал бы от этого быть гениальным ученым, он продолжал бы осознавать значимость своей работы, которая не может быть внешней по отношению к нему, не может быть случайным, заменяемым дополнением к его личности и к его судьбе. Великолепная концепция, с которой Ле Гуин приступила к написанию «Обделенных», предоставила шанс создать новую версию Фауста, но этот шанс не осуществился, потому что кандидат в Фаусты сначала опускается до роли наблюдателя, а затем сочувствующего – политической оппозиции при капитализме. Так как он мог бы принять участие в политической борьбе любой человек. Однако поскольку не любой может преодолеть барьеры, разделяющие враждующие миры, герой должен быть необычной личностью. Писательница решила сделать таким человеком гениального ученого. Но такой выбор обязывает. А поскольку величие ученого является производной от величия его свершений по содержанию и последствиям для общества, то нельзя решить поставленную задачу общими фразами на полутора страницах.
Именно поэтому магические приемы и заклятия в «Волшебнике» – из-за их неразрывной связи с произведением в целом, первостепенного места в жизни героя, а также их двузначности, ненадежности и увечности, – оказываются ближе к правде человеческих действий, более реалистичными, чем великолепное научное открытие героя «Обделенных».
Думаю, здесь сыграло свою роль и то, что Урсула Ле Гуин, дочь известного американского антрополога Кребера, чувствовала себя в области экзотических обычаев, фольклора, обрядов посвящения и магических таинств более свободно, чем в сфере научных открытий.
И в конце личное примечание. Я питаю к «Волшебнику» особую симпатию. Это единственная книга американской фэнтези, которая вызвала у меня уважение. Порадовала она меня и после чтения (известного у нас) романа Толкина «Властелин Колец». Это громкое произведение оставило меня равнодушным – и даже скучающим. А потому, если бы не «Волшебник Земноморья», я оставался бы – по отношению к современной сказочно-магической фантастике – слепым и неграмотным. Урсула Ле Гуин помогла мне своим романом вернуть веру как в жизнеспособность американской фантастики, так и в мою восприимчивость к ее – к сожалению, редкому – обаянию[185].
Март 1976.
Предисловие к антологии фантастических рассказов
Не является ли Бог даосистом? / Составитель Станислав Лем (Ist Gott ein Taoist? / Hrsg. Lem S. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1988, 233 s.). Содержание:
Станислав Лем «Предисловие»
Бертран Рассел «Кошмар метафизика»[186]
Бертран Рассел «Кошмар Сталина»[187]
Славомир Мрожек «Страшный Суд»[188]
Николай Лесков «Очарованный странник»[189]
Раймонд Смаллиан «Не является ли Бог даосистом?»[190]
Кристофер Черняк «Загадка вселенной и ее решение»[191]
Хаймито фон Додерер «Семь вариаций на тему Иоганна Петера Хебеля» (1760–1826)[192].
* * *
Когда составитель выбирает литературные произведения для антологии, обычно он предваряет их предисловием, в котором представляет авторов и расхваливает их тексты. Этот метод мне не по вкусу. Мало смысла в том, чтобы хвалить антологию, которую сам составил, так как хорошие произведения не нуждаются в этой похвале, а плохим она не поможет. Я еще никогда не видел антологии, в предисловии к которой было бы написано, что она содержит ничего не стоящий и скучный вздор.
Что касается биографий выбранных мной авторов, то большинство из них общеизвестны. Хаймито фон Додерера, Славомира Мрожека и Бертрана Рассела не нужно представлять. В крайнем случае уместно упомянуть, что Бертран Рассел в конце своего долгого пути как философа в возрасте более чем 80 лет обратился к беллетристике.
В настоящей антологии собраны фантастические рассказы. Что-то похожее, но больших размеров, составил Борхес («Вавилонская библиотека»[193]). Его антология вызвала у меня депрессию, потому что я был не в состоянии до конца прочитать большую часть собранных там произведений. Этим я не хочу сказать, что антология Борхеса ничего не стоит, а только то, что о вкусах не спорят («de gustibus non es disputandum»).
Но так как я должен написать предисловие, я сделаю это по-своему. В этом мире уже давно слишком много книг. Ситуация напоминает ресторан, где предлагается так много блюд, что гость, прежде чем дочитает меню до конца, или умрет от голода, или предпочтет выбрать первое по списку блюдо.
Мы живем во времена очень большой угрозы для жизни, и эта угроза, которая в виде так называемой массовой культуры, разрушающей духовность, не всеми воспринимается как грядущий кризис и катастрофа. Этот потоп было бы легко преодолеть. Достаточно бульварную литературу, глупые, халтурные, порнографические книги, которые обращаются к самым примитивным сторонам человеческой души, обложить налогом определенной величины, назовем его «налогом на пониженную стоимость», чтобы их продажей финансировать издание ценных книг, причем фильтром, который они должны были бы пройти, была бы не какая-нибудь цензура, а совет, состоящий из критиков и обычных читателей, выбираемый в каждом государстве путем всеобщих, тайных и равных выборов. Хотя у моей идеи нет шансов реализоваться, она мне кажется не такой уж и плохой, так как влияние разумной критики на продажу хороших книг становится все меньше.
Одна немецкая журналистка несколько лет назад написала о Франкфуртской книжной ярмарке, что та напоминала ей засоренный бумагой туалет. Более точного определения для сегодняшнего потока книг я еще не встречал. Я не верю в то, что все писатели мира страдают слабоумием. Я придерживаюсь мнения, что по-прежнему появляются ценные книги, которые даже находят издателей. Но до них нелегко добраться, потому что они, эти книги, тонут в потоках напечатанной ерунды. Критика перестает выполнять советующе-селективную роль по отношению к читателям. Критики пишут свое, публика читает свое. Критик похож на человека, который стоит с маленьким ситом в руке на берегу болотистого, занесенного илом океана. Рядом с ним находятся мегафоны издательских гигантов и водяные насосы, которые выкачивают мутную воду из этого океана, а громкоговорители мычат, что это чистейший нектар и кристально чистое совершенство. Правда, может быть, в этих болотных глубинах плавают какие-нибудь лакомые кусочки, но их не выловить маленьким ситом. Бестселлеры получаются тогда, когда автор кого-то изнасиловал, или его кто-то изнасиловал, или когда он был сутенером или проституткой, когда автор сидит в тюрьме за многочисленные убийства или многомиллионные мошенничества, когда он – не в книге, а в жизни – выдумал необычайные, ранее не существовавшие экстравагантности, когда он преследуется законом, но перед тем, как его посадят в тюрьму, у него еще есть время дать интервью глянцевым журналам, издающимся большим тиражом. Исключения, такие как «Имя розы», подтверждают правило. Так многие близкие мне люди отказались брать в руки «Имя розы» как раз потому, что эта книга попала в список бестселлеров, и только после моих уговоров они смогли насладиться романом Умберто Эко.
Говорящий как я также не станет Кассандрой, так как о Кассандре мы по меньшей мере знаем, что она существовала и пыталась образумить современников, и хотя это ей не удалось, все же осталось воспоминание о ее напрасных усилиях.
Литература – это духовная пища. Она должна быть вкусной, полезной и ценной. Но люди едят не то, что в качестве супа или второго блюда идеально по содержанию витаминов и калорий, а также относительно усвояемости. Они едят то, что им приходится по вкусу. Очень часто то, что им по вкусу, является вредным. Они едят не то, что совершенно, а то, что им нравится. Так же люди ведут себя и по отношению к литературе.
Если давать определение идеального критика, то это совершенный, внимательный читатель, тот, о котором мечтает автор. Конечно, есть такие критики и издатели антологий. Я не присваиваю себе такой высокий разряд. Содержащиеся под этим переплетом рассказы я выбрал потому, что при чтении одних мне хотелось смеяться до изнеможения, в других я удивлялся оригинальности мысли или красоте композиции – прямо-таки музыкальной композиции. Но мой вкус не является общепризнанным критерием каких-либо ценностей, в том числе и литературных.
Я считаю себя обычным средним читателем в том смысле, что при чтении я чувствую моральное удовлетворение или равнодушие, либо нарастающую скуку и отвращение.
То, что я читаю, мне или нравится, или не нравится. Нравится мне это или не нравится, я понимаю сразу. Но я часто не знаю, почему это так или иначе. Если бы мне нужно было написать рецензию на прочитанное, я должен был бы основательно подумать, проанализировать текст и свои ощущения, но я очень хорошо знаю, что с этим дело обстоит так, как с эротическим влечением, в особенности с большой любовью. Никто сильно не влюбляется потому, что он производит антропометрические измерения женщины, которая привлекла его внимание, никто не дает ей заполнить анкеты, не расспрашивает о спортивных рекордах и не исследует ее интеллект при помощи тестов.
После такого эмоционального отступления можно уверенно переходить к повестке дня, так как в противоположность литературной критике любовной критики не существует. Хотя существуют руководства по сексологии, но к любви они имеют такое же отношение, как и справочники по сборке радиоприемника к музыке Баха, которую можно послушать по радио.
Редкий читатель, который продержался до этого места моего предисловия, будь осторожен! Покупатель действует на собственный риск! (Caveat emptor!) Не верь тому, что я пылаю любовью ко всему, что поместил в эту книгу. Я также не собираюсь рекламировать свой выбор. Если по-честному, я могу сказать лишь следующее: далеко обходя Гималаи бессмыслицы, называемой научной фантастикой, я собрал очень разноплановые произведения, более или менее «фантастические» (эксперты вовсе не едины во мнении, где проходит граница между «фантастической» и «нефантастической» литературой), и в качестве критерия, которым я руководствовался, я могу назвать только один, который для меня не подлежит сомнению. Я выбрал то, что мне понравилось, по тем причинам, которые я не вполне мог бы объяснить. В качестве гарантии того, что так и было на самом деле, должно быть достаточно моего честного слова.
Вена, ноябрь 1984 г.
V Станислав Лем вспоминает
В стране памяти
Мне очень тяжело писать о Львове, поскольку сложно передать словами нити, которые связывают меня с этим навсегда утраченным городом. Я родился в 1921 году в доме номер 4 по улице Браеровской, в котором до моего появления на свет умерли мои дедушка и бабушка. В свою очередь, мы покинули Львов в 1945 году, потому что альтернатива остаться означала получение советских паспортов. Мы потеряли, собственно говоря, все, потому что мои родители до последней минуты верили, что Львов останется польским. Сейчас же, хотя я и не имею точных доказательств, я уверен, что Сталин взял Львов вместе с Восточной Галицией под советское управление не из любви к украинцам, а только потому, что расширенная таким способом и выдвинутая на запад советская территория становилась хорошим плацдармом для атаки на Западную Европу. Осознание того, что волей одного человека были изгнаны миллионы поляков из так называемых восточных рубежей Речи Посполитой, стало еще одним поводом для нашей грусти. В книге под названием «Высокий Замок», изданной в 1966 году, то есть в ПНР, я описал мое львовское детство и, листая эту книгу сейчас, замечаю, что, к сожалению, уже многое из воспоминаний о прежнем Львове начинает стираться из моей памяти. Издательство «Kluszczyński» недавно издало несколько альбомов, посвященных нашим давним Восточным рубежам, и один из них, названный просто «Львов», помогает мне в написании этих воспоминаний.
После окончания начальной школы имени Жулкевского я был записан в гимназию, которая сначала называлась «Вторая», а ее ученики носили конфедератки с желтым околышем, похожие на жандармские. После второго класса была проведена реформа, так что я оказался в гимназии нового типа, четырехклассной, а потом закончил двухлетний лицей в том же самом здании у львовского городского вала. Таким образом, я двенадцать лет подряд ходил от квартиры родителей на Браеровской через центр города к городскому валу у подножия холма, на которой находился курган Люблинской унии. Думаю, что этот путь, проделанный сотни раз, я смог бы пройти с закрытыми глазами. С Браеровской, через прилегающие улицы Монюшко и Шопена, где разносился приятный запах кофе, идущий с местного цеха по обжарке кофейных зерен, затем через площадь Смолки по Ягеллонской, а после пересечения улицы Легионов с виднеющимся в отдалении нашим городским театром, nota bene[194] значительно большим и красивейшим, чем Театр Словацкого в Кракове, передо мной было два пути: я мог перейти через площадь Святого Духа или вдоль трамвайных путей около так называемого Венского кафе. И оказывался на рынке, с его прекрасной, гордо возвышающейся ратушей. Я проходил мимо каменных львов перед высокой плоской стеной ратуши, а также колодец с Нептуном, и через узкую Русскую улицу, в конце концов, добирался до моей гимназии у городского вала, которая числилась уже под номером 560. Сегодня, рассматривая фотографии современного Львова, не могу скрыть огорчения, когда замечаю признаки постепенного освобождения моего города от всего польского. Поскольку до экзамена на аттестат зрелости, сданного летом 1939 года незадолго до нападения Германии на Польшу, я был мальчиком, а потом подростком – мне еще и 17 не было – то знакомство со Львовом было у меня фрагментарным. Например, в Большом театре мои родители постоянно абонировали ложу в партере, и я, подросши, ходил с ними на спектакли.
Мои самые яркие воспоминания связаны с посещением Рацлавицкой панорамы в ближайшем к улице Браеровской парке Костюшко, который мы называли Иезуитским, там я, когда уже подрос, встречал мою бывшую няньку, продающую из корзинки крендели по 10 грошей. Еще там стоял какой-то человек, он держал в руке большую сырую картофелину, в нее были вставлены заостренными концами палочки с прикрепленными к ним крылышками из бумаги, вращающимися при каждом дуновении ветра. Точность рассказанного выше может показаться сомнительной, но у меня нет ничего кроме памяти, что могло бы свидетельствовать о достоверности моих воспоминаний. Иезуитский парк граничил с улицей Мицкевича, целиком вымощенной деревянной брусчаткой для того, чтобы топот конских копыт не мешал студентам Университета Яна Казимира, находящегося на противоположной стороне улицы. Во времена, каких я не мог помнить, то есть австрийские, там находился Сейм Галиции. В этом здании, уже учебном, был вручен диплом врача моему дяде, которого уже нет в живых, я же – тогда четырехлетний – от волнения описался. Кроме того, помню из польского Львова Стрыйский парк, на карте в альбоме названный парком Килиньского. Этот парк граничил с потрясающей – в наших мальчишечьих глазах – территорией Восточной ярмарки. Посещение этой ярмарки у моих друзей и у меня вызывало сильное чувство значимости Львова в Европе, и даже в мире. Мой отец не был сторонником передвижения на автомобиле, поэтому мы постоянно пользовались одной и той же двуконной пролеткой, которой управлял пан Крамер, учитывая его полноту я называл его Толстяком. Обычно маршрут наших загородных поездок был такой: проехав через город, мы направлялись по улице Стрыйской до самого ее конца, где заканчивалась территория Львова и где взималась плата за въезд в город. Дорогу, тогда песчаную, летом иногда обрызгивали из бочек с нефтью, добываемой в Бориславе. Мы доезжали до сада пана Руцкого, в котором родители играли в карты, я же или пытался поиграть в садовый кегельбан, хоть его шары были для меня тогда слишком большие, или качался на большой качели, напоминающей деревянную гондолу. Могу добавить, хотя это уже несколько иное, что иногда кучер распрягал коня и позволял мне покататься на нем без седла.
Мой отец был врачом, то есть человеком очень занятым, и только иногда находил свободное время, чтобы прогуляться по аллее Мицкевича туда, где за городскими стенами возвышался униатский кафедральный собор Святого Юра. На его территорию мы никогда не вступали. Когда в гимназии, например, из-за болезни кого-нибудь из учителей выпадало свободное время, я с друзьями ходил на Высокий замок. Эти прогулки были как праздник, поскольку с края паркового обрыва был виден весь Львов вместе с находящимся внизу железнодорожным узлом. Это был период, когда в городе насчитывалось около 360 тысяч жителей, а из послевоенных сообщений я узнал, что за время советской и украинской власти это число удвоилось, и в результате снабжение водой стало нерегулярным и еще много других бед обрушилось на мой город.
Уже в 1939 году Советы, оккупировав Львов, позволили жителям ездить на трамваях по довоенной цене билетов. Страшная перегрузка вагонов приводила к частым авариям, но с другой стороны, город избежал военных разрушений. Помню еще лыжные прогулки на Кортумову гору, одну из многих в окрестности Львова, поскольку город лежит на южной границе Львовско-Томашевской возвышенности с очень красивыми пейзажами. Многие улицы, такие как, например, Коперника или Сыкстуска, довольно круто поднимались вверх от центра города, а на Словацкого, идущей от Иезуитского парка, виднелся Главпочтамт, а напротив него контора фирмы «Gunard Line» с замечательными двухметровыми моделями кораблей этой трансокеанской линии, которые вызывали мое восхищение совершенством миниатюризации. Помню еще в самом центре два прекрасных пассажа: «Mikolasch» и «Hausmann». Над одним из них на крыше сияла тогда еще бывшая экзотикой неоновая реклама шоколада «Velma», «Milka» и «Bittra», и вроде там же светился олень, рекламирующий мыло «Schicht». Понятно, что ребенком и подростком я лучше знал окрестности вокруг нашего дома. Когда уже в советские времена я изучал медицину в зданиях, расположенных на улице Пекарской, я очень любил при благоприятной погоде готовиться к экзаменам на территории Кладбища львовских орлят, колоннаду которого, надписи на некоторых могилах и барельефы я запомнил до сегодняшнего дня. То, что с этим кладбищем происходило потом, я знаю, но предпочту об этом промолчать.
На юношеские воспоминания о городе, не тронутом ни одним вторжением чужеземных сил, непосредственно после падения Польши наложились картины бегства советских танков по улицам Грудецкой и Казимежовской, названной потом львовянами улицей «Давай-Назад». Разные интересные события происходили во Львове, например, автомобильные гонки на петле улиц, образованной из Пелчиньской и Кадецкой. Я даже помню, что тогда заливали гипсом трамвайные рельсы, чтобы предотвратить скольжение гоночных автомобилей. Я был слишком молод, чтобы знать что-либо о Львовско-Варшавской философской школе или же о животворящем источнике национальной культуры, каковым был Львов. На Лычаковском кладбище я видел могилы наших великих поэтов и писателей, которые – насколько я знаю – иностранцы не уничтожили. Мрачных воспоминаний советских времен, а потом немецкой оккупации Львова я предпочитаю не ворошить в этом тексте. Я не хочу помнить, как выглядел прекрасный крытый стеклянным куполом львовский вокзал после немецкой бомбардировки. Моей давней мечтой было создать миниатюрную диораму довоенного Львова вместе с территорией Стрыйского парка, Восточной ярмаркой, башней, обложенной бутылками водки Бачевского, а также всеми костелами до тех времен, когда Советы еще не могли превратить их в какие-то склады.
Таким образом, я предпочитаю закончить воспоминания об этом городе, поскольку все, что было польским, лучше сохранилось в моей памяти.
Моя львовская библиотека
Двустворчатые двери кабинета моего отца выходили на каменный балкон. Эта комната была довольно узкой, так что немного места оставалось между письменным столом и большим библиотечным шкафом с застекленными дверцами. Эта мебель стояла вдоль стен у балконных дверей. У стола примостилось большое кожаное кресло. В другой части комнаты у изразцовой печи стоял диван, а напротив него – моя библиотека, потому что собственной комнаты у меня не было. Странно, что я забыл об этой библиотеке, когда писал «Высокий замок». Над двумя полками со старыми игрушками располагались две парадные (потому что застекленные) книжные полки, а над ними, почти до потолка, было еще несколько полок. Не помню уже, было их пять или только четыре. За стеклом стояли мои самые ценные книги – полное издание Словацкого в гранатовом коленкоре, Фредро с золочеными корешками в светло-сером коленкоре и Мицкевич (уже не помню цвета обложки), зато помню, что там же стоял толстый том Норвида в издании Пини. Был там еще «Комизм» Быстроня, энциклопедия «Мир и жизнь» в пяти томах, другая энциклопедия, Тжаски, Эверта и Михальского, словари, голубой том «Чудес природы» профессора Выробка и книга, единственная из всех, которая у меня сохранилась, – коричневая «Большая иллюстрированная природа».
Книги похуже стояли выше, – я мало что о них помню. «Герои» Кингсли, «Солнышко» и «Остров мудрецов» Буйно-Арцтовой. По, Грабинский, почти вся научно-популярная «Библиотека знания» с «Охотниками за микробами» Крюи и «Вселенной» Джинса, Карл Май в пузатых маленьких томиках с иллюстрациями, весьма зачитанный, Верн (неполный), «Счетчик с красной стрелкой» Мейсснера, «Луг» Лесьмяна и много томиков детской и юношеской серии, одни – с красной обложкой, другие – с голубой. Названий уже не вспомню.
Этих книг было около двухсот, но я почти ничего о них не знаю. Конечно, Лондон, Сенкевич, весь Прус, Реймонт, только один немецкий том – «Elektronisches Experimentierbuch»[195], стащенный из отцовского шкафа Пежиньский, «Лесной дьявол»[196], какой-то сборник рассказов Уэллса, но остальное предано забвению.
Не знаю даже, оставались ли там еще мои детские книжки с Поразиньской во главе. Охотнее всего я доставал с парадных полок книги Фредро. Потом шел Словацкий, а Мицкевича я брал, видимо, реже, потому что даже не помню цвета обложек. Помню, что у нас был большой том Мицкевича с иллюстрациями Андриолли, но не помню, забрал ли я его себе. Некоторые книги с течением лет как-то сами перебрались из большого пузатого шкафа отца на мои полки. У отца было много немецких и французских книг, которые я не трогал, потому что чтением на иностранных языках не увлекался, а пособие по электротехническим экспериментам пришлось читать поневоле, корпеть со словарем в руках, поскольку иначе я не построил бы ни одной из моих любимых электростатических машин. «Луг» я знал почти весь наизусть, хотя вовсе даже не учил эти стихи, просто они так меня обворожили, что мгновенно остались в мозгу. У Лондона я больше всего любил «Мартина Идена» и «Морского волка». Память – удивительная штука. Прекрасно помню даже золотое тиснение на энциклопедии «Мир и жизнь», а также серо-зеленый коленкор второй энциклопедии и красные вставки на ее корешке, но не помню, как был переплетен Жеромский, от него запомнил лишь рисунок шрифта, каким были набраны «Краса жизни» и «Пепел» в трех томах. Помню мягкую обложку «Луга» Лесьмяна в издании Мортковича, а не помню переплет «Мужиков» Реймонта, хотя проводил над ними многие часы[197].
Сорок лет назад пришел конец моей библиотеки, когда немцы в первый, но не в последний раз выбросили нас из дома, и много книг разошлось по знакомым. Перед вторжением немцев я дал почитать Быстроня худому, бледному и хромому коллеге с врачебного курса Медицинского института, украинцу, и этой книги больше уже не увидел. Не знаю, символично это или просто результат стечения обстоятельств, но из всей моей библиотеки уцелела и прибыла со мной в Краков в 1946 году только одна книга. «Большая иллюстрированная природа» с разделами геологии и естественной истории, то есть эволюции земных растений и животных. Мало кто уцелел из моей семьи, кроме отца и матери – только два кузена и одна дальняя родственница, а теперь вот один французский профессор утверждает, что немцы в оккупированной Польше никого не убивали, что все это – домыслы, а в довершение ко всему известный ученый-лингвист Ноам Хомский взялся этого француза защищать от нападок французских интеллектуалов, потому что, сказал Хомский, как там было, он не знает, но свобода слова, а значит, и свобода высказывания любых убеждений должна соблюдаться везде! Ведь лишь с помощью цензуры можно было бы помешать этому профессору распространять категорическое démenti[198] немецкого геноцида, но цензура – это отвратительно! Я читал об этих стычках и диспутах в немецкой прессе, и сквозь конфузливый тон (это были либеральные, прогрессивные газеты вроде «Frankfurter Allgemeine» и «Süddeutsche Zeitung») пробивался как бы старательно скрываемый отзвук удовлетворения. Возможно, это было лишь мое ошибочное впечатление. В любом случае, видимо, не существует такого большого и ужасного преступления, которого нельзя было бы обелить, – причем тогда, когда еще живы уцелевшие жертвы. Мой невозмутимый либерализм улетучивается, как камфора, при чтении подобных сообщений. Этот француз, nota bene, не первый со своей миссией оправдания немцев, но когда это делал кто-то из них самих, мне это в любом случае казалось менее странным извращением. Все, что находится в камерах и бараках Освенцима, видимо, умышленно изготовленные реквизиты. И мало того – благородный защитник француза, Хомский, – еврей по национальности. По правде сказать, я не знаю, что нужно делать в подобных случаях.
Борхес в рассказе «Тлён, Укбар, Orbis Tertius» выдумал тайный сговор неведомого сообщества, которое с нуля создает выдуманный мир (правда, неясно, зачем), но эта фантазия является прозаическим топтанием на месте по сравнению с размахом французского ученого, который не только в книгах и статьях, но и на своих лекциях (а он – учитель молодежи) объясняет, как гуманно вели себя немцы в оккупированной Польше. Можно заметить, что, поскольку в наши времена профессора университетов – как, например, в Италии – являются вдохновителями и предводителями кровавого террора, элементарная вменяемость становится быстро исчезающей категорией, и вряд ли стоит удивляться поведению других, к примеру, французских профессоров, оправдывающих СС и гестапо. Должен сказать, что я жестоко обманулся в мире, в котором мне довелось родиться. Не знаю, откуда взялась у меня смолоду, то есть почти полвека назад, вера в превосходство университетских профессоров над всеми другими людьми. Не припомню, чтобы мне кто-то такое сказал, и очень сомневаюсь, чтобы я мог что-то подобное услышать от отца, который в качестве ассистента Львовского университета вращался в тех почитаемых мною кругах. Наверное, попросту вообразил это непонятно как, нуждаясь – как любой человек – в неоспоримом авторитете и воплощении благородной мудрости.
Война поглотила мою библиотеку вместе с той славной верой, но, видимо, какие-то ее остатки не сгорели на дне моей души совсем, потому что мне очень хотелось бы, чтобы этот француз, воюющий за безупречную память о Гитлере и Гиммлере, не был профессором университета.
Сигара и англезы
Я помню, что в возрасте примерно семи лет среди многих моих увлечений существенное место занимали магические вещи. Я был страстным поклонником магии.
И дело здесь было не в удивительных деревянных яйцах, меняющих цвет, не в саморазвязывающихся узлах шнурков и не в особым образом соединенных звеньях цепи, которые только посвященный мог разъединить. Когда я уже научился читать, мне в руки попала книга, описывающая сложные трюки, такие, как способность яйца, приготовленного всмятку и с неповрежденным белком, проскальзывать в бутылку через узкое горлышко.
Однако самые сильные эмоции у меня вызвало описание интригующего опыта, в котором главная роль отводилась пеплу сигары. У моего отца, врача, действительно было мало времени, но мне удалось уговорить его поучаствовать в тайном предприятии. Отец курил папиросы, но для меня должен был в течение целого дня курить сигару и не уронить ни крупицы пепла. На этом заканчивалась его роль. Пепел был помещен в фарфоровую чашку, на дне которой находилась таблетка, предназначенная для производства сельтерской воды. После увлажнения всего несколькими каплями воды – в соответствии с книжными заверениями – должна была образоваться и поплыть над столом медленно вращающаяся толстая и длинная змея из преобразованного вследствие этой операции пепла. К сожалению, ни старания отца в выкуривании сигары, ни мои дальнейшие действия, продиктованные книгой магии, не привели не только к появлению какой-либо змеи, но и вообще ничего в этой чашке не образовалось, а разочарование, вызванное неудачей этого эксперимента, помню до сегодняшнего дня.
Я помню, конечно, и многое другое из тех давних времен, особенно то, что служило детям для игр. Подозреваю, что современный ребенок даже толком не знает, что такое самокат[199], какие штуки можно выделывать обычным обручем, подталкиваемым палкой или рукой, насколько интересно собирать англезы, а также флаги разных стран, находящиеся внутри упаковки маленьких шоколадок.
Кроме этого, было много калейдоскопов, которые я с неудержимой манией познания их механизма, создающего новые и прекрасные многоцветные узоры, разбирал с чувством настоящего экспериментатора. Помню, что вбитый в шкаф большой гвоздь, чтобы расплести шнур, являющийся частью игрушечной канатной дороги, не встретил у моей матери понимания.
Но по-настоящему сложные времена наступили для меня только в школьные годы. Методы воспитания тогда были значительно более строгими, в то время воспитанием в определенной степени занималось все общество, а не только семья: например, в гимназии существенно более значительным, чем сейчас, был авторитет учителя. Многие элементы общественного устройства предвоенной Польши непосредственным образом реально воздействовали на стиль и смысл воспитания – результатом которого был даже и патриотизм.
Я являл собой типичный пример «буржуазного ребенка» и дома контролировался двусторонне: француженкой, совершенно не знающей польского языка, которая погружала меня в язык парижан, и репетитором, студентом-юристом, следящим, чтобы я выполнял все, что было задано. Как мне, однако, в то время удавалось проводить химические, электрические и авиационные эксперименты (летал не я сам, а мои самолетики) и к тому же еще конструировать много удивительных механизмов – не знаю.
Видимо, пора детства, хотя и обставлена целым рядом инструкций и запретов, растягивается подобно резине.
Мои рождественские ели
Мои рождественские ели – львовские. Разумеется, это были елочки. Под зорким оком французской учительницы, которая приходила к нам домой, я клеил вместе с ней различные украшения, которые должны были повиснуть на нашем деревце. Исходное сырье было принципиально простым. Скорлупа орехов, серебреная таким серебром, которым покрываются калориферы. Коробочки от спичек, переделанные в домики и машинки. Но вся эта мелочь размещалась на втором плане елки. Самыми важными были гирлянды, склеенные из цветной, золотистой и серебристой бумаги. Были также парафиновые свечки разных цветов, поскольку, когда я был маленьким, никто об электрификации елок не слышал. В стратегических местах втыкались в упругие веточки искусственные огни, которые во времена II Речи Посполитой имели то очевидное свойство, что всегда красиво горели, разбрасывая снопы искр. Совершенно отдельное место занимали лакомства – самые скромные конфетки, завернутые только в блестящую фольгу, разнообразные шоколадные крендельки и вдобавок изделия, которые можно причислить к произведениям искусства – выдутые яйца. Причем выдутые яйца были только сырьем, их можно было самыми разными способами делать необычными. Их оформляли в виде разрисованных мордочек, приклеивали бороды из ваты, иногда прикрепляли какие-то причудливые шапки.
В нашу квартиру часто приходили мои сверстники, поэтому самые вкусные деликатесы я вешал по возможности высоко, чтобы до них было сложнее добраться. Помню еще прянички, маленькие сердечки, проколотые иглой и ниткой. На самом верху дерева находилась декоративная верхушка. Выбирая ее, я обычно метался между, с одной стороны, версией многошариковых бомб со шпилем, украшением красивым, но получаемым в готовом виде, и, с другой стороны, искушавшим меня ангелом, который был собственным произведением, боюсь, однако, что сегодня бы я ни одним из тех ангелов не похвастался.
Позже неизменные елочные традиции начали нарушать новшества, электрические свечки, которые действительно гарантировали, что дерево не загорится, но казались какими-то искусственными, лишенными простоты обычных цветных парафиновых свечек. Областью совершенно отдельной, особенно интригующей, были рождественские подарки под елкой, спрятанные от наших глаз вплоть до той минуты, когда после сочельника раздавался звон колокольчика. В те давние времена я жалел племена, населяющие тропики, где, похоже, не найти хвойного дерева.
Когда наступили немецкие времена, а после них советские, декор елок стал очень скромным. Репатриированные в Краков, мы воскресили давнюю традицию. Это послевоенное деревце обвешивалось предметами, которые раньше не имели доступа на праздничную сцену. Особенно милыми казались мне вечерние прогулки по темным уже улицам, потому что почти в каждом окне сияли елочные свечки, создавая впечатление, к сожалению, столь же наивное, сколь и ложное, что в этих квартирах проживают исключительно люди хорошие, благородные и милые. Когда мне приходилось бывать в товариществе краковских художников, я сталкивался с деревцами, украшенными с большой эксцентричностью, но никогда к ним не имел пристрастия, поскольку был и остался традиционалистом.
В некотором смысле в старом деревце потенциально таилась возможность возникновения огня от лучей, составляющих золотые и серебряные ангельские волосы, и в один миг гирлянды могли продемонстрировать мимолетность своей сущности, превращаясь в пепел и копоть. Нельзя также умолчать об очевидном эпилоге, то есть смерти елок, которые роняли хвою, обдираемую жадными руками из-за сладких волшебств, теряли красоту, шик, элегантность и приземлялись недалеко от помойки. Я думаю, что именно таким должен быть порядок вещей в нашем мире и над этой темной стороной эгзегезы не стоит предаваться в печаль.
Приятный кошмар
Недавно я получил перевод на украинский язык моего «Высокого замка». Делегация издателей из Львова приехала в Краков и оставила мне экземпляр книги, а также номер журнала, который тоже называется «Высокий замок».
Разумеется, я не буду высказываться о собственной книге, которой уже более тридцати лет, она разошлась по миру и ее занесло даже за Атлантический океан. Говорить я буду о том, что меня лично взволновало и странно затронуло – болезненно и приятно. В украинском издании «Высокого замка» много фотографий, имеющих несколько археологический привкус. На первой – потолок спальни моих дедушки и бабушки с лепниной в форме дубовых листьев с желудями. Когда мне был год, из люльки, кроватки или же коляски я всматривался в этот потолок и гипсовые желуди глубоко запали в мое подсознание. То, что после семидесяти с лишним лет они остались нетронутыми в той львовской квартире – это действительно поразительно. Помню и высокие кафельные печи: здесь фотография одной из них, так же как лестничной клетки в подвале на Браеровской, крыльцо, входные двери нашей квартиры и окно в спальне моих родителей, в верхней части которого находилось стекло, пробитое пулей в 1918 году во время польско-украинских боев.
Однако издатели хотели дать больше материала, поэтому разместили фотографию Ратуши со львами со львовского рынка, начало Русской улицы, колонну с Мицкевичем на площади, которая тогда назвалась Мариацкая, а теперь Мицкевича, словом – неподвижные картины прошлого. Под всеми оригинальными названиями улиц из моей книги поместили современные их украинские наименования, также есть репродукция довоенного плана центра Львова с польскими названиями.
Усердие и старательность издателей из Львова мне, разумеется, необычайно симпатична, но эта встреча на меня сильно подействовала, она была как вскрытие раны – я могу сказать, что пережил приятный кошмар. Невозможно родиться во Львове, провести здесь молодость, закончить школу и не тосковать о нем. Для меня Львов остался сиротой после Польши. Мог бы сказать – хотя тут я необъективен, – что был он в большей мере польский, чем Вроцлав – немецкий. Прислали мне недавно альбом фотографий с Лычаковского кладбища; там ведь покоится большая часть представителей нашей культуры и литературы.
Сегодня число жителей города увеличилось почти трехкратно по сравнению с 1939 годом и одновременно Львов стал, что парадоксально, более провинциальным. Просматриваю журнал «Высокий замок», где поместили большую статью обо мне, и нахожу, например, объявление, что администрация предприятия «Сортнасинняовоч» искренне поздравляет генерального директора Михайло Мельникова в связи с тем, что его сын Василь женился. А также воззвание к молодым, что они должны жить так и этак и еще иначе. И тут рядом реклама различных «самсунгов». Странный бигос: немного старого, немного нового.
В статье я прочитал, что люди, живущие сегодня на Браеровской (там теперь две квартиры), с большим удовольствием пригласят меня в гости, если я приеду во Львов. Однако я до конца жизни буду зарекаться, что Львов не посещу. Не из-за здоровья, попросту только потому, что это было бы для меня слишком ужасно. Камни молчат[200].
Была Польша, затем пришли Советы, после них Германия, потом еще раз Советы, которые освободили нас не только от немцев, но и от всего другого: недвижимости и движимости. Сказали нам: или советские паспорта, или выезд. Мы были вынуждены покинуть Львов; я не жалею о нашем решении, но потери не восполнятся. Мы оказались выплюнуты на краковскую мостовую, и вновь началось восхождение со дна колодца, ибо мы приехали в Краков почти голые и босые. Прошло полвека, за эти годы понемногу-понемногу выбрались наверх, а теперь министр Колодко хочет, чтобы ему продемонстрировали последние серебряные ложечки, оставшиеся от бабушки[201]…
Закат целомудрия
Благодаря Ежи Помяновскому я получаю редактируемую им «Новую Польшу»[202]. Последний номер, очень толстый, посвящен Украине. Я начал его читать и с некоторым волнением убедился, что понимаю тексты, написанные по-украински. До войны в польской гимназии во Львове у нас каждую неделю были уроки этого языка, но когда пришел к нам любимый Советский Союз, русский язык приглушил и задушил во мне украинский. Теперь украинский вернулся, и у меня создается впечатление, что вместе с ним всплывают из глубины моей памяти различные воспоминания, как сеть, заброшенная в морские глубины, вытягивает на поверхность не только рыбу, но и другие создания, а иногда хлам.
С этим опытом связана другая случайность. Моей внучке уже два года и восемь месяцев, и я выбрался в магазин игрушек. Мне посоветовали посетить отдел игрушек в «Карфур». Внучка не любит куклы, поэтому я искал целлулоидных уточек и гусят. С детства помню очень приятную игру: в медный таз наливали воду, по ней плавали гуси, у них на конце клюва был небольшой кусочек металла, а удочкой служил прутик с маленьким магнитом. Уточек я не нашел, а то, что увидел, действительно меня поразило.
С эргономично-прагматической точки зрения предполагается, что игрушки должны служить ребенку для формирования его разума. Игрушек, которые учат развлекая, я не увидел. Я не требую грифеля и гладкой досточки с маленькой губочкой. Однако помню, например, подставку из стекла настолько толстого, что невозможно было его расколоть, с рядами углублений, к нему полагался мешочек с шариками разных цветов и из них складывались узоры. Были также переводные картинки, наборы для вырезания из бумаги, акварельные краски… Материалом для работы служили фанера, дерево, бумага, а также мука и вода; из этих последних делался клей, необходимый при изготовлении игрушек на елку. Потому что, кроме шаров и ангела или звезды, остальные декорации на Рождество делались собственноручно: гирлянды из бумаги, украшения из пустых коробочек от спичек и выдутых яиц.
Сегодня в «Карфур» нет ничего из этих вещей! Даже тетрадей с несколькими цветными страницами – именно из них клеились гирлянды – я не нашел. Единственным предметом, напоминающим мои детские игрушки, был калейдоскоп; а кроме этого – космические войны, чудовища, тигроподобные демоны, покемоны, о которых в «Тыгодник повшехны» писала пани Олех… Царствует злодейство, только что в малом масштабе: револьверы, автоматы, лазеры, комплекты снарядов – надеюсь, что они не взрываются сразу, когда берешь их в руки. Раньше была коробка с комплектом «Маленький почтальон» – конверты и печати; теперь есть «Маленький преступник» или «Маленький гангстер». Я немного преувеличиваю, но мачете из пластика видел собственными глазами. Не нашел, правда, оторванных рук и ног, чтобы игру сделать правдоподобной, но интенсивность деморализации, исходящая от всех этих игрушек, вместе взятых, на самом деле меня напугала.
Разумеется, к этому же ведет телевидение и фильмы, которые они показывают. Это метод создания спроса через внушение детям, а косвенно их родителям, таких потребностей, удовлетворение которых якобы необходимо. Когда появляется «Гарри Поттер», вслед за ним сразу тянется хвост разнообразных ни для чего не пригодных гаджетов. Крупное производство поняло, что надо идти сразу на прорыв. Впрочем, были в моем детстве шоколадки по десять грошей, так называемые англезы: такие тоненькие, что можно было через них увидеть звезды, но в каждой был спрятан, например, флаг какого-нибудь государства, и эти флаги коллекционировались. Чему-то это, однако, служило – сейчас речь идет о вещах абсолютно ненужных.
Я сам очень любил миниатюрные модели автомобилей. Впрочем, сделать с ними можно было немногое, самое большее – открыть дверцы. Гораздо более желательны игрушки, которые развивают разум, не внушая при этом, как было бы здорово стать старшим коммандос. Помню удовольствие от занятия рукоделием: лобзик, фанера, узоры для вырезания, неисчислимое множество разных деревянных конструкторов. Сегодня все автоматизировано – и при этом изуродовано. Имеешь чудовище, потом второе чудовище, а перед извергающими огонь суперсозданиями, которые рекламирует немецкое телевидение, я и сам бы спрятался под столом. Таким образом, дети проходят школу уродства. Турпизм[203] становится модным.
От своих поисков я так просто не отказался, выспрашивал у продавщиц, где можно найти гусенка. Нигде! А может, есть какая-нибудь мышка или нежный медвежонок, который забормочет, если нажать на живот? У меня была кукла – если ее переворачивали, говорила «мама». Ничего такого нет и в помине. Губная гармошка? Не могу найти. Остались только осколки, заполняющие мою память и воображение, а на их место пришла масса отвратительных покемонов.
Одним из основных элементов моих детских игр был обруч: его катили или подгоняли прутиком; у меня было несколько отличных обручей. Затем: бумажные змеи. Наверное, где-то прячутся, однако я не знаю, где найти магазины для любителей мастерить, это, впрочем, пока еще занятие не для возраста моей внучки и уже не для меня – ведь на восьмидесятом году жизни я не собираюсь опять начать мастерить бумажных змеев.
Первый мой конь состоял из палки с поперечной ручкой и имел плоскую голову, вырезанную из дощечки. Когда же мне подарили настоящего коня-качалку с седлом и хвостом из конского волоса, я обращался к нему «пан» – такой он был прекрасный. Это воспоминание ребенка богатых родителей; довоенная Польша была страной бедной. Однако известно, что дети, даже когда имеют что-то очень простое для игры, вроде пуговиц от плаща мамы или запонок папы, воображением дополняют к этому целые миры. Теперь они получают готовый продукт. Современность показывает некрасивое лицо стандартизации и отбивает охоту к творчеству.
Смотрю в «Карфур»: на детском прилавке лежат мобильные телефоны! Да, телефоны, но для детей. По ним нельзя звонить, но когда нажимается кнопка – они запищат или засветятся. Разумеется, ребенок врастает в мир взрослых, и я понимаю, что отражение этого мира должно до определенной степени оказаться в мире игрушек; однако здесь царствует бесполезный хлам, служащий для того, чтобы дети, как написала пани Олех, топая, плача и крича, вытягивали из папы и мамы денежки. Я не говорю уже о миллионах компьютерных игр, ибо на это вообще не смотрел.
Французский историк Филипп Арьес написал две известные книги: одну о смерти, другую о том, как появлялось детство; на старых картинах дети – это старые малыши, одетые во взрослые одежды. Какие тогда были игрушки – не знаю, об игрушках неандертальских детей, а также мустьерской цивилизации мне тем более ничего не известно. Мне кажется, сегодня целомудрие детства снова находится в опасности. Разумеется, я не имею в виду семилетних девочек, которые толкают перед собой колясочку с маленькой куклой – это обычное и естественное подражание, а действия крупных промышленников, которые заметили, что можно на детях сделать прибыль.
Было бы хорошо, если бы в Польше кто-нибудь решил, что надо населить территорию игрушек, чем-то отличающихся от всех этих ужасов. В Германии действует специальный институт, создающий образцы. Почему у нас никто не считает нужным основать такой институт, хотя бы небольшой? Я купил контейнер, заполненный жидкостью, которая при выдувании должна образовать мыльные пузыри. Пузыри не хотят делаться больше, чем в ванной! Нет ничего качественного, а вывод из этого можно сделать такой: для детей не стоит специально предпринимать усилия. Нет ничего более бессмысленного: если не для детей, то для кого?
Жизнь в вакууме
За свою жизнь я несколько раз переживал особенные моменты: вот одна власть покинула местность, где я жил (то есть Львов), а другая еще не пришла. Паузу между сменяющимися властями заполняет вакуум безвластия.
Первый раз это случилось в сентябре 1939 года: мне тогда едва исполнилось восемнадцать лет, и это стало одним из ужаснейших моих переживаний. Существование Второй Речи Посполитой как государства длилось дольше, чем моя тогдашняя жизнь. Я родился в 1921 году, уже в настоящей Польше, и мне казалось, что это положение незыблемо. Мне не приходило в голову, что польская государственность может оказаться чем-то временным, даже бои с украинцами за Львов или польско-большевистская война представлялись мне только героической легендой – ведь они велись до моего рождения.
Когда возникает вакуум безвластия, тогда так называемые асоциальные элементы – одни называют их общественными отбросами, другие сбродом, еще другие чернью – принимаются разрушать и разворовывать все, что только можно, обращая свое внимание обычно на различные магазины, склады и казармы. Я лично ничего не разбивал и не разворовывал, оставался пассивным наблюдателем этого состояния межгосударственного хаоса. Это как землетрясение для тех, кто к землетрясениям не привык, хотя для живущих в сейсмоактивной зоне землетрясения, к сожалению, периодически оборачиваются катастрофой.
Сначала к Львову подошли немцы, дошли до Лычаковского кладбища, с которого отстреливалась наша полиция. Вскоре немцы отступили, но вступили Советы. Это стало огромным потрясением из-за ужасного отличия советской государственности от польской. Много, много позже, когда я как гость находился в Москве, россияне более или менее внятно пытались мне объяснить, что те, кто вступил тогда во Львов, были разновидностью человеческой пены и не представляли истинную русскость, скорее, советскость. Может и так, я этого не знаю.
Бушующим политическим ураганом обратного направления стало в июле 1941 года неожиданное нападение Германии на СССР. Во Львов немцы вошли в первые дни июля, бои на границе продолжались недолго, несмотря на то что под Львовом находилась большая группировка советских механизированных подразделений, которые довольно успешно оборонялись – но сама оборона была слишком хаотичной. Эта смена власти проходила уже в другой атмосфере, это было как второе землетрясение после первого, и при этом украинское меньшинство населения Львова очень симпатизировало немцам, видя в них надежду на украинскую государственность и рассчитывая на то, что независимая Украина сможет завладеть Львовом.
Что происходило в период между бегством Советов и вступлением немцев? На этот раз вакуума почти не было: едва Советы со своими большими мамонтами-танками, выкрашенными в песочный цвет, дула которых были повернуты на запад, отступили по Грудецкой улице, крича «Давай назад!» (Грудецкую мы потом называли улицей «Давай назад»), тотчас же приехали маленькие как жучки, вороненые немецкие танкетки, и в каждой стоял солдат. Это немного напоминало прыжок без парашюта: раз-два – и наступает полная смена политической системы. В нашей львовской шестикомнатной квартире с кабинетом отца и приемной на Брайеровской, 4, самую лучшую комнату аннексировал сперва энкавэдэшник Смирнов, который оказался также и поэтом: он убежал так быстро, что оставил ворохи тетрадей со стихами, читать которые я не пробовал.
Потом наступило время немецкой оккупации, которая сделала из меня автомеханика в фирме немца Зигфрида Кремина. Это был период внутренних напряжений, поскольку немецкие власти Distrikt Galizien[204] при формировании полиции преимущество дали украинцам. Ввели комендантский час; мы, как работники ремонтных мастерских, принадлежащих немецкой фирме, имели пропуска, потому что порой вынуждены были работать допоздна. Несмотря на это, мы предпочитали ночевать в гараже, а не выходить в город – было известно, что пропуск вместе с удостоверением личности вовсе не является для поляка гарантией неприкосновенности, и украинский полицейский может его попросту застрелить.
Мы были тогда в положении человека, которого многократно выбрасывали на улицу, и после первого раза он уже знал, что может быть второй. Когда я был ребенком, мне и в голову не приходило, что вообще возможна ситуация, в которой кто-то занимает часть нашей квартиры или вообще нас из этой квартиры изгоняет. За все время существования Второй Речи Посполитой полицейские в нашем доме появились только один раз: у одной из пациенток отца украли шубу из приемной и надо было составить протокол. А с сентября 1939 года в доме жили, кто хотел: этот поэт-энкавэдэшник, позже немцы…
Третья смена наступила, когда в июле 1944 года Советская Армия контрманевром окружила Львов и со стороны улицы Зеленой, на которой я тогда жил в семье Подлуских, вошли советские танки. Немцы пытались их какое-то время атаковать, и я чуть не погиб, мне захотелось холодного борща, который стоял на кухне, – однако как-то выжил. Мы убежали на Погулянку, говорили, что ожидается контратака дивизии «SS Galizien», но дивизия где-то около Бродов или Зимней Воды была разбита советской танковой частью.
Во время этого очередного вторжения вновь город оказался в вакууме междувластия. Немецкая артиллерия еще стреляла с Цитадели, а я пешком направился к своим родителям, которые жили в центре, и, несмотря на все, выжил, иначе не мог бы эту историю рассказывать. На улицы вышли тогда патрули Армии крайовой с повязками на рукавах, были они и у Политехники. Пока во Львове находились только советские боевые единицы, ничего не происходило, военные Армии крайовой даже ездили с советскими офицерами в автомобилях – кстати, джипах, присланных американцами в рамках программы ленд-лиза. Однако когда в городе появилось НКВД, аковцы стали исчезать. Отца своего я сам спас от, быть может, больших неприятностей: именно в это время он спускался по лестнице с повязкой врача АК, и я тотчас же его возвратил, ибо люди на улице сказали мне, что наших забирают.
И в этот раз был короткий период, когда можно было стащить то и это. Я сам немного в нем поучаствовал, хотя трудно в моем случае говорить о разбое. На улице Сикстуской находился штаб Вермахта; не знаю уже, как я об этом узнал, поскольку память моя похожа на многокадровую фотопленку, удерживает только отдельные эпизоды, а вот что происходило между кадрами – понятия не имею. Я пошел туда, немцев уже не было, нашел сначала библиотеку. Выбрал из нее немного, хотя несколько книг у меня сохранилось до сих пор, например, сборник материалов со съезда немецких поэтов в 1941 году, славящих NSDAP[205] и Гитлера. Потом мне попался первитин, сильное возбуждающее средство, в форме маленьких таблеток, завернутых в станиоль; я принял их за халву, к которой с детства питал слабость. Также я нашел некоторое количество немецких наград, например, для раненных на фронте. Высших орденов, как Ritterkreuz mit Eichenlaub, Schwerten und Brillanten[206], там не было, однако затерялось несколько Железных крестов, и один я присвоил. Я держал эти награды какое-то время в столе, привез их даже в Краков, где, в конце концов, по совету отца они были отправлены на мусорку. Можно было поискать более ценное добро, например, на некоторых складах, и народ, который обычно пользуется таким случаем, выносил, что мог.
* * *
Почему у меня возникли эти воспоминания? А потому, что когда американцы освобождали Ирак, в первые дни свободы происходило великое разграбление Багдада местным населением. Среди трофеев попадались ценные вещи, телевидение показывало людей, которые выносили даже мебель. Это свидетельствовало, что явление вакуума безвластия, когда могут происходить ужаснейшие вещи, существует всегда и везде, что бы о этом ни говорили, независимо от уровня жизни населения. Представляет оно грустное свидетельство о сущности больших скоплений людей.
Самый общий вывод из этого можно сделать такой, что государство необходимо не только для выполнения обычных функций, таких как забота об инфраструктуре, коммуникациях или законах. Само наличие власти, даже невидимое, но ощущаемое как небо и тучи над головой и закрепленное в сознании, людям явно необходимо для соблюдения правила «не делай ближнему то, что тебе немило». В вакууме безвластия все может случиться, ибо нет никакого прикрытия и защиты.
Прикрытие и защита в довоенной Польше были особенно крепкими, а расслоение общества подчинялось четкой иерархии. Разумеется, мы знали, что существуют безработные, бедняки и нищие, однако только через много лет, уже в Кракове, я получил письмо от одной уже преклонного возраста женщины, в котором она писала, что когда была девочкой, жила в нашем доме на Брайеровской и с большой завистью наблюдала за мной через окно, как в мундире с блестящими пуговицами и шапке с околышком я ежедневно шел в гимназию, ей же пришлось закончить образование на начальной школе. Такого рода стратификация была тогда типичной, при всех раздающихся сегодня криках о страшной нищете – средний уровень доходов сейчас значительно вырос.
Демократизация общества, как правило, увеличивает разрыв. Как ил со дна во взбаламученной воде поднимается все выше, так и различные беззакония выплывают наверх, достигая элит. Государство необходимо нам не только по причинам, о которых писал Маркс с товарищами, называя его инструментом подавления одних классов другими. Оно является нашей охраной и защитой, а когда правительство слабеет и начинаются проблемы с исполнением законодательства, тотчас же развиваются коррупционные процессы.
Был прав венгерский миллионер Сорос, говоря, что слабое демократическое правительство не намного лучше, чем тоталитарное. С той разницей, что настоящее тоталитарное правительство само становится главным разбойником, при слабой же демократии разбой оказывается приватизированным и распространяется широкой волной. Все может быть сфальсифицировано: от молока и сыров, через бензин и моторное масла до аттестатов зрелости и дипломов, не говоря уже о фальсификации денег, ибо это занятие распространено во всех системах.
Когда дважды гасли все огни в Нью-Йорке, происходили многочисленные кражи. Теперь американцы очень радуются, что во время нынешней большой аварии электросети было иначе. После нападения 11 сентября 2001 года Америка очень напряглась и сжалась, ввела ряд строгих мер не только в области визового, но и внутреннего контроля. Я считаю, что использование большого либерализма в этой области (например, в вопросе доносов) могло иметь влияние на поведение людей во время недавней волны неожиданного пропадания электричества.
Таким образом, государство нам необходимо, а его исчезновение, предвещаемое в священных книгах марксизма-ленинизма, это чистейшая утопия, укоренившаяся в сказке о человеке, который naturaliter bonus[207] и разбойничьих наклонностей не проявляет. Я не могу также согласиться с теми, кто считает, что мы должны иметь как можно больше частного и как можно меньше государственного, ибо все уладит невидимая рука рынка. В самых последних номерах «Геральд» я читал, что Франция стоит на пути к ренационализации больших промышленных комплексов, в Соединенных Штатах эта же тема вернулась после упомянутой аварии электросети. Приватизация энергетики привела к тому, что вместо того, чтобы модернизировать эту огромную сеть, годами использовали обычные заплатки. Специалисты предостерегали от аварии, однако никто не был заинтересован в увеличении инвестиций, так как они не принесли бы немедленной прибыли. Нет выгоды – и ничего не делается.
К сожалению, это относится все чаще также и к политике. Надо быть действительно политиком определенного уровня, который смотрит дальше границы своего срока, чтобы осознавать необходимость долгосрочных действий на пользу общества. Во всем мире далеко еще до этого идеального состояния – хотя в неравной степени. Паршивые дела происходят не только тогда, когда один режим сменяет другой, но и когда в самих государствах никто не стремится к райскому состоянию.
Воспоминание о Мечиславе Хойновском
В последний год[208] изучения медицины в уже советском Львове я усиленно и безнадежно писал работу под названием «Теория функции мозга». Непосредственно после репатриации в Кракове в поисках авторитета, который бы оценил ценность моего труда, я попал, не помню уже кем направленный, к доктору Мечиславу Хойновскому. Я застал его озабоченным, поскольку именно тогда его выкидывал из квартиры на улице Шопена советский консул. Однако ко мне он отнесся довольно доброжелательно, и хотя плод моего труда основательно раскритиковал, но вместе с тем, увидев в моих стараниях какую-то искру разума, начал мне интеллектуально покровительствовать. Он получил взамен квартиру на аллее Словацкого, очень близко к Шленской, 3, где я тогда проживал с родителями.
Хойновский, рационалист и правдолюб, проявил немалые организаторские способности, создавая из послеоккупационных остатков краковской интеллигенции Науковедческий лекторий, который вскоре под его руководством начал издавать ежемесячник «Życie Nauki»[209]. Местом для лектория стала его собственная квартира, которую он делил со своей матерью. Сам же Хойновский был варшавянином, осевшим в Кракове после подавления восстания. Он действительно был гением организационной, активной изобретательности, ибо начал обращаться от имени уничтоженной немцами польской науки к зарубежным высшим учебным заведениям, главным образом американским, с просьбой о дарах в виде книг из области истории науки и науковедения, к каким мы в стране вообще не имели доступа. В лекторий Хойновский привлек добровольцев, среди которых я помню почвоведа Коморницкого, юриста Ежи Врублевского, а также магистра Осьвецимского. Между прочим, он устроил на работу секретарем редакции графа Потоцкого, которого никто не решался брать на работу, хотя тот был выпускником Оксфорда.
Это были самые первые годы так называемой «народной власти», и репрессии еще не везде распространились. Только благодаря этому Хойновский начал реализовывать свою программу, целью которой отчасти должно было стать распространение знания Запада, от которого мы были отрезаны во время оккупации. Когда у нас появились российские научные издания, Хойновский взялся за их пересылку университетам, главным образом, в США, а из полученных же оттуда взамен сочинений вскоре собрал значительную научную библиотеку, прежде всего, разумеется, англоязычную. Кроме того, он решил взяться за психометрическое исследование прогресса молодежи, обучающейся в краковском университете, и с этой целью организовал «мастерскую тестов», в которой и я magna pars fui[210]. Кроме того, Хойновский дал мне работу на полставки младшего научного сотрудника, хотя единственным основанием для поступления на эту должность был студенческий билет медицинского факультета.
Хойновский стал моим наставником, так как я должен был под его надзором не только изучать логику по Дубиславу, но одновременно вгрызаться в английский язык, за незнание которого Учитель меня отчитывал. Атмосфера лектория пошла мне на пользу, поскольку Хойновский распространял ауру неподдающейся никакому давлению независимости, что, разумеется, не могло не приводить к конфликтам и столкновениям со стереотипами, навязываемыми нам советским протекторатом. В Польше на территорию научного познания в широко понимаемом смысле советизация вторглась настоящим духовным танком. Там, где это было возможно, Хойновский был готов проявлять некую приспособленческую гибкость, например, порекомендовал мне, когда уже я проводил в ежемесячнике «Życie Nauki» науковедческий обзор прессы, выборочно изложить и в конце концов обсудить то, что было в советской науке здоровым зерном[211]. Однако Хойновский не шел ни на какие соглашения с режимом, благодаря чему наш малотиражный ежемесячник стал в стране, придавленной не только лысенковщиной, последним бастионом критики этого примитивного доктринерства. Зная русский язык, я мог из ведущихся на страницах московской «Правды» дискуссий лысенкистов с так называемыми менделистами-морганистами выделять упорное, хотя слабнущее в контраргументах, сопротивление последних. Однако все усилия моего Учителя провалились, а начало этому провалу дала пани Евгения Крассовская из Министерства науки, спрашивая редакцию, кто осмеливается повторять по-польски отчаянные возражения раздавливаемых Лысенко российских биологов. Хойновский, разумеется, автора статьи не раскрыл[212]. Почти одновременно из Варшавы пришел запрет на запуск психометрической программы, вдохновителем которой был Хойновский, поскольку у народной власти за ним числилось уже очень много смертных грехов. Редакцию «Życie Nauki» у Хойновского отобрали, коллектив разогнали на все четыре стороны, новая версия перенесенного в Варшаву ежемесячника получила уже покорного власти редактора, последним же пристанищем Хойновского стала должность психолога в психиатрическом учреждении в Кобежине.
Тогда наши дороги разошлись. Хойновский не принадлежал к тем, кто по расчету quid pro quo[213] был готов стать членом партии взамен за возможность вступления на путь отечественной научной карьеры. Ему удалось вместе с женой выехать в Мексику. Долгие годы я не имел с ним никакого контакта. Он обратился ко мне примерно только после октябрьской оттепели[214]. Работал он уже в мексиканском Национальном педагогическом университете. Недавно я получили оттуда известие о его смерти. Родившийся в 1909 году, близкий знакомый Виткацы, о котором рассказывал многочисленные анекдоты, он умер на девяносто втором году жизни и был похоронен на чужбине.
Я знаю о нем только то, сколь многим я ему обязан. Хойновский воспитал меня, то есть так установил стрелки направления моего умственного развития, что я не поддался красной паранойе, и в моей памяти до конца моих дней он останется человеком, чуждым каким-либо компромиссам. Не знаю, можно ли что-то более похвальное сказать о судьбе личности в государстве духовного террора.
Так было
1
Часть воспоминаний, которыми я делился в беседах со Станиславом Бересем, опубликовало краковское «Wydawnictwo Literackie», при этом первая часть книги создавалась во времена «Солидарности», еще той, самой ранней, а вторая – во время военного положения, и целая глава этих бесед, касающаяся Польши, полетела к чертям, не осталось у меня ничего ни на бумаге, ни в памяти. Осталось только несколько воспоминаний, что-то вроде моментальных снимков. Как меня чествовали русские в той Москве; Высоцкий, уже тогда ужасно хрипевший бедняга, с порванными голосовыми связками, пел мне «Ничейную Землю»[215] и другие свои песни, и здесь же, совсем нехронологично рядом с Высоцким, видится картина, как на его свежезасыпанной могиле молодые люди ломали и разбивали гитары, картина эта была пронизывающей, ведь Высоцкий стал символом, хотел он этого или нет. Пел мне также Галич, который погиб от удара током уже в парижской квартире, причем в той его частной квартире иногда к его гитаре придвигали снятую с рычагов телефонную трубку, чтобы кто-то в другой московской квартире тоже мог слушать Галича. Пригласили меня даже в Институт высоких температур, и попал я туда только со специальным министерским пропуском, так как в Институте изучали действительно очень высокие температуры, а именно: от атомно-водородных бомб; был это город в городе, строго охраняемый, а я там выступал и отвечал на вопросы ученой публики, настоящая профессия которой осталась тогда мне неизвестной. А когда (холодно уже было) после того выступления кто-то помогал мне надеть пальто, то одновременно с этим конспиративно всунул мне в руку какой-то листок, и там было написано (по-русски, естественно), что этому человеку могу полностью доверять: поручителем его подписался Галич. Пока я ждал машину, этот человек сказал, что после девяти вечера я должен выйти из своей гостиницы («Пекин») на улицу и на углу подождать: больше ничего. Заинтригованный, я сделал так, как мне было сказано, подъехал маленький «запорожец» и остановился около меня, а когда открылась дверца, я увидел, что машина полна людей, куда же я сяду? «Ничево», – сказали мне. Устроившись на чьих-то коленях, во время езды по темным улицам (Москва в тех районах, куда меня везли, отличалась тьмой египетской по ночам) я пару раз поворачивался, чтобы в заднее стекло, уже как польская разновидность Джеймса Бонда, высматривать, не следует ли за нами какая-нибудь другая машина. Мы где-то остановились, через какие-то дворы, в кромешной тьме, по коридорам, крутой лестнице добрались до двери, которая открылась, и меня ослепило ярким светом, а в этой большой комнате вокруг белоснежно накрытого стола сидел цвет советской науки. Конечно, там не было гуманитариев, философов или врачей: исключительно физика, космология, кибернетика, помню, что получил книжку от председателя Эстонской академии наук с каким-то замечательным автографом, у каждого столового прибора с одной стороны лежала пачка американских сигарет, а с другой стояла банка с заграничным (естественно) пивом, а на случай, если я чего-то не понял, кто-то заверил меня, что здесь можно говорить все. Быстро завязался разговор, и именно эти беседы раззадорили меня, рассеяли мои сомнения, стоит ли писать моего «Голема», и так меня воспринимали в роли суперрационалистичного ересиарха-визионера, и так мы там захлебывались полной свободой общения, что я действительно чувствую себя должником той ночной встречи. Как меня потом отвезли в гостиницу, не помню. Некоторые из московских приключений, которые могли быть дозволены цензурой, я описал, разговаривая с Бересем, но рассказать всего не мог. Когда русские изъяли меня из делегации Союза польских писателей и отправили в Ленинград на поезде «Красная стрела», в состав которого входили только спальные вагоны (это та железнодорожная трасса, которая летит абсолютно прямо, и только в одном месте есть дуга, вызванная тем, что царь именно там держал палец на карте, когда чертили план дороги), я оказался в двухместном купе совершенно один, и почти в последнюю минуту перед отправкой появился москаль, у которого не было никакого багажа, вообще ничего. Когда нужно было укладываться в чистую постель, я подумал, что он ляжет спать голым, и тут очередная неожиданность: вместо кальсон на нем были темно-синие спортивные брюки, в них он и лег спать, а проводница постучала утром, когда мы подъезжали к «Северной Венеции», и принесла на подносе бутерброды с красной икрой и грузинский коньяк. Видимо, таким образом начинала день высшая советская элита. Я жил напротив Исакиевского собора в гостиничном номере, напоминающем о жизни предреволюционной аристократии из красочного фильма, а добрая Ариадна Громова, моя переводчица, уже покойная, проживала (сопровождая меня) в маленькой комнатке с простой мебелью в задней части этого салонного реликта гостиничного дела, потому что таким, разноуровневым, был тогда Союз Советских Социалистических Республик. И помню ужин у космонавта Егорова, наш неестественно затянутый разговор, и то, как он, выйдя из машины перед своим большим личным домом (в Москве), снял с «Волги» стеклоочистители и привычным движением, легко и уверенно спрятал их в карман. Помню также, как у меня закончились чернила в шариковой ручке, и я легкомысленно и наивно утром отправился по улицам Москвы, чтобы купить другую ручку, и естественно ничего не нашел, а когда удивленный (потому что глупый) рассказал об этом знакомым, несколько рук протянули мне вынутые из карманов шариковые ручки. Когда позже я долго пребывал в Москве один, то, прежде чем поругаться с Тарковским и вернуться в Краков, остановился в отеле «Варшава» на проспекте Ленина, а еще в Польше мне посоветовали взять с собой баночку растворимого кофе. Оказалось, что это было весьма предусмотрительно. Я получил номер, в котором по коридорчику можно было войти в две большие комнаты, одна с огромным столом и гигантским холодильником «Донбасс», другая – спальная, и в этой «рабочей» стояли (на всякий пожарный случай) два телевизора. В отеле можно было позавтракать, и даже неплохо, сосиски, кофе (но никогда не было ни молока, ни сливок), но довольно скоро я понял, зачем там был нужен холодильник, так как русские нанесли мне еды: кто банку сгущенного молока, кто маленькие и зеленые, как лягушки, яблочки, кто сахар, а в буфете на моем этаже гостиничные постояльцы стояли в очереди перед окошком, из которого потихоньку выдавали булочки и что-то там еще. А я тем временем сидел в комнате, в пижаме, правда, обычно недолго, потому что уже с рассвета начинали надрываться телефоны, размешивая ручкой зубной щетки кофе с водой (кипятильник у меня был свой) и молоком. Или же, когда физики пригласили меня на ужин на Арбат, в московскую современность, и мы сидели в зале столь же огромной, как ангар для дирижаблей, я заказал и ел якобы куропатку, которая была больше курицы (в СССР все, включая и гномов, было, как известно, гигантским), а у меня была назначена встреча с одним ученым из Академии наук в отеле, и я рассказал об этом моим хозяевам. Они успокоили меня, что я наверняка успею к десяти часам (вечера) на такси, потом же, когда после моих настойчивых просьб беседу закончили (до меня доходили отголоски каких-то переговоров с обслуживающим персоналом), оказалось, что о такси не может быть и речи, и физики тщетно бросались под колеса автомобилей, которые безжалостно проезжали мимо нас, так что я добрался до отеля лишь к полуночи с чувством вины за сорванную встречу с ученым. Там же я пережил некоторое потрясение: этот господин весьма приличного возраста сидел на полу перед моим номером на портфеле, который он подложил под себя, и я был вынужден делать вид, что такое ожидание в такой ситуации – это наиобычнейшее явление на свете, и даже неудобно было слишком перед ним извиняться.
Все это, конечно, мелочи, но из них, как из разбитого на кусочки зеркала, выглядывала советская действительность – по крайней мере, ее вершины. Я слышал «смелые» песни в Доме физиков, которые позволяли себе больше, чем было можно. В отель мне принесли первое, «почти горячее» от печатных машин издание «Одного дня…» Солженицына, как символ растрескивания стен неволи. Когда я уезжал в Ленинград, почти в полночь, другие ученые группкой проводили меня на вокзал, а кто-то, не помню кто, через окно вагона протянул мне томик стихов Маяковского – сбереженный как реликвия – дореволюционный, отпечатанный еще старороссийской кириллицей. И я, естественно, не осмелился отказаться от такого дара. Первые космонавты… но об этом, может быть, напишу когда-нибудь в другой раз. Одним словом, я познакомился с какой-то особенной гранью той сомнительно ошлифованной драгоценности, какой был СССР. В Ленинграде я был на званом ужине у одного уже пожилого инженера, автора НФ, который жил с семьей в комнате большой дореволюционной квартиры, поделенной среди неизвестного количества жителей: видя, что по-другому никак не получится, он устроил ужин в кухне, из которой вынесли все, что смогли, осталась лишь раковина литого железа, украшенная орлами, а меня усадили на почетное место спиной к раковине, причем близехонько, поскольку много места занимали расставленные столы, на которых громоздились изысканные рыбные блюда и икра, результат неутомимых поисков всей семьи хозяина. Я как умел делал вид, что прием, на котором почетный гость сидит спиной к раковине, – вещь совершенно нормальная и вполне соответствует европейским обычаям. И опять: все это, конечно, пустяки, но уже из них можно было узнать то и это о быте граждан Страны Советов. Помню также, что острая горчица была в числе того немногого, что удавалось купить, и как я вместе со знакомым зашел в магазин самообслуживания, чтобы приобрести баночку. На улице он спросил, заметил ли я, с каким исключительным почтением принимали меня в этом магазине. Я ничего не заметил. Ну как же, – сказал он, – ведь тебе позволили пройти в зал с портфелем. Оказывается, каждый должен был оставлять портфель у входа при кассе, чтобы ничего не мог украсть. Замечал я и происходящие в стране перемены. Безумно забавным было для меня сталинско-королевское метро, поскольку станция около «Пекина», Маяковская, была украшена огромной мозаикой, сложенной из цветных камешков, которая изображала заседание Политбюро, а когда отдельные члены Политбюро стали исчезать и тем самым должны были кануть в небытие, их места за столом президиума на мозаике заполнили камешки, которые должны были идеально согласовываться с фоном, но это не получилось, и в результате вместо этих канувших в небытие и «примкнувшего к ним», на стене отчетливо виднелись тени иного цвета, совсем как призраки разжалованных особ. Это казалось (похоже, только мне одному) очень смешным. Я мог бы продолжать эти воспоминания, неизбежно чудаческие, и теперь сильно запылившиеся от времени. А все это потому, что под давлением цензуры о советской оборотной стороне бытия в ПНР нельзя было даже пискнуть. Несравнимо более кошмарные, чудовищные вести о том, что творилось за этими, в конце-то концов, невинными явлениями, я мог вычитать в постсоветской прессе. В той периодике, которую по-прежнему присылают почтой мои верные российские читатели, поскольку приобрести какие-либо русские публикации в Польше нынче невозможно.
А жаль. Это в высшей степени ненормальная ситуация, и я боюсь, что никакие выборы и изменения парламентов ничего не изменят в этой изоляции в лучшую сторону.
2
Размываемая временем память моя тускнеет, остались в ней лишь события столь поразительные, как, например, моя встреча с молодежью (в 1963 или 1964 году) в Университете имени Ломоносова, в одном из этих чудовищных колоссов сахарной советской архитектуры. Я стоял на дне огромной воронки амфитеатра, рядом со мной в качестве «адъютанта» стоял профессор Брагинский (специалист по лазерной оптике), а все круги сидений, все проходы между ними, вообще все это пространство было заполнено студентами и студентками: эту встречу организовал университетский комсомол, мне говорили, что там было более двух тысяч людей. Профессор Брагинский после моего короткого выступления приступил к выполнению своих функций. Я не был тогда еще глухим, но там было принято присылать выступающему карточки с вопросами. Может быть, я ошибаюсь, но такая форма увеличивает анонимность спрашивающих, что в том времени и месте могло быть полезным. Брагинский спросил меня, должен ли он пропускать «неудобные» вопросы, на что я ответил, что ни в коем случае: я постараюсь ответить на все записки. Какое-то время все шло нормально, но тут он вручил мне карточку с прямым вопросом: «Разве вы коммунист?» Коммунист ли я? Я решил ответить, что коммунистом не являюсь, и добавить несколько слов о благородных намерениях обеих творцов коммунизма, но после слов: «Нет, я не коммунист» грянул такой шквал аплодисментов – хлопали все – дальнейшие попытки ослабить эффект моей демонстративности не имели смысла. Потом студенчество набежало на деревянное возвышение кафедры, на котором я стоял, и от натиска жаждущих автографов деревянный пол начал угрожающе трещать: тут хладнокровный профессор схватил меня и всунул в небольшую дверцу под огромной доской, в лабораторию, находящуюся в соседнем зале. Там он сварил для нас обоих в лабораторных колбах кофе, однако поговорить с ним о лазерах мне не удалось, а позже я узнал, что комсомол не пришел в восторг от моего выступления. Реакция молодежи уже тогда, тридцать лет назад, заставила меня задуматься, поскольку несомненно была непроизвольной, вот только я так и не смог решить, что именно вызвало это бурное одобрение: или уже тлеющая неприязнь, идиосинкразия к безустанной и вездесущей марксистской индоктринации, или же это был скорее акт положительной оценки моей «отваги». Кавычки здесь весьма к месту, потому что все это сочетание мощного давления, всеобщего доносительства, и одновременно угрозы любой не только карьере, но попросту жизненному пути, да и жизни, наконец, для молодых людей, которые изведали (повторю вслед за канцлером Колем) «милость позднего рождения», уже является или уже становится экзотической стариной, вообще трудной для понимания. Особенно трудной из-за диспропорции, зияющей между мельчайшими отступлениями от официального стандарта доктрины в любом месте, не только в общественном, и мрачными последствиями, которыми грозят такие отступления. Я уверен, что тех студентов лучше всего защищало то, что они находились в скопище людей, поскольку это создает ситуацию некоторой безличной безответственности, сводящей на нет возможность выявления «уклонистов»: ведь это были времена, когда советские психиатры декретировали существование «медицинской бессимптомной шизофрении» для граждан, мыслящих «иначе, чем нужно и можно». Таким отказывали в нормальности и держали в заключении как сумасшедших, и подвергали действию «химических дубин» психиатрической фармакопеи, это были не шутки, а я знал лишь, что на дворе время хрущевской оттепели и что меня как-то защищает невидимая броня заграничного гостя (хотя русские тогда говорили: «Курица не птица, Польша не заграница»). Времена все-таки изменились радикально. Впрочем, все эти увенчания и восторги не вскружили мне голову, ибо я слишком хорошо понимал, какова сила моей «суррогатности» или, точнее, каким суррогатом свободы я выглядел в их глазах из-за того, что в моих книгах есть, и из-за того, чего в них издавна нет (а именно: «приспособленчества»). Таков был янусовский облик моих московских приключений; впрочем, с тех пор как в польской государственной гимназии (во Львове) я выучил украинский язык (который был обязательным), я уже легко втянулся в русский, при этом мне открылось пространство такой поэзии, как пушкинская, которая в оригинале гораздо прекраснее, чем даже лучшие польские переводы – например, Тувима. Тогда же я читал по-русски «Преступление и наказание», мне интересно было непосредственно встретиться с русской, первичной версией этого значительного романа Достоевского.
3
Я мог бы так еще долго вспоминать, и кто знает, не вернусь ли я когда-нибудь к воспоминаниям, о которых умолчал из-за цензуры. Здесь же скажу лишь, как сильно взволновал меня огромный контраст между всевластием КГБ, ГРУ, партии, которая стальной сетью оплетала советское общество, стремясь распространить это на весь наш мир, на многие народы по соседству и вдали, своими агентурами, резидентами, шпионами, «полезными идиотами» – и не менее сокрушительным, прямо-таки моментальным коллапсом, развалом этого здания гигантских планов завоевания планеты и гигантских напряжений, выжимаемых из миллионных коллективов, из пота, крови, человеческих тел, из наилучших умов. Ведь все шло к первому удару, но властям из Политбюро казалось, что сил еще (может быть) недостаточно. Откровением буквально последних дней сентября 1993 года стали данные, оглашенные в самом российском центре бывшей Страны Советов: оказалось, что ядерных боеголовок было произведено в два раза больше, чем сумело насчитать в своих разведках ЦРУ, и более того, для бомб было накоплено не пятьсот тонн обогащенного урана 235, как полагали в Америке, а примерно на тысячу тонн больше! Настоящие горы, Гималаи смерти, все эти натужные старания, гигантские усилия привели наконец к тому, что, как писали в газетах, Советы haben sich selbst totgerstet, то есть довооружили сами себя до смерти. И не только в области экономики, в которой все было подчинено производству смерти: ибо эта продукция оставила колоссальные территории страшных биологических угроз для человека на веки вечные, воды Ледовитого океана, тайга, города, появляющиеся словно из ниоткуда после распада СССР, полные людей, которые специализировались исключительно в направлении плутониево-водородного вооружения, создания мин, бомб, биологического оружия в таких размерах, что тем, кто, выведав что-нибудь, оглашал это на Западе, Запад им не хотел верить! Это был стремительный поток более четверти миллиарда людей, несущихся в трансе, словно неимоверно выросшие лемминги, а сейчас, когда я это пишу, остатки верных неволе, верных смерти окружают в Москве Белый дом, чтобы поддержать остаток находящихся в нем антиреформаторских депутатов, которые вместе со своими сторонниками хотят восстания из мертвых этой и выведенной в космос силы, которая наполняла их, видимо, какой-то коварной радостью, граничащей с наслаждением суперраба, который может измываться, как хочет, над теми, кто подчиняется ему. А мы тем временем, после поражения наших товарищей-панов, клонимся к созданию очередного варианта такого правительства, которое столкнет нас с обрыва в глубину пропасти обещаний, которые невозможно исполнить.
Иоанн Павел II
С Каролем Войтылой я познакомился пятьдесят лет назад в доме моего друга Яна Юзефа Щепанского. Был он там после колядок как обычный пастор, так как еще не имел какого-либо высокого духовного сана. Встреча была случайной и мало что говорящей о личности этого священнослужителя. Позже, когда я начал заниматься прогнозированием, Войтыла, уже как епископ, пригласил меня в свой дворец, чтобы я прочитал лекцию о последствиях эмбарго, введенного производителями нефти. Неважно, что я говорил группе собравшихся ксендзов – речь сейчас идет не о моем мнении о том времени. Однако характерно, что Войтыла уже тогда живо интересовался судьбами мировой цивилизации. Вспоминаю, что потом я был приглашен еще раз, но, к сожалению, не помню, какой была тема моего следующего выступления. Когда после доклада я задержался во дворце епископа, Войтыла показал мне в отдельном помещении модель костела, который должен был быть построен в Новой Гуте. Разумеется, что тогда я не мог даже предположить, что разговариваю с будущим Папой Римским, Иоанном Павлом II. В те времена я бывал частым гостем в редакции католического еженедельника «Тыгодник повшехны», и поэтому знаю, что Войтыла очень положительно оценивал работу редактора издания Туровича. Позже наши дороги разошлись: его широко известная пастырская деятельность сконцентрировалась в Ватикане, распространяясь оттуда на весь мир. Однако то, что это был человек с открытым и восприимчивым умом огромного масштаба, было видно уже тогда, хотя бы принимая во внимание широкий спектр его интересов. Поскольку сегодня практически вся пресса пишет о его заслугах перед людьми и Церковью, то я подумал, что будет к месту, если и я обращусь к своим воспоминаниям, связанным с его личностью. Помню, что в материалах зарубежной прессы на начальном этапе понтификата Иоанна Павла II чувствовалось некое недоверие к нему как к человеку, пришедшему из страны, остающейся под властью коммунистов, но он сумел быстро преодолеть такого рода сомнения и противодействия. К его величию уже ничего добавить нельзя. Он остался Папой, способным к постоянному развитию своих необычайных способностей, и можно быть уверенными, что его наследие не будет забыто[216].
VI Станислав Лем критикует
Сферомахия
Меня огорчило заявление нового президента Соединенных Штатов[217], что прекращенную ранее реализацию стратегической противоракетной обороны он должен обязательно претворить в жизнь. Речь идет о шаге, ведущем к большим технологическим сдвигам, когда после определенного этапа уже нет обратного пути.
Министр обороны Дональд Рамсфельд на конференции в Мюнхене заявил достаточно скептически настроенным представителям НАТО, что удорожание системы противоракетной обороны является американским императивом, и речь идет о конституционной ответственности президента. Пока что дело вращается в сфере риторики, так как еще не привлекались какие-либо финансовые средства, а исследования сводятся к военным играм.
В «Геральд» я прочитал сообщение о такой игре, охватывающей «военные действия во внешнем пространстве», или, проще, – в космосе. В ней принимало участие 250 специалистов. В течение четырех дней две стороны, «красные» и «синие», находились на грани горячей войны. В определенный момент «красные» попытались при помощи неядерного оружия уничтожить военные базы одновременно на Гавайях и на Аляске, чтобы тем самым вывести из строя противоракетную оборону. Затем начали информационную атаку на все американские компьютеры.
Профессионалы были немногословны, когда речь шла о подробностях, но, однако, смогли сделать нужные выводы. В будущей наступательной обороне и нанесении превентивных ударов противнику огромную роль должны играть пока имитируемые вооружения, такие как противоракетный щит и антиспутниковые лазеры, а также космические челноки и другие орбитальные корабли. Г-н Хегстром, который был руководителем этих игр, добавил, что речь идет о ситуации конца 2017 года, когда будет реализовываться то, к чему мы сейчас готовимся; поэтому коснется это другого президента, а не Буша, даже если он будет править два срока.
Прочитав выше написанное, я обратился к своему роману «Фиаско», где написал приблизительно следующее[218]. Если дело доходит до равновесия сторон в конфликте, то какая-нибудь из сторон пытается преодолеть потолок. Потолком предкосмической фазы можно считать состояние, при котором каждая из сторон может как локализовать, так и уничтожить средства противника. В конце этой фазы становятся доступными для уничтожения как баллистические ракеты глобального радиуса действия, размещенные под землей, так и все подвижные стартовые установки на поверхности или даже на плавучих средствах.
В создавшемся таким образом равновесии взаимного поражения самым слабым звеном становится система связи, выведенная в космос спутниками распознавания и слежения, то есть дальней разведки, а ключевой является, очевидно, связь этих спутников со штабами и боевыми средствами. Чтобы и эту систему вывести из-под неожиданного удара, который может разорвать ее или ослепить, создается следующая система на более высоких орбитах. Таким образом, мы имеем вид сферомахии, которая начинает раздуваться. И чем больше становится спутников одной и другой сторон, тем чувствительнее к повреждениям становится их связь с наземными штабами. Штабы пытаются избежать этой угрозы. Как морские острова являются непотопляемыми авианосцами в эру обычных войн, так и ближайшее небесное тело, то есть Луна, может стать неуничтожимой базой для той стороны, которая первой освоит ее в военных целях. Поскольку Луна только одна, то каждая из сторон пытается первой на ней обосноваться.
Единственной стратегически оптимальной реакцией на способность противника прерывать связь является придание собственным вооружениям в космосе все большей боевой автономии. Возникает ситуация, при которой все штабы осознают бесполезность централизованных командных операций. Равновесие становится все более шатким: если однажды случится прямой конфликт между спутниками, которые будут ослеплены или уничтожены, то, как пламя во время степного пожара, он перебросится на саму планету.
Здесь действует так называемый эффект зеркала. Одна сторона причиняет другой какой-нибудь вред, нарушая ее связь, и в обмен получает аналогичный ответ. После состязания в точности и мощности баллистических ракет наступает борьба за сохранение связи. Первое было накоплением средств разрушения и только угрозой их применения. Вторая – это война связи, или информационная. Битвы за нарушение связи являются реальными, хотя не влекут за собой ни разрушений, ни кровавых жертв.
Таким образом, вначале мы имеем порог для лобового столкновения сил на планете, а следующая фаза – милитаризация космоса. Наиболее важная вещь: от этого вида состязания с определенного момента уже не получится отказаться.
Обратимся к реалиям. Во времена Клинтона уже делались попытки создания противоракетной обороны, две были неудачными, третьей повезло больше, но не без обмана. Пока нет ни технических средств, ни проектных решений, ни денег – это даже не размахивание сабелькой, а, скорее, удары ложкой по кастрюле. Уже во времена президентства Рейгана специалисты признали попытки сбивать большое количество ракет ракетами же безнадежным делом. Совсем недавно стали говорить, что у американцев имеется гигантский наземный лазер. Но проблема в том, что на Земле его применению мешает поглощающее воздействие атмосферы. Как объективная стратегическая необходимость напрашивается выведение лазеронесущих спутников на околоземную орбиту. Со стационарной орбиты с расстояния в 36 тысяч километров можно успешно наблюдать так называемую фазу boost[219]: старт ракеты, когда выбрасываемое пламя наибольшее. Поражение лазером тогда возможно, но оно могло бы касаться небольшого количества одновременно стартующих ракет.
Количество ракет, которыми в 2017 году смогут располагать такие государства, как Северная Корея или Китай, – совершенно не подлежит подсчету. Потенциальные противники не будут ведь сидеть сложа руки и ждать американской милости. Кроме этого, боеголовки можно имитировать, и сторона, отражающая атаку, не сможет убедиться в том, что речь идет о бутафории, кроме как поражая ее. И, таким образом, быстро израсходует свой оборонительный потенциал.
Затраты, которые потянут за собой преодоление потолка, о котором я писал в своем романе, громадные. Не может быть и речи, чтобы противник, мнимый или реальный, вел себя как игрок в покер, который не обязан перебивать ставку, потому что всегда может встать из-за стола. Здесь встать из-за стола не удастся, неизбежно наступает эскалация силы, которую трудно удержать. Совершенно неизвестно, как можно выйти из гонки, когда на орбиту уже выведены спутники. Теоретически, конечно, возможно изменение соотношения сил на мировой арене, контрреволюция в Китае и так далее, но это уже обстоятельства, не предсказуемые ни с политической, ни с военной стороны.
Как президент, так и почтенный старик Рамсфельд, прекрасная леди Кондолиза Райс, а также генерал Пауэлл согласованно утверждают, что идея великолепна. Единственный голос разума, который я пока обнаружил, был голосом американского читателя «Геральд». В письме в редакцию он признал всю эту идею бессмысленной, ее результаты будут обратно пропорциональны многим сотням миллиардов долларов, выброшенных в болото. Действительно, речь идет об инвестициях порядка сотен миллиардов долларов, и если они будут напрасны, то это будет ужасно. В это же время кто-то злорадно написал: представим себе человека, который приезжает в Соединенные Штаты с чемоданчиком, содержащим несколько десятков пробирок с вирусами. Ему совершенно не нужно попадать ракетами в Капитолий, достаточно запустить содержимое пробирок в вашингтонскую систему водообеспечения.
Со сферомахии необходимо сойти на Землю. Различные варианты реализации так называемой стратегической оборонной инициативы США уже многократно анализировались на страницах научных и специальных американских периодических изданий. Все эти попытки и проекты выявляли бесполезность такой концепции.
Единственный смысл, который может быть в ее реализации – это вынудить вероятных противников США участвовать в самоубийственном соперничестве в наращивании ракетно-спутникового потенциала. Такое соперничество принесло уже результаты в виде ослабления потенциала СССР, внесло вклад в его распад. Всякое возобновление такой гонки будет неслыханно дорогим для всех антагонистов, а воплощение в жизнь поговорки «пока толстый сохнет, худой сдохнет» может привести мир к непредсказуемо опасной ситуации. Поэтому козырем против названных Рамсфельдом конституционных обязанностей президента является максима: impossibilium nulla obligatio[220].
Крайний идиотизм
Долгий период мне приходилось ограничивать время, посвящаемое чтению, сейчас же – благодаря прогрессу в медицине – я восстановил зрение и мне рекомендовано разбавлять чтение просмотром телепередач. Об его прогрессирующей кретинизации я упоминал уже многократно, но недавно благодаря спутниковой антенне посмотрел американский фильм под названием «Последний динозавр»[221], который вынуждает меня вернуться к этой теме. Хотя я иногда случайно смотрел отрывки различных глупостей в сериалах, от этого динозавра я как бы получил палкой по лбу. История заслуживает краткого пересказа.
Ученые в белоснежных комбинезонах, собранные в мигающей индикаторами лаборатории, планируют экспедицию в Антарктику на подводной лодке. Экипажем руководит солидный пожилой человек, который в преддверии встречи с динозавром дает профессору слово чести, что никакого вреда скотине не причинит. В его команде идут: один негр, один достаточно красивый шатен и одна привлекательная блондинка (ни один американский фильм не может обойтись без блондинок). Их транспортное средство выныривает из-подо льдов на Южном полюсе, где – как знает каждый ребенок – простирается тропическая пустыня и тучами летают птерозавры. Блондинка фотографирует каждый кустик и каждый след стопы чудовища вида пресмыкающихся, которое вскоре появляется из зарослей. Руководитель экспедиции, забыв о клятвах, стреляет в него, теряет карабин, блондинка падает в лужу, негр тоже, а Tyrannosaurus rex подходит к ним на двух ногах – поскольку больше не имеет – с угрожающими намерениями.
Кроме того, почему-то в жаркой саванне появляется стадо почти голых австралопитеков, то есть пралюдей, в длинных черных париках и разукрашенных чертовским образом какой-то мазью. В этом месте у меня начала появляться уверенность, что весь сценарий придумал один из этих австралопитеков, другие же помогли ему в съемках фильма. Экспедиция убегает и возвращается. Руководитель, лишенный огнестрельного оружия, сооружает нечто вроде римской баллисты напротив пещеры, в которой снова должен появиться тиранозавр. Кроме связи с американской базой, ломается все. Питекантропы атакуют экспедицию, но шеф делает арбалет и стреляет в наступающих человекообезьян перистыми стрелами, которые предоставил ему сообразительный режиссер. Человекообезьяны убегают, связь с базой устанавливается, баллиста не попадает камнем в тиранозавра. Блондинка с шатеном отплывают, изобретательность сценариста повелевает усатому руководителю экспедиции, который полностью ее загубил, в наказание остаться в джунглях вместе с заслуживающей доверия самкой человекообезьяны.
Не веря собственным вылеченным глазам, я смотрел этот ужасный бред и решил сделать все, что возможно, чтобы такие безвкусные образцы глупости, вместе с блондинками и шатенами, больше не нарушали моих уже тающих остатков веры в старую добрую поговорку: «Человек – это звучит гордо».
Самое удивительное, что идеями, в несколько тысяч раз менее кретинскими, можно сыпать как горох из мешка. Тем временем мне уже разъяснили, что в фильмах мотивация каких-либо действий сводятся к контрабанде наркотиков, взломам крепко защищенных сейфов, атакам на незнакомых и известных лиц из политической элиты несуществующих государств, а также и к обычным убийствам с использованием пистолетов с глушителями по причине либо абсолютно невероятной, либо безо всякой причины – кроме естественной необходимости кассовых сборов. Если же добавить к этому всему способ, каким нам эти Гималаи глупостей подают, то есть рекламную нарезку, каждый может с легкостью показать, где у него от этой рекламы в мозгу образовались мозоли.
В особенности майонезы, супы с настоящими клецками, пудинги, как реликвии поднимаемые танцующими старушками, большие старые медведи, борющиеся за туалетную бумагу, а также полная очарования молодая девица, которая гримасами дает нам понять, что она каждый раз приближается к оргазму при использовании такой бумаги, дополняют и, наконец, совершенствуют чары счастья, за которые мы благодарны современнейшей технологии самых идиотских передач со спутниковых орбит в новом столетии.
Впрочем, я предпочел бы провалиться под землю, чем рассказывать еще что-либо о том, что совершают Cупермен и его коллега Человек-паук. Я начинаю догадываться, что зеленые человечки действительно существуют и что это они до тех пор будут оглуплять человечество, пока оно покорно позволяет себя сожрать.
Упадок искусства
Мне кажется странным, что распалась эта устойчивая последовательность, в какой шествовали друг за другом эпохи парадигм во всех видах искусств. Обычно знатоки соглашаются, что мы живем в период декаданса, ведущего к упадку высоко ценимых ранее способностей и вкусов. Все глубже мы погружаемся в скопления смердящего мусора, повсеместность которого столь абсолютна, как будто бы за ним стоит какая-то сила, принуждающая к уважению всего, что нам приволокут, нарисуют, расскажут или изваяют из каких-то мерзких ошметок лица, считающиеся людьми искусства. Добавим к этому еще секс, кровь, фрагменты трупов, руины и выражения, означающие бессмыслицу. В области изобразительного искусства нет, говоря без обиняков, такой гадости, такой мерзости, такой зловонной рвоты, которую бы не размещали на выставках, не воспроизводили и не восторгались ею, если и не искренне, то изображая восхищение, пусть и несколько критическое.
Я, конечно, не утверждаю, что человеческие уродства, унижения, увечья или муки не были объектами искусства прошлых веков. Однако, как правило, в подтексте этих показов крылась оскорбленная гуманность, к примеру, как в известном собрании картин Гойи, посвященных изображению военных зверств. Однако никогда так выразительно и так настойчиво, как сейчас, художники не демонстрировали нам человеческие извращения исключительно затем, чтобы вызвать шок. Прошу учесть, что если викторианская эпоха, очень старательно прикрывая человеческую телесную наготу, за кулисами стыдливо прятала от общественности свою распущенность, то сейчас нет уже ничего, никаких границ, никаких тормозов, какие художник мог бы чувствовать или, по крайней мере, принимать во внимание, выставляя на суд общественности свое произведение.
Необычайно трудно представить себе радикальную смену этого фасада, настолько бесстыдного, что все патологические формы органической жизни украшаются и демонстрируются нам как достойные сосредоточенного размышления. Дошло уже до такого соперничества нечистот, что каждая разновидность тупости находит знатоков и пьедестал. Делая наброски фигур ужасных калек, Брейгель, однако, надеялся выразить беспомощное сожаление по поводу столь униженного человеческого существования. Сейчас в цене уже не прекрасные нагие женщины, а голые дряблые старухи, скрученные ревматизмом, которых можно увидеть на соответствующих страницах прекрасно издаваемых публикаций.
При этом поражает возросшая нехватка действий, каких-то усилий, направленных на предотвращение этого немалого по своим размерам нигилистического направления. Возмутиться, выразить свое отвращение, отказать в праве выставить на публичный показ просто неудобно, как будто бы это невозможно. Признаюсь честно, что я не понимаю ни этих безобразий, ни совершенно бесплодных дискуссий с теми, кто их представляет, и вынужден таиться с убеждением, что дальнейшее развитие, а скорей продвижение в глубину канализации для поиска еще неизвестных, не показанных выделений, не только наполняет меня безучастностью, но заставляет также отвернуться от такого искусства. Это уже даже не история платья голого короля. Для меня это только смерть эстетики и движение в никуда.
Лично мне по понятным причинам ближе всего искусство, выражаемое словом. В конце XX века стал также виден и его распад. Я не считаю, что Роберт Музиль случайно оставил нам «Человека без свойств» в виде обрывков и фрагментов. Измученный в прошлом году чтением английской версии «Радуги гравитации» Томаса Пинчона, осознавая собственное несовершенство в понимании его оригинального текста, я взялся за чтение польского перевода и увяз в нем не на шутку. Нескладность, причудливость, мешанина как основа композиции отвратили меня от этой книги, пользующейся ведь какой-то популярностью.
В последнем номере «Шпигель» Марсель Райх-Раницкий направил против Музиля осадную пушку и разнес его самое известное произведение. Но в свою очередь этого немецкого отца литературной критики настигло прошлое, засвидетельствованное в польских архивах управления безопасности. Это не умаляет самой уничижительной рецензии, но создает впечатление, что критик с нехорошим прошлым бросился на нехорошее, ибо незаконченное, литературное сочинение. В литературе мы живем в потоке слов, и все трудней выловить из него тексты, значащие больше, чем притязания авторов на пантеон муз, очень напоминающий подтопленные клозеты больших городов.
Сайентология
Большинство палеоантропологов отождествляют доисторическое формирование человека, известного нам сейчас как Homo sapiens sapiens (в противоположность к Homo sapiens neanderthalensis[222], который был нетождественным нам видом, но ТАКЖЕ создавал зачатки культуры), с ранним голоценом, 140–180 тысяч лет назад[223], когда пралюди стали радикально отличаться от животных тем, что хоронили своих умерших в гробах (nota bene иногда воздушных – на вершинах деревьев). А поскольку вскоре они стали класть в гробы умершим различные виды пищи, орудия, иногда ценное имущество, а затем объекты сакрального типа, не используемые на практике, то можно сделать вывод, который представляется нам очевидным, что смерть они считали не окончательным прекращением бытия, а переходом в какую-то иную форму продолжения – загробную.
Около 70 тысяч лет назад (хронологические данные здесь в высшей степени условные) возникло несколько сотен верований, а может быть, и тысяч, поскольку в этой области палеогенезиса легко ошибиться. Так, например, много говорилось и до сих пор говорится о «кладбищах слонов», на которых находят скопление скелетов, слышно было и о кладбищах самых больших млекопитающих – китообразных, но в настоящее время их возникновение не связывают с обдуманной деятельностью тех или иных животных, скорее, это результат природных явлений (речные наносы, морские течения и т. п.). Я не намерен углубляться в подробности этого раздела танатологии, потому что это слишком увело бы нас от содержания данного очерка, обозначенного в заглавии. Большое количество приверженцев веры с устоявшейся содержательной формой, особенно догматической, а также в виде литургии, с незапамятных времен распадались на отдельные группы. При этом терминология или номенклатура, определяющая суть конфессии, преимущественно была двойственной. Каждый «отводок» веры был с точки «центрального стебля» или «пня» неким видом ереси, которая иногда попросту угасала, а иногда обретала самостоятельность в виде «отдельного вероисповедания». Так, Римская Церковь не считает сектой православие, и отношение это симметрично, то есть православие не относится к католицизму как к секте. Насколько я знаю, в исламе сунниты также не считают шиитов сектантами, хотя я могу и ошибаться в этом вопросе, довольно далеком от моих интересов.
В интересующем нас в данный момент вопросе: откуда взялась, чем является и к чему стремится рожденная в Северной Америке и активно проникающая в Старый Свет так называемая сайентология, можно ответить весьма точно обо всем, что касается ее появления и развития. Несравненно труднее получить ответ на вопросы: ЧТО именно вызывает потребность в рождении новой секты и ЧТО обеспечивает устойчивость такой секты. Тут возможны самые разные варианты.
История возникновения сайентологии интересна тем, что показывает: по крайней мере в наши времена секта не обязательно появляется из набора отклонений от установленной догматики большой веры, то есть не является незаконным МЕНТАЛЬНЫМ потомком. Получилось так, что Лафайетт Рональд Хаббард в первой половине XX века писал беллетристические произведения научной фантастики и «открыл» как бы предсайентологическую личинку в виде ДИАНЕТИКИ, которая в ранней фазе вовсе не предъявляла притязаний на статус РЕЛИГИОЗНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ. Впрочем, следует добавить, что такое появление из сферы сначала художественного фантазирования не было в США явлением ни единичным, ни исключительным. Их было много, и складывались они в виде различных пара– или псевдонаук. Перечень этих убеждений, выдающих себя за «инновации в науке», можно найти в довольно старой книге Мартина Гарднера «In the Name of Science»[224]. Кроме хаббардовской дианетики, он упоминает там, например, «Общую семантику» Кожибского, различные «Медицинские культы», оргономию и ряд иных псевдонаучных школ и направлений: Гарднер насчитал их в своей книге 26.
В религиозное вероисповедание «Дианетика» превращалась постепенно и была настолько подобна в своем механизме развития возникшей в Корее секте Муна, что быстро «научилась» высасывать значительные материальные средства из растущего круга приверженцев. На пути от псевдонаучной «школы», поначалу несколько напоминающей ранний психоанализ, секта вынуждена была вести и выигрывать судебные процессы за признание ее религией именно в США, поскольку такое публично установленное признание предоставляет движению множество прерогатив, наиболее существенной из которых является уход от налогового пресса Internal Revenue Service[225]. Как известно, в Соединенных Штатах, где царствует «First Amendment»[226] к Конституции и одновременно существует много вероисповеданий, которые являются различными дериватами христианства, множество сосуществующих религиозных общин и церквей считается совершенно нормальным явлением, так что единожды получившая привилегии секта может использовать их со значительной выгодой и значительной финансовой пользой. В последнее время получил широкую огласку тот факт, что в Германии сайентологию обвинили – и не безосновательно, о чем сообщают даже американские источники, – в том, что это движение обольщает и порабощает своих последователей, используя сильнодействующие психотехнические приемы, причем воздействующие не только на психику. Фактом является то, что в США пытаются сайентологов защищать, а в Европе – уже и в Италии, они встречают административные препятствия, слежку и даже (как утверждают они сами) преследование за веру.
Возможно, существует единый костяк сайентологической догматики, который, впрочем, как и во многих других сектантских движениях американского происхождения, имеет псевдонаучное начало. Этот гибрид науки (Science) и религии, ведущий свой род от дианетики (производное от греческого слова «мысль»), Хаббард описывает так:
«Создание дианетики – вот краеугольный камень для Человека, сравнимый с открытием огня и превосходящий по значимости изобретения колеса и лука…» А далее можно прочитать: «Был открыт тайный источник всех психосоматических заболеваний и найдены способы их надежного лечения».
Завершая главу, посвященную дианетике и ее сектантски расцветшему ответвлению – сайентологии, Гарднер язвительно пишет: «Джон Кэмпбелл-младший (известный редактор НФ. – С.Л.), который был посвящен в тайны дианетики, когда сам Хаббард взялся лечить его воспаление пазух носа (sinusitis), и который поддержал распространение доктрины во всем мире, по-прежнему страдает от этого воспаления».
По-американски, volenti non fit injuria[227], то есть, каждый имеет право верить во что пожелает. Сайентология учреждает так называемых «аудиторов», которым приверженцы движения поверяют свои заботы, болячки и – особенно богатые – финансовые средства, позволяющие размещать в прессе огромные, дорогие объявления, в которых делятся своими ощущениями личности, безгранично восхищенные и даже осчастливленные (естественно, также и вылеченные от всех болезней) принадлежностью к секте. Те же, кто вышел из секты или даже сбежал, в своих отзывах сообщают о менее прекрасных подробностях функционирования. Следует также понимать, что сегодня всем правят деньги, а сайентологи являются членами очень богатой секты. Следует также помнить и о том, что сект сегодня – легион, и что появляются среди них такие, главной религиозной задачей которых является совершение массовых самоубийств, после которых якобы можно попасть в «лучший мир». Недавно группа таких самоубийц тщательно подготовилась к тому, чтобы после массовой смерти «перенестись» на борт выдуманного космического корабля, несущегося вслед за кометой Хейла-Боппа, которая вращается вокруг Солнца. Для пишущего эти слова скорее странно, что наш земной космический корабль, хоть и несет на себе значительное количество совершенно безумных людей, все-таки сумел сотворить на своих «бортах» цивилизацию, которая еще не готова совершить технически совершенное самоубийство.
Я не ответил еще на свой второй, сложный вопрос о причинах возникновения сект, а также о их устойчивой «плодовитости» под крылышком великих религий. Мне кажется, что распределение сектантской «урожайности» на исторической временной оси не совсем равномерно: лучше всего, на мой взгляд, хотя и с некоторыми конфессиональными ограничениями, изложил эти вопросы Лешек Колаковский в своей работе «Религиозное сознание и церковные узы». Не знаю, согласен ли автор по-прежнему с главной мыслью этого труда, как и со своим утверждением, что «религия – это способ, которым человек принимает свою жизнь как неизбежное поражение». Для меня эта мысль – очевидность, сопутствующая нашему виду с тех пор, как он осознал свою неминуемую смертность. Чтобы как-то ее обезопасить, придумали различные потусторонние миры, а в наше материалистическое время те, кто может себе это позволить, соглашаются замораживать себя после смерти в жидком азоте, в надежде, что будущие технологии позволят их разморозить и воскресить. Правда, пока они еще не объединяются в сектантские группы, но, коль скоро нам не угрожает конец света, можем немного подождать и такой вариант сект.
Быть может, все вышесказанное кого-то удивит, поскольку здесь нет даже краткого изложения доктрины, объединяющей сайентологов. Однако представление этой доктрины представляется мне делом совершенно несущественным. В общем и несколько метафорически можно сказать, что сайентология, как и психоанализ, по ехидному изречению, – это болезнь, которая выдает себя за терапию. Если же отбросить метафору, то суть в том, что содержание доктрины такого рода представляется наивно глупым для среднего рационального человека, она сложена из клочков различных предрассудков, в которые и сегодня (может быть, особенно теперь) верит так много людей, из «конфессиональных отходов», так что представляет некий бриколаж, склеенный и раскрашенный лозунгом НАУКА для того, чтобы вызывать доверие.
Рассмотрение множества различных сект показывает, впрочем, что для притягательности важна не столько их сущность, сколько способ подачи, реклама и авторитет больших зданий и уютных кабинетов, в которых кандидатов подвергают психологическому тренингу или, грубо говоря, подготовительной обработке. Люди анонимных толп жаждут общности, понимания их забот и потому могут так легко, как мухи на клейкую ленту, прилипнуть к обещаниям, умело подкрепленным комфортом. Больше всего об этом говорит тот факт, что в Германии уже созданы специальные контактные телефоны для тех, кто, разочаровавшись, порой болезненно, пытается оставить сайентологов, от чего секта старается их удержать просьбами – а скорее, уговорами – и угрозами. Для многих покидающих ее наконец остается воспоминание о духовном порабощении, но есть и такие, кому сайентологического ésprit de corps[228] может не хватать. Чтобы процветать, сайентология активно использует технику рекламы, поддерживаемой большими деньгами, и сам этот щедрый размах может вызывать, особенно сейчас, в эпоху Мамоны, некоторое уважение. Впрочем, quod capita, tot sensus[229]. Я видел в немецких журналах письма читателей, называющих жестокой сектой и Римскую Церковь. Недуги нашего времени в любом случае не являются чем-то только лишь внушенным: сейчас легко потеряться, легко соскользнуть в наркоманию, в различные экстремальные заблуждения (не только в культуре), а потому это время, когда ЛЮБАЯ МОДНАЯ ВЕРА может стать убежищем. То, за какую цену, – каждый решает сам. Ясно лишь, что ее нельзя оценить в валюте по коммерческому рыночному курсу.
Исключительно особое мнение
Я хотел бы решительно указать на принципиальную разницу во взглядах между мной и придерживающимися догматов последователями римско-католической церкви, потому что опасаюсь, что может возникнуть ошибочное представление, будто бы я согласен со всем, что «Tygodnik Powszechny» публикует как католическое издание[230].
Поэтому важнейшие различия в убеждениях я привожу не как активный приверженец атеизма, а как натуралист, ориентирующийся в нашем мире в границах, установленных основными законами научного мировоззрения.
Я считаю, во-первых, что пренатальное исследование, то есть получение из околоплодного пузыря беременной женщины отдельных клеток и определение исходя из этого вероятности рождения неполноценного ребенка, например с синдромом Дауна, абсолютно обязательно, и возможно даже более обязательно, чем имплантация старикам, сломавшим бедренную кость, титанового протеза[231], поскольку или мы используем все возможности медицины, служащие здоровому образу жизни, или уступаем из-за оппортунизма догматам, противоречащим нашим самым современным знаниям.
В связи с этим, во-вторых, я считаю, что допущение возможности рождения детей, которые должны всю жизнь – в общем-то короткую – терпеть увечья и страдания, это преступление, если есть возможность это предотвратить путем искусственного аборта или современных методов профилактики. И речь вовсе не идет о том, чтобы обязать общество поддерживать увечную жизнь неполноценных, как недавно писала об этом в «Tygodnik Powszechny» пани Хеннелова. Осмелюсь на первое место ставить благо человека, а не общества. Сегодня мы знаем, что не милость божья, а генно-хромосомная составляющая определяет результаты беременности.
Согласно доктрине церкви, супружеские отношения могут быть допустимы только с целью зачатия ребенка. Из этого следует, что каждая пара имеет право только на короткие копуляции между беременностями. Предписанные при этом церковью «натуральные методы» определения периодов, благоприятных для зачатия, архаичны и всегда неточны.
Далее я считаю, что каждый, кто по каким-то принципиальным, личным причинам жаждет закончить свою жизнь, должен иметь на это право[232].
Я также считаю, что во всех случаях рецидивного убийства общество имеет право и должно применять смертную казнь[233].
Я считаю запрет клонирования людей правильным, но, к сожалению, безрезультатным, потому что такова судьба большинства законодательно устанавливаемых запретов[234].
Кроме того, я считаю, что сегодня, в эпоху безумного секса, промискуитета, торжествующих извращений, виртуальных кровавых игр, следует вводить в общественную жизнь насколько возможно безболезненные методы контроля таких отклонений. Очевидно также, что я осуждаю наши, особенно заметные в последнее время, национальные недостатки: оппортунизм, ханжество, авантюризм, жадность к деньгам, всеобщую безнаказанность, коррупцию, склочничество[235].
Тайное совещание в аду
Только сейчас стало известно («Шпигель» и «Штерн» к этому не имеют отношения), что примерно десять лет назад проходило пленарное заседание Политбюро ада, на котором обсуждалось будущее. По слухам, в некоторые орудия пыток были удачно вмонтированы, а после включены, подслушивающие устройства, ввезенные контрабандой ангелами. Некоторые говорят об одном двойном агенте, который замаскировался под черта. Настоящая стенограмма впервые в этом столетии стала доступной общественности.
«Присутствующие: Велиал, Вельзевул, офицер дьявольского генерального штаба Астарот и Люцифер в качестве секретаря. Дополнительно приглашенные эксперты и специалисты: инферналисты, инфернаторы, инфернеры[236] и главный ответственный за распространение дьявольских идей во Вселенной обер-фюрер ада Тойфельсдрек[237], он же Assa foetida[238]. Заседание открыл председательствующий Астарот:
– Мои жареные господа! Сперва у меня есть неприятная новость, особенно фатальная для преисподней: через десять лет империя зла ослабеет!
Голоса из зала:
– Что значит ослабеет?
– Речь идет об Америке?
– О Советском Союзе, тупые вы черти!
Астарот:
– Совершенно верно! Милый, добрый, то есть ужасный Советский Союз распадется!
– А нельзя ли этому противодействовать? Все же это было бы печально!
– Конечно! Мы должны немедленно улучшить его положение, то есть ухудшить!
– Тихо! Не все так плохо, как кажется! Гибель империи даст нам много хорошего, то есть плохого!
– Как так? Не глупости ли вы говорите? Может быть, нам стоило бы вытащить Ленина из серной сидячей ванны и пригласить на обсуждение?
– Позвольте, пожалуйста, человеку дальше жариться на вечном огне! Конец Советского Союза принесет нам большое счастье, большое земное несчастье, я хотел сказать. Вначале начнется всеобщий хаос в Европе, Африке и Америке! Только в Африке несколько миллионов негров станут жертвами голода!
– Превосходно! Но что если ООН организует воздушные мосты для гуманитарной помощи…
– Самолеты будут сбиты.
– Кем? Нашей дьявольской зенитной артиллерией?
– Вы душевнобольной! Разве вы не знаете, что согласно конкордату нам запрещено непосредственное вмешательство? Голодающие сделают нашу работу сами.
– Прекрасно! Зло должно победить!
– Но это еще не все. В Югославии, да что я говорю, везде начнутся гражданские войны… К тому же колебание валюты потрясет все европейское пространство! Фунт попадет под удар, и…
– Невероятно, что вы нам тут рассказываете!
– Да, но вы черт или просто идиот?
– Выставьте его вон!
– Господа черти, дайте же мне высказаться! То, что я до сих пор говорил о Европе, США, России, Югославии, распаде Чехословакии, – просто ничто в сравнении с главным: нашей победой и триумфом над всеми отрядами ангелов! А именно операция «Буря в пустыне» закончится для США полным провалом, который их президент хотя и переименует в победу, но из которого наш человек в Багдаде, милый истребитель народа Саддам, выйдет с высоко поднятой головой. И это еще не все! Десерт у меня готов в виде вот этого строго секретного плана.
– Что это? Мяч? Футбольный мяч?
– И это, стало быть, главные действующие лица, с которыми я должен управлять преисподней! Круглые дураки! Это вирус, гениально разработанный нашими инферналистами и экспертами в области эпидемий. Стопроцентная смертность и отсутствие защиты для людей, потому что он распространяется во время секса. Муки в течение десяти лет! Зараженные будут передавать вирус неумышленно или – следуя дьявольскому принципу желания зла – умышленно. А сейчас черед цветка, розы нашей победы…
– Ура, мы победим!
– Заткнись! Итак, скажите же нам наконец, что это…
– Римская католическая церковь будет нашим главным союзником в глобальном распространении пандемии!
– Не может быть! Это вы рассказывайте своим детям! Церковь – спаситель преисподней? Слишком красиво, чтобы быть правдой! В это я не могу поверить!
– Кто это был? Велиал? Вы неизлечимый скептик относительно всего хорошего, то есть плохого. Конечно, церковь, то есть ее высокопоставленные лица, не будут лично помогать в роли носителей вируса. Так как вирус передается исключительно половым путем, то презервативы могут…
– Минуточку! А лекарства против вируса?
– Их не будет! Наши генные инженеры-терминаторы-инферналисты занимались также всевозможными прививками. В этом столетии таких не будет! Гарантировано! Итак, я возвращаюсь назад к церкви. Рим будет строжайше запрещать презервативы любого вида, объяснять, что их использование – это большой грех, и таким образом активно нам помогать! Через десять лет должно быть до десяти миллионов зараженных, которые впоследствии умрут от СПИДа, в 2000 году – уже почти сто миллионов, и жители Земли не смогут остановить этот рост, потому что число зараженных увеличивается во время сексуальных контактов…
– Это все правда?
– Вышвырните этого дурака! Что здесь делает этот неграмотный черт?
Гул голосов в зале.
– Закройте рот и слушайте дальше! Здесь преисподняя, а не бордель! Итак, мои дорогие черти, из плохого вырастет только хорошее и красивое, я хотел сказать безобразное. А сейчас черед известия, которое станет венцом, будет последним шагом к победе…
– Хайль!
– Что он говорит?
– Совершенно верно! Германия на пороге возрождения нацизма, и, чтобы его ускорить, правительство почти не будет что-либо делать! Пироманы, поджигатели, убийцы, растлители детей, мучители женщин обливаются полицией тепловатой водой, немного разгоняются, и если уж кого-то и арестовывают, то через два часа снова освобождают. Это создает чудесное настроение и приносит радость нашим почетным гостям ада: Гитлеру, Геббельсу, Герингу…
– А ООН?
– А право на жизнь?
– А немецкая демократия?
– Видимость и обман, ночь и туман, мои дорогие коллеги! Все раскрошится, превратится в пыль…
– Но возможно, дело дойдет до приказа о боевых действиях или тюремном заключении?
– Не смеши меня! Ни до чего дело не дойдет. Итак: эпидемия вируса, гражданские войны, ненависть к иностранцам, смерть от голода, массы беженцев, новое переселение народов, все хорошо полито большим количеством крови и подано на телевидении как развлечение на досуге. И мы уже больше не стоим только на каком-то одном земном плацдарме, скоро все рухнет в Европе, а затем во всем мире! Трижды ура победе, грязи и огню, мои жареные господа! Да здравствует зло, ура! А сейчас я прошу господ Велиала и Вельзевула ненадолго еще остаться.
Астарот договаривается о тайной встрече с папским послом, чтобы все окончательно закрепить. Всемирное зло – «операция СПИД» – стартовало. Прощайте, то есть черт с вами!»
VII Станислав Лем советует
Беспокойство
Над политическими намерениями Путина ломают себе головы все, в Америке и Европе, потому что о них, собственно говоря, ничего не известно.
Конкретная информация или хотя бы намеки заменяются либо догадками, зачастую внутренне противоречивыми, либо, самое большее, рассказами о его биографии, со ссылками на мнения прежних коллег или сотрудников КГБ. Все довольно беспомощно повторяют: «У него нет ни политической, ни экономической программы!» Да, но за ним россияне, объединенные выборами и настроениями. И это вызывает беспокойство.
Иногда можно услышать – я считаю это наполовину мифом, – что на исходе Советов в КГБ существовали две группировки: одна более либеральная, склонная если и не к мягкости, то по крайней мере к сдержанности, сформировавшаяся вокруг Андропова, и вторая, более жесткая. Путин должен был бы происходить из тех, более мягких. Свою популярность он приобрел довольно неожиданно, на развалинах Грозного и всей Чечни. Война стала для него установкой для запуска на политическую орбиту. Приказ об уничтожении «чеченских террористов», а также его полеты к руинам чеченской столицы, надевание и снимание шлема пилота истребителя очень помогли ему на старте. Значительное число россиян издавна компенсировали отсутствие личной свободы и благосостояния осознанием, что они являются частью империи.
Восхождение Путина началось не только запуском чеченской кампании, но также указом, делающим Ельцина и его семью неприкосновенными, вместе со всем, что они успели поглотить, присвоить и вывезти из России. Это нехороший старт, и он не вызывает особого доверия. Мы знаем также о его работе в качестве резидента КГБ в Германской Демократической Республике; это было очень интересное место, где можно было научиться всему – кроме того, чем является демократия.
Люди разумные, такие как госпожа Мадлен Олбрайт, говорят: «Посмотрим, что Путин сделает сейчас». А слова его были довольно складными и, кажется, указывали не на самое плохое направление. Другим для его одобрения достаточно самого факта, что он выступил против Зюганова, то есть против так называемых настоящих коммунистов. Достаточно благоразумия демонстрирует в своих высказываниях Клинтон: он дал понять, что было бы желательно, чтобы Путин двигал Россию к демократии и сближению с Западом, но без излишнего энтузиазма. Клинтон, однако, находится уже на закате своего президентства. Ситуация, при которой только месяцы отделяют правящего президента от несомненного ухода с поста, всегда отмечена некоторой неуверенностью и политической неустойчивостью. В контексте перемен в России это не есть хорошо.
* * *
Что Путин думает о вопросах экономики? Осмелюсь сказать, что ничего не думает, поскольку абсолютно не знает, что в этой области сделать. Его таинственность – это молчание незнания, а не затаивание изготовившегося к прыжку тигра. Ситуация в России – а политика здесь переплетается с экономикой, – как все знают, невеселая. Совокупный национальный доход по сравнению с последними советскими годами (а они не были самыми лучшими) упал более чем на 30 %. К тому же средняя продолжительность жизни мужчин составляет сегодня 58 лет, и россиян уже менее 150 миллионов.
Группа российских плутократов, которые не совсем легально приобрели в собственность большую часть приносящих быструю прибыль секторов российской экономики, неожиданно почувствовала тревогу, почти как доктор Франкенштейн (напомню, что – вопреки распространенному мнению – Франкенштейн это не тот страшный труп, а доктор, который труп оживил). Кое-кто из них явно начал опасаться: а не потерпят ли они при новом руководстве материальный убыток?
Попытка затоптать то, что тлеет в Чечне (а тлеет все время изрядно, как торфяники, которые в 1970-х годах закоптили дымом всю Москву), будет занимать россиян в течение долгого времени. Некоторые утверждают, что партизанская война может длиться годами. Сейчас, на глазах всего мира, труднее истребить целый народ, чем в сталинские годы. Это надо сделать шито-крыто. А сепаратистские тенденции появляются и на других территориях; исламо-мусульманское население кавказских регионов, хоть и густо прослоенное россиянами, имеет большое желание обрести самостоятельность, и, очевидно, центр будет вынужден приложить огромные усилия для противостояния этим процессам.
Это сопровождается не слишком еще явной склонностью получить, что только возможно, для возрождаемой империи. Никто еще открыто не сказал, что Россия стремится к возврату, например, Украины, а это было бы большим шагом к усилению опасности, грозящей нашей стране.
Я узнаю, что в честь Путина один из постсоветских подводных кораблей запустил трансконтинентальную ракету, разумеется, без атомной боеголовки. Такой символический жест должен иметь для нас значение. Мои слова не имеют силы и не способны дать реальный эффект, пусть даже и появятся бог знает на каких страницах, но я хотел бы, чтобы в нашем обществе исчезли убеждения, согласно которым самыми страшными вредителями для Польши являются души давно убитых евреев… Следовало бы немного поинтересоваться тем, что делается за нашей восточной границей, которая небезосновательно называется «восточной стеной»; это всегда означало место, за которым дальше нет уже ничего, головой об стену.
Соседей мы не поменяем, а Польша расположена – это досадно – между двумя вулканами: немецким на западе и российским на востоке. Российский вулкан тихо булькает, немецкий счастливо погас, его кратер мертв, хотя вместе с тем со стороны Германии мы не должны уже ожидать никаких особых привилегий, как в эпоху Коля. Наоборот, немцы проявляют большую готовность, чтобы нас не замечать. Эта готовность вызывает ассоциацию с Рапалло[239], пока только in potentia, но щупальца, протягиваемые немецкими политиками в сторону Москвы, явно заметны. Социал-демократ Шредер очень хотел бы немного разлюбить Польшу и больше полюбить Россию.
При этом видны различия между тем, что говорят политики или их глашатаи, которые очень заинтересованы в задабривании и заискивании перед Россией, и тоном немецкой прессы; мы найдем там много мягкой, но однозначной обеспокоенности. Путин ведь почти сразу после серого офицера КГБ стал президентом, а тот факт, что в выборах он выступил против коммунистической партии, еще ни о чем не говорит. Однако когда в мировой прессе, и особенно в западноевропейской, высказываются мнения по поводу Путина и его отношения к Западу, создается впечатление, будто Россия на довольно широком фронте граничит непосредственно с Германией и будто ничего такого, как Польша, не существует вообще. Эта ситуация не может быть приятной для 40-миллионного государства. Неуместно, конечно, было бы упоминание слов Молотова об «уродливом детище Версальского договора»[240] – ничего особенного нам пока не угрожает, однако существуют рычаги давления, которые Россия может использовать, и ничто не указывает на то, что Путин является особым сторонником договоров и сотрудничества с нами, хотя бы только в области экономики.
Сегодня главной задачей разобщенного польского политического общества не должны быть поиски повода, чтобы напомнить россиянам их вину по отношению к нам, хотя об этой вине забывать не следует. Политическое будущее следует обдумывать, рассматривая стратегические сценарии с наихудшим результатом. Прекрасная погода не требует специальных приготовлений с нашей стороны, однако могут случиться бури. Мы должны действовать осторожно, продолжать экономическое сотрудничество и одновременно по мере возможности обретать независимость, прежде всего в области поставок энергоносителей, главным образом газа.
Знаю, что это прозвучит со скрипом, но я выражаю свое личное убеждение: несмотря на то, что инициатива людей, которые создали журнал «Новая Польша», и несомненно благородное усилие Ежи Помяновского как главного редактора очень почетны и достойны уважения, однако этот журнал направлен к той части интеллектуальной элиты России, которая имеет сегодня такое же микроскопическое влияние на политическую ситуацию, как и польская творческая элита.
Путинская уже Россия празднует триумф абсолютной победы над «террористами», хотя и омрачаемой продолжающейся чеченской партизанской войной. Польша плохо воспринимается в центре и на периферии России, поскольку мы осмеливаемся симпатизировать чеченцам. Такие порывы, как призыв к прекращению чеченской войны, направленный в декабре 1999 года Чеславом Милошем, Виславой Шимборской и некоторыми другими лицами[241], были восприняты у нас как политическая акция с заслуживающим доверие определенным весом. Зато я считаю, что период, когда такие манифестации могли иметь какое-либо значение, давно прошел. Кстати, попытку популяризации кандидатуры Олеховского на должность президента, предпринятую группой представителей отечественной интеллектуально-креативной верхушки, я также считаю недоразумением – это духовное отступление, по меньшей мере к 1970-м годам, когда такого рода декларации имели какой-то политический вес. Впрочем, воззвание по вопросу Чечни я сам подписал из чувства долга, однако я сказал по телефону Милошу, что, по моему убеждению, эта акция даже не петушиного веса. Безвозвратно минула эпоха магической веры в силу слова, произнесенного вопреки цензурно-политическим правилам.
Во всех странах, которые выбрались из-под протектората или колониального советского влияния, явно выражено желание отмежеваться от прошлого. Не только в Польше раздаются голоса, чтобы все, связанное с коммунизмом, выжечь каленым железом. Однако откуда-то мы знаем, что и в Западной Европе до сих пор существуют и действуют легальные коммунистические движения, а значит, они пользуются определенной поддержкой. В российской Думе коммунисты, правда, потеряли абсолютное большинство, но сильная коммунистическая фракция по-прежнему существует.
В политике разрыв между словом и делом – нормальное и, к сожалению, основополагающее явление. Внутриполитические усилия не должны быть сегодня направлены на то, чтобы губить Квасьневского, тем более что свыше 70 % поляков хотят избрать его повторно. Боюсь, что и я за него проголосую, поскольку лучшего кандидата не вижу, и, несмотря на все его несомненные пороки и недостатки, ему может быть легче – от имени Польши, разумеется, и в ее интересах – договориться даже не столько с Путиным, сколько с командой, которую он поддерживает; известно, что она будет состоять из людей, отобранных из резерва КГБ. Я не считаю Квасьневского магическим заклинателем, который россиян под Путиным сумеет умилостивить, но думаю, что если кто-то что-нибудь сделать здесь сумеет, то скорее он, чем кто-нибудь другой.
Итог того, что Путин унаследовал от Ельцина, не вызывает опасения в ближайшем будущем. Ничего страшного они нам сделать в данный момент не могут, но тенденция кажется нездоровой. Трудно надеяться, что Россия будет нам содействовать. У меня там множество друзей, поэтому неприятно это говорить, тем более что российскую культуру и науку я очень уважаю, но они являются только шестеренками в огромном механизме. Этот механизм, правда, сильно разбалансированный, но к его восстановлению, усилению и сплочению команда Путина будет понемногу стремиться, применяя даже жесткие меры.
На Западе заметно явное желание помогать и поддерживать Россию. Она должна была бы совершить что-нибудь намного более страшное, чем уничтожение целого кавказского народа, чтобы от этой линии отступили. Существуют также и другие территории: мы не знаем, какие отношения сложатся у путинской России с коммунистическим Китаем. Итак, ситуация с разных сторон ненадежная. Это прозвучит неприятно, но хаос в России был нам более на руку, чем попытки более четкого руководства этой страной.
На Востоке не появилась какая-то особенная посткоммунистическая формация, мы скорее наблюдаем запоздалую постцарскую икоту. Не время для усиления антикоммунистических нападок, что совсем не значит, что надо полюбить коммуну или посткоммуну. Важнее всего то, что будет хорошо для Польши, а не то, что хорошо для движения «Солидарность» и Союза демократических сил. К сожалению, я вынужден согласиться с Каролем Модзелевским, который сказал недавно, что ориентация движения «Солидарность» является по сути дела исторической: они едут в будущее, оглядываясь назад.
Мы не должны опасаться резких и неожиданных ухудшений нашего статуса суверенности, но также недостаточно опираться всем своим весом на нашу принадлежность к НАТО. Я не призываю, чтобы каждый снимал сейчас со стены алебарду, шпагу и меч, но не следует закрывать глаза на беспокоящие факты[242].
Ухабы цивилизации
I
Книга, которая, насколько я знаю, еще не написана, может стать объемным трудом под названием «Технология как несчастье человечества». О пользе, которую технологические достижения принесли нам, особенно в последние столетия, сказано довольно много. Также множество текстов, леденящих кровь в жилах, специалисты посвятили представлению опасностей и катастроф, вызываемых применением плодов технологии в военных целях. Значительно меньше (а возможно, больших нет вообще) появилось трудов, посвященных обратной стороне тех технологий, которые принесли людям особенно много пользы.
Как правило, появление новых технологий воспринимается как луч света. Энергия из природных источников должна заменить тяжелый труд людей и животных. Всевозможные виды транспорта, начиная с железнодорожного, потом автомобильного и уподобляемого птицам в воздухе, должны были уменьшать, облегчать и смягчать всеобщие трудности и проблемы. Однако чем более массовыми становилось распространение новых технологий, тем более явственно проявлялась их обратная сторона.
Моторизация разрушает пейзажи, отравляет атмосферу, проблемой стала парковка автомобилей, самолеты начинают сталкиваться в воздухе по причине нынешней частоты полетов. Благодаря объединенным усилиям работающих сегодня на нашей планете технологий температура на Земле изменилась так, что воздушные потоки, ураганы неимоверной силы, и огромные высохшие пространства, начали беспокоить людей, хотя еще век назад им это было неизвестно. Все больше новых вредных последствий обнаруживается даже в действии лечебных средств, которые должны бороться с болезнями и поддерживать здоровье.
Существует в некоторой степени отдельный тип технологий, которые я назвал бы предельными, как, например, высвобождение атомной энергии или освобождение людей от вековечной власти гравитации. Возможными стали и испепеление жизни на Земле, совершаемое человеческой рукой, и космонавтика, приводящая к другим планетам нашей системы. Впрочем, упоминание о ядерной угрозе бессмысленно, так как этим заполнены все библиотеки. Тривиальны также попытки описать возможные смертельные последствия удобных со многих сторон путешествий самолетами. Но в последнее время мы узнали и о том, что пользующиеся воздушным транспортом люди подвергаются усиленному и вредному воздействию космических лучей.
Кроме этого, особым образом проявились результаты всеобщего ускорения, вызванного развитием технологий. Эпидемию СПИДа, многие десятилетия тлевшую на нашей планете, вследствие быстро развивающейся транспортной связи между континентами рассеяли по территории всего земного шара. Одним из самых больших (и наиболее громко рекламируемых) достижений конца прошедшего столетия явилась всеобщая доступность информации и необычайно простой способ ее передачи, а опасные стороны этого стали выявляться только теперь. Американские средства массовой информации в виде особого мазохизма информируют нас не только о том, как сети типа Интернета уже способны отравить нам жизнь, но также и о том, каким ужасным способом они будут способны поражать цивилизацию по желанию террористов.
Отдельно можно написать книгу, посвященную технологиям, некогда разработанным, и даже детально, но никогда не реализованным. Приблизительно девяносто лет тому назад уже были придуманы прототипы современных средств передвижения только на одном рельсе, причем не благодаря присущему велосипедистам умению удерживать равновесие, а вследствие оборудования вагонов беспрерывно вращающимися гироскопами. Было даже подсчитано, сколь значительно сократятся издержки железнодорожного транспорта в результате перехода на одноколейку. Другим, также глубоко проработанным проектом, были городские дороги в виде транспортеров, движущихся непрерывным образом параллельно один другому, при этом с перрона следовало вступить на медленно движущийся транспортер, с него перейти на следующий, движущийся в два раза быстрее, и эти действия можно было бы продолжать на следующих транспортерах. Ненадежность как гироскопов, так и быстроходных транспортеров очевидна, и эти изобретения повлекли бы за собой жертвы, которых, по счастью, нам удалось избежать.
Возможно, совершенно отдельной книгой должна стать энциклопедия чудесных и выдуманных технологий, которая, уверен, могла бы стать томом значительного объема. Технический прогресс принес нам много пользы, не меньше вреда, нулевой же баланс фигурирует исключительно при суммировании прибылей и потерь для технологий придуманных, но так никогда и не реализованных.
II. Маги и шарлатаны
В английском еженедельнике «Нью саентист» есть рубрика, в которой люди из мира науки, интересующиеся объяснением природы различных явлений, задают вопросы. В следующих номерах журнала появляются научные ответы. Одним из многих был вопрос, почему смазанные гренки падают на пол всегда стороной с маслом. Эта дилемма разделила ученых на два лагеря: одни утверждали, что частота падения гренка на одну и другую сторону одинакова. Они выдвигали смелую концепцию, почерпнутую не из физики, а из психологии, согласно которой падение гренка масляной стороной вызывает у того, кто имел намерение его съесть, больше неприятных эмоций. Будто бы в памяти сохраняются только эти раздражающие случаи. В то же время нашлись ученые, которые склонялись, однако, к мысли, что масло на гренке при падении подвержено особому риску. Лично я не имел никогда намерения вступать в область этого спора, но был готов предложить простой эксперимент. Следует приготовить сто смазанных маслом гренок и ронять их с высоты столешницы на пол. До этого опыта дело не дошло, потому что он, вероятно, считается пустяком, недостойным усилий.
Значительно большее значение имели заключения советской науки, среди которых назову здесь только четыре. Во-первых, Трофим Лысенко во времена, когда генетика, а именно то, что гены являются носителями наследственности, была уже хорошо известна, назвал эту науку буржуазной ложью, поскольку считал, что наследственность следует подвергать серьезным воздействиям, то есть так долго ее трясти, пока, например, из зерен яровых хлебов не получатся озимые. Потери экономики в сельском хозяйстве Советов после попыток применения лысенковщины, которая пользовалась поддержкой Сталина, составили, как говорят, миллиарды. В свою очередь Ольга Лепешинская открыла, что ванночки для ног в воде с добавлением соды продлевают жизнь. К сожалению, мировая наука также и этот важный факт полностью недооценила. Следующим кандидатом в ряду возвышенных Сталиным ученых был человек, который изобрел калориферы. Это были, однако, не такие обычные калориферы, которые есть в наших квартирах, а сконструированные на странном, науке до сих пор не известном, явлении, ибо они не только не требовали подачи подогретой воды, а наоборот, такую достаточно горячую воду сами себе готовили. Последним ученым, о котором стоит здесь хотя бы в двух словах вспомнить, был открыватель неизвестного до сих пор состояния обычной воды в капиллярах, или узких стеклянных трубочках. Это явление исследовалось в лабораториях соседних стран очень долго, и оказалось, что странное состояние воде этого гидролога придали небольшие количества мусора, который распространялся, видимо, в его лаборатории. Несмотря на это, российская наука имеет на своем счету настоящие достижения, представляемые в ежемесячнике «Природа» Российской академии наук.
Следует признать, что наука на Западе, особенно в последние десятилетия, также вынуждена заботиться о самоочищении от ложных новаторских открытий, вроде так называемой «холодной ядерной реакции» в стакане воды. Число таких сообщений растет, поскольку в мире увеличивается количество людей, а тем самым – ученых, и, следовательно, также лиц, жаждущих известности.
Несколько десятилетий назад мне казалось, что явления, называемые паранормальными, такие как телепатия или ясновидение, окончательно похоронены. Однако в последнее время я опять читаю об ясновидящих и телепатах, поскольку велика человеческая склонность к магическим идеям, о чем, впрочем, сообщают нам бестселлеровские успехи школы волшебства, выдуманной госпожой Роулинг.
До сих пор не проведено ни одного эксперимента, в котором какое-либо паранормальное явление было бы доказано. Сорок лет назад я публично предлагал провести простой опыт[243], основанный на том, что под герметично запечатанным стеклянным колпаком, каким часто накрываются сыры, помещается вертикальная кварцевая струна тоньше волоса с прилепленным к ней маленьким кусочком зеркальца. Это приспособление известно физикам как так называемый гальванометр Эйнтховена. Оно служит для измерения чрезвычайно слабого тока, а действует так, что световой луч, направленный в зеркальце, отражается от него и светлым пятнышком падает на белую стену. Я предлагал, чтобы батальон или полк телекинетических атлетов, сидя напротив этого устройства, объединенным усилием мыслей привел зеркальце на струне к минимальному отклонению, подтверждаемому путешествием светового пятнышка по стене. К сожалению, ни по этой идее, ни по другим попыток научной верификации не было сделано.
III. Авантюристы
Меня всегда поражало, в какой степени человеческая подлость и коварство проникли в область точных наук. Я не имею в виду теории или гипотезы, опубликованные без злого умысла, или проще говоря – недоразумения и ошибки, засоряющие научную среду. Я думаю, скорее, о своеобразном, полном задора и коварства остервенении, с которым множество людей, принимаемых за ученых, занималось чисто фальсификаторской деятельностью.
Во времена, когда особенно модными были гипотезы относительно внеземных существ, якобы обожающих посещать нашу планету, имели место случаи, свидетельствующие об умышленно злостных намерениях. Например, в 1970-е годы научным экспертам был предъявлен труп пришельца со звезд. С большим трудом удалось его идентифицировать как размоченный и покрашенный в зеленый цвет плод обезьяны. В те времена журналы всего мира кишели фотографиями, а также вручную сделанными рисунками замеченных над Землей неопознанных летающих объектов, называемых НЛО. Трудно было отличить горячих приверженцев посещений Земли звездными гостями от циничных мошенников, наживающихся на этой вере. Проблема усугублялась еще тем, что бредящие, одержимые или только подвергающиеся оптическим иллюзиям люди сами честно верили в то, что они наблюдали НЛО. Зато обманщики приложили немало усилий в изготовление фотографий и описаний того, что якобы спустилось на Землю.
Радиус действия этой мании велик и вовсе не берет начало от известного в среде палеоантропологов так называемого черепа из Пилтдауна, который один знаток остеологии сделал, используя для этой цели кусочки человеческого черепа и нижней челюсти, значительно более старой, чем череп, при этом в своей работе он был столь искусен, что подлинность этих несчастных останков была опровергнута только после тщательнейших анализов. Абсолютно же свежим, найденным якобы в последнее время, стал артефакт – будто бы скелет нашего животного предка, являющийся промежуточным звеном эволюции между пресмыкающимися и птицами. Комбинация основывалась на соединении фрагментов кости динозавра с кусочком деформированного птичьего скелета.
Все это – собранное вместе – поистине богатая коллекция, которая подтверждает, что – среди людей, выдающих себя за ученых, – хватает обычных жуликов, любой ценой жаждущих известности и славы. История физики и особенно биологии изобилует такими прецедентами, когда бывает затруднительно отличить дурные намерения от хороших. Так, например, немецкий ученый Петтенкофер, получив пробирку с раствором, полным бактерий холеры, от их открывателя, проглотил все содержимое, поскольку считал, что эти бактерии (вибрионы) vibrio cholerae не опасны. И действительно, с ним ничего не случилось потому, что он проглотил бактерии из пробирки натощак и соляная кислота желудка обезвредила все микробы. Совсем иной была история биолога по фамилии Каммерер, который вопреки Дарвину верил в наследование приобретенных черт в соответствии с концепцией Ламарка. Саламандры, на которых он проводил опыты, действительно демонстрировали в последующих поколениях пятнистость шкуры, якобы унаследованную от более раннего поколения. Ученый, однако, оказался дискредитирован, потому что якобы подлинные узоры оказались нанесены красками и их можно было смыть. Я уже не помню подробности дела Каммерера, который покончил жизнь самоубийством, но позднее выяснилось, что несчастный сам никакого обмана не замышлял, а саламандр тайком ретушировал его сотрудник. Особые проблемы возникают у исследователей, занятых раскопками в области археологии, потому что здесь нет недостатка в любителях фальсификаций, выдающих разнообразнейшие фрагменты треснувшей старой посуды и проржавевших железок за подлинники, которые должны стать свидетельством древних культур.
Я пишу здесь о доказанных случаях обмана в области точных наук, хотя, разумеется, значительно чаще мы имеем дело с фальсификациями в сфере изящных искусств. В свое время много шума наделал некий Ван Меегерен, который прекрасно подделывал художественную манеру Вермеера, многие подделки даже продал Герингу, после войны же попал в связи с этим за решетку. Оригинальность манеры письма, которой отличался Вермеер, он отлично имитировал и если бы подписывал картины собственной фамилией, наверняка стал бы пользующимся успехом художником. В последние дни марта текущего года я прочитал, что два известных полотна Гойи являются подделками. Одно из них – знаменитый портрет так называемого «Колосса»; доказательства, похоже, неопровержимые. Я считаю, что пригодилось бы издание «Большой энциклопедии подделок».
IV. Книги, которые я не напишу
1. «Светлое будущее, или выкрасить и выбросить». Речь идет о реализации таких проектов, которые объединенное человечество могло бы претворить в жизнь для всеобщего блага. Но так как о каком-либо объединении человечества, разделенного на нации, de facto ненавидящих другие по признакам веры, традиций, цвета кожи и т. д., – нет и речи, эти проекты останутся лишь на бумаге. Как, например, проект управления климатом посредством размещенных на стационарных околоземных орбитах зеркальных листов, которые (управляемые с Земли) позволяли бы рассеивать циклонные вихри, разогревать гиперборейский холод, прояснять вечные ночи полярной зимы и т. п. То, что технически возможно, невозможно из-за разрозненности вида homo, и именно поэтому писать обо всем этом не стоит.
2. «Будущее философии и философия будущего». Тема сложная, особенно изобилующая ловушками в первой части. Писать можно, но не стоит, так как никто не станет читать.
3. «Человек – это звучит страшно». Объяснять название уже давно не нужно. Parerga a paralipomena[244] представляли бы отдельные наброски такого действительно разумного, а не самопровозглашенного таковым единственным вида, который всемогущий Творец из первородной плазмы мог бы создать, если бы захотел, но не создал, так как его не было. Несуществующий труд, в кожаном переплете in quarto[245]. Там же подробное описание атрибутов «четвертого шимпанзе»[246].
4. «Будущее, или Упадок». И так понятно, ничего больше говорить не нужно.
5. «Посткапитализм». Идея о том, что капитализм будет вечен, так как без видов на прибыль никто с места не сдвинется, в этом труде опровергнута раз и навсегда, и хотя труд никогда не будет написан, на стенах будущих пост-Содома и пост-Гоморры такая надпись будет сиять золотом (во всяком случае, должна).
6. «Куда бежать?» Малое руководство по бегству из этого мира, потому что в нем скоро невозможно будет выдержать.
7. «Почему не все женщины красивы?» Это эволюционистское исследование, объективное, раскрывающее таинства естественного сексуального отбора, которыми являются случайные libido[247], действия в спешке и всеобщая неразборчивость в половых связях, с учетом новейших направлений и тенденций в унижающей нас биологии.
8. «Параллельная последовательность». Окончательное выяснение, почему мозг должен работать параллельно, чтобы то, что с его помощью артикулируется, было (как произносимая или записываемая речь) последовательным, и почему то, что происходит при половом соединении двух геномов, – параллельно, но одновременно и последовательно. А кому этих правдивых примеров недостаточно, пусть купит себе губку для обмывания тела холодной водой.
Синтетическое топливо
Три недели назад в еженедельнике «Тыгодник повшехны» я опубликовал статью под заглавием «Хватит жаловаться»[248]. В ней я предлагал в условиях сокращающихся мировых запасов нефти вернуться к производству синтетических углеводородов методом, подобным тому, который немцы применяли во время последней мировой войны. Статья была опубликована, но абсолютно проигнорирована, чего, впрочем, и следовало ожидать. Несколько дней тому назад, 4 октября, в «Интернэшнл геральд трибюн» появилась статья Швейцера под заглавием «Иное черное золото». Автор пишет, что синтетические углеводороды уже производились на экпериментальных предприятиях в США в 1930-е годы. Было произведено тогда свыше миллиона баррелей синтетического газолина, но нефтяная промышленность не рекомендовала правительству продолжать производство, потому что стоимость барреля была около 35 долларов. Сейчас цена нефти приближается к 70 долларам, поэтому, даже учитывая инфляцию, стоит вернуться к концепции производства искусственного бензина. Тем более что он не требует никакой переделки существующих двигателей внутреннего сгорания.
Автор текста в «Геральд» говорит, что речь идет о новом и реальном решении проблемы истощающихся запасов нефти, и, кроме того, это создает благоприятную ситуацию полной независимости от арабских поставщиков, объединенных в ОПЕК. Если же кто-нибудь в нашей стране решит заняться этой проблемой, очень прошу обратить внимание на то, что этот вопрос первым осветил я. Можно, кстати, добавить, что полное игнорирование одинокого голоса не обязательно результат вмешательства цензуры как бюрократической инстанции. Как оказывается, достаточно, чтобы новая и оригинальная тема не была поднята в массовых или электронных СМИ. То есть речь идет о явлении так называемой рассредоточенной цензуры, отказывающей в голосе каждому, кто ей не нравится, ибо не получил официальную поддержку.
При этом автор упомянутой статьи указывает на объем залежей угля на территории Соединенных Штатов, который специалисты оценивают в размере около 150 миллиардов тонн. Я убежден, что к теме производства синтетической нефти вернутся или в Америке, или в Европе – если только могучее нефтяное лобби снова не окажется сильнее здравого рассудка.
Атомы для Польши
В Германию из Франции время от времени прибывает товарный поезд с отходами атомных реакторов. Уже много лет противники использования атомной энергии впадают по этому случаю в истерию и каждый раз пытаются заблокировать проезд этого транспорта, что иногда имеет фатальные последствия. В прошлом году погиб молодой человек, который приковал себя к железнодорожным путям: поезд отрезал ему обе ноги.
Страх перед ужасными последствиями радиоактивного излучения ядерных отходов оказывается, однако, иррациональным: бóльшую угрозу представляют авантюры экологов. Устройство, подобное атомному реактору, функционировало на Земле уже два миллиарда лет тому назад, и возникло оно силой природы. То, что особо должно нас интересовать – это долговременные последствия работы этих естественных реакторов. Мощность атомного реактора, обнаруженного в африканском Габоне, была относительно невелика (порядка сотни киловатт), но эту мощность следует умножить на два миллиарда лет. Несмотря на столь долгий срок практически не обнаружено каких-либо вредных последствий для его биологического окружения.
Я считаю, что в Польше мы должны как можно быстрее начать строительство атомного энергетического центра с применением новейших технологий и средств безопасности. Одним из первых в нашей стране я уже писал о необходимости добиться независимости от поставок российского топлива, используя синтез углеводородов из угля, поэтому предполагаю, что вышеприведенные слова о необходимости запуска нашей атомной программы также не будут услышаны. Однако слова эти следует непрестанно повторять, имея в виду известную поговорку: «Монастырь долговечней настоятеля». Президентство Качиньского уйдет в историю, но необходимость нашего энергетического суверенитета не исчезнет. После газового конфликта между Россией и Украиной Западная Европа проснулась, как говорят, с рукой в ночном горшке. Сегодня проще говорить о диверсификации поставки топлива, чем действовать в пользу польской экономической независимости. Возможно, в Любуском воеводстве обнаружат запасы нефти, но они рано или поздно будут исчерпаны, в отличие от нашего энергетического голода, который будет постоянно расти.
Доктрина и практика
Политический совет, который следовало бы дать панам Качиньским[249], по сути сводится к предположению, что все, что им приходит в голову, реализовывать не стоит, в то время как множество отложенных, не начатых проектов требует срочно обратить на них внимание. Деятельность этих близнецов, которые украли Луну[250], больше напоминает дилетантство и характеризуется двумя существенными моментами. Во-первых, они не располагают большой командой компетентных специалистов, способных решать трудные задачи, стоящие перед Польшей. Приход в правительство людей Леппера[251] и Гертыха[252] – в немалой степени это значит передать бразды правления Польшей кому попало. Это даст о себе знать в ближайший год[253]. Вспоминается интервью с Лешеком Колаковским, опубликованное в русскоязычном журнале «Новая Польша», в котором он справедливо выливает помои на помощников Качиньских из «Лиги польских семей» и «Самообороны»[254].
Вторым, возможно наиболее фатальным недостатком политики, которую проводят близнецы, является их непробиваемая уверенность в своей безошибочности, благодаря чему в их политических решениях не заметно ни крупицы саморефлексии. Очень старая пословица гласит, что Бог, желая наказать человека, вначале лишает его разума. Без тени сомнения могу сказать, что невероятная наивность, присущая поступкам Качиньских, представляется мне чем-то вроде божьего наказания. Не думаю, что они действуют с полным осознанием того, что по сути творят. Их окружение начало свою политическую деятельность клеветы и оскорблений тех, кто действительно пользуются большим общественным авторитетом. Так, например, профессор Золль[255] и профессор Лентовская[256] – люди с безупречной репутацией – были совершенно абсурдно обвинены в деятельности, наносящей вред государству. Это очень старый метод, характерный прежде всего для большевизма, как правило, дьявольски успешно подрывает общественное доверие к тем, на кого он направлен. В подробности такого рода акций вдаваться не стоит, ибо очевидные последствия явно демонстрируют их авторитарно-марксистское происхождение. Думаю, что торпедирование авторитетов – это последнее дело, за которое следовало браться панам братьям. Где-то уже в конце текущего года проявятся губительные последствия таких поступков.
К высказываниям нашего нового президента или его сподвижников прислушиваться просто не стоит. Эти люди считают, что общество состоит из одних идиотов и проглотит любое бахвальство и любую увертку. Наша страна стоит перед морем важных и сложных дилемм, касающихся состояния инфраструктуры, экономической зависимости от России и большого количества других неотложных проблем, и при этом первое дело, на которое решилась качиньская власть – это строительство новых тюрем и снижение возраста уголовной ответственности. Это, впрочем, сугубо наши внутренние дела, мир их даже не заметил. Качиньские также и премьер-министра склонили к участию в лживых темных аферах, поэтому предполагаю, что в ближайшие месяцы и ему это не пойдет на пользу. Нынешнюю политику кратко можно охарактеризовать парой слов: делают все, чего делать не надо, зато насущные проблемы игнорируются.
VIII Станислав Лем удивляется
Удивление
Одного из моих героев, Трурля, я заставил в «Блаженном» компьютеризироваться для разрешения трудной проблемы, ибо два – это не то, что один. Я не думал, что нечто подобное произойдет со мной, пока сам не оказался компьютеризирован. Произошло это в Западном Берлине в стенах Свободного университета, куда я поехал в сентябре, приглашенный на семинар, названный на американский манер «WORKSHOP»[257]. Там должна была пройти трехдневная дискуссия, касающаяся моих прогнозов на будущее, дающих картину дальнейшего развития информатики и компьютерной техники. В семинаре участвовали специалисты из Западной Германии и Берлина, организаторы же оказались столь добросовестны, что для получения моментального доступа ко всему, что я когда-либо написал о предмете дискуссий, сделали выборку из моих книг и, соответствующим образом закодировав, ввели ее в компьютер. Этот «экстракт» в отпечатанном виде имеет вид длинной бумажной ленты. И для меня было довольно странно рассматривать взятые как из литературных, так и дискурсивных текстов концепции, сжатые в некоторой степени до голых интеллектуальных принципов. Я думаю, что если бы я был беллетристом в чистом виде, то для меня это превосходно спланированное мероприятие окончилось бы неудачей, потому что все, что не было гипотезой или мысленным экспериментом, отбрасывалось как шелуха.
Готовясь к открытию дискуссии, я не имел в своем распоряжении ничего лучше, чем мой последний роман «Осмотр на месте», что оказалось очень к месту, так как для развития общества его придуманного мира (внеземной цивилизации, которая опередила нашу на каких-то тысячу лет в развитии, но двигалась приблизительно в том же самом направлении, что и мы) я приготовил искусственное русло, окружение, названное этикосферой. Задача этого искусственного окружения – реализовать запреты из декалога, действующие столь же неукоснительно, как и законы природы. Никто там не может причинить вред ближнему не потому, что все подчинено законам внутренней нравственности, а потому, что это также невозможно, как у нас, например, преодоление волевым актом силы тяжести или законов термодинамики. Речь шла о мысленном эксперименте, который должен был показать, как далеко может продвинуться разум, использующий чисто технические средства для поддержания в обществе демократии, когда все традиционные ценности, усвоенные согласно директивам культуры и истории, прогрессируют в сторону своего низвержения в государстве «вседозволенности благосостояния». Техническая сторона такого устройства мира, где этика становится неотъемлемой частью физики, в книге дана только фрагментарно, настолько, насколько этого требовал сюжет. Для себя я предварительно составил нечто вроде выписок из энциклопедии об этом мире, чтобы знать (или проинформировать самого себя), как можно дойти до такой обдуманной трансформации общественной жизни, причем не обошлось без изложения вопроса «от начала мира», ибо я должен был приготовить и естественную, биологическую эволюцию тамошних разумных существ, и их эротику, непохожую на нашу, и религиозные верования и исторические перипетии, и основные философские системы и так далее, вплоть до стадии научно-технического прогресса с сопровождающим его ростом деструктивных и анархических тенденций.
Поэтому я изложил не сам роман, а фрагменты этой энциклопедии, от которой, впрочем, избавлю моих читателей, хоть была у меня какое-то время мысль об издании как раз этой самой энциклопедии и одновременно об отказе от ее литературного воплощения. Может, когда-нибудь я объясню, почему я в итоге отказался от этого радикального намерения, но не сейчас, потому что дело в чем-то другом. Удивило меня то, что это видение физики с закрепленной этикой не показалось присутствующим настолько фантастическим, как мне самому, и что зачатки именно такой возможности они видели в различных тенденциях, скрытых в нашей современности как технические ростки или как человеческие подходы. (Со своей стороны подчеркиваю, то, что я показываю, я раскрываю как advocatus diaboli, ибо меня такое видение «принудительной утопии», «невидимой смирительной рубашки», не вызывает никакого энтузиазма. Конечно, роман был написан именно для того, чтобы показать, что «CORRUPTIO OPTIMI PESSIMA»[258], что якобы оптимальный проект социально-технического гарантирования одновременно благосостояния и свободы, ограниченной только барьером, сдерживающим зло, имеет довольно ужасные последствия.)
После докладов и содокладов дошло до дискуссии в расширенном кругу, во время которой я отвечал на очень разные вопросы. Вопросов, относящихся к литературе, было немного, я был интересен скорее как тот, кто с завидным упорством давно говорил о столь многих вещах, которые в момент их провозглашения часто воспринимались как невозможные или фантастические. Со временем они теряли свою невероятность и понемногу начинали воплощаться. Задающих вопросы интересовало, откуда я черпал уверенность, что будет так, как мне виделось, вопреки тогдашнему передовому знанию трезвых специалистов. На такие вопросы у меня не было развернутых ответов. Я не знаю, откуда знаю то, что знаю, поскольку ничего о будущем не знал и по-прежнему не знаю наверняка. Это всегда были догадки, высказанные не в условном наклонении и не в броне оговорок – такие уловки не допускал литературный вымысел, или категоричности требовал сам разговор, обращенный в очень отдаленное будущее, когда всякие «кто знает», «может быть», «предположим» только бы сделали неопределенной ту картину, которую я хотел изобразить, не способствуя ее конкретизации. А я не люблю ни сам быть трактованным туманно, ни трактовать таким способом тех, кто меня читает. Следовательно, ни в чем я не был настолько уверен, как это может показаться сегодня, и у меня не было также никакой проверенной интеллектуальной методики, защищающей от глупостей и ошибок, ибо таковой не существует. Футурология, говорил я, пережила многочисленные фиаско, поскольку желая показать себя большим авторитетом для политиков и для широкой общественности, она бралась за то, с чем справиться была не в состоянии, и в первую очередь – с предсказанием хода современной истории, а ход этот, вне всякого сомнения, непредсказуем. Я также не ставил своей целью создание каких-либо календарей будущих открытий или изобретений, но в хаотичной массе постоянно изменяющихся фактов и событий пытался выделить наиболее перспективные направления развития некоторых отраслей науки, трансформации актуальных подходов, а также возможные последствия взаимовлияния инструментализма на нравы, а нравов на инструментализм. В результате это означало, что я не считаю, что человек и техника находятся в оппозиции друг другу, что нужно делать выбор из альтернативы. Я скорее видел будущее как процесс стирания границ между классическими категориями («здесь техника – там человек»), приводящий к такому их смешению, что на определенном этапе «искусственное» уже неотличимо от «естественного». Впрочем, доктор Фове очень аккуратно объяснил этот метод на схеме, добавленной к компьютеризированному Лему. Таким образом, например – не заботясь о мелочах, но всегда стремясь к созданию великих, как правило, противоречащих друг другу динамически развивающихся совокупностей – я предположил, что биология с генетической инженерией и теория естественной эволюции пересекутся в своем развитии с информационными компьютерными технологиями завтрашнего дня. При этом ни будущая генетика не будет похожа на генетику современную, ни будущие компьютеры не будут уже сегодняшними компьютерами. Образно можно сказать, что есть некоторое сходство между галерами и космолетами, или тамтамом и радио: здесь что-то дальше движется, а там что-то дальше передается, но современный образ жизни обуславливает, скорее, разницу, чем остатки сохраняемого сходства.
Вопрос, который мне никто не задал, но который я задал себе сам после семинара, был очень личным. Воспринимаемый как тот, Который Наверняка Знал, когда никто или почти никто еще не знал, я чувствовал себя не в своей шкуре. И сегодня я не перестаю удивляться, что мне удалось предсказать такие прекрасные и одновременно ужасные возможности генетической инженерии. И когда я читаю в профессиональном журнале что-то, что кажется осуществлением моих прежних, столь тогда трудных для формулирования интуитивных предположений, я читаю это так, словно об этом открытии узнал первый раз в жизни, с полным изумлением, а не со спокойным удовлетворением. Потому что я знаю, какие зыбкие основания имело во мне то, что я когда-то подумал, и в какое отдаленное будущее отодвигал я осуществление этих фантазий, не подозревая даже, что они настигнут меня в ходе мирового прогресса… Возможно, единственным моим компасом было сохранение верности воображаемым вещам вопреки голосам чужого рассудка. То, что я говорю, не имеет ничего общего со скромностью. Я совсем не скромен, я скорее до ужаса захвачен быстротой воплощения, а моя сдержанность не аскетичное преклонение перед именем предвестника, она исходит из осознания, сколь скромны все наши достижения и опасности в сравнении с тем, что нас ждет за рубежом столетия. Люди, зачарованные возможной угрозой атомного всесожжения, не могут себе представить ничего еще более ужасного, но все-таки реального. История развивается не так, как предполагают, поскольку складывается из событий невозможных или принимаемых авторитарно, и я всегда пытаюсь смотреть на нее иначе и видеть дальше. Ничто человеческое, ничто социальное и соотносимое с цивилизацией не может длиться вечно, поэтому и сегодняшний вызывающий опасения ядерный баланс сил должен подвергнуться эрозии и будет заменен другой формой планетарного сосуществования, что вовсе не значит, что оно окажется для нас более милосердным, более приемлемым или более легким для приятия. Пожалуй, из бескорыстного интереса я взял на себя задачу предположить эти невозможности и неисполнимости, которые сегодня осуществляются, и рассматривал их так, как будто бы мне это было нужно. (Отсюда также абсолютно справедливые разговоры «о том, что художественная литература со всеми ее проблемами и всем формализмом не является для меня ни главным, ни достаточным для жизни делом».) Но когда некто все зрелые годы посвящает подобному мышлению и когда завтра возникает реальная возможность именно того, что очаровывало его и одновременно ужасало, то удовлетворенность от роли предтечи должна стать чем-то абсолютно второстепенным. Спесивое «я же говорил» могло бы только сделать его смешным в собственных глазах. Заглядывание в будущее – процесс странный и опасный, так ведь можно покоя лишиться. А кто видит могущество завтра за горизонтом века не как еще одну угрозу, направленную на людей, а как жизнь, оторванную от всех исторических корней человечества силами приведенной в движение Природы, поступающей с идеалами так, что они превращаются в издевательства, тот начинает иногда бояться собственного воображения, ибо, не властвуя над ним, он не знает, что оно ему еще подскажет за оставшиеся годы.
Музыка генов
Как известно, Мусоргский сочинил «Ночь на Лысой горе», Равель – «Болеро», а Хачатурян – «Танец с саблями». Все они использовали одни и те же ноты. Вовсе не удивительно, что из пары гамм возникли и мазурки Шопена, и симфонии Бетховена. Но тот факт, что из четырех нуклеотидов, ставших изначально основой всех живых существ, возникли такие разные формы, как дрожжи и человек, – вполне может вызывать удивление. Я удивлен удивлением удивляющихся.
Сегодня полагают, что у нас только 30 тысяч генов. Это только приблизительное число, по оценкам специалистов, когда исследования продвинутся вперед, может оказаться, что генов на несколько тысяч больше. Еще год назад считалось, что их имеется 80 тысяч, а некоторые говорили даже о 120 тысячах.
Как это возможно, чтобы 30 тысяч генных «слов» хватило для производства тысяч и сотен тысяч различных «предложений»? Гены дают начало определенным аминокислотам, которые пока неизвестным способом начинают друг к другу приспосабливаться. Мы имеем как бы эскизный план кафедрального собора, но отдельные кирпичи или камни обладают – не так, как в архитектуре, – дополнительной способностью приспосабливаться к формам, которые заданы только общим эскизом.
Одни и те же гены в разных конфигурациях и соединениях могут участвовать в формировании очень разных свойств организма. Это не похоже на качественную инженерную работу: ведь никто, строя дом, не возводит сперва камин со вторым этажом, а только потом остальное, мы строим запланированным и упорядоченным способом. Здесь же мы имеем порядок, который возникает из первоначального беспорядка, сам по себе вслепую создается из хаоса.
Утверждают, что имеется около 400 генов уже точно определенных, которые ответственны за некоторые формы эпилепсии, за глухоту, за различные виды цветовой слепоты и за мышечную дистрофию. Все гены, воздействие которых проявляется только по окончании фазы достижения половой зрелости и способности к размножению, не могут быть удалены естественным способом – они не подвластны естественному отбору. Отсюда возникают различные неприятности, которые, как оптимистично заявляют ученые, вскоре можно будетуспешно предотвращать.
Количество генов, обеспечивающих появление определенных свойств организма, насчитывается в соотношении один к одному, впрочем, их скорее меньшинство; в большинстве случаев, например, если речь идет об интеллекте, должно взаимодействовать большое их количество. При этом эти гены ориентированы на воздействие окружающей среды: на вопрос «nature or nurture», природа или воспитание, нет однозначного ответа, ибо это почти то же самое, что спрашивать, что лучше: суп или жаркое. Одно без другого ничто, дети, воспитанные вне человеческой среды, говорить не научатся. Мы являемся социальными созданиями в гораздо большей степени, чем полагаем.
Действительно странно, что мы имеем некоторые гены, общие с бактериями. Вероятно, наши предки добрую пару миллионов лет назад были инфицированы этими бактериями и те как-то проникли к нам в геном. Гениальный и непризнанный Олаф Стэплдон, автор книги «Первый и последний человек», давно написал – это была, разумеется, фантазия! – что какие-то микробы с Марса вызвали сначала страшную гетакомбу на Земле, а потом их остатки проникли в человеческие геномы. Отсюда следует, что нет вещей настолько странных, чтобы их нельзя было новаторски придумать.
Пишут также об участках нашего генома, которые являются чем-то вроде маленьких пустынь; ничто здесь как будто не закодировано, однако же имеют ли эти участки какое-то значение в нашем развитии, мы узнаем только тогда, когда кто-то смелый хотя бы частично их удалит. Это проблема более серьезная, чем клонирование дяди или тети, речь идет о смелых экспериментах, и при этом рискованных. Следует, к сожалению, опасаться, что дело и до них дойдет.
Некоторые секвенции «молчащих» генов из так называемого «мусора» возвращаются подобно секвенции тонов в музыкальных произведениях. Там речь идет о создании определенного акустического эффекта: что это значит здесь, неизвестно. Некоторые ученые считают, что эти повторяющиеся гены как-то участвуют в возникновении и размножении аксонов – разветвлений и разрастаний различных белков.
Уже известно, что причина отличий между нами и неграми или желтой расой – это буквально пара генов. В огромной их массе мы вместе с тем однородны, и те, кто рассказывал небылицы о принципиальных различиях между нами и цыганами или семитами и «арийцами», морочили голову абсолютно ненаучно. Это поверхностные свойства, приобретенные за последние 120 тысяч лет: пигмент, придающий коже темно-коричневый или черный цвет, защищает от ультрафиолетового излучения; в свою очередь народы Дальнего Востока подвергались воздействию холода, поэтому нос их сделался плоским, менее склонным к обморожениям, скуловые кости пошли вверх, а глазная щель уменьшилась, благодаря чему глазное яблоко стало лучше защищено от мороза.
Если сравнить человека с простыми организмами, такими как нитчатые (это род червей) или муха, мы с удивлением заметим, сколь ничтожная горсть генетических инноваций позволила перейти от древнейших форм живых организмов к высшим и более сложным формам, прежде всего – к позвоночным. Сейчас в моде сальтационизм, говорят о скачкообразном развитии. Предполагается, что некоторые радикальные изменения – видо-, классо– или родосозидательные – возникали методом как бы дублирования определенных генных секвенций, которые были прогрессивными. Дублирование генных групп должно было решить вопрос о развитии системы кровообращения, ключевой для существования позвоночных. У насекомых кислород поступает в организм только через трахеи; они вообще не дышат, поэтому не могут сравняться с нами размером. Следующая серия дублирования дала начало целому спектру гормонов и разнообразных молекул, благодаря которым отдельные ткани и клетки человеческого тела могут сообщаться между собой в организме и координируют свои действия с далекоидущей точностью. А еще одной сальтации мы обязаны постепенным развитием нервной системы.
Директор «National Human Genome Research Institute» сказал: «Мы называли человеческий геном книгой жизни, в действительности же это три книги. Во-первых: книга историческая, ибо содержит багаж, свидетельствующий о своей истории, – все, что не дает летально вредной экспрессии, может спокойно переходить из поколения в поколение. Во-вторых: геном – это практический учебник и список составных частей, из которых мы построены. В-третьих: учебник медицины, которая глубже и совершеннее, чем традиционная, медицины на молекулярном уровне».
Наш геном содержит повторяющиеся копии различных генов, вызывающих болезни. Это как бы теневые возможности, которые мы все в себе несем. Возможно, стоило бы их изъять: но вопрос в том, что некоторые из величайших творцов, как, например, Достоевский, страдали эпилепсией или другими похожими болезнями и еще неизвестно, были ли эти болезни связаны с их гениальностью. Я не хотел бы быть торопливым евгеническим геннохирургом – это рискованное занятие.
Самая большая проблема заключается в том, что необходимы исследования на эмбриогенетическом материале. Британский парламент постановил, что на уровне бластоцисты исследования проводить еще можно, а Ватикан считает, что никогда нельзя. Одно кажется мне очевидным: тот момент, когда Стефенсон поставил паровую машину Уатта на колеса и построил первый локомотив, стал началом необратимого процесса развития железных дорог. С того момента, когда расшифровали геном, дальнейшие исследования сдержать не удастся, хотя они и опасны.
Количество институтов, которые занимаются генетическими исследованиями, огромно. Американский специальный журнал «Science» и английский «Nature» состязались, кто первый опубликует данные о геноме. Сюда вторгся и неприятный коммерческий фактор, о котором я вообще раньше в связи с наукой – наивно! – и не думал. Однако в эту область вложены миллиарды, можно вспомнить хотя бы о фармакогеномике.
Лавина публикаций, касающихся исследований генома, напоминает мне то, что в спорте происходит в конце дистанции, то есть так называемый финишный рывок на ленточку. Ленточкой в данном случае является Нобелевская премия, и все спешат – дабы эту награду получить. А ведь Нобелевскую премию размножить не удастся, всех не удовлетворишь.
Ученые еще не сказали последнего слова, и мы не знаем, какие ужасные Франкенштейны, рвущиеся на вершину славы, объявятся сейчас. Мы живем в интересную эпоху: люди уже побывали на Луне, высвободили атомную энергию, даже Буша избрали в президенты. Так что основа, на которой зиждутся живые существа, меня не удивляет, а удивляет то, что я дожил до таких интересных времен.
Паразиты
Хотя мы уже знаем, что нельзя применять нравственные законы к естественной эволюции и тем самым нельзя считать, будто хищные животные в моральном отношении хуже, чем травоядные, которыми они питаются, но в эволюционном процессе можно открывать явления действительно удивительные и вместе с тем варварские.
Одно маленькое насекомое откладывает свои яйцеклетки в брюхе паука. Личинка, развивающаяся из этой яйцеклетки, в течение двух недель принципиально изменяет нервную систему паука. Бедный малый, вместо того чтобы ткать свою привычную паутину, вынужденно плетет кокон для личинки паразита. В конце концов личинка полностью пожирает его и покидает. Уже известно, что покорение обеспечивают специальные химические вещества, впрыскиваемые личинкой пауку. Они так специфически воздействуют, что нарушают деятельность нервной системы, влияя на пространственную локализацию ткущейся паутины, и, таким образом, совершенно меняют ее геометрию. Исследователи открывают все новые поразительные стратегии, выработанные паразитами, которые благодаря этим стратегиям приобретают контроль над своими так называемыми хозяевами. Огромная часть существ, живущих на Земле, в определенный период своего развития паразитирует. Можно даже попытаться узнать, существует ли какое-либо животное совершенно независимое, которое не является объектом атаки паразитов или не паразитирует само?
Паразитизм играет такую же ключевую роль в превращениях энергии биосферы, как и прожорливость хищников. Однако если хищник пожирает свою жертву за несколько минут, паразит, как правило, поддерживает длительные отношения со своей жертвой, которые, как мы показывали, не ограничиваются простой эксплуатацией одного организма другим. Случается, что жертва получает пользу от своих паразитов, как в случае быков, которым птички выклевывают со спины насекомых. Сегодня считается, что некоторые мелкие тельца в клетках эвкариотов являются остатками от бактерийных паразитов, которые, вторгнувшись когда-то в организм своих хозяев, сейчас являются неотъемлемой частью генной системы.
Все же нам кажется, что паразиты, именуемые манипуляторами, – это на самом деле дьявольский класс, ибо они могут преобразовать активность жертв в свою пользу. Чаще всего это паразиты, имеющие сложный цикл развития, в процессе которого они переносятся с одного вида на другой и не могут размножаться иначе, кроме только на специально выбранной жертве. Личинка, о которой мы говорили, превращает паука в разновидность марионетки, другой паразит доводит муравьев до самоубийства. Этот микроскопический червячок, который развивается в желчных путях овец, находит свое временное «пристанище» в степях, находясь в овечьем помете. Яйцеклетки сначала заражают слизней, и в них развиваются личинки. Затем эти личинки попадают внутрь муравьев, и зараженные таким образом муравьи теряют свой «здравый рассудок», поскольку вместо того, чтобы бегать – как все другие – по земле, они взбираются на верхушки стеблей травы, и их съедают овцы. Таким образом, паразит руководит поведением хозяина, чтобы вернуться в свою «главную резиденцию». Существует паразит Toxoplasma gondii, который проникает в мозг крысы. В этом случае несчастный грызун полностью теряет врожденный страх перед котами и буквально бросается им в пасть. Когда эта крыса оказывается съеденной, паразит находит свое излюбленное место для дальнейшего развития, а именно: кошачьи кишки.
Возникает волнующий вопрос: есть ли паразиты человека, которые способны изменять личность зараженных?
Удивительно, почему паразиты используют столь сложные стратегии, в то время когда, казалось бы, природа вообще предпочитает простые решения. Однако же эти манипуляции, хотя и запутанные, наверняка не следуют из какого-то сознательного расчета. Они были закреплены естественным отбором, поскольку приносят пользу «манипуляторам», облегчая их воспроизводство. Тем самым паразиты и их жертвы словно участвуют в настоящей гонке вооружений, потому что паразиты неустанно разрабатывают новые способы, чтобы преодолеть оборону организма своих жертв. В этой войне, где каждый подвергается воздействию изобретений противника и должен все время совершенствовать свое вооружение, паразиты обладают важным преимуществом, поскольку их жизненный цикл более короткий, чем существование их хозяев. Тем самым они подвергаются быстрейшим мутациям и потому используют разнообразные тактики. Можно сказать, что они играют роль ускорителей эволюции, поскольку побуждают виды к постоянному соперничеству. Как видим, то, что кажется нам, скорее, противным, в естественной эволюции является процессом распространенным и для всей биосферы, пожалуй, полезным. Особенно потому, что паразиты ускоряют круговорот отдельных генов в скоплениях разных видов.
Динозавры
На этот раз к всеобщему и моему собственному удивлению я пущу в ход тяжелую артиллерию.
Много лет назад в Южной Америке нашли останки птицы, а точнее говоря, летающей рептилии, которая получила красивое название Quetzalcoatlus Northropi. Находка была довольно маленькой, но представляла фрагмент плечевой кости крылатого гиганта, согласно реконструкции размах крыльев которого превышал размеры пассажирской авиетки, а именно: более пятнадцати метров. Расчеты показали, что крыльям с таким размахом должно соответствовать туловище весом, по меньшей мере, восемьдесят килограмм. Кроме того, палеонтологи подтвердили, что этот воздушный колосс имел короткие и когтистые лапы. Таким образом, в целом это создание выглядело довольно необычно, а поскольку останки нашли на пустынно-равнинной территории, ученые столкнулись с несколькими, до сих пор неразрешимыми загадками.
Живых летающих созданий весом почти в центнер мы не знаем. Птицы намного меньшие, чтобы взлететь, должны взять разбег на земле, расправляя крылья, или же находиться на высоте – на краю какого-нибудь скального возвышения или на дереве. Однако большая птица (и особенно рептилия!) никак не сумеет взлететь вертикально в воздух, словно вертолет. Quetzalcoatlus, вероятнее всего, питался падалью, однако никаких скал, с которых он мог бы стартовать, в окрестностях нет. Когда-то там могли расти деревья, но крылья с таким размахом должны были бы поломаться среди крон. Впрочем, если бы даже он нашел для прыжка в воздух какую-либо скальную платформу, неизвестно, как бы он смог – после приземления на равнине – имея короткие когтистые ноги, выполнить разбег достаточный, чтобы снова взлететь. До сих пор тайна этой крылатой рептилии не раскрыта.
Другой загадочной рептилией, найденной недавно и относящейся к юрскому периоду, стал Argentynozaurus. Похоже на то, что это было самое большое материковое животное, какое когда-либо ступало по Земле. Его вес достигал ста двадцати тонн, и потому он был тяжелее самого большого кита. Tyranozaurus Rex, всеобщий любимец питающих слабость к динозаврам, двуногий хищник с небольшими передними конечностями и страшно зубастой пастью, был в сравнении с Argentynozaurus’ом сладким младенцем, потому что весил около семи тонн, что немного больше взрослого африканского слона. Скелет человека, в натуральной пропорции сопоставленный со скелетом реконструированного Argentynozaurus’a, выглядит как таракан рядом с носорогом.
Мы не можем убедительно объяснить, почему миллионы лет назад животные могли достигать колоссальных размеров, и специалисты дают разные варианты ответов на этот вопрос. Некоторое время существовала гипотеза, согласно которой во время господства на Земле пресмыкающихся в атмосфере содержалось намного больше кислорода, чем сейчас. Доказательством должен был послужить пришедший из тех давних времен янтарь, в котором иногда видны застывшие пузырьки воздуха. Однако ученые окончательно доказали, что янтарь нельзя считать абсолютно непроницаемым, а потому не может быть и полной уверенности, что содержащийся в нем воздух относится к юрскому периоду.
Естественная эволюция неоднократно странно проказничала со своими творениями. Некоторые деревья, такие как секвойя, могут жить по триста лет и достигать такой высоты, что мы задаемся вопросом, как это гигантское дерево может доставлять жизненно необходимую воду к самым высоким ветвям.
До сих пор точно неизвестно, были ли большие динозавры (а может и маленькие) тепло– или холоднокровными. Достаточно загадочен также их обмен веществ. Один дерзкий ученый, о котором я уже когда-то упоминал, выдвинул смелую и, пожалуй, спорную гипотезу. Он утверждал, будто бы травоядные рептилии наибольшего размера, чтобы выжить, поглощали огромное количество еды, которая так ферментировала в их внутренностях, что газы, выделяемые стадами таких скотин, могли дырявить озоновую оболочку атмосферы.
Я привожу это предположение, прищуривая глаз; впрочем, мир науки принял его, скорее, за разновидность шутки. Те самые ученые, которые критикуют вышеприведенную теорию, не могут, однако, найти окончательный ответ на вопрос: почему вымерли динозавры? Уверенно можно только сказать: «Ничего не известно наверняка».
Удивительное
До сих пор нас пугали угрозой глобального потепления, как тут вдруг читаю статью одного профессора, доктора наук, который объясняет, что будет все холоднее, а земной шар превратится в снежную планету. Днем раньше по телевизору я смотрел фильм, в котором снимки, сделанные сейчас с самолета над Килиманджаро, сравнивали со снимками десяти-, двадцатипяти– и шестидесятилетней давности. На Килиманджаро была тогда ледяная шапка, которая совершенно исчезла! Фактом является то, что некоторые части ледника в Антарктиде тают, а некоторые – нет. В то же время мы не можем жаловаться на слишком жаркий июль.
Поэтому сейчас у нас предледниковый климат, а в политике – всеобщее отсутствие доверия. Пани Парадовская написала, что Миллер остается премьер-министром, поскольку нет никакой альтернативы. Никто не в состоянии стать сегодня в Польше премьером – все износились. Почему – не знаю. Если бы я мог вернуться в двадцатые или тридцатые годы, охотно бы это сделал, ибо та Польша, хотя и бедная, несмотря ни на что вызывала большее доверие, а слово патриотизм не служило поводом для ироничных усмешек.
Не знаю, разрешились ли проблемы, связанные с бюджетом на будущий год, ведь Колодко вместе со своим проектом был отправлен в отставку, а у Хауснера совершенно другие идеи. Человек в этом совершенно теряется, а потому молодежь поворачивается к политике спиной. Похоже, Колодко, перед тем как ушел, за несколько сот тысяч злотых заказал какое-то социологическое исследование духовного состояния польского общества. Невероятная сумма – но ведь это не его деньги, поэтому и распоряжался ими с легкостью.
Не знаю, почему у нас такое благоговейное отношение к деньгам. Журналы «Wprost» и «Polityka» размещают специальные вкладыши о «Ста самых богатых поляках». Почему нет вкладышей: «Сто величайших польских ученых», «Сто самых выдающихся философов» (если вообще удалось бы их столько насчитать), «Сто самых искусных танцоров»? Раз уж у нас есть такие миллионеры, как Кульчик, то где польские фонды, такие как Фонд Гуггенхайма?
Не знаю, что думать о сильном расслоении польского общества. При посещении центра Кракова или какого-нибудь супермаркета – был недавно в «Castorama», хотя нужны были только лампочки, – заметно, что люди много покупают, строят, словно стали зажиточнее, хотя, с другой стороны, можно прочитать о страшной бедности, особенно в районе восточной границы. Я видел в польской прессе рекламу нового «Мерседеса» за 228 тысяч злотых. Интересно, кто может себе позволить приобретение такого автомобиля? Впрочем, его быстро украдут.
Не знаю, следует ли сильно радоваться тому, что мы на пороге вступления в Евросоюз. Похоже, что Роман Гертых уже успел частично изменить взгляды и ищет в Брюсселе места, где мог бы поживиться. Тем временем «Лига польских семей» за что-то – но не знаю за что – страшно сердится на Новака-Езераньского, а прах генерала Мачека хочет забрать из Голландии в ответ на то, что они прислали нам корабль-абортарий – но ведь последней волей генерала было покоиться в голландской земле!
С книжным рынком так же, как с климатом: все хуже и все лучше. Я получил от Евы Липской избранное Лесьмяна, очень красивый том от издательства «Świat Książki», этого польского Бертельсманна. В этой же серии уже вышел целый ряд похожих книг. Отсюда следует, что существует спрос на поэзию – но только кто ее читает? Эти люди, видимо, прячутся в каких-то нишах и катакомбах.
Прислали мне, с просьбой прокомментировать, текст Фрэнсиса Фукуямы на тему того, что произойдет, когда человеческая жизнь будет неимоверно продлена; Фукуяма предполагает, что это наверняка произойдет. Я намерен ответить, что с некорректно сформулированными и некомпетентно обсуждаемыми тезисами не стоит серьезно дискутировать. Фукуяма должен тихо сидеть в углу, ибо биологии он вообще не знает, а пророчествами на тему конца истории достаточно уже себя скомпрометировал. Но он, как сотрудник редакции «Foreign Affairs», имеет право высказывать бредовые вещи. Знание человеческой биологии указывает, что, приходя в мир, мы уже несем зачатки нашей смертности. Нашу жизнь можно продлить, самое большее, на пару лет: я, например, живу уже на восемь лет дольше своего отца. Иногда, впрочем, я думаю, что наступило время, когда и я должен закрыть глаза и уже не открывать их.
Вокруг нас хаос противоречивых высказываний людей, считающихся мудрыми. Когда человек слабо ориентируется в какой-то теме и заглянет в книгу специалиста, он что-нибудь узнает, но если он возьмет десять разных книг десяти выдающихся профессионалов, он получит десять разных мнений и у него в голове будет неприятная путаница.
Таким образом, мы имеем нагревающее похолодание, разогревающее оледенение, антисемитизм при отсутствии евреев и так далее. Один философ говорил, что будущее открыто – действительно, оно открыто. Но что с позитивными явлениями? Как-то я их не замечаю.
IX Станислав Лем прогнозирует
Перспективы будущего
Чем больше я задумываюсь над задачами, стоящими перед советской наукой, тем более трудной мне представляется эта тема. Мне не хочется писать о том, что уже есть, а хочется писать о том, что будет. Между тем…
Атомные электростанции? Одна уже работает, другие строятся.
Единая сеть высокого напряжения? Проектирование заканчивается, начинается строительство.
Подземная газификация залежей угля? Существуют уже экспериментальные производственные единицы.
Фабрики-автоматы без людей? Уже есть.
Астронавтика? Полет на Луну? Это уже не тема исключительно фантастов, ею занялись инженеры из секции астронавтики аэроклуба им. Чкалова.
Орошение пустынь? Старая история…
Электрификация сельского хозяйства? Как и выше.
Из этого видно, что надо быть смелее. В «Астронавтах» я писал о повороте сибирских рек и направлении их течения в бассейн Мертвого моря. Так, может, об этом? Но ведь устранение гор с пути русла рек, строительство огромных плотин за считаные минуты направленными взрывами, переворачивающими гигантские массы земли – это уже не фантазия. О таких работах (не планах!) пишет профессор Покровский[259]. Он разрабатывает методы применения в таких работах – в особо крупных масштабах – атомных и водородных взрывчатых зарядов…
Так, может, еще смелее? В «Магеллановом Облаке» я придумал и поместил в XXXI веке видеопластику, такую передаваемую на расстояние трехмерную цветную штуку, дающую абсолютную иллюзию реальности. Из-за нее некоторые читатели даже сердились, говоря, что это невозможно. Могу их разочаровать – это уже есть. Схему аппаратуры для цветного телевидения (советское изобретение) можно было купить за 70 грошей в Международном пресс-клубе…
Ясное дело, большинство устройств и проблем, о которых шла речь выше, находится в зародыше, в стадии экспериментов, первых проектов и планов. Но проектирование и планирование – это естественные, начальные этапы любого процесса массового производства. Ну и пусть существует только одна атомная электростанция, если я хочу писать о том, чего вообще еще нет. Я хочу просто помечтать о будущем, стоя ногами на земле говорить о том, что возможно. Однако перечень технических и научных проблем, намного более длинный, чем приведенный вначале, показывает, что все, что представляется возможным для реализации, уже находится в стадии разработки в научных институтах и лабораториях. В подобной ситуации писателю, стремящемуся говорить о перспективах будущего, на самом деле сложно найти тему.
Новые открытия не появляются в науке как dues ex machinа[260]. Это плоды терпеливого ухода за древом поисков, наблюдений и теоретических обобщений. Однако созревание не одного такого плода скрыто даже от глаз садовников науки, если дальше использовать это сравнение. Так, например, довольно давно стало известно, что солнце является атомным реактором, в котором «сгорает» водород, давая в результате ядра более тяжелых элементов и освобождая лучевую энергию. Несмотря на это, физикам, которые об этом знали, даже в голову не приходило, что можно построить на Земле установку, функционирующую по такому «звездному» принципу. И сегодня мы знаем, что это возможно и, более того, такие установки прошли испытания. Поэтому можно сказать, что – когда речь идет о сути явления – водородная бомба является длящимся долю секунды «мгновенным» солнцем, и наоборот – что солнце является «перманентной» водородной бомбой.
Я вспомнил об этом, чтобы отметить, что древо науки рождает, кроме давно предсказанных и ожидаемых, также и неожиданные плоды. Не подлежит сомнению, что оно будет давать их и дальше, так же как давало их миру в прошлом. Эта уверенность ни в коей мере не облегчает моей ситуации, потому что об открытиях и достижениях, которых никто не знает, о которых никто ничего не говорит и которых не предчувствуют даже во сне – я не смогу, к сожалению, писать… Просмотрев все темы, я, в конце концов, останавливаюсь на трех: каждая из них неимоверно широка и ее реализация оказала бы огромное влияние на формирование материальной жизни коммунистического общества недалекого будущего.
Это:
1) непосредственное превращение одного вида энергии в другой, минуя тепло в качестве посредника;
2) осуществление нерастительного фотосинтеза таких пищевых субстанций, как углеводы, жиры и белки;
3) борьба за продление человеческой жизни путем преодоления инфекционных болезней и новообразований (рака), борьба с преждевременной старостью и смертью.
Это проблемы, за которые, как я считаю, в наступающих десятилетиях возьмется советская наука.
Несколько слов о каждой:
1) Энергия ядерных соединений превращается в электрическую таким же способом, как и химическая энергия угля или нефти, – при посредничестве тепла. Пламя топки или тепло атомного реактора превращает воду котла в пар, а пар этот двигает турбины, вращая электрические генераторы. Этот процесс мало эффективен и сложен, мы вынуждены премещать на значительные расстояния или само топливо (уголь, нефть), или произведенную электрическую энергию (по сетям высокого напряжения). Непосредственное превращение ядерной энергии в электрическую замечательно упростило бы производство всяческих благ, высвободило бы транспорт, позволило бы сконструировать атомные автомобили, велосипеды, даже швейные машины… Утопично? Да – еще в начале текущего года. Но затем сконструировали первый атомный электрический элемент. Он производит ток очень слабый, но может его давать без перерыва в течение нескольких десятков лет. Этот младенец, появившийся на свет в лабораториях, еще немало нас удивит. Но на этом прервусь, потому что должен писать только о том, чего еще нет…
2) В первый раз у меня не получилось, попробуем заново. Сейчас, когда нам нужно получить сахар, мы прибегаем к «хитрости»: сажаем сахарную свеклу, ухаживаем за ней, ждем какое-то время, потом выкапываем ее и экстрагируем из нее сахар. В свекле действует «химический завод», использующий энергию солнца и простые минеральные вещества почвы. Наш способ «использования свеклы» скорее окольный – не проще было бы подсмотреть производственные тайны самой свеклы и сконструировать это на «обычном» заводе? Тогда мы сможем методами искусственного фотосинтеза из воды, воздуха и угля производить большие количества углеводов и затем, может быть, жиров и белков. И ни в каких «таблетках», боже упаси! Химики сформируют такие замечательные вкусы, что никто уже даже не захочет кашу или консервы. При этом производство будет полностью «бесплатным»: недостатка воды и воздуха не будет, а энергией обеспечивать будет – как зеленые растения – солнце. Когда эта величайшая из всех революций в области производства продуктов питания наступит, сельское хозяйство, которым человечество занималось с доисторических времен, станет анахронизмом. Что за перемены наступят тогда в нашей жизни! Об этом можно много говорить. Конечно, дорога к цели очень трудная. Подсмотреть «производственные технологии» растений – это, ни больше ни меньше, познать совокупность их жизненных процессов, то есть раскрыть тайны жизни. Может, не получится это сделать? Но я недавно читал, что за самыми тончайшими внутриклеточными изменениями отлично можно наблюдать, используя «меченые» атомы – искусственные радиоактивные элементы. И что даже открыли новые, заслуживающие доверия детали… Да, и в этой области уже работают.
3) Борьба с раком, с инфекционными болезнями продолжается. Потому что это задача наитруднейшая. Однако и тут есть определенные достижения. И, несомненно, правильно выбрано направление дальнейших исследований. А борьба со смертью? Людей, умерших «клинической смертью», можно оживить, если смерть длится недолго: несколько минут. Профессор Неговский из Академии медицинских наук СССР издал книгу о терапии клинической смерти[261]. Лечение смерти – разве это не замечательно звучит?! Эта книга является краеугольным камнем научной теории воскрешения из мертвых. Правда, воскрешение удается только в отдельных случаях. Иногда это невозможно. Но так дело обстоит сегодня. А через два года? Через десять лет? Разве можно знать…
Мне кажется, что я не придумал никаких действительно новых, действительно еще не затронутых задач для советской науки.
Предварительный анализ XXI века
До сих пор главной ошибкой всей футурологии было нежелание учиться на совершенных ошибках, потому что они почти всегда замалчивались. Но здесь я хочу начать с рассмотрения тех своих неудачных прогнозов, которые я дал в 1963–1964 годах в книге «Сумма технологии». Итог сравнения моих предсказаний с сегодняшней действительностью выглядит следующим образом.
Мои технико-инструментально ориентированные прогнозы по большей части подтвердились, по крайней мере большинство начало осуществляться. При этом случились некоторые вещи, которые я как самопровозглашенный футуролог тридцать семь лет назад считал невероятными: уже произошло то отважное и дерзкое, что я считал самой отдаленной возможностью в области изобретательства.
Здесь должно хватить двух примеров. Я говорил о «космогоническом инженерном искусстве» как о (находящемся в далеком будущем) методе для «создания вселенных», или для «управления» событиями в их внутреннем мире. Во-вторых, я говорил о возможности, позволяющей создать связь человеческих органов чувств с обрабатывающей информацию машиной, так что «подключенный» к ней человек окажется в искусственно созданном мире, который он едва ли сможет отличить от настоящего. Ту «машину» мы назвали бы сегодня просто компьютером. Это только начало, но все же я значительно недооценил временной интервал, который необходим для осуществления моей «фантомологии», так как я никогда не поверил бы, что смогу дожить до такого поворота событий.
В наше время ведутся тяжелые бои на различных фронтах идущей вперед биотехнологии: это споры между законодателями (и широкой публикой) и «технологиями» за разрешение или запрет, которые влекут за собой вопросы, подобные следующим.
Можно ли использовать органы детей, родившихся без мозга, для трансплантации? Можно ли оплодотворять человеческие яйцеклетки человеческой спермой в лабораторных условиях, чтобы после этого внедрить их в матку какой-нибудь женщины? Можно ли «взять в аренду» другую женщину, чтобы она выносила плод до рождения? Можно ли создать карту всей наследственной информации человека в рамках (уже начавшегося) проекта «Геном человека»? К каким социальным, юридическим и психологическим последствиям могли бы привести биологические вмешательства такого рода, если они будут применяться массово и как нечто обыденное, чтобы создать или уничтожить жизнь?
В польском парламенте под давлением католической церкви велись ожесточенные споры о наказуемости прерывания беременности, и такое решение наконец было принято, однако лишь в отношении хирургического вмешательства в женское тело (выскабливание матки), в то время как парламентарии, кажется, ничего не слышали о так называемой «новой пилюле», которая, если принимать ее три дня подряд при сроке беременности до восьмой недели, вызывает выкидыш.
Последний пример я привел потому, что он превосходно демонстрирует типичное столкновение нашей традиционной морали и этики с научным прогрессом. Ибо весь спор не доводится до окончательного результата в борьбе между законодателями и учеными, более того, дело идет обходным путем недавно изобретенной методики, так что проблема, вокруг которой ведется борьба, приобретает совершенно новый, совсем иной смысл.
Намного более серьезной ошибкой была недооценка побочных эффектов нашей «цивилизаторской экспансии». Многим опасным последствиям развития цивилизации я уделил очень мало внимания. Я просто не знал количественное соотношение в области всех опасностей, а также я не знал (я узнал это намного позже), что никогда не бывающее стопроцентным устранение всех выхлопных газов, ядовитых веществ и т. д. (с помощью фильтров, например), которые сопровождают любой производственный процесс, в среднем составляет половину всех производственных затрат.
Другими словами, я полностью неверно оценил масштаб грозящих нам опасностей как нежелаемых последствий роста. Собственно говоря, почему? Почему это было не только моей, то есть не только ошибкой дилетанта, но и ошибкой всех объединений американских футурологов, за исключением Римского клуба, который еще двадцать лет назад напрасно пытался, как Кассандра, призвать мир к нулевому приросту?
Мы находимся в преддверии многих невоенных взрывов: демографического взрыва, взрыва, разрушающего окружающую среду, взрыва, парализующего уличное движение массовыми пробками, климатического взрыва и т. д. В Восточной Европе и в Советском Союзе рынок стал сейчас идеалом, к которому нужно стремиться. Нельзя (или почти нельзя) критиковать структуру рынка с его динамикой предложения и спроса, и не по той причине, что свободная рыночная экономика принесла бы всем счастье, а потому, что бытует мнение, что до сих пор человечество не придумало ничего лучшего в области экономики. Марксистская альтернатива оказалась жалкой и несостоятельной, оставив после себя горы трупов и руины.
К сожалению, классическая рыночная экономика не очень хорошо подходит для того, чтобы независимо от сегодняшнего состояния всех производственных процессов, биржевых курсов, капиталовложений и так далее – предусмотрительно и предупредительно устраивать будущее для комфортной жизни или хотя бы на уровне прожиточного минимума.
Хотя зачастую люди знают, что нужно было бы сделать для будущего, но ведь «это того не стоит». Хотя очень хорошо известно, где еще имеются в изобилии запасы нефти, – затраты на добычу там выше, чем нынешняя цена за нефть на мировом рынке. Что в общем и целом это должно означать?
По крайней мере то, что сначала нужно дождаться наступления – или вторжения – кризисов, резкого падения курсов и увеличения цен, паники на биржах и в банках, прежде чем можно будет начинать спасательные мероприятия. Динамики рынка, преобразованного из своей «классической», содержащей кризисы формы в нечто более стабильное посредством регулирования и сдерживания, не хватает, чтобы пустить в ход долгосрочные, целенаправленные предупредительные меры, так как мир разделен на слишком большое количество государств, бедных и богатых, так как затраты слишком велики, так как финансово нельзя себе позволить то и это.
Потому-то и существует такое повсеместное затягивание и сдерживание многих решений, что политики и другие высокопоставленные лица, имеющие право принятия решений, находятся под давлением избирателей, банковской системы, общего реального экономического положения. Одним словом, целенаправленное, дальновидное планирование, деятельность и инвестирование существует только в очень скромных масштабах. Вследствие этого мы будем так же захвачены врасплох рецессиями, как землетрясениями или тайфунами.
Наступающее столетие будет все сильнее выявлять слабые стороны и некомпетентность рынка как мирового регулятора. У человечества появится необходимость в новой экономическо-структурной динамике, которую я сегодня могу предсказать, только высказав утверждение, что новые экономические связи и методы управления будут становиться все более необходимыми. Правда, создание мирового правительства под этим сильным давлением я считаю в высшей степени невероятным по причине существования огромных различий в культурах, религиозных обычаях, обусловленных традициями обрядах и принципиально различающихся политических системах.
По этой причине могут возникнуть войны, которые сегодня, конечно, нельзя предсказать ни территориально, ни во времени. Хотя можно было бы указать на центры особого внимания (подобно тектоническому напряжению в районах, где велика вероятность землетрясений), но, во-первых, это слишком рискованно и, во-вторых, дело одним махом может дойти до полного исчезновения напряжения.
Только себе представьте, что вдруг будет обнаружен или открыт новый источник энергии, который сделает совершенно излишними спор и борьбу за владение арабскими пустынями. Тогда арабами занимались бы так же, как сейчас жителями Алеутских островов или эскимосами.
Мы живем в век самого разнообразного ускорения: в политическом, технологическом, экодеструктивном, демографическом и климатическом смыслах – список можно было бы продолжить. Конечно, особенно сложно предупреждать дальнейшее развитие этого ускорения, ведь оно всегда готовит для нас новые сюрпризы. Предсказать полностью развитие всевозможных событий до XXII столетия, как мне кажется, абсолютно невозможно. Следовательно, мы попытаемся набросать важнейшие дилеммы XXI столетия в зависимости от их значимости:
1. Появится не только «постиндустриальное общество» и не только общество потребления услуг, а качественно новое общество, где самые серьезные проблемы возникнут в связи с достижениями в области биотехнологии. Другими словами, в нашем «искусственно преобразованном» мире – так как в природе, конечно, нет ни городов, ни атомных электростанций или автомагистралей – дело дойдет до вторжения технологии в последний природный заповедник прошлых веков – в наше тело и, кто знает, может, также и в нашу душу или, выражаясь умереннее, в наш мозг (как в органическое «устройство по переработке данных»). Поэтому дело должно дойти до все более ожесточенного столкновения религии (во всех конфессиях) с неумолимо наступающим прогрессом.
2. Дело дойдет до осады отгородившихся на островах богатых государств, – чтобы сдержать штурм толпы голодных и бедных, им придется не только вводить обязательную визу, чтобы положить конец наплыву беженцев. Глобальное решение этой проблемы (все более бедные против все более богатых) кажется мне в XXI столетии скорее нереальным. Сегодня ежедневно от голода умирают примерно сорок тысяч детей; это количество будет расти экспоненциально.
3. Дело может дойти до религиозных войн, хотя это сегодня может показаться кому-то безосновательным. Если богатые и дальше будут продавать диктаторам более бедных стран оружие на миллиарды долларов, дело может дойти также до обмена ядерными ударами, примерно как описано в романе «На берегу» Невила Шюта.
Кроме того, будут существовать поддерживаемые государством формы терроризма и новые, все более беспощадные тактики борьбы с ним посредством государственной власти. Будут вестись криптографические, никогда открыто не объявляемые войны, и могут возникнуть международные организации, которые пожелают всеми средствами обеспечить устранение определенных «препятствий на пути к своим целям». Наркомафия – это сегодня только скромное начало подобной расширенной, преступной, но также и могущественной деятельности.
4. Будут проводиться легальные, полулегальные и нелегальные попытки сократить и замедлить рост населения, например, с помощью искусственно произведенных химикатов, которые можно добавлять в продукты питания, поставляемые странам третьего мира, аэрозолей или тому подобного. Здесь возможны бесчисленные варианты, и их выбор и условия применения, конечно, будут зависеть от того, как, кто, что, где изобретет и искусственно произведет.
5. Нужно обратить внимание на то, что Германия, до сих пор федеративная республика на Западе, выдает себя за миролюбивое государство, в чем не стоит сомневаться, но в то же время на территории этого государства есть сотни промышленных установок, которые производят ракеты, ядовитые газы, пушки, подводные лодки, целые фабрики по производству смертоносных орудий и last but not least[262] детали машин и ноу-хау, служащие для строительства установок, которые могут произвести атомные бомбы или другое ядерное оружие.
Хотя вероятность превращения этого сильно любящего свободу государства в «настроенное совсем по-другому» и нельзя вычислить, но, несомненно, такое превращение не заняло бы много времени до того момента, когда Великая Германия явила бы себя удивленному миру. Я здесь не настаиваю на достоверности такого превращения, а только особо подчеркиваю его прагматическую простоту.
6. Возможно, Советский Союз будет существовать и дальше, но с настолько измененной формой и содержанием, что будет иметь мало общего с ленинским первоначальным состоянием.
7. В богатых государствах будет наблюдаться – параллельно с давно нам известной – абсолютно новый вид безработицы, а именно такая, которая раньше позволяла выжить лишь немногим людям: миллиардерам, великим князьям, королевским принцам, богачам. Уже сегодня (в свое время журнал «Штерн» выразил это весьма патетически) можно прочесть о том, какое это бремя, тяжелая ноша, какая скука эта роскошь, почти граничащая с мечтой, ничего не делать, потому что можно делать что угодно и больше не нужно заботиться о выгодной работе. «Электронная пещерная эпоха» с ее «автоматическим обслуживанием» и «исполнением всех желаний» станет формой рая, перемежающегося с адом. К примеру, кто уже сегодня может выбирать из тридцати телевизионных программ, имеет проблемы, но тот, кто должен выбирать из трехсот, может в некотором смысле почувствовать себя обманутым и заблудившимся в джунглях.
То же справедливо для новой, то есть будущей, продукции порноиндустрии. Поэтому также будет существовать тяга к самоубийству (особенно от наслаждения), так как многие уже сегодня знают, что удовольствие от сильных наркотиков – это путь к самоубийству.
8. В общем и целом XXI век будет столь же опасен, сколь и «интересен». Организованная преступность будет проводить в жизнь все более совершенную тактику, приборы будут выполнять все более безжалостные (насколько это вообще возможно) действия, а полиция, как и органы исполнения наказания, будут защищаться от этого тоже все более изысканными способами.
Будут созданы новые виды тюрем, надзора за подозреваемыми (охрана без человеческого присутствия, или «пустая» охрана, определенных групп людей) и тому подобное. Если следовать простой логике, во многих странах будет снова введена смертная казнь: тот, кому вынесли смертный приговор, больше не сможет способствовать очередным преступлениям своих сообщников, например, заставить освободить задержанных, угрожая захватом заложников.
9. Во многих странах автомобиль технически погибнет в мучительных пробках. Появятся новые средства коммуникации и новые формы предприятий. Электрический автомобиль – это не выход из дилеммы транспортных пробок, так же, как и местно эксплуатируемое воздушное сообщение (только наивные люди воображают себе, что каждый гражданин мог бы владеть вертолетом, как сегодня автомобилем, так как в воздухе непрерывно случались бы тогда бесчисленные столкновения).
10. Будет создана искусственная жизнь и синтетические биопродукты.
11. Но в общем пропасть между богатыми и бедными будет увеличиваться, пессимисты снова предскажут конец света, а оптимисты сохранят свою веру в фаустовское в людях и отложат осуществление всех надежд человечества на XXII столетие.
Пальцем в небо
I
Предсказание будущего снова в моде. Однако точные прогнозы невозможны. На попытках детальной конкретизации будущего споткнулись многочисленные предсказатели, которыми была богата вторая половина XX века. Говорю это не для оправдания самого себя, а потому, что теперь общеизвестны все неудачи футурологии, пытавшейся выйти за пределы обобщений.
Сначала обратимся к прошлому. В 1895 году президент Королевского общества в Англии лорд Кельвин заявил: «Создание летательных аппаратов тяжелее воздуха невозможно».
В начале XX века Французская академия предупреждала об экологической катастрофе, которая неизбежна из-за скопления конского навоза, в связи с развитием гужевого транспорта в Париже.
В 1903 году американский физик Альберт Михельсон утверждал, что все важнейшие законы физики уже открыты.
В 1929 году профессор экономики Ирвинг Фишер из Йельского университета заверил: «Акции достигли уровня, гарантирующего стабильность». Было это незадолго до всемирного экономического кризиса.
В 1957 году президент компании IBM Томас Уотсон уверял: «Думаю, что во всем мире есть спрос примерно на пять компьютеров».
Особую улыбку вызывает тот факт, что в 1899 году Чарльз Дуэлл, заведовавший Федеральным бюро патентов, предложил закрыть это учреждение, так как уже изобретено все, что может быть изобретено.
Прогнозы, обещающие невероятные инновации и даже переворот в очень многих сферах нашей жизни, сейчас стали настолько массовыми и даже повсеместными, что стоит открыть любой журнал, и обнаружишь их там без счета. Не только понятно, но и очевидно, что надо им противостоять, особенно в той мере, в какой они льют нам на мозги мутную воду, чтобы ловить в ней рыбку.
Действительно, климат изменяется, то есть теплеет, и это вызывает, особенно для умеренных широт и для такой части света, как Европа, отрицательные последствия, так как подогрев океанов усиливает энергию, направляющую ураганы и смерчи на прибрежные территории. Реальностью является также то, что научно-технический прогресс набирает ускорение (хотя и неравномерно распределенное в нашем мире), но и о том, и о другом я писал очень давно, для меня это очевидно. Предвидел я и внедрение технологических достижений в жизненные процессы. В то же время я отрицательно отношусь к прогнозам, которые уверяют нас, что уже скоро будет поставлен крест на различных опухолях, в том числе и злокачественных, что можно будет беседовать и дискутировать с компьютерами, оснащенными искусственным интеллектом, что клонирование приведет к возникновению складов человеческих запасных частей, таких как, например, почки, сердца или даже глаза и уши. Многие популяризаторы науки, глядя сквозь увеличительное стекло оптимизма на последние результаты экспериментов, утверждают, что уже сейчас можно из материнских клеток лягушки вырастить лягушачьи глаза, что должно означать, что глаза вскоре будут вставлять незрячим людям. Запасы горючих ископаемых, к сожалению, в конце концов истощатся, но предсказание, будто вместо них должны появиться так называемые топливные элементы, в которых главным источником энергии будет водород, – это запудривание мозгов, так как на Земле водород в чистом виде не существует, а извлечение его из воды осуществляется с помощью электролиза, то есть подачи соответствующего количества электрического тока. Людям, которые пишут о таких гениальных решениях, не мешало бы вспомнить известную историю о человеке, который так быстро бегал вокруг стола, что смог врезаться в собственную спину.
II. Следующие двести лет
Интересной, хотя, насколько я знаю, нетронутой областью является компаративистика фантастических произведений НФ с текстами, претендующими на предсказание будущего. Довольно часто ход истории меняется до такой степени, что фантазии становятся реальностью, и наоборот: то, что должно было описать будущую действительность, превращается в фантазию.
Книга Германа Кана «The Next 200 Years», написанная при участии сотрудников Гудзоновского института и изданная в 1976 году, которую я недавно перелистывал, – это один из примеров литературы, вымучивающей будущее, которая, нацелившись в грядущие века, утонула в несюжетной фэнтези. К счастью, во времена ПНР я не мог ознакомиться с подобной книгой, иначе одно только количество экспертов, помогавших автору, лишило бы меня смелости взяться за «Сумму технологии» при полном отсутствии у меня круга авторитетных советников. В книге «The Next 200 Years» содержатся многочисленные вымыслы, то есть несбывшиеся прогнозы. Однако эта книга была полна прометеевского оптимизма и излучала его, что обеспечило ей всемирную популярность и продажи. Сейчас она воспринимается как долгий странный сон, где существует Советский Союз, догоняющий США по валовому доходу, прекрасно себя чувствует Германская Демократическая Республика, претендующая согласно Кану на принадлежность к развитым странам; в этой книге описаны многочисленные достижения в различных сферах жизни, как, например, успешная замена источающихся запасов полезных ископаемых другими материалами. Но не в этом кроется главное поражение старой футурологической школы. О сетях коммуникаций, о плагиате жизненных процессов, о клонировании, о нанотехнологии, о геномике, то есть использовании технических достижений применительно к человеческому организму, В КНИГЕ НЕТ НИ СЛОВА. Между прочим, я, имеющий слабость к анекдотам, добавлю, что автор названной книги подготовил солидное количество предвидений для Франции, но поскольку французы не торопились ее приобретать, центр тяжести своих интересов он перенес на Японию. Можно предположить, что число попаданий в обоих случаях, похоже, совсем незначительно.
Вывод, сделанный на основе ознакомления с целым рядом научных трудов, опубликованных за последнюю четверть века, может звучать, например, так: труды человечеству нужные, желаемые или, кратко говоря, полезные для общества, следует воспевать, зато всего того, что могло бы стать диссонансом в оперной гармонии будущего времени, непременно следует избегать или, по крайней мере, упоминать об этом вполголоса где-то на полях текста и вместе с тем предлагать зримые в будущем эффектные противоядия. Жизнь таких прогнозов, пылающих прометеевским огнем, короткая, но для авторов, как правило, хорошо оплачиваемая. Впрочем, является фактом, который можно выделить в истории цивилизации, что человеческим ожиданиям свойственны крайности. Раньше те, кто с удовольствием угощал своих современников порциями кошмара, использовали другую лексику, поскольку вращались в иной жанровой сфере, чем эксперты, пугающие нас сегодня. В последнее время, например, модным стало распространение прогнозов, рисующих конец мира. Поворот к такому наиболее современному катастрофизму уже произошел в американском телевидении. О прогнозах катастроф в целом можно сказать, что они так же, как прическа и одежда, в особенности дамская, подвержены моде. Одни предсказатели считают, что Мировой океан провалится под землю, из-за чего мы погибнем от засухи. Другие говорят, что гаснущее солнце превратится в красного великана, который вскипятит все океаны, жизнь же испепелит. Учитывая потепление климата, вчерашние крайние пессимисты, скромно полагавшие, что мы замерзнем в надвигающемся ледниковом периоде, уже оказались выведены из первой шеренги глашатаев гибели. Новейшим явлением стали предсказания (не хочу говорить – обещания) дозированной гибели, а именно вызванной падениями метеоритов, которые сделают с нами то, что пресловутый юрский болид сделал с динозаврами. Всякие такого рода смертоносные (и не только геноцидные) ужасы изображаются нам не только на словах, поскольку взрывы, оледенения, планетарные столкновения, то есть всевозможные катаклизмы, несущие нам гибель, можно прекрасно наглядно показать благодаря компьютерной анимации. Убийство, касающееся отдельных личностей, является уже, видимо, слишком слабым стимулом. После просмотра нескольких такого рода зрелищ, которые в перерывах сопровождаются рассуждениями ученых, уверяющих зрителей, что речь идет о реальных, серьезных угрозах, а не о сказках, человек невольно начинает удивляться, почему ничего еще с небес не упало ни рядом с ним, ни на его голову. Производители таких превосходно имитируемых катастроф явно размножаются. В действительности же значительно более правдоподобным является столкновение транспортных средств, землетрясение, паводок, гибель от голода или, наконец, войны, но, очевидно, мы уже так свыклись с традиционными всадниками Апокалипсиса, что новые ужасы оказались на пике спроса.
Таким образом, гарантированные научными авторитетами прогнозы превращаются в сказки, а вчерашние небылицы утопического характера становятся нашей повседневностью. Наблюдая за этой футурологической каруселью, хочу высказать отрезвляющее наблюдение, что нас преимущественно (хотя и не всегда) минуют как технологический рай, так и дьявольские удары Природы. Из сказанного следует такой вывод, что следует быть предтечей, страхующимся сдержанностью и не слишком хорошо предвидящим будущее, поскольку за дальновидность платят забвением, зато ничтожная точность прогнозов может обеспечить желаемое поддержание духа.
III. Сплошные промахи
В одном из последних номеров «Интернэшнл геральд трибюн» на второй странице я увидел фотографию Фрэнсиса Фукуямы. Она находилась в центре статьи, которую я прочитал не без улыбки, потому что Фукуяма мимолетно упомянул о своей хорошо известной книге, а именно о конце истории и конце человека[263]. Но ни единым словом он не оценил эти свои два эссеистических залпа, которые оказались двойным промахом. Зато рассказал журналисту «Геральда», который вел с ним беседу, что только что закончил писать очередной труд, на этот раз посвященный подлинной стратегии супердержав. Я уже точно не помню, сказал ли это сам Фукуяма, или же беседующий с ним журналист, но из их обмена мнениями я узнал, что Фукуяма когда-то во время учебы дружил с Вулфовицем, то есть с первым заместителем Дональда Рамсфельда. Далее в разговоре выяснилось, что Фукуяма положительно относится к американским неоконсерваторам и что среди них и звезда американской публицистики уже постаревший Норман Подгорец.
Это меня развеселило потому, что необыкновенная легкость, с которой американизированный японец поочередно меняет эсхатологические темы своих демонстрирующих эрудицию произведений – подобно бабочке, перелетающей с цветка на цветок, – на первый взгляд представилась мне эквилибристическим неуважением. Однако после размышления я пришел к мнению, подытоживающему содержание упомянутой статьи, что именно теперь, то есть в ситуации постоянно нарастающего ускорения событий, быстрое игнорирование того, что написал автор, – даже если бы он был известный в мире эссеист, – это типичная тактика. Никто не воспринимает серьезно, то есть со всей щепетильностью, очередное принципиальное изменение позиций, даже мировоззренческих. Скорее всего это так, как и должно быть.
Такие ежедневные издания, как «Геральд» или «Нью-Йорк таймс», иногда производят странное впечатление, потому что на их страницах соседствуют статьи, содержащие и доброжелательное изложение выступления Джона Керри, который старается навредить президенту Бушу как кандидату на очередной срок полномочий, и сплошные филиппики, полные выстрелов в грудь Керри, направленных самим Бушем. Такое оксимороническое соседство очень часто сопровождается карикатурами, как правило представляющими президента Буша полным болваном. Этот порядок распространения политической информации соответствует духу времени, согласуется с духом демократии, так как именно таким образом проявляется настоящая свобода, присущая Соединенным Штатам.
Добавлю, что считаю чтение без особого раздумывания журналов, и даже газет как «Форинг ньюс», подробно рассматривающих мировые события, одним из наиболее разумных способов поведения. Оболваненный читатель должен выйти на правильный путь, то есть стать на нужную сторону в ноябре текущего года во время выборов президента. Из других источников известно, что республиканский кандидат, то есть Буш, скорее всего победит Керри, а то, что по мнению специалистов новые электронные устройства для голосования плохи, ему никоим образом не помешает, потому что, как пишут теперь в американской прессе, избранию на первый срок полномочий Буш был обязан потерянным голосам в количестве примерно пятиста тысяч. Я не знаю, правда ли это, потому что в подобных вопросах мы обречены исключительно на ту информацию, что доносят нам СМИ, и тем самым мы не можем стать на сторону более правильного порядка мировой политики.
Более кратко вышесказанное можно изложить следующими словами: Фукуяма стреляет из заряженного эрудицией пулемета с таким же успехом, как пальцем в небо, и ничем это не вредит его всеобщему признанию.
Вопросы и прогнозы
Профессор Ипке Вахсмут из университета в Билефельде, который был инициатором недавнего присвоения мне этим учебным заведением степени почетного доктора[264], прислал письмо с просьбой, чтобы я ответил на четыре вопроса для издаваемого там журнала.
Вот эти вопросы:
1. В своих романах и рассказах Вы описывали будущее развитие событий порой пророческим образом. Что нужно, чтобы прогнозировать столь успешно?
2. Иногда и самый мудрый человек ошибается. Случались ли у Вас особо болезненные ошибки?
3. Какие перспективы государственного, социального и технического развития ждут жителей Средней Европы в течение ближайших пятидесяти лет?
4. В чем Вы видите надежду на то, что человечество не станет безнадежным и неизлечимым случаем?
Я ответил следующее (излагаю с сокращениями):
1. Осмысленные прогнозы будущего возможны исключительно в научно-технологической сфере, в то же время невозможны прогнозы политические, идеологические или касающиеся государственного строя. Как самый общий указатель направления я использовал естественную эволюцию жизни, ибо я ориентировался в соответствии с принципом: то, что было возможно в биоэволюции и что смогло появиться благодаря силам природы, мы сможем когда-нибудь повторить технологически. Мне приходит на ум высказывание известного математика Гильберта: «Мы должны знать и поэтому будем знать». Я когда-то сформулировал это иначе: «Эволюцию надо догнать и перегнать».
2. Неудачные прогнозы меня особо не огорчают и не беспокоят, поскольку в них неизбежно присутствует фактор риска. В ущерб результатам я почти никогда не учитывал влияния военных или коммерческих факторов на содержание моих прогнозов, и, к сожалению, почти в 90 процентах случаев именно эти факторы являются определяющими для будущих явлений, развивающихся благодаря новым открытиям или изобретениям. Например: ракеты, посланные на Луну, первоначально разрабатывались как оружие.
3. Я не имею ни малейшего понятия, что случится в Средней Европе через 50 лет. История – это игра с меняющимися протагонистами и антагонистами. В XX веке соотношение сил было довольно простым: капитализм против коммунизма, Соединенные Штаты против Советов. В настоящее время мы имеем дело с началом новой игры: с одной стороны террористический экстремизм ислама, с другой – мир цивилизации Запада.
4. Я не уверен, можно ли гарантировать человечеству долгосрочное мирное существование.
Я старался ответить, опираясь на мои знания, и вместе с тем не вдаваясь в более подробные рассуждения. Исполнившиеся прогнозы часто соседствовали с теми, которые не исполнились. Здесь имеет место фактор человеческого несовершенства, под которым я понимаю не только глупость или отсутствие интеллекта, но также и иррациональные составляющие человеческой природы, которые, к сожалению, не были достаточно хорошо видны нам, находящимся в коммунистическом плену. Запад казался нам тогда чем-то вроде современного рая. Оказавшись сегодня на пороге этого рая, мы видим, что он не столь великолепен.
В польской редакции журнала «Ньюсвик» я читаю, какими ужасными гадостями кормят наши автомобили большинство топливных станций. Иногда в баки заливается топливо пополам с водой. Повсеместность и безнаказанность этих преступлений меня поражает. Мне ежедневно по почте приходят многочисленные приглашения на религиозные мероприятия с окроплением святой водой. Как сочетается одно с другим? Не понимаю, в какой, собственно говоря, стране мы живем: в стране на 90 процентов католической или в стране преступников и бандитов? Я говорю преувеличенно жестко, но к подобным размышлениям приводит наблюдение за дебатами в сейме. Это не те вопросы, которые я хотел бы выносить на международные форумы, в таких случаях я предпочитаю изображать глухого и слепого, но ведь кто-то, кто ждал сорок лет, чтобы, советский кошмар наконец, закончился, чувствует, что его ожидание каким-то фатальным образом не оправдалось.
Ниццу мы уже вроде проиграли[265], хотя еще немного защищаемся, как карп или щука, которые получили молотком по голове, но еще трепыхаются. Нас оценивают как спортсмена среднего уровня; мы не маленькие, но и не большие. Разумеется, проблемы есть у всех государств в мире. Целый специальный выпуск американского «Ньюсвик» полон удивления, почему Америка, страна столь могущественная, не может справиться с террористическим экстремизмом. Наилучшим сравнением является бернардинец, у которого на спине осело целое стадо блох. Он может решать свои проблемы, но блохи не перестанут сосать у него кровь.
В сопоставлении с тем, что происходило во Вьетнаме, а перед тем на американо-японском и американо-немецком фронтах мировой войны, теперешние американские потери в Ираке, разумеется, скромны: тогда это были сотни тысяч солдат. Однако бессилие в отношении столь сильно рассредоточенного противника огромно, и причиной этому – языковой, нравственный и религиозный барьеры. Не известно даже, какое определение использовать: идет ли речь о партизанах или о террористах.
В настоящее время на Западе существует суперфиксация нелюбви и даже ненависти к президенту Бушу. Немецкая и французская пресса внушают, что если бы он куда-нибудь ушел, то сразу бы стало прекрасно. Это, разумеется, неправда: без учета того, есть ли Буш или его не будет, ситуация, в которую оказался втянут мир, не исчезнет по мановению волшебной палочки. Приписывание всяческого зла исключительно Бушу кажется мне заблуждением, хотя я вовсе не считаю, что неожиданные ходы, к которым президента склоняет его интеллектуальное окружение, как, например, появление в Багдаде среди американских солдат с пластиковой индюшкой, могут что-либо решить.
Буш – это не демон и не проводник на пути к лучшему будущему; он довольно посредственный политик, который оказался в ситуации превышающей его уровень и возможности, в ситуации, столь запутанной, что, к сожалению, ни один индюк, даже увенчанный лавровым венком, ее не изменит. С другой стороны, несмотря на очень плохое мнение заграницы о Буше, число голосов, на которые он может рассчитывать на ближайших выборах, велико, и его переизбрание остается правдоподобным.
Возвращаясь к началу: можно предвидеть развитие в технологической, медицинской и биологической областях, но в сфере государственного устройства, в идеологической и вообще духовной жизни человечества ничего предвидеть не удастся. Я не понимаю, например, почему в изобразительном искусстве сейчас стало господствовать уродство (в прессе подобное изумление недавно выразил Милош). И это уже не единичные выходки, как в случае турпизма[266] в нашей поэзии конца 50-х годов.
Кшиштоф Мышковский попросил, чтобы для журнала «Квартальник Артистичны» я высказался о скульптурах Джакометти, которые сейчас экспонируются в Польше. Я не люблю Джакометти, поэтому написал, что если хочется создать художественное произведение, подобное его скульптурам, следует взять пеньковую веревку, немного обтрепать и положить в концентрированный раствор сахара. Тогда на ней осядут кристаллы, она станет шершавой и из нее можно будет выполнить различные фигуры женщин и мужчин. Милош чувствовал себя таким смельчаком, когда писал о повсеместно распространенном сегодня уродстве, что в конце своих замечаний попросил за это прощения у читателей. Я извиняться не намерен.
Футурология у рулетки
Из изданной недавно в Германии философской энциклопедии «Großes Werklexikon der Philosophie»[267] я узнал, что являюсь философом аналитического толка, в своих высказываниях близким к таким мыслителям, как Поппер, Рассел и в некоторой степени Шопенгауэр. Чтение текстов в этом энциклопедическом словаре, посвященных мне, дало мне толчок для возобновления заброшенных некогда попыток зондирования будущего, называемых футурологией.
Как я уже повторял несколько раз и в разных местах, мои предвидения не указывали некую единственную дорогу, относящуюся к развитию технологии, но были скорее чем-то вроде путеводителя по Гималаям или – если кому-то это больше понравится – обширному перечню блюд большого ресторана. Оба эти сравнения следуют из того, что как посетитель ресторана не употребляет в пищу всех блюд из меню, так и человек, отправившийся в путешествие в горы, не взбирается на все вершины. Проще говоря, горные маршруты, так же как и обеденные блюда, можно выбирать. Однако всегда имеется некая общая черта: для всех альпинистских экспедиций это восхождение на гору, а для посещений ресторана – поглощение блюд. Таким образом, в каждой из этих областей осуществляется выбор, в том числе и определенной схемы поведения.
Итак, принимая во внимание все высказанное, уже могу предпринять попытку футурологии. На основании событий, произошедших за последние несколько десятков лет на научном фронте, можно сказать, что перед нами вырисовывается реальная перспектива создания таких макромолекулярных соединений, которые будут обладать способностью к самовоспроизведению и, тем самым, – к размножению, то есть проявлять возрастающее подобие типично биологическим процессам. О таких возможностях я мечтал еще в шестидесятые годы прошедшего столетия, когда в книге «Сумма технологии» писал о выращивании информации. Пока еще саморазмножающихся молекулярных систем нет, но мы уже наблюдаем возможность их появления в виде многомолекулярных комплексов, которые стирают грань между мертвой и живой материей.
То, что я представил, не является моим изобретением, это скорее сжатое изложение существующих концепций ученых и технологов на границе информатики, генетики с еще неясными последствиями – и грозной страны клонирования. Я не буду вдаваться в нюансы исследований в этих областях, но в мировой научной литературе уже можно найти диаметрально противоположные оценки того, к чему может привести подобного рода прогресс.
В то время, когда одни специалисты приветствуют головокружительные перспективы техносозидающего будущего, с энтузиазмом объявляя триумфальную победу над всеми терзающими человечество недугами, вплоть до бессмертия усовершенствованного человека, другие эксперты видят в подобного рода прогрессе настоящую катастрофу для нашей цивилизации, прямо-таки конец человеческого рода.
Такие диаметрально противоположные оценки не могут служить твердым основанием для дальнейших научных исследований. Оптимисты призывают к максимально широкому развертыванию исследовательских работ; крайние пессимисты совершенно серьезно требуют прекращения во всем мире всевозможных биогенетических и макромолекулярных исследований и, в особенности, ориентированных на создание все более совершенного компьютерного оборудования. Когда первым представляется совершенно новая эра сверхчеловеческого развития, другие на том же пути видят просто самоубийственное сошествие в ад.
Раз уж я затронул такую насыщенную внутренними противоречиями тему, то добавлю свои три копейки. Я не верю ни в то, что мы сможем в грядущих поколениях преобразовать человека в супермена, еще и бессмертного вдобавок, ни в то, что какие-то суперкомпьютеры, намного превосходящие нас своими возможностями, сведут человечество в могилу. Отдаю свой голос в пользу пути, пролегающего между названными экстремумами, то есть считаю, что не будет все так великолепно, как утверждают сторонники восхождения на вершину управляемой человеком автоэволюции, но также и возрастающие возможности электронных устройств не станут причиной гибели нашего вида.
Мне также кажется, что в любом предсказании будущего следует соблюдать меру. Возможностей перед нами много, поэтому мы должны действовать как опытный игрок в рулетку, ставящий фишки не только на какое-то одно поле, а предварительно выбирает несколько. Такой совет кажется мне благоразумным, но очевидно, что он не имеет – потому что не может иметь – никакого влияния на дальнейший ход истории человечества. История непредсказуема и все еще открыта перед нами.
На Марс?
Роберт Зубрин, инженер в области астронавтики, участвующий в американской программе космических полетов, один из основателей Марсианского общества в Соединенных Штатах, пробился к президенту Бушу-младшему в подходящий момент. Буш искал лозунг, который облегчил бы ему избрание на второй срок – и подхватил идею Зубрина, решив приняться за освоение Марса.
Не скрою, что считаю успех этого предприятия в высшей степени маловероятным. До сих пор из всех четырех попыток (без экипажа) достичь Марса и совершить посадку успешной была только одна. Отсюда следует, что предполагаемые затраты на космический полет с экипажем нужно умножить, по крайней мере, на четыре. Если мы слышим о девяноста миллиардах долларов, в действительности это будет означать около четырехсот, так как катастрофы неизбежны.
До сих пор нет иной системы энергообеспечения космических кораблей посредством химической энергии, и поэтому скорости больше семи-восьми километров в секунду достичь не удается. До Луны около четырехсот тысяч километров, до Марса – в четыреста раз больше. Мы не можем себе представить, какие психологические или социально-психологические трудности возникнут при нахождении нескольких астронавтов в замкнутом пространстве в течение многих месяцев. Не говорю уже об обеспечении их на время полета – и возвращения! – всеми необходимыми запасами и устройствами.
Свою книгу, названную «Entering Space»[268] – речь идет о проникновении в космическое пространство и переносе элементов земной цивилизации на иные планеты, в первую очередь на Марс, – Зубрин начинает с очень добросовестных расчетов, но постепенно уходит в область вдохновенной фантасмагории. По мере того как он отдаляется от системы Земля-Луна, крылья его воображения разрастаются и в его выводах остается все меньше конкретики, а все больше полета. И президент Буш, будучи дилетантом в этой области, полностью доверяет тому, что Зубрин с коллегами ему рассказывает.
Впрочем, Буш может только дать старт программе, реализацией же полетов на Марс, запланированных на 2025–2040 годы, должны будут заняться его последователи, не говоря уже о необходимости согласия конгресса на финансирование, а это огромные, миллиардные затраты. Существуют опасные прецеденты, например, проблема так называемого суперколлайдера, то есть гигантской системы подземных тоннелей, в которых должны были двигаться с бешеной скоростью элементарные частицы. Тоннели построили, но затем Конгресс урезал финансирование на продолжение работ, и сейчас подземная конструкция используется, кажется, для выращивания шампиньонов… На Марсе шампиньоны, скорее всего, выращивать не будут. Зубрин и его помощники очень стараются показать экономические блага, которые благодаря марсианской программе хлынут на Америку и мир. Можно с полным правом ответить: раз уж вас интересует освоение крайне негостеприимных территорий, займитесь Сахарой или Антарктидой.
Когда Кеннеди захотел, чтобы американцы первыми ступили на Луну, речь шла исключительно о политическом соперничестве с Советами. Экономической прибыли не ожидали, поэтому после шестнадцати полетов программу просто заморозили. Если бы удалось не только долететь, но и вернуться с Марса – это было бы великое достижение, но оно, однако, не смогло бы стать мощным толчком для развития цивилизации, – таким, как экспедиция Колумба в Америку.
Освоение Марса Зубрин обозначает термином terraforming; речь идет о преобразовании этой планеты по образцу Земли, на что, по его мнению, потребуется сто лет. Я думаю, что эта титаническая задача выше человеческих сил как сейчас, так и в следующие десятилетия. Марс – это абсолютно пустынная планета, безвоздушная и безводная, словно в полном смысле выжженный шар; что могло испариться – уже испарилось. Также и вода является своего рода пеплом; чтобы этот пепел выделил из себя глоток кислорода, необходимо использовать энергию. И мечты о следах древней жизни под поверхностью планеты или о замерзшей там воде остаются мечтами, свидетельствами о существовании таких следов мы не располагаем.
Так как в соответствии с международными соглашениями недопустимо стартовать с Земли, используя атомную энергию, вначале планируются полеты на Луну кораблей с использованием химической энергии, а оттуда уже старт на Марс с использованием атомных двигателей. Это напоминает мне человека, который говорит: «Я вчера женился и хочу, чтобы моя праправнучка стала королевой Англии». Между женитьбой этого человека и судьбой его потомков разверзлась временна́я пропасть, поэтому такие планы сложно признать реалистическими.
Не знаю почему, но считается, что раз уж я написал пару книг из области научной фантастики, то не существует настолько сумасшедшей идеи, которую бы я не поддержал с огромным энтузиазмом. Но нет; я настроен скорее скептически. Каждый последующий шаг по дороге на Марс полон опасностей, а по мере увеличения количества этих шагов шансов на успех операции все меньше. Хотя затраты возрастают, но экономия в космосе не оправдана. Кроме американского зонда, который счастливо долетел до Марса и передает оттуда фотографии, был также второй проект, европейский, экономичный, без тормозящих ракет. Ну и никто не знает, что с этим несчастным вторым зондом произошло. А причиной недавних проблем международной космической станции, которая обращается вокруг Земли, оказалась дыра размером с булавочное отверстие.
Недавно я смотрел обращение президента Буша к народу. Огромный зал. Буш говорит, что принес Ираку свободу, все встают и аплодируют. Через минуту то же самое. Переключил на другой канал; уж очень это напомнило мне прежние передачи из Кремля. Силой аплодисментов на другую планету не доберешься. Кроме того, мотивации Буша и Марсианского общества расходятся как вилы. Буш хочет получить как можно быстрее политические выгоды и не задумывается, что будет после. Так поступать нельзя; глупо ожидать, что все как-то образуется.
Впрочем, лично я считаю, что такой проект, как колонизация Марса, в первую очередь требует решения политических и экономических проблем на Земле. А раздоры жителей земного шара сегодня настолько велики, что только сумасшедший может надеяться на перенос нашей цивилизации viribus unitis[269] на другую планету.
Мир в XXI веке
1. Я не считаю возможной колонизацию Марса или иных небесных тел нашей солнечной системы. Возможным же будет создание орбитальной станции и лунного исследовательского поселения (Луна может также являться великолепной военной базой). Дальнейшее освоение Космоса (но не средствами пилотируемой космонавтики) будет зависеть исключительно от технической мощи, а значит, денег.
2. В области биотехнологии новые возможности (продление жизни, преодоление геномных межвидовых границ, клонирование, выращивание эмбрионов – необязательно человеческих – в качестве «склада запасных частей» для пересадки, неотерапия, усиленная нано– и пикомолекулярной инженерией) станут общедоступными.
3. Законодательство будет либо плестись в хвосте технических и технологических инноваций, либо будет пытаться – впрочем, напрасно – тормозить прогресс, проводя политику запретов.
4. Вероятность применения атомного оружия будет возрастать параллельно вероятности практического использования (для военных или террористических целей) биологического и химического оружия, в том числе и нетрадиционного (например, скрытое рассеивание средств контрацептических или вызывающих рак и т. п.). Хорошим примером реальности такой угрозы является конфликт Индия – Пакистан, который был близок к «атомному».
5. Тайно будут разрабатывать орбитальную противоракетную оборону с конечной целью (сейчас ее сложно конкретизировать) создания гамма-лазеров и излучения (возможно, нейтринного), способного проникать в бункеры межконтинентальных баллистических ракет и вызывать изменение взрывной критической массы нуклидов (например, путем изменения параметров поглощения нейтронов).
6. При незначительной вероятности возникновения мировой войны будет увеличиваться количество сложных для разрешения кровавых локальных военных конфликтов и гражданских войн.
7. США надолго сохранят свое мировое господство. Ни Россия, ни Китай не смогут догнать Соединенные Штаты в военном отношении, что не исключает враждебных действий с их стороны. Однако если США не осуществят позитивные экономические и политические перемены (например, снижение всемогущей роли денег и наглости, маскируемой лицемерием), глобальная ситуация уже к середине XXI века может измениться радикально. Например, технологическая денуклеаризация мира может подтолкнуть его к переходу в эру традиционных сражений, то есть к системе Клаузевица.
8. Человечество будет подвержено усиливающемуся разделению, среди прочего – парадоксально – благодаря успехам псевдоглобальной связи («псевдо», потому что большинство бедных стран третьего мира не сможет себе позволить подключение к Всемирной сети). Чем стремительнее будет демографический рост, тем большей станет поляризация человечества и разделение на идущих в ногу и отстающих. В процессе этого прогрессирующего разделения мира на области нужды и изобилия поляки должны будут сделать выбор: или будем пытаться присоединиться к лидерам, или спрячемся в своей этнической норе. Думаю, что в этой лотерее Польша скорее всего проиграет по причине культивирования излишней свободы (вспомним бессмертное liberum veto[270]). Victoria stultitiae[271].
X Станислав Лем мечтает
Офис Пегаса
В одном из последних номеров журнала «Przekrój» Мельхиор Ванькович осуждал консерватизм наших писателей, сторонящихся модернизации собственного труда. При этом он упоминал и мои жалобы на то, что переписка съедает у меня все больше времени, которое эффективнее послужило бы для написания новых книг. А ведь – такова была мысль Ваньковича – с этими проблемами удалось бы легко справиться, взяв себе секретаря.
Эти признания я пишу в пять часов сорок минут утра, ибо в другое время я бы их написать не мог. За мной тянется хвост почтовых задолженностей, длиной приблизительно в три недели, так как я не ответил еще на множество писем того времени.
Пишущая машинка окружена стопками перепутанных машинописных рукописей, конвертов, книг, корректур и других бумаг. Те, что на столе уже не помещаются, громоздятся стопками на подоконниках. Передо мной, на полке – длинный ряд скоросшивателей с прошлогодней корреспонденцией. Оттуда выглядывают подзорная труба для наблюдения за кометой Когоутека, приобретенная в декабре прошлого года, китобойная шхуна, собственность моего сына, в последнее время судовладельца-любителя, а также множество других жизненно необходимых предметов. Одним словом, я подвергаюсь по сути фатальной бюрократизации, но вместо того, чтобы защищаться от нее, приняв на работу секретаря, как благоразумно советует известный специалист Мельхиор, я пишу письмо в «Przekrój».
Но прошу учесть, как бы работа секретаря выглядела у меня на практике. Я не получаю корреспонденцию мешками, а только от четырех до шести – это дневная порция. Может быть, лучше представить дело на конкретном примере вчерашнего дня. Я получил:
1) предварительную корректуру очередного романа от американского издателя;
2) часть перевода другого романа – для авторизации;
3) письмо от художника из Киева, который на четырех страницах анализирует мои книги и к этой критике присоединяет собственный перевод стихотворения, которое создал в «Кибериаде» так называемый Электрувер;
4) письмо из университета в Регенсбурге, куда я должен ехать в мае с лекцией;
5) письмо от редактора моих книг из США;
6) письмо от одного краковского логика, который объясняет мне, как в настоящее время логика относится к понятию противоречия в связи с изучением так называемых международных языков.
Поскольку типография как всегда ждет и как всегда у нее горит, сначала я взялся за корректуру, которая, впрочем, заключается только в проверке, нет ли в английском тексте каких-либо нонсенсов (книгу верстал компьютер – компьютеры тоже делают глупости). Корректуру прервали два телефонных звонка: из ГДР, куда меня приглашали на радиоинтервью (я отказал), и из Литературного издательства (Wydawnictwo Literackie), куда отправлюсь сегодня (с корректурой нового издания «Суммы технологии» и чтобы рассмотреть образцы обложек к серии произведений фантастики со всего мира, которые я выбираю, так называемые «сливки жанра»[272]). Затем я авторизировал перевод, написал четыре просроченных письма и рылся в бумагах на столе, чтобы найти необходимые заметки.
В перерывах же этих офисных работ я колотил выбивалкой покрывало с кровати, отдаваясь грустным размышлениям на тему замка в дверях, который собственноручно искромсал топором и ломиком тремя днями ранее, ибо замок заклинило, а теперь надо установить новый, что не очень просто сделать.
Кроме того, я выпил кофе, почесал брюхо собаке, выгнал одного вредного кота, вернувшись же в свою комнату, в течение минуты с грустью присматривался к рукописям нескольких новых вещей, придавленных массой других бумаг, рукописям, за которые не могу взяться уже два месяца. После чего опять начал читать английский перевод. Он оказался столь замечательным – может, это из-за моего недостаточного знания этого языка, но у меня было впечатление, что переводчик местами улучшил звучание оригинала, – что следовало бы ему об этом написать, только когда? В конце концов, я решил отправить благодарственную телеграмму.
С сухой, статистической стороны, дело выглядит так: неправда то, что печатают зарубежные издатели на обложках моих книг, будто бы тираж превысил восемь миллионов экземпляров (мне кажется, что дотянул только самое большее до шести), но зато в этом году появится перевод на двадцать восьмом языке. В этом году за границей уже были изданы четыре мои книги. Напечатают еще одиннадцать или двенадцать: в Венгрии, Японии, ГДР, ФРГ, Румынии, Швеции и других странах. Замечательно, но это и необыкновенно тяжелый труд.
Теперь дадим волю совсем фантастическим мечтам. Некий человек, который захотел бы быть у меня секретарем, должен знать, по меньшей мере, в письменной и устной форме три иностранных языка, немного ориентироваться в авторском праве, а также в финансах, и в процессе работы не может рассчитывать ни на какой карьерный рост (на какой, собственно говоря? Началась бы карьера в должности секретаря и в этой же должности закончилась бы). Предположим, что некто такой нашелся, кто предпочел бы эту должность месту в Министерстве иностранных дел, Министерстве внешней торговли или в сотне других мест, где требуются полиглоты с юридическим образованием.
Предположим, что нашелся бы такой молодой, энергичный, многоязычный чудак по имени Ясь. Что входило бы в его обязанности?
Сначала – пробежки на почту (четыре километра от дома) за всевозможными пачками с книгами, манускриптами, корректурами – потому что почта на дом их не доставляет. Я сам вынужден за всем этим бегать с 1958 года, то есть с того времени, как поселился на этой окраине Кракова. Пачки порой бывают чертовски тяжелыми, потому что это книги.
Следующее – сортировка корреспонденции. Отдельно дела отечественные, отдельно заграничные, отдельно письма личные и от читателей, отдельно письма официальные и т. д. На множество писем я не отвечаю – Ясь бы это мог делать от моего имени. Не знаю, согласился бы он бегать на почту с моими книгами, которые присылают читатели, жаждущие автографов. А такие, к сожалению, есть, и они удивляются – а может, и очень дурно думают обо мне, – когда присланные мне книги не получают обратно. Но, может быть, его это забавляло бы, как и отправка моих фотографий срочно их требующим. Но корректуру, авторизацию, личные письма на себя взять бы он не мог.
Не знаю также, где бы я его, собственно говоря, должен был бы разместить. В моей комнате? Нет, ибо уже и для меня там мало места. На лестнице? Нет, ибо там мой сын и его ровесники установили канатную дорогу. В гараже тоже нет, а подвал так заполнен книгами, что в него едва можно протиснуться. Может, в саду – когда стоит хорошая погода?
Но это все еще мелочи. Одаренный организаторской гениальностью, чудесный Ясь распутывал бы гордиевы узлы моей жизни. Например (и чтобы было как в Евангелии – «Пусть не знает десница…») такой: издательские договоры я заверяю через Авторское агентство, которое потом их отслеживает, но гонорары инкассирует ZAIKS[273]. Благодаря этому я не знаю, КТО должен издать ЧТО, КОГДА, КАК, ЗАПЛАТИЛ ЛИ, хотя теоретически обладаю копией каждого договора. Но тут уже нужно знание высшей бухгалтерии, как и умение ориентироваться в издательском мире.
В США, СССР, ГДР, ФРГ я имею серьезных издателей, но в Швеции, например, издали мой роман с болгарского перевода – и не с кем судиться, потому что издатель обанкротился, оставив дела незавершенными и долги. Перевод, как мне донесли, ужасный – и что с того, что узнал я это благодаря Авторскому агентству? Я не понимаю также французов, готовых читать мою «Кибериаду», в переводе ставшую нагромождением безграмотных нонсенсов (хотя издатель будто бы серьезный – «Denoël»). Должен был бы Ясь и в издателях разбираться? С такой квалификацией он мог бы уже метить на место директора департамента в Министерстве культуры и искусства.
Ужасна проблема переводчиков. У Агентства есть их список со всего мира, но какой: в перечень включается, пожалуй, любой, кто заявит, что может переводить с польского. По этой причине в процессе издания одной моей книги в США дело уже дошло до судебного процесса, так как перевод оказался никуда не годный. Впрочем, на Западе переводы – это ремесло низко оплачиваемое. Хорошо переводят те, кто умеет и кого действительно и автор, и книга интересуют не только по финансовым соображениям. Поэтому для немецких и английских издателей я лично осуществляю контроль за качеством переводов, правда, только небольших фрагментов произведений. Чтобы это за меня делать, Ясь должен был бы овладеть не только знанием синтаксиса иностранных языков, но и обладать художественным вкусом, чтобы решить, какой из присланных переводов одного и того же фрагмента произведения является лучшим, кому, следовательно, отдать для перевода книгу. Прошу не думать, будто я какое-то исключение из правил, и что другим нашим писателям везет больше. Некоторые переводы Гомбровича – я держал их в руках – кошмарны, а «ТрансАтлантик» по-французски – это сущая бессмыслица.
Два года я не был в кино и почти три в театре. В прошлом году у меня не было отпуска, потому что месяц в Закопане, когда я там пишу, – это ведь никакие не каникулы. Правду говоря, живу как скотина, и что с того, что подобно такой, которой хорошо живется. Я уже почти перестал выезжать из дома. Почему? Как это почему? В прошлом году я должен был быть на Франкфуртской книжной ярмарке, как раз выходили две мои новые книги, ждали меня какие-то журналисты, издатели, телевидение, бог знает кто. Приехав в Варшаву за паспортом, я узнал, что с отъездом ничего не получится, так как истек срок действия паспорта, о чем я не знал, и ни один чиновник тоже об этом своевременно не побеспокоился. Таким образом, я отправил только телеграммы с извинениями.
В мае я должен читать лекцию в Регенсбурге, но выйдет ли что-либо из этого – сомневаюсь. Паспорт опять делает мне Министерство культуры и искусства, но из этого университета мне вчера написали, что согласно информации нашего боннского посольства Лем должен быть в Регенсбурге в марте, в рамках Недели польской культуры, а вовсе не в мае, в университете.
Я ничего об этом не знал, первый раз слышу – переписка по вопросу лекции тянется с ноября прошлого года, я обещал, что приеду – что делать? Писать в Министерство культуры и искусства, в PAGART[274], чтобы устранить эту неразбериху? Ничего я не сделаю, потому что нет на это времени. Результат наверняка будет такой, что опять кого-нибудь подведу.
Мог бы Ясь мне здесь чем-то помочь? Смог бы я отправить его в командировку в столицу, чтобы он бегал по учреждениям? Чтобы он постепенно начал заменять почту, Авторское агентство, Департамент культурного сотрудничества с зарубежьем, в свободные минуты распутывая узлы канатной дороги на лестнице и выбивая ковры? Извините, но при всей силе воображения никого столь расторопного я представить не в состоянии.
Здесь бы уже был необходим не секретарь, а скорее дипломированный волшебник с законченным курсом сотворения чудес. Не сказал я, впрочем, еще ни слова о том, что меня питает, точнее, о том, чем я кормлю свой разум – о научной литературе, которая сама с потолка не падает.
Было бы неплохо, если бы Ясь, кроме волшебства, еще освоил теорию литературы, теоретическую биологию, если бы отведал немного физики, а также других областей, не перечисляю их уже, ибо не могу – бьет семь, и я приступаю к нормальным служебным обязанностям[275].
Три моих желания
Год назад мюнхенское издательство «Matthes & Seitz» обратилось ко мне с просьбой ответить на вопрос, который они задавали знаменитостям, главным образом из ФРГ: как бы я отреагировал на известие о высадке на Землю существ из космоса. Я отказался от участия в этом опросе, объяснив в письме, что считаю такое событие невозможным и не желаю выдумывать свою реакцию на невозможное. Издатель опубликовал копию моего письма в книге[276] с ответами на этот вопрос. И вот что забавно: все опрашиваемые дали ответ, а отказался только писатель, занимающийся фантастикой. Так началось мое сотрудничество с издателем, который в начале весны 1979 года придумал очередную анкету. На этот раз опрашивалось множество людей уже за пределами Германии. Следовало описать три наиболее личных желания, не учитывая, насколько реально их исполнение, словно ты ребенок перед волшебником из сказки. Мой ответ был опубликован в книге «Острова в Эго. Книга желаний»[277]. Ответ получился настолько искренним, что я решил опубликовать его в собственном переводе (оригинал был написан на немецком языке). Добавлю, что тем самым мне впервые в жизни довелось ощутить проблемы, которые, как правило, являются уделом переводчиков, мучающихся с передачей моих польских неологизмов на иностранных языках, теперь же я должен был изобретать польские эквиваленты того, что выдумал по-немецки.
Чтобы основательно воспользоваться предоставленным мне правом исполнить три желания, начну с обычной невозможности, а последнее желание будет тогда из области «наиболее невозможно». Это заявление может удивить, потому что, как правило, невозможному степень не приписывают. Но это ошибка, возникающая от фатального отсутствия общей теории удовлетворения всяких желаний, то есть теории, для которой граница между тем, что возможно, и тем, что невозможно, малозаметна. Я покажу это на примере своих желаний, включающих различные уровни невозможного.
1. Первое мое желание выглядит достаточно скромным. Речь идет о постепенной ликвидации лжи в общественной и политической жизни. Ложь процветает и в демократическом, и в тоталитарном государстве, – в первом она равноправна с правдой, а во втором ее распространяет правительство и поддерживает цензура. Исполнение моих желаний не нарушит ни одно из этих обстоятельств напрямую. Должна только возникнуть обратная связь между публичной ложью и лжецом. Благодаря этому лгущие будут сами себя демаскировать. И неважно, идет ли речь о правительственных чиновниках, телевизионных комментаторах, активистах оппозиции, пропагандистах, рекламных специалистах или представителях различных религий. Лжец выдаст себя тем, что, обманывая, он пронзительно закричит от боли. Ибо тот, кто будет лгать, тотчас же ощутит пронизывающую боль. Причем, где именно появится боль – для лжеца всегда будет сюрпризом. Никто не будет знать заранее, вызовет ли ложь почечную колику, зубную боль или боли в животе. Когда он прекратит лгать, боль продлиться еще некоторое время – в наказание и для предостережения. В первые месяцы после введения моей системы мы будем ошеломлены раздающимися отовсюду криками. Вскоре, однако, обнаружим, что игра стоит свеч. Можно даже оптимистически предположить, что через некоторое время станет тише, потому что заинтересованные осознают истинную цену лжи.
К сожалению, не все так просто, ибо ложь в чистом виде выступает так же редко, как и святая правда. Обычно нам предлагается смесь того и другого. Кроме того, многие люди лгут в полной уверенности, что говорят правду. Чтобы объяснить, как это будет преодолено, добавлю несколько слов о технической поддержке моего метода. Будет существовать невидимая система глобального контроля. Независимая от правительств или любого другого вмешательства, со скоростью света определяющая содержание истины в том, что произносится публично. Сказанное в баре или перед сном под одеялом не учитывается, здесь можно и дальше лгать сколько угодно. Компьютерная сеть – будем считать, что в основе лежат компьютеры – оценивает произносимое на соответствие действительности и его возможные социальные последствия. Если кто-то, например, заявляет, что есть только один бог – Аллах или Иегова – с ним ничего не происходит. Когда, однако, он говорит, что во имя этого бога следует убивать каких-либо людей или перекрывать какие-нибудь краны, то получает ишиас в качестве предупредительного выстрела. И боли в позвоночнике будут мучить его в течение трех дней. Кто лжет на 60 %, будет парализован на 60 % на шесть недель, и т. д. Компьютеры содержат подробные прейскуранты на все виды лжи в различном сочетании с правдой. То, чего нет в прейскурантах, появится на моем столе, ибо я буду высшей инстанцией, решающей, что является, а что не является ложью.
Очевидно, будут предприниматься некоторые усилия, чтобы предоставить хоть какую-либо возможность лгать. Появятся фанатики и пропагандисты, готовые лгать и далее, появятся доплаты к заработной плате в качестве компенсации за боль. Появятся также устройства, например, в радио, задачей которых будет глушение всяческих стонов. В таких случаях будет выявляться вся цепочка лиц, издававших распоряжения, поощряющие ложь, и все они завизжат хором.
Я не могу предсказать, какое влияние окажет на наш мир этот болезненный процесс обучения. Придется считаться с ужасными сценами, например, на политических съездах и годовых собраниях акционеров различных компаний, поскольку ограниченная ответственность не спасет правление от болезненных ощущений. Лично я надеюсь при помощи этого изобретения получить много приятных часов. Можно отметить, что вряд ли мне удастся быть беспристрастным судьей, но ведь я и не утверждал, что стану воплощением справедливости. У меня и так мягкий характер, что легко увидеть, так как я не хочу никого наказывать необратимой инвалидностью или смертью. Оставляю каждому неограниченное право лгать, только за это придется платить указанную цену. Каждый человек может себе представить, как будет выглядеть мир через год после исполнения моего первого желания.
2. Второе мое желание также является альтруистическим. Рожденное в мечтах приземление инопланетян становится реальностью. Пришельцы после своего прибытия исследуют господствующие у нас отношения и убеждаются, что мы все делали неправильно. Одновременно выясняют, КТО является лучшим и мудрейшим среди всех людей. С вашего позволения, такой человек – это я. Они хотят назначить меня Верховным Правителем Земли, но я не даю согласия. Мне достаточно поста Советника при Верховном Совете пришельцев. Они захотели навязать Земле полное разоружение. Но после их отбытия гонка вооружений начнется заново. Поэтому я предлагаю Верховному Совету разделение труда: я располагаю знанием местных обычаев и великолепными идеями, а они – способностью реализовать сложнейшие проекты. На этом и будет основано наше сотрудничество.
У меня есть идея: земную среду необходимо изменить таким образом, чтобы никто не мог причинить какой-нибудь вред своему ближнему. В качестве прототипа для реализации я беру бактерии. Ведь если есть специфические микробы различных болезней, то в принципе могут существовать подобные вирусам крошечные молекулы, способные распознавать различные виды вооружений. Их будут массово выращивать и рассеивать; кроме того, дальше они будут размножаться сами. Суть моей идеи: следует удержать слепой меч, а не руку. Голая рука мало что сможет сделать. Как это осуществить? Как распознать вооружение в отличие от безвредных объектов? По тому, что вооружения передвигаются с большой скоростью, как, например, ракеты, гранаты, бомбы и другие снаряды. И эти молекулы будут отбирать энергию движения у всего, что движется слишком быстро. О технической стороне пусть беспокоятся пришельцы. В течение суток все системы вооружений будут обезврежены. Каждая запущенная ракета, каждый снаряд будут опускаться настолько медленно, что не смогут взорваться. Танки смогут двигаться, но не смогут стрелять. Бомбы, сброшенные с самолетов, будут падать медленно, как пух. А при взрыве самодельных бомб осколки будут разлетаться так медленно, что их можно будет в воздухе собрать руками. Возникнут сложности при прокладке тоннелей и других инженерных работах, однако я считаю, что все-таки в итоге результат будет положительным. Невольно ликвидируются любые катастрофы (например, автомобильные), так как миротворческой молекуле все равно, намеренно ли какой-нибудь предмет собирается врезаться во что-нибудь окружающее, потому что кто-то этого желал, или непреднамеренно, если, например, водитель не справился с управлением автомобиля.
Конечно, это еще не решает всех проблем. Мирные молекулы одного типа не могут распознать все виды вооружений. Но так же как природа создала микробы холеры, бешенства, чумы и тысячи других, так и мои коллеги в Верховном Совете пришельцев создадут множество различных молекул, охраняющих мир. Создадут также и специальные, противостоящие бандитам.
Когда кто-то попытается причинить вред ближнему, вирусы доброты, незримо парящие в воздухе, преобразуют его верхнюю одежду, брюки, нижнее белье в эластичную прочную оболочку, так что он себя почувствует как младенец в пеленках, а если же он не оставит злых намерений и удвоит усилия, его одежда так затвердеет, что нападающий превратится в статую со сжатыми кулаками. Злые языки утверждают, что я будто бы сделал невозможной сексуальную жизнь, потому что в ней присутствуют элементы агрессивности, а если кто-то слишком активно действует в постели, то оказывается связанным собственной пижамой. Но это легко предотвратить, предварительно раздевшись, так что такое обвинение является необоснованной клеветой.
Также невозможным станет использование в качестве оружия ядовитого газа и настоящих микробов, потому что специальные молекулы как катализаторы преобразуют такие газы в духи, а микробы – в нитробактерии, удобряющие почву. Кто же готов на все, чтобы из ближнего сотворить отбивную, не только сам должен раздеться, но и убедить того, кого собирается поколотить, раздеться донага, ибо в противном случае защитные функции принимает на себя одежда атакованного. Это открытие возродило надежду в сердцах отчаявшихся штабных офицеров. Но вскоре они убедились, насколько плохо подходят двуногие армии для проведения военных действий. Столкновения превращались в простые драки, и что хуже всего, среди обнаженных нельзя было отличить ни врагов от своих, ни солдат от офицеров.
Работающие как одержимые ученые обнаружили, наконец, в своих лабораториях, что в настоящее время только живая субстанция годится в качестве оружия. Но когда их надежды не оправдали минометы солониной и пушки, стреляющие беконом, они приложили усилия, чтобы в арсеналы вошли бешеные волки, тигры, крысы и даже блохи в качестве биологического оружия. Против бешеных блох даже Верховный Совет не смог найти противоядие. Но под влиянием добродетельных молекул даже хищники стали кроткими, как ягнята, а одними блохами, хотя они и остались на поле боя, не удалось вести войны.
Проблемой все еще остаются различные террористы, например, ИРА, и все те, кто убийствами и бомбами хотят улучшить мир. Ничего лучшего не пришло мне в голову, как их гуманное переселение на другие планеты. Атмосферу Венеры сделают пригодной для жизни и, кроме того, на Марсе среди оазисов разместят банки и небоскребы – чтобы было что грабить и взрывать. Земля станет абсолютно миролюбивой, и я смогу подать в отставку со своего поста.
3. Третье мое желание своей неисполнимостью превышает оба предыдущих. Они просто детский лепет по сравнению с ним. Я желаю себе однажды утром открыть глаза и с удовлетворением убедиться, что все, что случилось со мной и миром со времени окончания гимназии, было просто ночным кошмаром. Приснилась мне Вторая мировая война, концлагеря, оккупация Польши и других стран, «окончательное решение еврейского вопроса», конференции по разоружению, Римский клуб, дебаты по ядерным вопросам, кризисы и т. п. НИЧЕГО из этого не произошло, это был всего лишь кошмарный сон. После пробуждения, кроме облегчения, я почувствую стыд за то, что приписывал человечеству столько убийственной ярости и свинства. Как же мне станет стыдно, что были правы те, кто издавна отмечал во мне мизантропию и садистские черты характера, проявившиеся в моем сне.
Вместе с этим с радостным воодушевлением я смогу утверждать, что все, что говорили учителя в гимназии о благородной природе человека, было чистейшей правдой.
Краков, февраль 1980
Исполненные желания
Вспомним не очень давние мрачные времена военного положения[278]. И вот неожиданно появляется, неизвестно откуда и как, могучий Дух, который громовым, но приятным голосом, говорит:
– Исполню ваши три желания. Какие только захотите. Уверяю, что исполню их буквально, реально и до конца. Обращаю внимание, что это будут только три ваших желания. Три, и ни одного больше. На размышление – минута… Итак, слушаю.
– Во-первых, чтобы Польша возродилась. Чтобы возродилась свободной, суверенной, абсолютно ни от кого не зависимой…
– Сделаю, – говорит Дух. – Ну а какое второе?
– Чтобы Советский Союз развалился, чтобы исчез, чтобы раз и навсегда пропал, чтобы его больше не было! – кричим со всей яростью, которая в нас накопилась за последние лет сорок.
– Ну, это глупости: это выполнить легко – надуется и лопнет, – отвечает Дух. – А сейчас – последнее желание! Помните: последнее, ибо ни о каких иных или исправлениях не может быть и речи.
И тут нас охватывает огромное беспокойство: а вдруг этот всемогущий Дух имеет злые намерения и даже если (а ТОГДА такие события казались абсолютно невероятными) и сделает так, как мы хотим, но, скажем, лет через сто или двести, или вообще Бог знает когда, потому что ни о каких датах до сих пор речи не было. И поэтому ясно, что мы вынуждены воскликнуть:
– И чтобы это произошло быстро! Чтобы мы дожили, чтобы в этом столетии, а еще лучше – в этом ДЕСЯТИЛЕТИИ, наверняка, без проволочек, полностью и окончательно…
– Что это вы одно и то же повторяете? – говорит Дух, слегка удивившись. – Ясно, что выполню то, что обещал. Польша будет суверенной. Советы распадутся на части, или, что то же самое, коммуну черти возьмут, и все это наступит в этом десятилетии, то есть ДО 1991 года. То есть начнется в тот год и за год все будет завершено. Говорю это, как могучий Дух, чрезвычайно порядочный и отвечающий за свои слова, но вы должны понимать, что история – это не довоенный поезд: кое-что может произойти с опозданием. Но доживете, доживете, сможете насладиться полной свободой, отсутствием Советского Союза и станете такими самостоятельными, что больше и быть не может!
И Дух исчезает.
Как усовершенствовать демократию?
Это не очень трудно. У меня есть ряд великолепных идей, только нет идей, как эти идеи воплотить в жизнь.
1. Каждый политик, претендующий на государственный пост, должен все свое имущество оформить как ЗАЛОГ, а по окончании полномочий его предвыборная программа анализируется на предмет исполнения обещаний. Обещал перелом или ускорение, или надежду, или конец рецессии, а произошел разлом, замедление, безнадежность и могила, – все имущество конфискуется в пользу государственной казны. Это либеральный вариант. А в версии радикальной каждый сенатор, посол, президент, премьер ежемесячно скромные пятьсот дольцев в казну вносит. Где ему их брать? Смешной вопрос! Разве не известно, что только миллионер может стартовать на президентских выборах в Америке, ведь сколько стоит лишь реклама? Раз уж мы так к Америке присматриваемся, то и говорим о ней. Впрочем, миллионер в правительстве, если его попросить, даст, но тот, кто не миллионер, прежде чем кому-нибудь дать, прежде должен у кого-то отобрать. Поэтому нужно правительство из миллионеров сформировать, вот что! И к капитализму сразу же ближе окажемся, и никто за личной выгодой, жалованием толкаться не будет. А если не миллионер, то разве его ПРИНУЖДАЮТ? Сомневаюсь.
2. Каждый парламентарий, который не посещает сессии, должен предоставить освобождение от врача, а если не предоставит, будет приклеен универсальным клеем к своему креслу до конца срока созыва. Потом его вырежут вместе с фрагментом сиденья, который заберет домой на память.
3. В каждом телевизоре в стране должна быть КНОПКА. Выступления депутатов Сейма смотрят все, кто хочет. Если не нравится, то нажимают КНОПКУ. Если нажимается «Х» кнопок (количество нужно определить), на говорящего обрушивается поток холодной воды. Зонты и плащи запрещены. Это на первый раз, во второй выливается нечто другое.
4. Каждый, претендующий на какой-нибудь пост, подлежит тестированию на уровень интеллекта: может ли что-нибудь говорить без бумажки, писать, даже и читать, знает ли, как называется столица, и подобное. Кто не выдержит испытание, отправляется на иждивение семьи, а его заработная плата в бюджетной или частной сфере конфискуется (опять же в пользу казны). А семья уж сама объяснит несостоятельность его притязаний, растолкует.
5. Каждая особа мужского пола в парламенте, а в правительстве женского, демонстративно, категорически и вызывающе выступающая, рискует тем, что женщина-зрительница нажмет ВТОРУЮ КНОПКУ, имеющуюся в телевизоре. Электроника распознает пол, и мужскому полу здесь делать нечего. Результат – смотри пункт 3.
6. Высшее образование, многолетний криминальный стаж во времена коммуны, принадлежность к РАХ[279], к партии прогрессивно правых, к экстремистам, к никому – не освобождает от тестов на интеллект, от службы в армии, от обливания водой, от гриппа, от брака, ибо перед законом все равны, за исключением родственников и знакомых, а чьих конкретно, дополнительный закон определит.
Пока это все. При необходимости могу продолжить.
Десять пожеланий на новое тысячелетие
1. Чтобы каждый мог иметь на голове за ухом кнопку, нажатие которой обеспечивало бы наступление великолепной погоды до самого горизонта. К сожалению, если двое, пребывающие в одной и той же местности, будут иметь разные представления о том, какой должна быть великолепная погода, это может привести к непредсказуемым последствиям, например в виде смерча.
2. Чтобы было изобретено абсолютно бескалорийное средство, которое бы каждому пришлось по вкусу. После поедания пирожных, печенья, тортов, зельца, изготовленных из этого средства, толстые будут худеть, так как это средство будет высасывать из них калории.
3. Чтобы все компьютеры в мире перестали зависать, а зависшим грозила утилизация за счет производителя.
4. Чтобы можно было клонировать (при помощи очень дешевой и повсеместно доступной аппаратуры) тех, кого терпеть не можешь и наслаждаться мучением таких копий. Примечание. Копию можно избивать, но дать сдачи она не может.
5. Чтобы можно было любить, жениться, выходить замуж, разводиться, и все это только виртуально. При этом должен быть обеспечен легкий доступ к выключателю виртуальности.
6. Чтобы можно было за считаные гроши приобрести в любой аптеке такие таблетки, после проглатывания которых любая неприятность начнет доставлять огромное удовольствие, но без конвульсий от восторга.
7. Чтобы было внедрено устройство, которое избавит от рекламы программы телевидения во всем мире.
8. Чтобы было иначе, чем есть сейчас, но не хуже.
9. Чтобы каждого оставили в покое.
10. Если этого недостаточно, то чтобы можно было упиться.
XI Станислав Лем шутит
На тему «Астронавтов»
С большим удовольствием я прочитал в июльском номере журнала «Проблемы» статью Е. Бялоборского, в которой он показал, что технические характеристики межпланетной ракеты, которые даны в моей книге «Астронавты», противоречат физическим законам и невозможны технически, и что такая ракета, как мой «Космократор», не может долететь до планеты Венера.
До сих пор большинство читателей «Астронавтов» считало, что автор этой книги преодолел все трудности, стоящие на пути осуществления космических полетов при помощи атомной энергии, и тем самым причислен к самым выдающимся изобретателям мира. Зато после прочтения статьи Бялоборского уже никто не будет пытаться конструировать ракету, основываясь на информации, содержащейся в «Астронавтах», и тем самым не обречет себя на неприятное разочарование. От имени широких читательских масс выражаю надежду, что г-н Бялоборский в ближайшее время опубликует дальнейшие работы, в которых подвергнет строгой критике научные данные, содержащиеся в многочисленных научно-фантастических произведениях, много лет абсолютно незаслуженно пользующихся большой популярностью, потому что их авторы из-за своего невежества или по халатности тоже ввели читателя в заблуждение. Прежде всего, г-н Бялоборский покажет, что межпланетные аппараты, описанные в книгах «С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут» Верна, «Первые люди на Луне» Уэллса, «На серебряной планете» Жулавского не могли долететь до цели (Верн и Жулавский применяли пушки для запуска аппарата, Уэллс же использовал металл, изолирующий от гравитации). Затем очередь дойдет до большинства научно-фантастических романов, пользующихся абсолютно незаслуженной популярностью: иные произведения Верна («Двадцать тысяч лье под водой», «Путешествие на комете»), Уэллса («Машина времени»), а также Ефремова, Охотникова и Адамова. Если после проведения такого анализа останутся еще какие-нибудь произведения указанного жанра, читатель наконец-то сможет уверенно к ним обратиться.
Переучет
I
Каникулы, опустевшие города, знакомые выехали «на воды» или в горы, а те, что «покруче», за границу, не с кем словом перемолвиться, короче, самое время произвести переучет.
Я хотел бы сделать настоящий, польский, как положено, с закрытием предприятия на три недели, но – редактор шуток не понимает, редакция скупая, – поэтому сделаю переучет под лозунгом «сезонная распродажа остатков».
А остатков сколько-то набралось.
Прежде всего, я хотел бы опубликовать пару благодарственных писем, которые давно уже пора обнародовать.
Итак:
Настоящим выражаю сердечную благодарность Всем тем, кто причастен к созданию – в течение последних недель – здоровой атмосферы фронтового города в Кракове. В частности, я имею в виду Учреждения, которые сериями Мощных Детонаций, сотрясающих фундаменты города, удивительно имитируют обстрел Кракова из Тяжелых Орудий, удачно гармонирующий с предобеденной тишиной. Акция эта, кроме Ономатопеи Войны, призвана ускорить Разрушение тех краковских архитектурных Памятников, которые все никак не решатся обрушиться сами. Это прекрасное начинание – самое время обрушиться Старым Стенам, но найдется ли Лайконик[280], который построит нам новые?!
Во-вторых, специальную Награду следует присудить тому г-ну Пилоту, который, летая Безумно Низко над краковскими крышами, посредством своего Прекрасного Реактивного Самолета вступил в последнее время в нешуточную борьбу за уменьшение чрезмерного Естественного Прироста, вызывая Заикание, Неврозы, Выкидыши, Травматические Психозы, а также Всеобщее Устрашение у краковян обоих полов. Пару раз я даже был свидетелем, как падали из кресел достойные люди в тот момент, когда Неоцененный Г. Летчик с Чудовищным Ревом снижался над крышами. Слава ему! Я надеюсь, что он не врежется ни в одну Крышу до той минуты, когда эти слова появятся в печати, и будет тешиться заслуженным здоровьем. Как и эксплуатация каменоломен, эта акция существенно обогатила Фронтовую Акустику нашего прекрасного города!
Диплом Специальной Высшей Категории полагается группе гг. Кулинарно-развлекательных Администраторов, которые от Всей Души Придумали и Устроили прекрасное кафе «Феникс». Правда, оно весьма мрачное, пожалуй, даже, грязноватое, запыленное, окна там задраены в любую погоду, но все эти ничтожные недостатки с лихвой окупаются Ценами; именно Там я заплатил, пошатываясь от чувств, 16 (шестнадцать) злотых за порцию мороженого, именуемого Ореховым, поскольку в него добавлена труха протухших орехов. Надежно замороженная и упрятанная внутри мороженого – сущность свою эта труха проявила лишь после того, как я покинул кафе «Феникс». Зато когда эти тухлые орехи оттаяли, – они напоминали мне о «Фениксе» весь день. Прекрасная, оригинальная реклама! А если добавить к этому благородный фирменный напиток «Оранжад», подкрашенный ядовитым анилиновым красителем (а может, это дихромат калия, вовсе неплохая отрава?), оставляющем устойчивые потеки на любом светлом предмете, с которым соприкоснется, – если, говорю, вспомнить и «Оранжад» «Феникса», и убойные цены, то безграничное уважение к г-да Создателям этого заведения переполнит наши души, остолбеневшие от благодарности!
Г-дам Конструкторам – Инженерам польских кожаных портфелей – полагается от меня специальная благодарность за то, что они измыслили портфель, который тем отличается от заграничных, что 1) намного тяжелее – когда берешь его в руки, то возникает подозрение, что изготовлен он не из кожи, а из свинцовых пластин; 2) ручка выкроена очень экономно, результаты чего – в виде ран, ссадин, старых шрамов и мозолей на всех пальцах руках, постоянно при мне.
Разделавшись с этими благодарностями – они были сверху пачки, ожидающей публикации, – перехожу к реализации следующих остатков.
А. Вопросы
В свое время во многих магазинах за прилавками висели загадочные лозунги, гласящие, что продавцы работают по методу Коровкина[281]. Лозунги эти потом исчезли. Однако же работа г-д продавцов какой была тогда, такой и остается по сей день. Поэтому я хотел бы обратиться PT[282] к широкому общественному мнению с вопросом – потому как я долее терпеть не в силах – о сущности вышеупомянутого метода. Насмешники, которых у нас пруд пруди, отвечали мне, впрочем, что метод Коровкина заключается попросту в нормальной продаже товаров, но я не могу в это поверить. А потому прошу присылать благосклонные ответы и объяснения.
Б. Афоризмы
Жизнь: преходящая трудность.
В. Найденный в шкафу обрывок газеты
Испачканный, внешне напоминающий страницу объявлений «Вечернего экспресса». Наверху дата: «16. VIII. 2317 г.».
Вот некоторые объявления, точно скопированные:
БОЛЕЗНИ венерические и марсианские лечит др. Столпка Теофил, ул. Кошикова, 96, 2 этаж.
ЯДРА АТОМНЫЕ разбиваю в присутствии заказчика. Там же гербаризаторы со звонком и липкая лента для механических мух. Хмельная, 44, от ворот налево.
ТРИХОБЕЗОАРЫ заграничные куплю, можно с носителями. Хмельная, 60.
АСТРОНАВТИКЕ обучаю по переписке. В-ва 6, а/я 637.
МЕТЕОРИЗМ двусторонний продам дешево по случаю отъезда. Обр.: предложение 6591.
БЮСТЫ с регулировкой величины и формы – электропитание и управление в отдельной сумочке – НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ! Устойчивы к тряске, на гидравлике. Базар Ружицкого, 6.
РОБОТ электронный, женский, состояние идеальное, произв. загранич., бедра на отдельных подвесках, двойная масляная амортизация, покрытие из супернейлона, встроенный шестикратный предохранитель – продам дешево, по случаю болезни. Предложение: А 4691.
СЕРВОБРАТА продам за бесценок после отключения кабеля. Можно на запчасти. Предл. 673.
МОДНАЯ ЖЕНЩИНА СВЕТИТСЯ В ТЕМНОТЕ. Используйте только пудру РАДИАКТИН!
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ МЫСЛЕЙ: пегасол, гениалин, креаторин, – спрашивайте во всех аптеках.
ЗУБЫ удаляю на расстоянии. Обращаться по телефону 643-87-82.
КОСТЮМЫ НАПЫЛЯЕМЫЕ из заграничного пластика изготавливаю в присутствии заказчика. ПОРТНОЙ ДАМСКИЙ, МУЖСКОЙ, Братская, 46, 2 этаж. Там же покрывала для роботов.
ВАКУУМ КОСМИЧЕСКИЙ из посылок сберкассы скупаю. Обр. Мацульский, тел. 657-43-42.
АНАНАСЫ, помидоры, сельдерей, огурцы из пластмассы изготавливаю и съедаю на месте. Обращайтесь: тел. 949-22-32.
ИСКУССТВЕННУЮ СЕЛЕЗЕНКУ и ПОЧКУ КУПЛЮ, только иностранного производства. В идеальном состоянии. Обр. Аф. Бр. 657-85-75.
II
В прошлом году я уже проводил переучет, но, как известно, это то, к чему периодически возвращаешься, – впрочем, один раз в году – это не слишком часто, а у меня подсобралось немного остатков, которые, может, не заслуживают увековечения, но унедельничения в газете «Zdarzenia»[283], пожалуй, достойны.
Для начала у меня есть кое-что из области «pure nonsense»[284], абстракции, чистого искусства, то есть на грани сумасшествия. Какие-то добрые люди по какой-то разнарядке заполонили Краков множеством прекрасных советских холодильников. Это не нонсенс; холодильники в самом деле замечательные (хотя нельзя сказать, что дешевые). У них есть только один маленький недостаток, они рассчитаны на напряжение в 127 вольт. Иными словами, включать их в нашу сеть нельзя ни в коем случае – они сразу же перегорят. Но даже не это торговое начинание так удивительно, – мы в последнее время привыкли и не к таким поворотам, – изумляет меня скорее реакция покупателей сети ГРТ[285]. Они проходят мимо холодильников, смотрят, кивают головами и спокойно идут дальше. Ходит даже легенда, что некоторые эти холодильники покупают, – а вот это уже совсем непонятно! Интересно, что эти люди с ними делают? Может быть, держат в них шахматы? Или открытки, лото и вестфальские пряники? Или краковскую колбасу и банки с фасолью? А может быть, покрывают их зеленым лаком и используют в качестве террариумов для черепах? Или закрывают в них непослушных детей лет до шести, на ключик, просверлив в них дырки для дыхания. Много б я дал, чтобы это узнать. К сожалению, пока с этим глухо. Может быть, помогла бы соответствующая анкета? Подбрасываю эту мысль коллегам редакторам соседних страниц и колонок.
Второй номер тоже сильный. В газетах недавно писали, что в Закопане на 10 процентов повышены цены в барах и ресторанах – такая курортная наценка. Потом писали, что наценку отменили, так как оказалось, что экономически она «ничего не принесла». А потом, что все это – про отмену – неправда, и цены по-прежнему остаются, как говорится, «завышенными».
Но того, что десятипроцентное повышение цен не приносит доходов, никто не опроверг. Так как с этим обстоят дела на самом деле? Ливерную колбасу, ячменный кофе, испанский крем и торуньские пряники продают в Закопане словно драгоценности в «Ювелире», а доходы городской розничной торговли и гастрономических предприятий в результате совсем не увеличились? И два плюс три по-прежнему равно четырем? А дважды семь – одиннадцати? Коровы рождаются от пораженных слоновостью тараканов? Мыши поют Баха, Татры посинели, а по главной улице Закопане течет «Экстра-кола»? Ну же, экономисты, счетоводы, на помощь, электромозги, сжальтесь над покупателями и прочими потребителями, у которых ум заходит за разум, и объясните загадку!
Номер третий: вышеупомянутая «Экстра-кола». В приступе расточительного безумия я приобрел бутылочку таковой. Производят ее в Кракове, на улице Лончной, 6, она содержит кофеин и теобромин, являет собой гордость нашего приобщения к Западной Европе, даже в меню ресторана «Вержинек»[286] имеется. Сначала я попробовал ее «в сыром виде», прямо из бутылки, в магазине: шалфейный эликсир для полоскания зубов, не иначе, сапожная вакса с содовой на мяте, нет слов. Подержал в холодильнике и попробовал снова – то же самое, только зубы ломит и оскомина во рту. Давал ее оценить Знатокам с большой буквы, которые в Парижах кока-колу из фонтанов пивали. Мнения разные. Одни говорят: pulvis radicis liquiritiae compositus на минеральной воде (то есть корень лакрицы в газировке). Другие: мята. Третьи утверждают: липа. И только один знакомый верблюд выпил всю бутылку и даже не скривился, но это потому, что он пришел прямо из Сахары, через Блендовскую пустыню, и у него был сушняк. Из этого не следует, что нашу «Экстра-колу» не нужно покупать. Наоборот – и в холодильник ее, или в бар, и если вдруг заглянет заграничный гость, какой-нибудь дядя из Америки, можно ее будто невзначай показать, приоткрыв дверцу. Произведете эффект. Только, ради Бога, не давайте пробовать! Тут же отвлеките внимание и проводите в другую комнату или на кухню, угостите простоквашей. А вывод прозвучит по-латински: si duo faciunt idem, non est idem[287]…
И на этом завершим переучетную коллекцию, – была у меня еще парочка замечательных находок, например, об одном йети, который мозоли на ногах набил, бегая босиком по Гималаям, а потом в качестве репатрианта приехал в Польшу, где его сразу взяли торговым советником в обувной кооператив, – но, к сожалению, из-за отсутствия места я вынужден со своего магазинчика снять табличку о переучете до следующей недели.
Три письма Славомиру Мрожеку
I. В Кракове, у останков 1959 года
Морогой Дрожек!
Открытка твоя, которую я в сундуке сохраню, чтобы унести с собой в могилу, – дошла, вызвала бурю положительный эмоций, доказательством чего является настоящее письмо, которым, позволь, я включу тебя в круг (узкий!) эпистолянтов, с которыми обмениваюсь мыслями, тем самым перебрасывая мосты за 60 грошей[288] между одиночествами, обитающими в этом, похоже, безлюдном мире. Задумали мы здесь, в глуши, празднование Рождества в доме Блонских[289] – не рассчитывали, однако, на твою персонификацию по причине слишком хорошо известной, ибо ты разрываешься между старой и новой столицами Отечества – и нет никого, кто мог бы тебя хотя бы как-нибудь, хотя бы на 3 процента, хотя бы на собачий волос заменить. Твое графическое alter ego[290] имел честь видеть там же у Блонского на его именинах (имею в виду рисунок Мруза[291]), а «Свадьба в Атомицах»[292], купленная за наличные, пусть и голая, ибо без автографа, уже украшает мои простые полки. Только что от Яся[293] узнал, что такие-сякие сыны твоего «Прогрессора»[294] не издают, а ты, будучи в нашем захолустье, ни одним словом об этих печальных похоронах не обмолвился – давая мне Исключительный пример Мужества Несломленного и Приверженности Внутреннему Спокойствию, который в моей памяти останется, завернутый в парчу. Малый пес, но исключительно удачлив, его достаточно банальный образ ты вознес до Высот, которых редко кто достигает из мира грубости и простоты – расположился сейчас на сафьяне в моем кабинете и каждой своей чертой свидетельствует о твоей невообразимой уникальности.
С сожалением осознаю, что на наступающем переломе лет совместно не споем и не сможешь ты песни мои услышать, как и я твои. Что еще? Докладываю, что канализация у нас все еще засорена, но жизнь продолжается и крыша немного протекает, поэтому телевизор под зонтиком. Слышал, что Иренеуш[295], которого мы вместе недолюбливаем, не очень давно изрядно поколотил какого-то журналиста и его искала милиция. Похоже, что очень сильно поколотил. Жене, которую, к сожалению, не знаем, будь добр, кланяйся и привет передай – на расстоянии как свидетельство неизменной надежды, что это положение изменится. Пиши, и не поддавайся на происки подозрительных типов и палачей – заклинаю тебя осколками тарелки, которую ты, еще младенцем в колыбели, оказывая мне честь, когда-то разбил в мансарде на Бонеровской[296]. Я же, ex ungue leonem[297] распознав, завернул эти осколки в двухцветный национальный флаг и с тех пор как святыню в дорожном ковчеге всюду с собой ношу, куда бы случай меня не завел; другие, и, кто знает, может, даже более красивые тарелки тебя ожидают – не обязательно одинокого, как и мы на Клинах[298], а везде, где только Судьба захочет наши пути пересечь.
Кланяемся тебе, и собака наша кланяется, и палаты-пенаты. Если письмо получишь – подай знак; если не получишь – подай его также.
Very truly yours[299],
Ст.
II. Краков, будто бы 23 января 1960 года (можно ли это точно знать?)
Славомир Миру Славный! Божество Польской Литературы! Цвет Сатиры! Помазанник Небес! Врожденное Совершенство! В конце концов – Само Благородство, хожу купаясь в отблеске его.
Благодарю!!!
Моя душа, спиритически украсив волосы свои букетиками лилий и ромашек, пустившись в пляс, прославляет твой Энтузиазм, Непреклонность, Гейзер Добродетели, который ты обрушил на меня, желая меня, ни с того, так сказать, ни с сего – saKkum pakkUm выслать в Камер(ик)у[300].
О, как я тебе благодарен. Ты такой необыкновенно уравновешенный, даже абсолютно правильный парень, что и говорить не стоит. Однако я, Червяк, ослепленный светом твоей Доброжелательности, осмеливаюсь подсказать полушепотом твоей Златотканой Личности, укутанной покрывалом Собственной Исключительности, чтобы, покинув мой порог, она обратила свои добротой сияющие Очи на кого-нибудь более достойного.
То есть – переходя от евангельского стиля к стилю Блонского (в чем, впрочем, и нет существенной разницы) – я Недостоин! Я мог бы утомить тебя до смерти перечислением обстоятельств, причин, дел неожиданных и не допускающих переноса, которые меня в Польше удерживают, однако, в отличие от жителей, собиравшихся ответить Наполеону, почему не приветствовали его салютом из пушек[301], отвечу тебе со спартанской краткостью, оберегая тебя, как уже было написано, от утомительных разъяснений, во время которых твое Око, увязнув, напрасно бы тратило время, состоящее из бесценных минут, которое скорее должно быть использовано для чтения лучших текстов, т. е. твоих собственных, например, корректуры! Итак: по-английски я только читаю, дорогой Славомир, а если когда-либо производил впечатление говорящего на этом языке, то только так, между прочим. Это впечатление превысило реальное положение дел, обрело независимость, и без всякой пристойности и меры: и так оно и есть. Читаю, даже пишу с Ужасными ошибками, однако я немой на этом языке, подобно выше упомянутому Наполеону, который тоже им не владел.
Об остальных причинах («The rest is silent»[302] – это где-то у Уильяма) я умолчу.
Сейчас, как ты может быть заметил по несколько приукрашенному стилистическому Одеянию настоящего письма, меня захватил Один Рассказ, который перерос все границы, превзошел мои намерения, уносит меня не знаю куда, и неутомимо разрастается. И если мерой таланта и качества произведения должно быть Безумие, завязанное гордиевым узлом Помешательство – это произведение таковым является, ах, нет слов!
Достаточно, дорогой Мрожек! Только это. Год назад Ясь Щепанский тоже отправлял мне, к сожалению, так же безрезультатно. Я являюсь, как видишь, Сосудом, в который Души Великих Писателей вливают Струи Благородства, а я ничего, только отказываюсь, выкручиваюсь, и всем управляет мое бесконечное Ничтожество, потому что я пыль, чистящий порошок, застрявший между зубьями вилки моей Судьбы, и ничего более.
Прими, Стилист Супружеской Жизни, мои смиренно возвышенные слова наилучших пожеланий вместе с настоящим письмом, конвертом и маркой, которые пусть останутся твоими навсегда, равно как и чувств моих трепетание, подтверждающее, что с подкраковской низины отслеживаю, возведя очи горе, твои Шаги на Вершинах Славы. Желая Здорового Дурачества, Безмерно Плодотворного Помешательства, Всесторонне Отточенного Безумия, соединенных с Глухотой ко всяким Внешним Нашептываниям Гадов, Козням и Интригам. Чтобы эти Гады для пользы не только нашего Дела в Навоз, из которого выползли, обратились – чтобы их захватил Поток Истории, пусть соединятся с Калом веков, с Лавиной Нечистот и пусть падут с клокотанием меандров в Abyssus[303] Абсолютного Забвения, над равнинами которого твоя Звезда пусть нам долго светит, во веки веков.
А теперь до свидания, преподобный Мрожек. Приступаю к работе, в процессе которой пусть меня окружает ареол Мысли, сформированный твоей гениальностью. And my wishes and the best part of my soul are with you, so with your Mistress Wife. I remain, dear Genius, your truly obedient servant for centuries, and so on[304].
Ст.
III. Краков, 14 ноября 1961
Светлейший!
Вижу, что богохульство ты отправил в небытие, как я на это втайне надеялся. В благородстве нет тебе равного. Перед поездкой в Лондон приезжай, споем на болотах, поплачем (есть лондонский джин, югославский ром, зубровка – made of the fragrant herb beloved by the european[305] под названием БАЙЗОН[306], сладковатая гданьская, ТОНИК, криничанка, коньяк и чистый таз). Превратностям судьбы не огорчайся. Шведа попытайся тайно отравить[307]. Получишь собственноручно красиво подписанные экземпляры моих новых отечественных изданий, печенка и кексы. Пока что я не могу добыть подходящего мяса, чтобы сотворить ЧЕВАПЧИЧИ[308], но лук имеется в достаточном количестве. А также обогреватели, электрические подушки, различные соли. Не топи, однако, музу в алкоголе и не делай вид, что тебе по вкусу «Белая лошадь», это противное Уиски, с джином ничто не сравнится. У меня есть два сорта, один лучше другого. Впрочем, имеешь здоровье, чтобы идти своим путем – лети! Там сильнее радиоактивность, но не хотел бы принижать твоего воодушевления или отговаривать тебя, нашего храброго путешественника. Жену благослови, наверное, радуется, бедняжка, что не должна лететь. У нас сломался утюг, но зато есть шинка. Никто ничего не пишет, вокруг темень, ветер свистит над трясиной, как сукин сын, по болоту сможешь пройти не замочив ног, ступая по головам более смелых, недавно утонувших прохожих, местами их очень густо, но следует избегать лысых, чтобы не поскользнуться. Эти точные указатели тела проведут тебя безошибочно. Я должен был ехать на какое-то авторско-вечеринковское мероприятие издательства «Чительник», но оказалось, что это будет двухмассовка (тело автора будет контактировать с телом читателя), поэтому я отказался. Ждем. Душа, будь здрава!
Spasmodically yours[309].
Из меню Бабы-яги
Как известно, занимаясь писательским творчеством, даже и несерьезно, следует использовать опыт прошлого, то есть так называемую литературную традицию. Интересным и заслуживающим серьезного размышления является вопрос, в какой степени кулинарная тема нашла отражение в классике мировой литературы. Взять хотя бы «Моби Дика» Мелвилла, сочащуюся китовым жиром вкупе с описанием жестоких сцен охоты на этих морских млекопитающих.
К сожалению, с кулинарной темой связана и очень древняя традиция людоедства. Среди книг моего детства я могу, не задумываясь, назвать роман о Робинзоне Крузо, который – как известно каждому прочитавшему эту книгу – обрел в Пятнице черного слугу и товарища по горькой доле благодаря каннибальскому ритуалу, когда приготавливали родственника того же Пятницы для употребления в пищу. Я только не помню, вроде бы шла речь об отварном мясе под соусом?
Впрочем, не нужно далеко ходить за примером: достаточно вспомнить приготовляемых по разным рецептам девушек, которыми по народным преданиям издавна кормили многочисленных драконов, включая вавельского. Однако ему вместо аппетитной девственницы подали овцу, нафаршированную серой. Дракон тот умер от несварения желудка. Позднее сюжет людоедства использовался в некоторых сказках братьев Гримм, к нему даже обратился американский классик Эдгар Аллан По в «Повести о приключениях Артура Гордона Пима». Однако надо признать, что американский писатель свое творчество не адресовал детям.
Я невольно и в некоторой степени неосознанно осуществил модернизацию этой старой темы в одном из полных черного юмора диктантов, которыми более тридцати лет тому назад пытался отучить моего племянника от орфографических ошибок[310]. Эта моя деятельность возникла благодаря упомянутому родственнику, но в своей основе не содержала стремления приобщить восьмилетних к профессии колбасника или к изготовлению паштетов из людей[311].
Впрочем, об этом не стоило бы писать, если бы не подтверждаемые палеоантропологами факты, что первобытные люди в своих пещерах достаточно систематически занимались употреблением в пищу особей своего вида. Об этом свидетельствуют обнаруженные в разных местах человеческие кости, раздробленные с целью извлечения костного мозга[312]. Однако, занимаясь диктантами, я не задумывался о столь далеком прошлом, ибо меня волновала не проблема самоедов, а лишь преодоление чисто орфографических препятствий на пути развития очень молодого человека.
Да, совершенно забыл, поэтому готов теперь, во времена, когда все за все просят прощения, извиниться за представленного в одном из диктантов рыжика, названного людоедом, который подставлял ногу старушкам и съедал их без соли[313]. Особенно требует раскаяния эта бессолевая диета, описанная так легкомысленно.
Припоминаю, что во время немецкой оккупации во Львове неожиданно появились недорогие паровые котлеты, от употребления которых я отказался, узнав, что в какой-то квартире будто бы обнаружили находящееся в ванне и предназначенное для известной переработки мясо (якобы) убитых людей. Эта история должна была закрепиться в моем подсознании, чтобы через годы всплыть в тексте, которым я пробовал приобщить моего родственника к «каннибализму, а в далекой перспективе – к цивилизации смерти».
Значительно интереснее людоедства мне представляются истекающие кровью американские телевизионные фильмы-триллеры. Заатлантические сценаристы безмерно упростили якобы типичные процедуры для террористических, шпионских и бандитских афер. Желая привлечь зрителей, в качестве рекламы фильмов каналы ТВ показывают наиболее привлекательные и аппетитные фрагменты будущих фильмов. В этих анонсах все во всех стреляют, люди мрут как мухи, вылетают из эффектно разбивающихся окон верхних этажей небоскребов, попадают под машины, погибают в авиакатастрофах, и весь этот современный репертуар напоминает дворовую музыку довоенного шарманщика, крутящего рукояткой одно и то же.
Поэтому следует настоятельно обращать внимание всех, заботящихся о благополучии детей, что они должны, особенно во времена, когда царит воинственный хаос, уговаривать писательские кадры создавать исключительно вегетарианские рассказы и сказки. Однако всегда кто-то может почувствовать себя тронутым рассказом Гомбровича о мальчике, которого употребили на пиршестве у графини Котлубай. Возможно, тщательное очищение библиотек от таких кошмаров составляет первоочередную задачу для педагогической элиты Третьей Речи Посполитой.
Спасение
На побережье я отправился отдохнуть. А там – толпа людей. Столпотворение. То есть тьма и какие-то крики.
– Что происходит, – спрашиваю.
– А здесь корабль утонул. И люди тоже.
– А тот, кого там окружили, это кто?
– Это какой-то любитель. Отлично плавает. Спас шестерых, но не всех. Так одни хотят наградить его медалью за спасение утопающих, а другие же хотят повесить за не спасенных.
– Господа, послушайте, – говорю, – успокойтесь. А что это за крик?
– А это продолжают тонуть.
Подошел к воде и вижу: голова. Кричит: «Тону!» И постоянно погружается в воду. А рядом другие, поменьше.
– Быстрее бегите за спасателями! – призываю.
– Не можем, – отвечают, – у них сейчас забастовка.
– А чего хотят?
– Ну, у них есть причина.
– Но сейчас не время для рассуждений. Вы не умеете плавать? – уточняю у тонущего.
– Нет, буль-буль, спасите! – пробулькал. Действительно, не умеет.
– А кто это рядом тонет? Ребенок?
– Нет, здесь двое детей, а жена там дальше.
– Молчите, – сказал какой-то тип рядом со мной. – Я директор «Центра обучения плаванию». Я сейчас этим займусь.
Из чемодана достал блокнот, вытаскивает компьютер.
– Вы умеете плавать? – спрашиваю на всякий случай.
– Директор не обязан, – отвечает. – Зато я знаю общую теорию спасения утопающих, нельзя ведь спасти всех сразу.
И того, который булькал в воде, спрашивает:
– Ребенок ligitime natum est?
– Я не знаю, буль-буль, латыни, – фыркнул, выплевывая воду.
– Я спрашиваю: ребенок рожден в браке?
– Да, конечно! Спасите, господин директор!
– А второй тоже в браке? Подождите.
И этот из ЦОПа ко мне обращается:
– Мой статус не позволяет мне непосредственно обращаться к кому-то только потому, что он будто бы тонет. Назначаю вас уполномоченным ЦОПа.
– Но я не умею плавать, – говорю.
– Не важно. В шахте тоже не все работают в забое. Спросите у него, что он за тип.
Я спрашиваю и данные записываю на колене. А толпа все увеличивается. Того, спасавшего, тормошат, чтобы наградить или повесить. Я вмешался. Должен быть порядок: сначала наградить, а потом повесить. Спасенные этим несостоявшимся медалистом-висельником издают различные возгласы, заглушающие тех, кто тонет и просит, булькая, их спасти. Уже как уполномоченный спрашиваю, кто умеет плавать? Как будто бы никто, но несколько человек решили помочь. Несут железный рельс.
– Рельс утонет!
– Возможно, но нужно попробовать.
Директор побледнел.
– Где спасательные жилеты?
– Бастующие забрали на всякий случай.
– Давай, бросай рельс в воду!
И действительно, бросили рельс. Как-то так этот рельс полетел, что зацепил и тонущего, и обоих детей, и жену. Все пошли ко дну.
– Ой, нехорошо, – говорю. – Ой, плохо получилось, что никто к ним ни брассом, ни кролем не направился!
– Уполномоченный, не говорите глупостей, – директор мне на это. – Пошли на дно быстро: не мучились! Большую помощь мы все равно не могли оказать, учитывая сложившуюся ситуацию. С тяжелым, очень тяжелым сердцем вам это говорю, поэтому успокойтесь, идите домой и благодарите Бога, что тоже в воде не оказались.
Убедил меня. И я ушел.
К вопросу о глупости
Я где-то сказал, что следовало бы написать книгу под названием «Глупость как движущая сила истории»[314], и это каким-то образом попало на телевидение. А теперь мне пишут издатели, что хотели бы такую мою книгу издать.
Заявляю, что у меня нет ни малейшего желания писать такую работу, я только заметил, что «следовало бы». Но поскольку легкомысленно затронул эту тему, добавлю по этому поводу несколько абстрактных соображений относительно того, как соотносятся понятия «умственный кретин» и «законченный идиот».
Если рассматривать вопрос шире, в словарном запасе нашего языка имеется небольшое количество слов для обозначения разумности и большое – глупости. Мы имеет дурака, глупца, помешанного, осла, болвана, тупицу и т. д. почти бесконечно. Эту пирамиду венчает именно «законченный идиот», то есть настолько глупый, что заключает в себе всю полноту этого понятия.
Это значит, что уже нельзя быть глупее такового. Как можно распознать законченного идиота? По тому, что он знает все абсолютно точно, а если допустит ошибку, то оправдает ее своей непоколебимой железобетонной безошибочностью. Если какое-нибудь несчастье случится из-за совершенного им идиотского поступка, он тотчас же обоснует его необходимость и неизбежность законами природы, государственными интересами, ответственностью патриота за судьбы народа и т. п. ad libitum[315].
В отличие от рассудительного, который или вообще тихо сидит, или занимается тем, что умеет, – законченный идиот, как об этом говорит само название, все знает, все может и благо всех и каждого касается именно его. Кроме этого, такой человек является универсальным деятелем: он не останавливается, но всегда движется в наихудшую сторону, которую, очевидно, считает наилучшей. И также с легкостью, не моргнув, меняет взгляды, но при этом за свои, актуальные на данный момент взгляды стоит горой и является (как говорят англичане) KNOWLEDGE RESISTANT и SCIENCE PROOF[316], то есть всякая логически обоснованная аргументация всегда отскакивает от него, как от стенки.
В этом совершенстве обычный умственный кретин вообще не может с ним равняться. Особенно кретин неохотно занимается политикой и позволяет себя, как дурака, за нос водить.
Следует отметить, что часто встречаются недоинформированные люди, которые наивно думают, что те, кто сам представляет себя как идейного руководителя группы, экскурсии, экспедиции или общества, скорее всего наделены соответствующей квалификацией, поэтому эти, первые, идут в сторону пропасти за теми, другими. Это печально, иногда трагично, но что делать. С учетом характеристики, приведенной выше, можно хотя бы как-то избегать законченных идиотов, и это может принести остерегающимся существенную пользу.
Эта моя абстрактная заметка не имеет ничего общего с сегодняшним положением в стране, ибо как вообще что-либо такое могло кому-нибудь прийти в голову???
P.S. Известный швейцарский психиатр Блейлер выявил тип такого дурака, который представляет собой так называемого SALONBLÖDSINN[317]. Такая личность отличается глупостью вкупе с красноречием, благодаря чему может блистать и в салонах, и в парламентах, и вообще где только возможно. Но это дополнение тоже никоим образом не относится к нашей действительности, о чем любезно сообщаю всем заинтересованным лицам.
Трактат о заднице
Читатель, внимание! В этом тексте 15 раз упоминается популярное слово на букву «ж».
Одна немецкая ученая дама, преподающая семиотику в Берлинским университете, прислала мне копии нескольких своих опубликованных работ. Один из присланных мне научных трактатов носит название «Голые ягодицы в рекламе» («Nude Buttocks in Advertising»).
Не могу сказать, что вопрос обнаженной задней части человеческого тела требует приоритетного научного исследования. Тем не менее немецкий ученый, со свойственной этой нации скрупулезностью, последовательно занялась изучением различных названий жопы и определением ее роли в культуре.
Она начинает с эвфемизмов, которые прямо не называют эту часть тела, и также приводит ее названия в разных языках, начиная с французского, английского и немецкого. Затем делает акцент на семиотической структуре и прагматической функции жопы в рекламе. Ученая дама углубляется даже в древнюю историю, прилагая к своей работе соответствующие рисунки. Упоминает известную скульптуру Праксителя 330-го года до Рождества Христова Афродиту Книдскую, славную благодаря своему заду, ее называют также Каллипигой, что по-гречески и означает «красивые ягодицы».
Затем научный текст, концентрируясь на жопе, выявляет ее амбивалентность. С одной стороны, ягодицы признаются центральным сексуальным раздражителем, который возбуждает и вызывает желание копуляции, необязательно анальной. Соответствующие журналы дают советы, как сделать зад наиболее сексуальным, и поэтому многие хирурги-косметологи живут за счет приукрашивания нашего тыла.
С другой стороны, жопа напрямую связана с испражнением и по этой причине вызывает много отрицательных ассоциаций. Поэтому во многих языках это слово служит для оскорблений. В польском, не упоминаемом автором из-за его незнания, используются такие уничижительные определения, как «dupek», «o dupę potłuc», «mam cię w dupie», «wszystko do dupy» [дословно «жопка», «разбить о жопу», «ты у меня в жопе», «все в жопу» соответственно. – В.Я.].
В христианстве цепь ассоциаций идет от конкретных нечистот до абстрактного греха. Задок должен демонстрировать низменную суть человеческой природы, связанную с материальным, то есть с суетным. Автор приводит известное высказывание святого Августина: «Inter faeces et urinam nascimur», то есть «Мы приходим в мир между экскрементами и уриной». Этой темой занимались также психоаналитики, так как проблемы с испражнением ведут к отрицательным последствиям. Проблемы с анальной областью могут привести к тому, что ребенок вырастет эгоистичным и скупым.
Затем мы переходим к положению, занимаемому жопой. Сидение считается в высшей степени статичным. Вместе с тем немецкое выражение «Er hat ein gutes Sitzfleisch» (буквально: «У него хорошие ягодицы для сидения») обозначает трудолюбивого человека. Я обхожу вопросы определенной газовой разрядки, связанной с этой областью, потому что это мне представляется слишком уж конкретным. Зато известно выражение, касающееся Освенцима, «anus mundi», то есть «задний проход мира». И наиболее отдаленное место находится «где-то в жопе».
Используя научные методы, автор приступает к выявлению того, что можно выяснить путем сравнения лица и ягодиц. Многие народные пословицы подчеркивают их структурное сходство. Они симметричны относительно вертикальной оси – как щеки, так и половинки жопы. Кроме того, имеется центральное отверстие, которое как там, так и здесь выполняет двойную функцию, а именно: входа и выхода.
Автор утверждает, что в то время, как женские ягодицы с древних времен играли сексуально стимулирующую роль, мужские вышли на публичный показ сравнительно недавно. Телевизионные экраны, биллборды и рекламные плакаты заполнены тыльными окрестностями нагих, сексуальных блондинок. Жопа является очень популярным рекламным мотивом, и не только в рекламе туалетной бумаги, но также, например, в рекламе автомобилей, в которые мы можем ее удобно поместить. Одна немецкая политическая партия использовала нагие ягодицы в качестве средства для осмеяния правящей коалиции.
Заключение может быть следующим: так как между «жопой» и «попой» [в польском языке эти два слова также отличаются только одной буквой: dupa и pupa соответственно. – В.Я.] нет никакой разницы в назначении, существенным является уровень вульгарности, которая в случае жопы поднята на щит, а попу делает невинной. В общем, «детабуизация» жопы – относительно новое явление, способ ее представления подвергся изменению в течение последних нескольких десятков лет, новейшие представления более остроумны и проявляют тенденцию к демонстрации различия полов.
XII Станислав Лем повествует
Два молодых человека
Белый дом над ущельем выглядел пустым. Солнце уже не грело, темно-красное среди облаков – малых золотых пожарищ, остывающих до розового цвета, а небо до самого горизонта насыщалось бледной зеленью такого оттенка, что когда ветер стих, это мгновение казалось прелюдией к вечности. Если бы кто-нибудь стоял в комнате у открытого окна, видел бы скалы каньона в их мертвой борьбе с эрозией, за миллионы бурь и зим терпеливо находящей слабые места, способные превратиться в осыпь, а твердые, гранитные вершины преобразовывающей иногда романтически, а иногда насмешливо в руины башен и искалеченные статуи. Однако там никто не стоял; солнце покидало дом, каждую комнату отдельно, как бы в последний раз выявляя домашнюю утварь, которая быстро освещалась, выделяясь в нереальном зареве, словно предназначенная для целей, которые еще никому и не снились. Сумерки смягчали остроту скал, делая их похожими на сфинксов и грифов, трещины, бесформенные днем, сумерки превращали в глаза, наделяя их взглядом, и эта их неуловимая, медленная работа на каменной сцене получала все новые, правда, все более домысливаемые эффекты – по мере того как они отбирали у предметов цвета, еще сильнее насыщая их глубины фиолетом, а в зените – зеленью. Весь свет словно возвращался на небо, а неподвижные края облаков отнимали у перечеркнутого горизонтом солнца остатки сил. Дом тогда стал полубелым, призрачного, неясного белого цвета ночного снега, и последняя капля солнца долго растворялась на горизонте. Он не был еще темным – какой-то фотоэлемент, неуверенно решив, что уже наступило время, включил свет в четырех нишах, который не смог согласоваться с синим величием вечера, и немедленно его выключил. Однако этого мгновения хватило, чтобы заметить, что дом не пуст. Его обитатель лежал в гамаке с запрокинутой головой, волосы закрывала металлическая сеточка, прилегающая к черепу, руки у него были по-детски прижаты к груди, как будто бы он держал в них нечто невидимое и драгоценное, он часто дышал, а глаза двигались под натянутой кожей век. От металлического обода сетки спускались гибкие провода, идущие к аппарату на трехногом столике, тяжелом, будто выкованном из шероховатого серебра. Там медленно вращались вокруг своей оси четыре барабана в такт подмигивающему зеленоватым светом катодному мотыльку, который искрился, пульсируя. Становилось все темнее, и салатного цвета мерцание превращалось в источник света, отчетливым контуром обрисовывая лицо человека. Но человек не знал об этом, потому что для него уже давно была ночь. Микроскопические кристаллики, внедренные в ферромагнитные ленты, по свободно свисающим кабелям волну за волной посылали в его голову импульсы, наполняющие образами все его органы чувств. И не существовали для него темный дом и ночь над ущельем; словно глаз в рыбьей голове, он сидел в прозрачной кабине корабля, который среди звезд летел к звездам, и он, со всех сторон охваченный небом, смотрел в галактическую ночь, которая никогда и нигде не кончается. Корабль двигался почти со скоростью света, поэтому тысячи звезд появлялись в кольцах кровавого свечения, а обычно темные туманности зловеще тлели в черноте бездны. Движение корабля не нарушало неподвижности небесного свода, но меняло его цвета: из двух звездных скоплений от одного – прямо впереди – с каждым часом исходила все более яркая синева, а другое, за кормой, краснело; те же созвездия, которые находились прямо на пути корабля, постепенно исчезали, как бы растворяясь в черноте, и два круга ослепленного неба, беззвездного, пустого, составляли цель путешествия, видимую уже только в ультрафиолете, как и оставшееся за выбросами пламени пространство земной системы во главе с Солнцем, невидимом даже в инфракрасном спектре.
Человек улыбался, ибо корабль был старым и потому наполнен шорохом механических крыс, которые пробуждаются к жизни только при необходимости, когда вентили перестают плотно закрываться, когда датчики на защите реактора обнаруживают радиоактивную течь или микроскопическую утечку воздуха. Он сидел без движения, погрузившись в свое неестественно большое, как трон, кресло, а под ним и за ним бдительные членистоногие сновали по палубам, шныряли в холодных втулках опустошенных резервуаров, шуршали в галереях кормы, весь воздух в которой светился от чудовищного вторичного излучения, доходили до границы темного нейтринного сердца реактора, где любое живое существо не выдержало бы и секунды. Рассылаемые беззвучными радиосигналами в самые дальние закоулки, они здесь что-то подкручивали, там что-то уплотняли, и корабль был полон их мелкой, хаотической беготни по извилистым путям, они неустанно семенили, держа наготове щупальца-инструменты.
Человек был по шею погружен в пенное пилотское ложе, спеленутый, как мумия, спиралями амортизации, опутанный тончайшей сетью золотых электродов, следящих за каждой каплей крови в его теле, только голая голова свободна. В черных глазах дрожал звездный мрак, и этот человек улыбался, потому что полет должен был продолжаться еще долго, потому что он чувствовал, бдительно напрягая внимание, длинный левиафаноподобный[318] корпус корабля, который благодаря слуху – и только ему – рисовала, как бы выцарапывая контуры на черном стекле, беготня электрических созданий. Он не мог увидеть его – целиком – любым иным способом, ибо вокруг не было ничего, кроме неба, то есть этой темноты, насыщенной сгустками инфракрасной и ультрафиолетовой пыли, этой бесконечной бездны, к которой он устремлялся.
В это же самое время другой человек летел – но уже вправду – на расстоянии нескольких парсеков над плоскостью Галактики. Вакуум молчаливыми магнитными бурями уже долго атаковал бронированную оболочку его корабля, которая уже не была такой гладкой, такой незапятнанной, как в то время, когда он отправлялся в полет на колонне вспененного огня. Металл, наиболее твердый и устойчивый из возможных, постепенно улетучивался, уступая атакам бесконечной пустоты, которая, прилипая к глухим стенам этого столь земного, столь реального предмета, высасывала его снаружи так, что он испарялся, слой за слоем, невидимыми облачками атомов – но броня была толстой, рассчитанной на основе знаний о межзвездной сублимации[319], о магнитных порогах, о всевозможных водоворотах и рифах величайшего из возможных океанов – пустоты.
Корабль молчал. Был словно мертвый. По многомильным жерлам его трубопроводов мчался жидкий металл, и каждый их поворот, каждая излучина были взращены в теплом нутре земных счетных машин, тщательно выбраны из сотен тысяч вариантов математических расчетов, чтобы нигде, ни в одной стенке, ни в одном соединении не возник опасный резонанс. В его силовых камерах извивались узловатые жилы плазмы, этой сути звезд, натягиваемой в магнитных оковах, чтобы извергаться за кормой огненным столбом, не касаясь зеркальной поверхности, которую они мгновенно превратили бы в газ. Эти зеркала пламени, эти оковы солнечного жара сосредотачивали всю мощь, на которую способна материя на пороге самоуничтожения, в столбе света, который, покинув корабль, был виден как звезда первой величины на расстоянии миллиарда миль. Все эти механизмы солнечной инженерии имели свою земную предысторию. Они долго дозревали в пробных полетах и катастрофах, которым сопутствовал шелест катодных осциллографов, полный то подмаргивающего одобрения, то неспокойного удивления, в то время как цифровая машина, вынужденная точно разыгрывать астронавтические драмы, даже не вздрагивала, и об этих секундах, полных молчаливого гама, в котором спрессованы были целые века космонавтики, бодрствующему программисту говорило только тепло ее стенок, ласково греющее руки словно кафельная печь. А так как продолжалось это многие годы, огненные внутренности корабля работали молча. Тишина на борту ничем не отличалась от галактической тишины. Бронированные окна были закрыты наглухо, чтобы в них не заглянула ни одна из звезд, краснеющих за кормой или голубеющих перед носом. Корабль мчался так быстро, почти как свет, и так тихо, как тень, словно бы он вообще не двигался, а только вся Галактика покидала его, опадая в глубину спиральными извивами своих ртутных, пылью прошитых рукавов.
От датчиков оболочки, от толстых латунных корпусов счетчиков, от камер, ослепляемых невидимым нейтронным пожаром, тянулись тысячи серебряных и медных волокон, сплетаясь под килем, как под позвоночником, в набухающие от сигналов толстые узлы, из которых ритмы, фазы, утечки, перенапряжения потоком мчались к передней части корабля. То, что в огнеупорном нутре кормы было Колонной Солнца, звездной струной, вибрирующей в резонаторах полей, становилось в кристалликах передатчиков точным танцем атомов, балетные па которого исполнялись в пространстве, меньше пылинки. Впаянные в броню глаза фотоэлементов искали звезды-ориентиры, а вогнутые глазницы радаров – метеориты; встроенные в металл шпангоутов, килей, распорных балок, рычагов гладкие скользкие кристаллы, превращающие каждую перегрузку и каждое давление в дрожь электронов, в математический стон, беспрерывно сообщали, сколько еще может выдержать яйцевидный гигантский корпус, а золотые мурашки электронов неустанно обтанцовывали его контур. Внутри корабля на всех палубах всевидящий электронный взгляд наблюдал за трубопроводами, перегородками, насосами, а их образы превращались в пульсирующие ионные облака в полупроводниках – так одновременно со всех сторон сообщения на безмолвном языке сбегались в рулевую рубку. Здесь, под полом, покрытым шестью слоями изоляции, они попадали в глубь главной цифровой машины – темного кубического мозга, достигая своего предназначения; циркулировали контуры ртутной памяти, холостой пульсацией тока подтверждали свою неустанную готовность контуры противометеоритной защиты, решения оценивались решениями, при этом соседние цифровые центры, действуя в условиях абсолютного нуля, следили за каждым вдохом и каждым ударом сердца человека; в самом же центре машины на случай аварий и величайших опасностей находились программы маневрирования, навигации наряду с теми, которые уже однажды были запущены во время старта и через много лет при приземлении должны были начать действовать в обратной последовательности; все они вместе, уверенно функционирующие в мономолекулярных оболочках, были столь малы, что их можно было растереть между пальцами, как пыльцу с крыльев бабочки; судьба человека и корабля решалась именно здесь, между атомами.
Этот черный мозг был холоден и глух, как кристаллическая скала, но малейшая неясность, задержка входящих сигналов порождали ураган вопросов, направляемых в самые отдаленные закоулки корабля, откуда длинными сериями отстреливали ответы. Информация сгущалась, кристаллизовалась, наполнялась смыслом и значением, а когда наконец превышала критический уровень, автомат осмеливался вторгнуться в глубь черной рулевой рубки и в пустоте, среди бледно-зеленых циферблатов секундомеров, выскакивали, словно из ниоткуда, стремительно отображаемые в пространстве красными или желтыми буквами важные сообщения: о превышении половины скорости света, об очередном изменении курса…
Но человек, отдыхающий в пилотском ложе, их не читал. Он сейчас о них ничего не знал. Пестрая мозаика букв, которые усердно сообщали ему о ходе космического полета, напрасно озаряла цветными вспышками его спокойное лицо. Он не торопился знакомиться с этими ежедневными известиями, ибо впереди у него еще было годами отмеряемое время. Губы у него слегка шевелились при медленном, спокойном дыхании, словно он собирался улыбнуться, но только отвлекся на мгновение. Голова его удобно располагалась на подушке, только на край лба была надвинута сеточка, прижатая к волосам; гибкий кабель сбоку соединял ее с плоским аппаратом, будто бы вырезанным из одного куска шероховатого серебра. Он не знал в тот момент, что летит к звездам, – не помнил об этом. Он сидел – в вытертых полотняных брюках, белых на коленях от каменной пыли – на краю большого обрыва и, чувствуя на виске щекотание волос, взлохмаченных ветром, смотрел в огромный каньон под знойным небом, смотрел на далекие миниатюрные дубы, на холодную пропасть, наполненную голубоватым и двигающимся, как вода, воздухом, на будто бы запаянный в стекле рисунок скальных чудовищ, достигающих горизонта, – только очертания обрывов размывались в дальней дали, где многоэтажные глыбы сравнялись с зернышкам песка. Он чувствовал усиливающееся прикосновение солнца к его макушке, ощущал, как ветер треплет рубашку из грубого полотна, подкованным башмаком он лениво двигал прямо над тем местом скалы, где она обрывалась и прыжком летела на километры вниз. Излучина огромного каньона напротив того места, где он расположился, была залита тенью, над которой возвышались высочайшие вершины, похожие на легендарных грифов или древнейшие божества. И так – прочно прикованный к Земле, – глядя в огромную трещину ее старой коры, он улыбнулся, чувствуя, как сильно обращается в нем кровь.
Матрас
I
– Дорогой доктор, – сказал я. – Вы не только мой личный врач, но и друг семьи. Проблема, которую я вам хочу доверить, наверняка не относится к медицине, но я нахожусь в таком положении, что уже никому не доверяю, кроме вас.
Доктор Гордон, психиатр, пыхтел своей трубкой, глядя на меня с таким выражением, словно прячет снисходительную улыбку. У меня пронеслось в голове: возможно, он думает, что со мной творится то же самое, что и с моим отцом, но в любом случае я должен говорить дальше.
– Кроме того, – добавил я несколько суше, – вас связывает врачебная тайна, подобная тайне исповеди. Дело в том – вы внимательно меня слушаете? – что за меня уже взялись. Меня «заказали», как это называют в прессе и на телевидении. У меня нет стопроцентной уверенности, но…
– Подождите, – сказал Гордон. Он методично вытряхивал пепел из трубки в серебряную пепельницу с тремя амурами. – Сначала расскажите мне об этом «заказе». Я предполагаю, что речь идет об угрозе личной безопасности, что вас хотят похитить, да?
– Естественно. Уже произошло столько похожих случаев. Вот «Нью-Йорк таймс» за понедельник. На примере Билла Харкнера здесь подробно описано, как «похищают в виртуальную реальность». Я даже знал Билла, мы ходили в один колледж. Вы ведь это читали?
– Только просмотрел. Знаете, в конце концов это не имеет отношения к моей специальности. Использование современной техники во вред уже так распространено и разнообразно, что никто не может быть экспертом в каждом вопросе. Но продолжайте. Вы можете, – он слегка улыбнулся, – быть уверены: все, что вы говорите в моем кабинете, долетает исключительно до моих ушей…
– Значит, во всяком случае, вы знаете, что похищение Билла только случайно не закончилось его смертью?
– Знаю, конечно. Просто отключилось электричество в том районе города, в котором его держали на чердаке, и он пробудился, то есть сориентировался, кто он на самом деле и что было только иллюзией, вызванной фантоматизацией. И что? Вы думаете, что и на вас нападают? На каком основании?
Я не был до конца уверен, относится ли Гордон к моему беспокойству с полной серьезностью. Может, ему бы хотелось, чтобы я просто предавался иллюзиям, типичным для его специальности? Но так или иначе, я уже слишком далеко зашел и должен был говорить дальше.
– Это так, – сказал я. – Еще пять лет назад вся эта история с инвестициями в «виртуальную технику» или там «реальность» казалась мне несерьезной. Так вот, когда всеобщим помешательством были йо-йо, я не захотел стать совладельцем «Визионари машинс», хотя мои брокеры уговаривали меня, чтобы я приобрел по крайней мере двадцать процентов акций. Но я не верил. Зато сразу подумал, что так же, как возникло computer crime[320], возникнет, в свою очередь, и virtuality crime[321]. И был прав, но вы же, наверное, понимаете, что человек с моим положением в обществе, уважаемый и так далее, не будет заниматься чем-либо, что дает в первую очередь пищу для журналистов и авторов триллеров?
– Все это вы не обязаны были мне говорить, – заметил Гордон. Его трубка погасла, он ковырялся в ней, что оставило у меня неприятный осадок, потому что я ожидал большей концентрации внимания на моих словах. В конце концов я не был обычным человеком, просто пациентом Гордона: он всегда достаточно уважал меня, чтобы его квартальные счета достигали рекордной величины.
– Допустим, – продолжал я. – В любом случае я прав в своих ожиданиях: когда качество виртуальной реальности сравняется с качеством настоящего мира, когда все труднее станет отличать эти фантоматические иллюзии от обычной действительности, дело примет плохой оборот… и дальше будет только хуже.
– Знаю. – После определенных усилий Гордону удалось зажечь трубку. – Знаю. Эти так называемые похищения стали систематическими благодаря появлению определенной мотивации. Так называемое похищение основано, собственно говоря, только на том, что человека «отсоединяют» всеми чувствами от мира и «подключают» к компьютеру, который мир имитирует. Но, дорогой мой, собственно, вы должны по этому вопросу обратиться или к хорошим юристам, а их у вас достаточно, или к инженерам-фантоматикам. Психиатру здесь делать нечего…
– Меня удивляет, что вы так говорите, – сказал я, – ведь все дело в том, КАК человек, которому кажется, что его поместили в электронную фикцию, может убедиться, что с ним происходит НА САМОМ ДЕЛЕ. Находится ли он наяву или в электронной смирительной рубашке…
– Знаете что? – Трубка, шипя, опять погасла. – Может, мы перестанем ходить вокруг да около и подойдем к самой сути? КТО вас «заказал»? ЗАЧЕМ, по вашему мнению, они хотят сделать то, что мы называем сенсорной деривацией и реституцией под влиянием симуляционной программы? Откуда взялись ваши опасения и подозрения?
– Оттуда, что Билл, как и я, был пайщиком «Ай-би-эм машинс» и наши доли были соизмеримы, а кроме того, лица… скажем так: «лица, которые могут рассчитывать на наследство», – окружали и окружают каждого из нас…
– Вы подозреваете кого-то из семьи?
– Доктор, вы врач, а не юрист. Если бы у меня были более обоснованные подозрения, я бы обратился через кого-либо из моей охраны к частным детективам. Никого конкретно я не подозреваю и предпочитаю об этом не говорить. Речь идет просто о том, что Билла похитили неизвестно как и при каких обстоятельствах, что ему надели на голову какой-то шлем с электродами, что его положили в углу какого-то чердака и что он там лежал две недели, абсолютно без еды, хотя ему казалось, что он объедается в лучших ресторанах и что его окружают какие-то одалиски и нимфы. У него всегда была слабость к девушкам легкого поведения и тяжелого веса, но я не это хотел сказать. Когда этот ток пропал, ему удалось выбраться, он потерял около двадцати килограммов веса и едва дополз до телефона. Кто за этим стоял, он не знает или говорит, что не знает, но я догадываюсь. Речь шла о том, что называется vacuum iuris. Это мне мои юристы объяснили. Если нет закона, то нет и преступления. Он бы там с голоду умер, и через некоторое время там нашли бы его останки и, конечно, все следы этого «похищения» устранили бы таким образом, что все выглядело бы так, как будто он, скажем, сошел с ума, заморил себя голодом, ну и в бой пошли бы юристы наследников. Как об этом пишут, так сейчас и делается.
– Понимаю. И, следовательно, вы подозреваете в подобных происках кого-то из своих родственников или лиц, которые получат наследство по вашему завещанию, и вы хотите…
– Извините, доктор. Я не собирался и не собираюсь говорить с вами о наследстве и о том, что может произойти с моими миллионами. Я только хочу, чтобы вы профессионально объяснили мне, КАК можно отличить фальсифицированную реальность от реальности настоящей. Это все. С остальным, с вашего позволения, я разберусь где-нибудь в другом месте.
– Знаете что? Вы очень взволнованы. Нет, не прерывайте меня, пожалуйста. Пока, я подчеркиваю: ПОКА, вы находитесь в состоянии настоящей реальности, и то, что я могу вам сказать о методах определения состояния, находится вне компетенции как врача. Может, какой-нибудь программист сказал бы вам больше и лучше…
– Но ни один программист не обязан сохранять в тайне то, что я ВАМ доверяю. Сами слухи о моих опасениях могут подорвать доверие ко мне. Поэтому, черт побери, доктор, вы будете меня просвещать или нет?
– По мере моих возможностей. – Трубка опять погасла, и у меня возникло желание вырвать ее у него из рук и выбросить в окно. – «Заказ», как вы это назвали, заключается, как известно, в том, чтобы известное кандидату окружение очень тщательно снять на пленку, сфотографировать, записать звуки и так далее. Из этого потом возникает основа программы. Кроме того, они, конечно, должны сориентироваться в самой личной и интимной жизни кандидата, и, наверное, иногда они делают «генеральные репетиции» с подопытными. Чем точнее им удастся зарегистрировать ВСЕ, что составляет окружение данного человека, его семью, знакомых и так далее, тем больше шансов, что похищенный попадется на крючок и не отличит фикцию от реальности.
– Но я же это знаю. Это можно прочитать в любой газете. Зачем вы мне об этом говорите?
– Затем, чтобы объяснить, что такая имитация известного окружения практически невыполнима. Невозможна. Достаточно того, чтобы у вас в вашем сейфе были какие-то старые письма или какая-то давняя фотография, которую вы хорошо помните, и если вдруг вы ничего не найдете, подозрение о похищении станет весьма обоснованным. Но ни к кому за помощью и советом вы не сможете обратиться… знаете почему?
– Я читал об этом. Потому, что если я заключен в фикции, то тот, кого я буду просить о помощи, ТОЖЕ будет созданием этой фикции и начнет меня убеждать, что я живу наяву.
– Да. Именно так, и это есть созданный технологически самый совершенный в истории метод формирования солипсизма, того, который епископ Беркли…
– Оставьте же в покое епископов, доктор. Что тогда делать? Говорите же наконец.
– Чтобы максимально затруднить дифференциацию, программисты обычно переносят похищенного в совершенно чужое для него окружение. Ну, скажем, на пороге дома его догоняет курьер с телеграммой или ему звонят от мнимого приятеля, чтобы он сразу прибыл туда-то и туда-то, он соглашается и, таким образом, теряет осознание реальной действительности. При этом и близких ему людей как-то «ликвидируют». Жена вдруг должна уехать, камердинера забрала «Скорая помощь», потому что у него инфаркт, и так далее.
– Ага. То есть предостережением будут неожиданные изменения в образе жизни?
– Вполне возможно, но это не явные предвестники: все будет организовано по замыслу программистов.
– Так что тогда, черт возьми, делать?
– Следует делать то, что программисты были не в состоянии придумать: это называют «ломкой программы». Тогда перед фантоматизируемым открывается пустота как доказательство того, что он находится НЕ наяву.
– Откуда я могу знать, до чего может додуматься какой-то там программист-гангстер?
– От этого нет никакой панацеи. Но есть ситуация ИГРЫ: вы играете с машиной, то есть с компьютером, к которому подсоединен ваш мозг, и вы должны сами – исключительно сами, в одиночку – решать, что возможно, а что нет.
– То есть если бы я заметил приземляющуюся тарелку с зелеными человечками?..
– Ах, дорогой мой, они на такие примитивные вещи никогда не пойдут. Реальность должна быть основательно имитирована. Большего я вам сказать не смогу, могу дать только совет общего характера: во время сна, купания, утреннего туалета вы должны быть особо внимательны. Но ведь у вас есть личная охрана?
– Есть. Спасибо, доктор. Не скажу, что я от вас ожидал чуда, но вы несколько меня разочаровали. В следующую пятницу я вас опять навещу…
II
Бронированный «феррари», на котором я ехал домой, двигался так, будто вовсе не весил три тонны. Я был доволен этим приобретением. Передо мной и за мной ехали мои люди.
Я подумал без малейшего удовлетворения, что при моем образе жизни я все больше становлюсь похожим на какого-то главаря мафии. Вооружения все больше – доверия все меньше. Хорошо было бы выбраться куда-нибудь в одиночку и очень далеко, но ведь надо заказать билеты, отели, и черт его знает, где может находиться какое-нибудь подслушивающее устройство. Доктор Гордон наверняка был прав в том, что все-таки следует держаться в центре своего окружения, тогда будет все же безопаснее.
Была пробка. Мы стояли, кондиционер делал, что мог, но уже немного пованивало. Бронированные стекла все-таки. В последний раз портной уговаривал меня на пуленепробиваемый жилет, но он весил почти шесть фунтов, а кроме того, говорят, что сейчас стреляют или ниже пояса, или в голову. Скоро будем передвигаться в стальных или в титановых шлемах, подумал я. Светофор переключился, «феррари» по-кошачьи мягко прыгнул вперед. Я сидел один на заднем сиденье, отделенный от водителя стеклом. Я чувствовал какой-то неприятный осадок после разговора с Гордоном, неизвестно почему. Я провел рукой по голове – самое время стричься. Не переношу длинных волос у мужчин. Но как это сделать, чтобы меня не «заказали». Мне пришло в голову, что, несмотря на подлинность истории с Биллом, психиатр не относился к моим подозрениям с полной серьезностью. На то он и психиатр – я пытался уменьшить подозрение. Долго ли можно так жить, в коконе защиты, не следует ли связаться с каким-либо на самом деле серьезным авторитетом: как ПРЕДОТВРАТИТЬ похищение, а не как распознать, что оно УЖЕ произошло… Мы подъехали к воротам, они открылись сами, я уже слышал лай собак. Собаки не перепутают меня, не предадут и не обманут, подумал я еще, когда Петер открывал передо мной дверь машины.
III
Россини, моего парикмахера, я приказал пригласить к десяти. Дворецкий прямо перед завтраком сообщил мне, что Россини отвезли в больницу, потому что он плохо себя почувствовал, но он пришлет вместо себя человека. Действительно, после девяти появился молодой брюнет, типичный итальянец, только для того, чтобы вручить мне тщательно закрытый пакетик. Внутри я нашел обмотанное ленточками письмо от Россини: своим напыщенным стилем он сообщал, что за «кузена» не может поручиться и поэтому советует мне поехать к своему шурину на самую окраину Манхэттена. Напротив парикмахерской находится спортивный магазин; ко мне этот его шурин приехать не может, потому что ему не на кого оставить заведение. На всякий случай я приказал позвонить в больницу, чтобы Россини подтвердил подлинность письма. Подтвердил – так мне сказал секретарь. Я взвесил ситуацию. Если я начну подозревать всех, то в конце концов сам окажусь у Гордона в закрытом отделении. Поэтому я отправил охрану в эту чертову парикмахерскую, чтобы оттуда она доложила мне, все ли в порядке. Все было нормально. Я поехал, надо было пройти еще несколько шагов. Действительно, на противоположной стороне этой улочки находился магазин, в окне которого висели разные весла, трусы и матрасы. Один из них был в красную и синюю полоску. В парикмахерской Коккони царила приятная прохлада, и, кроме него, не было ни одной живой души. Я попросил постричь меня, помыть голову, и, когда он умело взялся за дело, я еще раз выглянул в окно. Один из моих людей стоял тут же у двери. Я не люблю мытья головы, но я лежал спокойно, завернутый, как младенец, в душистые простыни, парикмахер причесал меня, потом натянул мне на голову сетку.
– Снимите это.
– Прическа будет лучше держаться… – слабо засопротивлялся он.
– Снимите это немедленно.
Он снял, высушил мне волосы, которые, конечно же, рассыпались, но это было не важно. Выходя на улицу, я глянул в сторону спортивного магазина и удивился, потому что сейчас в витрине висел матрас в белую и зеленую полоску. Я поманил пальцем одного из людей моей охраны.
– Да, – сказал он, – они поменяли витрину, когда вы были у парикмахера.
Что тут можно было добавить. «Феррари» опять двинулся, и я, прикоснувшись пару раз к голове, убедился, что она коротко острижена и еще немного влажная. Но что-то сосало у меня под ложечкой и в сердце. Я приказал шоферу ехать по другому мосту, где бывали ужасные пробки. Охрана ехала за мной. Как будто все в порядке, но я чувствовал какую-то слабость. Самое время, чтобы пойти к Гордону, подумал я, потому что и без этой фантоматической угрозы получу какое-нибудь нервное расстройство. Полчаса мы пробивались через злосчастный мост, а когда были уже недалеко от моего дома, воздух вдруг сотряс сильный взрыв. Сразу же за углом нас задержала полиция. Это была бомба, и, конечно, подложенная под мою резиденцию. Подозрение усилилось. Я подошел поближе – насколько позволили люди из пожарной охраны и встал возле полицейского – осматривая фасад. Вокруг дымящиеся развалины. Целый этаж – куски стен, стекла, был вдавлен вглубь дома, где тоже все дымилось. Что же я должен сделать, чтобы убедиться в том, что это настоящая реальность? Я вспомнил фотографии девушек, спрятанные в сейфе на первом этаже, особенно ту, Лили, которую я никогда никому не показывал. В этом я был уверен. Код я помнил, но как попасть на тот этаж? Пришлось организовать целую кампанию по извлечению сейфа: подъемный кран, люди. Я уже видел этот чертов сейф, видел, как он болтался в крючьях стальных тросов, как вдруг часть еще не совсем обвалившейся стены рухнула сверху прямо на стальной ящик, и в облаке пылищи все сгинуло во тьме подвалов.
Тогда я сделал то, что соответствовало указаниям доктора Гордона. Я приказал отвезти себя к тому спортивному магазину напротив парикмахерской и, войдя в него, попросил надувной матрас в красную и синюю полоску.
– Именно такого уже нет, – выпалил низенький лысоголовый субъект. – Есть похожий, пожалуйста, красно-зеленый… вот этот.
– Но я хочу тот, который висел у вас в витрине час назад.
– Тот мы продали. Мы можем заказать точно такой, будет еще сегодня…
Я вышел из магазина, не сказав ни слова. Заглянул к парикмахеру – он поклонился мне. Я уже ничего не понимал. Я осмотрел собственные руки; домой я вернуться не мог, поэтому приказал отвезти меня в отель «Ритц», снял апартаменты и позвонил сначала жене во Флориду, а потом Гордону. Жена ни о чем не знала, а у меня не было желания разговаривать с ней о понесенных убытках из-за разрушения дома, мне важнее был Гордон, но ответил его автосекретарь.
Я сидел в отеле на диване, с отвращением попивал тоник и размышлял о том, что мне делать. Администрация уже три раза извещала меня о репортерах, жаждущих интервью, но я сказал, что мне не до того, и приказал двоим людям из охраны стоять у моей двери. Перед этим я внимательно присмотрелся к ним, но ничего не высмотрел. Честно говоря, я никогда не вглядывался в лица своих охранников и сейчас за это расплачивался. Такие же они, как и раньше, или нет? Впрочем, так или иначе, они менялись каждые шесть часов. Если бы я начал их расспрашивать (о чем?), то скорее предоставил бы дополнительную стратегическую информацию программе компьютера, который овладел моим мозгом – ЕСЛИ, конечно, действительно дело до этого дошло. Больше всего мне не нравилась сцена у парикмахера, тот момент, когда он натягивал сетку мне на волосы: я ее не видел. А вдруг это были электроды? Такой типичный фантоматизационный шлем. Может, подумалось мне, я уже лежу в каком-то вонючем ящике на каком-то чердаке и не знаю, каким образом убедиться в том, что я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нахожусь в отеле. Что делать? Что делать?
Я обдумывал по очереди следующие сценарии:
1. Я созову на обед в отель всех моих юристов, брокера, маклера, кассира, секретаря и так далее и присмотрюсь к ним как следует. (Но если я с моим окружением действительно «заказан», то это будут не мои люди, а фантомы, созданные компьютером.)
2. Я могу пригласить горничную (та, что принесла мне тоник, а потом еще что-то, была достаточно привлекательна) и изнасиловать ее (но, конечно, если она не против чего-либо подобного и не поднимет крика, то я ничего не узнаю о фантоматизации, а скорее всего вляпаюсь в аферу – на это у меня сейчас нет ни малейшего желания).
3. Я могу сымитировать приступ бешенства: но это самый глупый вариант, потому что меня отвезут в психиатрическую больницу.
4. Я могу кого-нибудь убить, однако, если я нахожусь в реальной действительности, мне на пользу это не пойдет.
5. Я должен сделать что-то неожиданное и абсолютно непредсказуемое.
Решившись на пятый номер, я спустился на первый этаж и зашел на кухню отеля. Очень удачно, потому что на стене висели различные ножи, скорее всего ножи мясника, но для начала я взялся за ручку огромного котла с каким-то супом и выплеснул все содержимое на двух поваров в белых «тюрбанах», которые, остолбенев, уставились на меня. А так как эта проделка мне вроде бы сошла с рук, я начал большой вилкой бросать куда попало какие-то зразы, которые жарились на сковородах; ко мне уже бежало несколько людей, одетых в белое. Мало того, я сказал себе, что разве миллионер не может по чистой прихоти выливать супы и бросаться котлетами? Я вел себя как последний идиот – ничего не поделаешь, я должен был удостовериться…
С ножом в руках я выбежал из кухни и через несколько коридоров выбрался в холл. У стойки администратора находилось несколько молодых женщин, с одной из них я стянул юбку (у нее были обычные розовые трусики), у второй попытался выдрать волосы, и, представьте себе, они остались у меня в руке, потому что она носила парик, и я слышал за собой какие-то крики, визг. Понимая, что должен идти дальше и что уже никоим образом не могу остановиться в этой смертельной схватке с КОМПЬЮТЕРОМ, я замахнулся ножом на администратора. Удар был точен.
IV
Сейчас я сижу в камере по обвинению в убийстве, причем мои юристы хлопочут о психиатрической экспертизе, которая подтвердила бы, что я действовал в состоянии невменяемости. Если все пойдет плохо, то возможен даже электрический стул.
Но на самом деле?
Все зависит от того, на самом ли деле тот красно-синий матрас кто-то купил именно в то время, когда меня стриг парикмахер, или матрас исчез, потому что программист гангстеров не все просчитал. Так или иначе, я ничего не знаю; я пытался повеситься, но простыня порвалась.
Но на самом ли деле?
Последнее путешествие Ийона Тихого
Почти шесть лет я не был на Земле, путешествуя от планеты к планете в густонаселенном созвездии Кассиопея. Возвращение было ужасно долгим, поэтому я переписывал набело массу записок и анкет, собранных во время пребывания на неизвестных до тех пор планетах. После приземления на Центральном евроазиатском космодроме я незамедлительно направился к своему издателю, рассчитывая дополнить предыдущее издание «Звездных дневников» новыми трофеями. Меня настолько увлекли удивительные явления, далеко не пассивным свидетелем которых я был на восьмом Суперспутнике альфа Кассиопеи Y (а может быть, Эридана, так как сквозняк, возникший вследствие аварии бортового вентилятора, ужасно перемешал мои записки: я делаю их на отдельных карточках и всегда в спешке забываю пронумеровать), что я постоянно возвращался мыслями к инопланетным исследованиям и совершенно не обратил внимания на теперешний облик Земли. Собственно, я должен был отреагировать сразу же после приземления, даже до того, как моя ракета остыла от атмосферного трения: меня должно было удивить не только то, что таможенник, с любезной улыбкой отдавая мне паспорт, заодно подставил мне ногу (я не упал, так как второй таможенник подхватил меня под мышки), но кроме этого оба они были одеты как-то необычно. Их пол не удавалось распознать: они носили форменные блузы, переходящие ниже пояса во что-то наподобие таких же форменных юбок, но они не были женщинами, потому что оба были усатыми, к тому же тот, подставивший ногу, был с бакенбардами. Впрочем, благодаря многолетнему опыту, зная, до какого уровня «все может изменяться», включая и моду на одежду, уже только по дороге, в такси, присматриваясь к дорожному движению, я от размышлений перешел к удивлению, а от удивления к остолбевающему изумлению: после шести лет на Земле наступили такие перемены, по сравнению с которыми все увиденное мною на спутниках Кассиопеи оказывалось все более банальным, обычным и даже вряд ли заслуживающим восстановления в памяти. Постепенно я стал сортировать у себя в голове то, что видел на улицах, а заслуживающего внимания было много. Во-первых, было похоже на то, что мужчины – если это были мужчины – носят сейчас платья или по крайней мере шаровары наподобие юбок. Во-вторых, женщины вообще либо ходили в брюках, либо в шубах почти до земли, а на головах имели что-то такое, что не могу описать иначе, чем призывая воображение – застывший зоопарк с разными зверюшками-миниатюрами. И наконец, за значительным количеством прохожих гнались какие-то люди, сжимающие в руках сачки для ловли бабочек: во всяком случае, мне так показалось. Я рассудил, что не должен сразу же направляться – как первоначально намеревался – в отель: следовало получить информацию обо всех произошедших в мое отсутствие изменениях культуры, нравственности и, last but not least[322], политики, чтобы не совершить какую-нибудь оплошность. Нужно, наверное, заметить, что предварительное разведывание местных обычаев – это космическая норма для каждого астронавта, каким я уже много лет являюсь, просто я никогда прежде, будучи на Земле или возвращаясь на Землю, такого метода предварительного получения информации не практиковал: вероятно, пришло время и для этого.
Как вы все, наверное, знаете, а некоторые даже помнят наизусть, столько раз прочитавши мои планетарные репортажи, собранные в «Звездных дневниках», мой друг профессор Тарантога имеет целый ряд кузенов с довольно эксцентричными интересами. Один из них, который должен был мне посоветовать, где я мог бы провести свой отпуск, является коллекционером самых разнообразных надписей (graffitti) на стенах клозетов со всего мира. Другой, с которым я познакомился, когда он собирался отправиться на наш земной спутник Луну, занимается антрополого-кулинарной археологией или старается выяснить, кто, когда, как и зачем открыл шпинат, спаржу, кольраби, а особенно 695 способов переработки творога именно тем, сегодня хорошо известным французам, методом, дающим сотни и сотни сыров. Но мне скорее нужен был иной, третий кузен Тарантоги, коньком которого или скорее страстью была МОДА, в ее разнообразнейших проявлениях и исторических тенденциях. Поэтому я дал водителю такси адрес этого третьего кузена, и случаю было угодно, чтобы я застал его дома. Живет он в пентхаусе на крыше колоссального небоскреба: сама крыша была преобразована в субтропический сад, хозяин же встретил меня в чем-то наподобие беседки и сразу же провел в квартиру, так как день был, несмотря на август (лето в Северном полушарии Земли), скорее холодным. Сама квартира на того, кто посещает ее впервые, производит сильное и необычное впечатление, так как все стены и даже потолки служат экспозицией больших плакатов с портретами лиц обоего пола, одетых в соответствии с историческими эпохами в тоги, фраки, кринолины, бикини, панталоны, наполеоновские сапоги с голенищами до середины бедра. И чудаковатый кузен даже отвел отдельное помещение исключительно посмертным рубашкам, и прочим видам одежды, в которые когда-либо живые одевали умерших. Желая непременно поднять настроение и сделать обстановку нашей встречи более теплой, хозяин провел меня в кабинет, в котором, как можно было заметить с первого взгляда, он занимался совершенно другим: мне показалось, что сейчас он уже перестал заниматься исследованиями изменений моды, так как вокруг висели изображения динозавров, тираннозавров, игуанодонов, плезиозавров, а на бюро – широко расставив четыре ноги, стоял трицератопс, точнее, его большая модель. Кузен Тарантоги, видя мое удивление, сразу же сказал, развеяв мои ошибочные выводы:
– Ах нет, дорогой господин Тихий, я продолжаю заниматься тем же самым явлением, которому посвятил жизнь с молодости. Я изучаю МОДУ, но только сейчас это мода не в одежде, а в построении живых существ. Никто как-то до этого не обратил внимание на то, что в различных геологических эпохах эволюция двигалась скачками: допустим, в юрском периоде модным было передвижение в основном на ДВУХ ногах – посмотрите хотя бы на этих страусоподобных тварей, или на тираннозавра, – а только потом дошло до четвероногого бытия существ, из которых в первую очередь сформировались четверорукие, например, обезьяны, а потом такие, как мы. Это интересно, но я не приписываю себе пальму первенства, если речь идет об этом открытии (что будто бы эволюция была миллионы лет МОДИСТКОЙ), это открыл Ларвин вместе с Уэйнштейном. Но скажите же мне наконец, чем могу быть вам полезен?
Поглядывая на установленный в углу скелет молодого атлантозавра, я спросил, что, собственно, происходит или, точнее, что произошло за время моего отсутствия.
– Очень много разных изменений, – заметил он. – Не знаю, с чего начать. Может быть, вы мне поможете, рассказав о том, что вас особенно удивило?
– А я знаю? Почему мужчины одеваются так, как раньше одевались женщины, и наоборот? Почему одни типы гоняются за другими с сачками для ловли бабочек? Почему…
– Прошу прощения, что прерываю, – произнес кузен, – но не нужно сразу слишком много вопросов. То, что вы приняли за сачки для бабочек, в действительности было электронными шлемами Radiovirtual Reality[323]. Именно Интернет, или же электронные сети связи, которые вы наверняка помните с давних лет, подверглись полной приватизации и разделу в соответствии с коммерческими законами рынка: в настоящее время имеется около шестнадцати, а может быть, и больше концернов, таких как Worldnet, Cybernet, Metropolitan, Sexotics, Bordelicity и так далее; всех не вспомню. Естественно, все они стараются увеличивать объем продаж и расширять спрос на свои услуги. По улицам бегают аквизиторы, пытающиеся перехватить чужих клиентов для своей сети, или инспекторы, электронным подсматриванием (e-peeping) контролирующие, к чьей сети подключены прохожие, или так называемые сетевики…
– Значит ли это, – спросил я, – что это уже стало всеобщей манией?
– Это значит, – усмехнулся кузен, – что теперь это преобладающая мода, так как наступило полное разделение так называемого детопроизводства и копулятористики.
– А что такое копулятористика?
– Раньше это был секс, но он не служил размножению. Этой связи уже не имеем, мой дорогой.
– Так откуда же берутся дети? К аисту возвращаемся или как?
– Нет. Кто хочет иметь ребенка – идет в инсеминаториум.
– Ага. Искусственное оплодотворение…
– Не совсем. По каталогу выбирается тип ребенка, подобно тому, как раньше выбирали тип автомобиля, то есть выбирается ГЕНОМ.
– Значит, выбирает женщина?
– Необязательно. Под давлением феминисток дошло до изменения законов и методов: в настоящее время и мужчина может иметь ребенка, только ему нужно будет сделать кесарево сечение, но для современной хирургии это мелочь. Выпьете чего-нибудь? Может быть, виски? «Белая лошадь»?
– Охотно, – ответил я, так как почувствовал потребность подкрепиться после этих услышанных новостей. Хозяин прижал к своему виску небольшую металлическую пластинку.
– Вызываю своего робота, – пояснил он. Действительно, вошел робот, но на подносе вместо бутылки и рюмок нес два молотка и маленький топорик. Кузен Тарантоги, совершенно не раздумывая и не вступая в какой-либо диалог с металлическим служащим, из-под своего кресла достал что-то наподобие серебряного кольта и одним импульсом огненного луча обратил робота в кучу лома, а исходящие от нее дым и запах гари немедленно всосало открывшееся в потолке круглое отверстие.
– Я уже давно заметил, что этот мой butler[324] требует ремонта, но, к сожалению, не было на это времени, так меня увлекли последние результаты изучения рептилий пермского периода. – С этими словами кузен Тарантоги подошел к стенному шкафчику и сам вручил мне рюмку виски. Так как я не был полностью уверен, что и этот шкафчик тоже немного не свихнулся, я не осмеливался пить, пока хозяин не глотнул жидкость первым.
– И что вы мне посоветуете делать? – спросил я. – Не хотелось бы быть пойманным в какую-либо сеть виртуальной реальности. Может быть, вы даже знаете, где я могу найти профессора Тарантогу?
– Боюсь, что в последнее время профессора поглотила какая-нибудь агентурная сеть, – пробормотал кузен. Почесал свою лысину. – Потому что, знаете, начало было милым, но конец печальный. Я здесь живу не столько из-за смога, сколько потому, что электронные запоры охраняют меня от фантоматизации…
– Я ничего не заметил…
– В том-то и суть, чтобы ничего не было заметно. Мой дядя, а профессор – это мой дядя по отцу, не захотел применять антисетевые средства…
– Знаете, – сказал я, – от всего, что я УЖЕ услышал, на голове у меня волосы встают дыбом, но прошу, объясняйте мне дальше. Что происходит с тем, кого поймают в сеть?
– Зависит от обстоятельств. Главное, дорогой господин Тихий, прошу сохранять хладнокровие, поскольку борьба ведется на нескольких фронтах одновременно. Откуда теперь берутся дети, вы уже немного знаете. Только немного, потому что и девственнице, и без всякого интима, без насилия и эротики можно сделать ребенка. Как? Например, по е-мейл или по телефону.
– Это ужасно! – произнес я.
– Почему? – спросил кузен Тарантоги с интересом. – Просто вы находите в списке или в Каталоге генов соответствующий вашей цели или вкусам геном, кодируете его на семодеме, вводите его ONLINE и ищете подходящий объект для оплодотворения. Действительно, с женщиной это всегда проще. Зато женщины и более бдительны, чем мужчины. Зачатие по телефону вначале было достаточно сложным, но после того как были внедрены семодемы и спермодемы, это стало пустяковым делом.
– Можно оплодотворять безнаказанно?
– Сначала нужно доказать, что оплодотворенное лицо этого себе не желало. Возникло направление антинаталистично-антиконтрацептической адвокатуры. Впрочем, на всякий случай я вмонтировал в свой телефон и телевизор охранно-фильтровочные экраны. Меня никто не оплодотворит! Напрасный труд… – вскрикнул он победоносно. – Итак, я вам говорил о разных формах борьбы. Оплодотворение через спермодем по сути наказуемо, но нежелание беременности необходимо, к сожалению, доказать, а это не всегда просто сделать. Особым явлением стало сетевое подполье или акты криминальной фантоматизации, сфера, оккупированная различными бандами, мафией и лицами, действующими в одиночку, как раньше террористы…
– И что эти сетевые негодяи делают?
– Это по-детски просто. Другое дело, что почти всегда конечная цель этих преступлений – материальная или проще – финансовая. Допустим, обрабатывают ваши мозги так, чтобы вы выдали код своего банковского счета или выписали чек in blancо[325], или подарили дом, квартиру, акции, черт знает что еще, и вы будете это делать, считая, что оставляете свой автограф на книге читателю-поклоннику… Я говорю упрощенно. Но дело может стать более запутанным, скажем, вы не имеете имущества, а только пожилую тетю или другого завещателя, поэтому «настроят» вас так, чтобы вы или лично, или per procura[326] того человека укокошили… Вы извините, но уж так устроен мир, что количество проступков, которые можно осуществить при помощи сети, гигантское. И все они «подпольные». В то же время легально происходит, как уже говорил, конкурентная борьба, знаете ведь, что этого закон запретить не может, так как капитализм основан на конкуренции…
– Почему мне становится все холоднее? – спросил я, может быть, немного не по делу, потому что не понял, или это кровь стынет у меня в жилах от услышанного, или действительно становится все холоднее.
– Да, это так, – ответил мой хозяин. – Посмотрите, пожалуйста, на горизонт, и сами убедитесь…
Я посмотрел с высоты небоскреба, на котором стоял пентхаус, и заметил в отдалении голубоватое свечение.
– Что-то там блестит, но что? – спросил я.
– Ледник, – ответил родственник Тарантоги. – Вы, наверное, считаете, что климат теплеет? Но синоптики уже давно заметили, что чем теплее становится, тем холоднее.
– Что вы говорите, ведь это противоречит логике…
– Как хотите. Метеорологи умеют это объяснять. Имею даже запись объяснения одного хорошего специалиста… Хотите послушать?
– Предпочел бы шубу, – ответил я. – Что вы мне все-таки посоветуете делать?
– На вашем месте я бы как можно быстрее отправился обратно в Космос, – доброжелательно усмехаясь, произнес хозяин. – Потому что если вы собираетесь пожить на Земле подольше, необходим будет дом, основательно экранированный, компьютер, ни к какой сети не подключенный, так как сейчас невозможно тронуть клавишу, чтобы целые орды вирусов не летели в software и не уничтожали hardware. А можете, например, жениться на сестре какого-нибудь бывшего хакера: такой шурин мог бы обеспечить вам защиту…
– Ничего не понимаю. Как это «жениться»? Теперь, когда вы сами говорили мне о телефонном детоделании, супружество все еще актуально?
– Конечно. А кто будет вашим спутником в жизни? Некоторые, правда, предпочитают холостяцкие компрессы?
– Какие еще «компрессы»?
– Из девочек. Две-три несовершеннолетние девочки в постель на ночь…
– Но это же извращение, педофилия…
– С чего вы взяли? Это не связано с сексом. Ависага и царь Давид из Библии, из Книги Царств – Ветхий Завет точно об этом гласит, так ведь? Этот обычай вернулся и закрепился в массах, разве только, не будучи царем, вы должны платить за такие компрессы. Существуют агентства, которые нанимают девочек, но, впрочем, это совершенно избыточные услуги, так как вы можете иметь сетевых девочек любого возраста, любых фигур, на любое время, нужно только стать абонентом какой-нибудь солидной фирмы, гарантирующей асексуальность…
– Чего стоит такая гарантия асексуальности?
– Ну, это уже совсем другая история. Фактически большинство абонентов, как сообщает пресса, пользует «компрессы», но и доказать нарушения не просто. У полиции нравов с этим колоссальные проблемы, так как защита сводится, кратко говоря, к утверждению, что за совершенное в фантоматизированном состоянии нельзя юридически преследовать так же, как и за содержание мечтаний во сне… Вы согласны?
– Но ведь содержание сновидений не зависит от меня, от моей воли.
– О, это вы уже отстали на полвека. Сейчас вы можете содержание сна задать, проглотив соответствующую таблетку, но за глотание снотворной таблетки также не следует ответственность… Недавно даже был процесс над одним моим знакомым, который заказал такой вариант феминотонины копулятрической, чтобы ночь за ночью видеть во сне постоянное сожительство с королевой Наваррской, но не был наказан.
– Потому что никакой королевы Наваррской нет?
– Сейчас нет, но когда-то была. Нет, даже за полигамные сны не привлекают к ответственности. Знаете, в конце концов все решает рынок, так называемая невидимая рука рынка. Таблетки просто дешевле, чем программа виртуальной реальности, программу можно проконтролировать, в то же время то, что вы вытворяете с Ависагой (вы ведь в конце концов не такой старец, каким был в Библии царь Давид), выяснить нельзя. Скажу вам так: в итоге в результате научно-технического прогресса более всего пострадала реальная ПРОСТИТУЦИЯ. Она чаще всего УЖЕ не выгодна. Впрочем, это же будет касаться и войн: солдат-робот ПОКА все еще дороже живого человека, одетого в мундир и призванного в армию, но электроника становится все дешевле…
Поблагодарив моего собеседника за посвящение в тайны новой действительности, реальной и виртуальной, я направился прямо в антикварный магазин, в котором приобрел полный комплект рыцарских доспехов XVI века, и уже в доспехах пошел в отель. Моему виду никто там особенно не удивился. Я рассудил так: как известно, фантоматизация осуществляется благодаря подключению человека, то есть его мозга, к компьютеру необязательно непосредственно, это может произойти и на большом расстоянии при помощи радиоволн. В любом случае мозг с виртуальной программой соединяет электричество, которое должно попасть к органам чувств. Любой электрический заряд проходит преимущественно по металлической ПОВЕРХНОСТИ, является ли ею доспехи, или бочка, или автомобиль. Этот так называемый феномен сетки Фарадея гарантирует пассажирам автомобилей, произведенных из металлических листов, полную безопасность даже в случае попадания молнии. Таким образом, в доспехах я должен быть стопроцентно защищен от подключения к легальной или подпольной фантоматизационной аппаратуре, и даже где-то блуждала у меня в голове мысль о бронированной пижаме и ванне, обложенной металлическими листами со всех сторон. Однако, так как в доспехах мне становилось все более неудобно, особенно из-за того, что в ресторане при отеле постоянно падающее забрало чертовски затрудняло принятие пищи, внимательно осмотревшись, я пересел в угол, и там, сняв шлем, съел суп из раков, бифштекс, картофель фри и мороженое с ананасовым кремом, которого не переношу, но мне было уже совершенно все равно.
Телефон профессора отвечал исключительно голосом автоматического секретаря, поэтому я посетил с визитом руководителя сенатского комитета НАСА по инопланетным делам. Это был в меру любезный старец, а о визите я договорился заранее, позвонив его секретарше. Она была исключительно интересной, даже красивой девушкой, и я очень ее пожалел, ведь ей довелось жить в эту эпоху телефонного детопроизводства и неэротических браков, а также отсутствия любви. Я сказал это мистеру Джонсону, пока ее не было. Вместе с этим посетила меня мысль типа загадки, которая уже неоднократно приходила мне в голову: почему же не все женщины КРАСИВЫ? Как могло случиться, что сексуальный отбор или селекция, основанная главным образом, наверное, на телесных критериях, особенно в прадавние времена, когда вообще не было речи, то есть когда пралюди еще не разговаривали, а если и начинали говорить, то не было о чем (что, впрочем, в большой мере до сегодняшнего дня сохранилось как реликт эпохи пещерного человека), не привела к вымиранию женщин с бесформенными, кривыми ногами, с отталкивающими лицами, с кошмарными бюстами, с не менее неприятным задом и так далее, в результате чего остались бы жить и заполнять города и деревни исключительно женщины такие прекрасные, как те, которых (чаще обнаженными) можно наблюдать в основном только на фотографиях в «PLAYBOY», «Gallery», «Hustler» и в фильмах как кинозвезд; иногда также и в жизни, но очень редко? Мистер Джонсон выслушал меня не без внимания и заметил сначала, что селекция действовала, вероятно, двусторонне: не только мужчины выбирали для себя возлюбленных, но также и наоборот, т. е. женщины не на каждого мужчину были готовы согласиться, а, кроме этого, в пещерах наверняка было очень темно. Как известно, электричество было изобретено как источник света только где-то в XIX веке. Это меня частично убедило, но не во всем. Когда мы принялись живо дискутировать, выясняя, существует ли в действительности только один канон женской красоты, секретарша включилась в разговор при помощи телевокса: кто-то, какой-то тип, фамилию которого я не услышал, хотел незамедлительно встретиться с мистером Джонсоном. Мистер Джонсон, слушая это, попытался выдвинуть ящик бюро, но он застрял, и когда дверь уже начала открываться, ящик выскочил почти вырванный, и в ладони почтенного руководителя блеснул большой черный бластер. Гость действительно оказался непрошеным посетителем, так как нес в руках металлическую сеть; увидев это, я мигом нырнул под бюро. Раздались выстрелы и грохот. Выглянув из-под бюро, я сразу же забеспокоился, так как типа с сетью не было, словно он сквозь землю или, точнее, под пол провалился, а мистер Джонсон оставался в комнате, но стал значительно ниже, а также одет был уже как будто бы в более свободную одежду, и, что хуже всего, у него под носом появились ни с того ни с сего усики. Предчувствуя что-то недоброе, я ущипнул себя, но при этом сразу же понял, что таким примитивным способом не смогу определить состояние моей реальности. Я или уже был фантоматизирован, или нет. Единственное, что пришло мне в голову, это сделать что-то совершенно не к месту, неслыханное, полностью неподходящее к моей, по сути порядочной и культурной, натуре.
Для начала я спросил Джонсона, как его зовут. Джонсон ответил, но это могло быть как правдой, так и обманом. Поэтому я вышел в комнату, в которой около телефона сидела секретарша, и беспардонно стал к ней приставать с сексуальными намеками в надежде, что она съездит мне хотя бы по лицу, благодаря чему я убедился бы, что по-прежнему нахожусь в реальности настоящей, а не виртуальной. Однако эта симпатичная девушка вместо того, чтобы дать мне по губам за sexual harassement[327], взяла сумочку и спросила холодно и по-деловому, сразу ли мы пойдем в отель или лучше сначала вместе поужинаем. Проинструктированный по копулятористическим вопросам кузеном Тарантоги, я, честно говоря, остолбенел. Приключение казалось полностью старосветским и при этом невинным, если я находился в глубинах качественно запрограммированной фикции, но, кроме всего прочего, соглашательская реакция девушки вызвала у меня беспокойство противоположного свойства: я подумал, что, может быть, я именно такой великолепный мужчина, о котором она давно мечтала. На всякий случай я обошел ее, стоящую уже с сумочкой в руке, и посмотрел на длинный ряд корешков книг в настольной библиотеке за спиной секретарши. Прочитал несколько названий, таких, как «Копулянты», «Полисекс», «Теория нейтральной копулистики», «Дневник Игнатия Копуляциониста», остальные прочитать не успел, так как в дверях появился мистер Джонсон.
– Быстрее прочитайте вот это! – обратился он ко мне, подавая какой-то текст.
Я уже ничего не понимал. На первом листе, который он мне подал, виднелась надпись: ЯВЛЕНИЕ ФАНТОМАТИЗИРОВАННОГО ИЙОНА ТИХОГО.
Это было сильно. Подняв голову, я увидел, что мистер Джонсон начинает снимать пиджак, и, что еще хуже, секретарша, отложив сумочку, также стала раздеваться. Ее белье было белым как снег. Видя, как она ищет у себя на спине застежку бюстгальтера, я одним прыжком бросился в окно и полетел с 24-го этажа вниз.
Я не могу решить, был ли мой прыжок – в общем-то инстинктивный – осознанным или нет. Достаточно того, что я не знаю, благодаря чему спасся. Однако то, что я написал выше, является фактом, то есть прыжок с большой высоты никоим образом мне не навредил. Время от времени появляется у меня мысль, что я мог бы через окно выбросить мистера Джонсона, и остаться наедине с той красивой и на все согласной секретаршей. Это была виртуальная реальность – безусловно! Но чем бы она могла мне навредить? Может, все было бы совсем наоборот: тем более что я не знаю, пишу ли эти слова в действительности или это мне только кажется. Неуверенность существования, которая явилась следствием вторжения новой техники в человеческую жизнь, может привести к фатальной неудовлетворенности. И кто мне сейчас скажет, упустил ли я возможность или скорее всего спасся – но от чего собственно? Я потерял даже номер телефона Тарантоги и его кузена, а это уже действительно плохой знак.
После возврата доспехов в антикварный магазин, так как я уже был не в состоянии их выносить, весь в синяках от внутренних болтов, заклепок и углов (как выдерживали в таких железяках средневековые типы – это для меня загадка, с которой, может быть, разберусь в другой раз), а также оглохший от постоянного грохотания и скрежетания лат (особенно на коленях и позвоночнике), я поехал в отель и попросил переслать мне из дома факсовым интер– или экстернетом накопившуюся почту. Почтовый ящик был настолько забит рекламными проспектами модемов, спермодемов, никодемов и другими листками, что только в самом конце просмотра почтового хаоса я наткнулся на две наиболее подходящие и существенные страницы. Первая была повесткой в следственные органы, так как я оказался обвинен секретаршей Джонсона в indecent exposure[328] и sexual harassment. Женщина, как известно, переменчива (la donna e mobile), но для меня судебная повестка стала первым сигналом нахождения в нормальной действительности, и в этом положении вещей меня укрепил документ – последняя выписка с моего банковского счета, которая сообщала, что кто-то, используя подписанный мной чек, полностью опустошил мой счет. Обе эти новости, криминально-судебная и финансовая, настроили меня весьма оптимистически. Cogito ergo sum[329]: чтобы уже больше или дальше не рисковать, я решил незамедлительно отправиться в обратную дорогу, так как на всех вместе взятых спутниках Кассиопеи никто ничего об Интернетах не слышал, а что касается каннибализма, то действительно людоедство там активно процветает, но человека с Земли никто не тронет, и даже бульон на нем не сварит, так как, во-первых, их кулинарные обычаи этого не позволяют, а во-вторых, они считают людей ядовитыми и поэтому стопроцентно несъедобными. Может быть, я еще увижу когда-нибудь кузена профессора Тарантоги, но только в том случае, если тот сам появится на Кассиопее.
Господин Ф
Сложно говорить о книге, которую не написал. Не потому, что книг таких много, и не потому, что речь идет о книге, самой для меня важной. Сложность в том, что у этой ненаписанной книги собственная история, которую следовало бы преподнести так, как оно было на самом деле, а когда человека охватывает «желание фабуляризировать», приходится бороться с искушением улучшить историю, а ведь по-любому без переиначивания не обойтись. Речь идет о туманной хронике, ни один этап которой не был зафиксирован, об одном замысле – подобно Протею замысел этот со временем претерпевал всякие превращения. И ему ни в коей мере не предшествовали размышления общего характера. В моей голове он появился как ряд взаимосвязанных сцен, между которыми существовали некоторые пробелы. Выглядело это следующим образом.
Некий человек, оказавшись в незнакомом городе, прячется от ливня в первом попавшемся доме. Картина уличного движения и нависшие над городом тучи – это важные составляющие фона, хотя я, собственно, и не смогу сказать почему. Он случайно попадает в огромный небоскреб в самом центре города, где размещаются офисы фирм и филиалы банков. Однако в субботнее послеобеденное время они все закрыты. По ошибке он входит в большое офисное помещение – возможно, потому, что фотоэлемент открыл перед ним стеклянные двери, и он воспринял это как неожиданное приглашение. Там он замечает одного-единственного служащего и хочет выйти, но этот служащий заговаривает с ним и делает следующее предложение. Как раз сейчас организуется фирма по оказанию услуг нового типа: будет исполнять личные, в том числе и интимные, желания клиентов. Однако сначала фирма хотела бы изучить рынок и проверить свои возможности. В будущем предоставление таких услуг будет оказываться по весьма высоким ценам, однако сейчас для проверки системы на случайно выбранной группе людей разного пола, возраста и происхождения осуществляется совершенно бесплатное тестирование. Фирма также должна оценить издержки, установить прейскурант и способы оплаты для будущих клиентов. Герой истории может быть включен в число избранных, если он выразит свое согласие.
Служащий уточняет, что чудес фирма не совершает. Не может, например, помочь глупцу научиться мыслить, из урода не сделает красавчика, а бедного не превратит в миллионера. Несмотря на это, при формулировании своих желаний не следует быть излишне скромным, потому что цели, которых нельзя достичь немедленно и прямо, иногда можно достичь обходным путем. Помощь не будет явной, не будет также видимой. Фирма, например, не поддерживает своих клиентов финансово, не направляет их охранять каких-нибудь «горилл». Ни один представитель фирмы никогда не появится у клиента. Этот последний должен письменно изложить свое желание, подписаться псевдонимом, а затем отправить на адрес почтового ящика. Служащий объясняет: предположим, он захотел бы с кем-то познакомиться или с кем-то, кто стоит на пути его карьерного роста, расстаться, или кому-то желает добра. Или, возможно, захотел бы вращаться в светских кругах, которые до сих пор были для него недоступны, и тому подобное. Клиент также может высказывать желания иного рода, допустим, его манят приключения, или даже опасные поездки в другие страны, однако такие, которые не будут иметь неприятных последствий или же касаться судьбы третьих лиц: например, унижать или наносить поражение сопернику или врагу. Клиент, формулируя свои желания, не должен стесняться, потому что фирма гарантирует ему абсолютную конфиденциальность. Он, однако, также обязан о ней заботиться – никому и ни при каких обстоятельствах не должен хвастаться, что у него такой великолепный союзник. Нарушение этого принципа означает расторжение договора, и фирма прекращает оказание услуг без какого-либо предупреждения. На его письма никто не ответит, ибо здесь речь идет не о советах и инструкциях, а о «регулировании» событий, из которых складывается жизнь.
После отправки письма наступает «период ожидания», во время которого клиент должен ждать благоприятных для него изменений в окружающей среде. Этот период длится от четырех до двадцати дней, и уточнению это не подлежит. Клиент должен жить с широко открытыми глазами и поступать в соответствии с собственными убеждениями, однако отдавая себе отчет, что фирма незаметно его поддерживает. То есть фирма сделает все, что в ее силах, чтобы его удовлетворить, при этом, однако, она ни в коей мере не несет ответственности за последствия желаний саморазрушительного характера. Например, если клиент потребует наркотические средства, с уверенностью можно сказать, что он сумеет найти доступный источник, потому что фирма не заботится о его моральном облике, а занимается исключительно исполнением желаний. Что касается первого пробного задания, необходимо, чтобы герой заполнил анкету после окончания теста. И тогда фирма узнает, в какой степени сумела исполнить его желания. Герой подписывает договор, который немного напоминает ему договор с дьяволом – потому что взамен за предоставляемые услуги фирма не требует от него абсолютно ничего.
Вначале для меня не было ясно – хотя это и покажется невероятным, – что здесь речь идет о ситуации, в которой был Фауст. Однако вскоре я назвал героя господином Ф. и, рассказывая об этом замысле, говорил именно о господине Ф. А делал я это многократно: своим студентам на лекциях по теории литературы и читателям во время авторских вечеров. Пробелы в истории я тогда должен был заполнять импровизацией ad hoc[330]. Выглядело это приблизительно следующим образом.
После возвращения домой господин Ф. задумывается, что он мог бы пожелать для себя, но, однако, не может конкретизировать какую-нибудь мечту. То, что ему приходит в голову, или слишком банально и маловажно, или так необычно, что относится к области фантазии. А как человек трезвый, деловой и рассудительный господин Ф. не желает быть осмеянным из-за своих желаний. Проходит полгода, господин Ф. уже почти забыл о подписанном договоре, но в это время заболел его друг. Темная родинка на ноге, которая у него была от рождения, вдруг начала увеличиваться. Врачи утверждают, что это меланома, опаснейшая злокачественная опухоль, которая в ста процентах случаев приводит к смерти, а ампутация ноги может только продлить агонию пациента. Господин Ф., почти не веря в успех своего поступка, все же пишет письмо с просьбой вернуть другу здоровье. Тем временем друг меняет врача и попадает к известному специалисту, который после обследования заявляет, что ему был поставлен ошибочный диагноз. После несложной косметической операции друг выздоравливает. Господин Ф. уже и сам не знает, что об этом думать. То считает это счастливым стечением обстоятельств, то готов приписать фирме власть над сверхъестественными силами. Господин Ф. замечает, что его отношение к фирме начинает напоминать отношение человека к Богу. Человек молится о чем-то, а потом не знает: то, что последовало – это потому, что его просьбы услышаны или нет. Бога нельзя подвергнуть никакому experimentum crucis[331] – хотя, может быть, удастся сделать с фирмой.
Затем господин Ф. захотел выигрывать в карты и по прошествии «периода ожидания» начинает играть с друзьями в покер. Эти люди, заядлые игроки в покер, он, впрочем, еще никогда с ними не играл. Сначала он проигрывает довольно значительную сумму и намеревается оставить эту затею, однако за два следующих вечера выигрывает у них целое состояние. После первого же вечера друзья требуют реванша, но на другой день проигрывают еще больше. Господин Ф. опасается, что дальнейшие выигрыши вызовут у них подозрение, поэтому отказывается играть, а приятели разрывают с ним отношения.
С этого места дальнейший ход истории становится все менее отчетливым. Для начала я хотел бы представить «классический вариант», называемый так потому, что в нем участвует «Гретхен»[332]. Господин Ф. вхож в дом одной девушки, мать которой некогда была известной актрисой. Скажем, речь идет о Мерилин Монро, которая после попытки самоубийства была спасена. Женщина постоянно страдает депрессией, заглядывает в рюмку и полностью отошла от кинематографа. Она живет в доме дочери, хотя и избегает общения. Эта «Мерилин» целыми днями спит, лишь ночью пробуждаясь к жизни.
Она занимает отдельное крыло дома, у нее даже отдельный сад, по которому она гуляет, отгороженный живой изгородью из терновника. Поговаривают, что она пристрастилась к одурманивающим средствам, никогда не выходит из дома и не совсем в своем уме. Никто ее не посещает, а слава за двадцать лет канула в Лету. Господин Ф. влюбился в нее еще юношей, но увлечение это, естественно, осталось в прошлом. Однажды во время какого-то ночного приема в спальне дочери он обнаруживает портрет этой женщины в молодые годы – нарисованный так, что глядящая с него женщина следит взглядом за тем, кто смотрит на портрет. Девушка ему не очень-то и нравится, однако бывает он у нее часто, но всегда в компании. Как-то вечером он звонит ей, но трубку берет мать, звучит немного охрипший голос, нежный, какой-то беззащитный – тот самый голос, который очень давно его столь очаровывал. Повинуясь внезапному импульсу, господин Ф. пишет на фирму письмо, где просит о встрече с этой женщиной, о возможности знакомства с ней. Возможно, он осмелился бы и на просьбу: «Я хочу, чтобы у меня был роман с Мерилин, которая каким-нибудь чудесным образом снова будет молодой», – если бы не был по-настоящему здравомыслящим человеком. Когда закончился «период ожидания», он снова посещает дом, на этот раз один. Визит затягивается до позднего вечера. Он гуляет с девушкой по саду в свете мягких летних отблесков на небе, свидетельствующих о хорошей погоде, и тут замечает, что ее мать стоит с другой стороны живой изгороди, как бы подслушивая их.
Очевидно, что дальше сюжет может развиваться по-разному, например, возможна такая ситуация, которая не оставляет выбора: или господин Ф. прекращает дальнейшие визиты, или он будет вести себя так, будто увлекся дочерью. Тем самым возникает нечто противоположное треугольнику из «Лолиты» Набокова, потому что там герой хочет заполучить девочку, моего же привлекает пожилая женщина. Так, во всяком случае, это выглядит. Но господину Ф. важно не завоевание пятидесятилетней женщины, а нечто другое – завоевание прекрасной актрисы, которой уже нет. Дело доходит до обручения, возможно, даже и до бракосочетания с дочерью. Господин Ф. чувствует, что попал в западню. Его заветное желание не исполнено. Возможно, в своем последнем письме он недостаточно ясно изложил свои желания? Поэтому он пишет новое письмо, ждет неделю (этот период важен с психологической точки зрения, потому что именно тогда господин Ф. «дозревает» до того, чтобы предаваться мечтам, иногда приобретающим навязчивость галлюцинации). И как-то раз, днем, в отсутствие дочери, прохаживаясь по пустому дому, он входит в спальню тещи.
Женщина, разбуженная от наркотического сна, принимает его за кого-то другого. Господин Ф., однако, этого не замечает – или не хочет замечать. Возможно, дочь застает его в постели с матерью. В любом случае она разрывает с господином Ф. и одновременно избавляется от матери, потому что дом принадлежит ей. Она никогда не хотела держать ее у себя, но не могла от нее избавиться, а теперь это стало возможным. Господин Ф. получает свою давнюю любовь: постаревшую, наркозависимую, несчастную женщину, которая держится за него изо всех сил, потому что ничего другого ей не остается.
Так выглядит эротический вариант этой истории. Он меня не слишком устраивает, так же, как и другие варианты, но прежде чем перейти к ним, я расскажу историю до конца. Господин Ф. хочет избавиться от старой актрисы, однако это невозможно. Он посылает очередные письма, и в конце концов приезжает в город, идет в то здание, в котором заключил договор. С некоторых пор у него возникли финансовые трудности, потому что он жил не по средствам и совершал рискованные сделки. В городе никто ни о чем не знает, фирма – обыкновенное страховое общество. Да, работал в ней некогда служащий, который сошел с ума и что-то там натворил. Теперь он находится в санатории, однако посещать его нельзя. Трудно сказать, тот ли это человек, с которым некогда разговаривал господин Ф. Владелец почтового ящика живет где-то за границей. Юрист фирмы посчитал, что господин Ф. ошибся адресом. Однако господин Ф. собирает доказательства, подтверждающие, что на самом деле что-то было: какие-то бизнесмены действительно начинали заниматься исследованием рынка в аспекте «исполнения желаний» клиентов, но, однако, отказались от этой идеи, потому что клиенты часто теряли чувство реальности и тяготели к криминальным поступкам. Однако то, что произошло, и то, как это интерпретирует господин Ф., является исключительно его предположением, которое ничем не подтверждается.
Сложность, сопряженная с первоначальным замыслом, заключалась в том, что он действительно давал возможность вызвать к жизни современного Фауста, но в виде тривиального романа об исполнении недоброжелательных желаний. Я напрасно пытался обогатить эту историю элементами из области политики и науки. Естественный ход событий всегда можно представить таким образом, чтобы герой все больше верил в анонимную силу, которая ему служит, а это ведет к эскалации требований, тогда как в мире политики и науки это должно быстро привести его к отрезвлению. На определенное время можно с уверенностью допустить такую игру совпадений между желаниями господина Ф. и событиями большой политики (господин Ф. желает устранить некоего политика из высоких сфер, и действительно этот человек случайно погибает или уходит в отставку; господин Ф. – француз, ожидает падения правительства, а дело происходит в 1939 году, разразилась война, правительство пало) – однако речь не об этом! Господин Ф. должен быть законченным ослом, чтобы поверить, что фирма по его просьбе довела дело до войны. Также и убийство или политический путч как исполнение желания – не слишком правдоподобно.
Эта история так и норовит отклониться в сторону сенсации или фантазии. Или исполняются мелкие желания господина Ф., которые, однако, не выходят за рамки его жизненных проблем – тогда, впрочем, все так и остается неясным. Или господин Ф. желает, чтобы произошли события, которые – если желания исполнятся – разрушат реализм повествования (если не исполнятся, история сразу утратит напряженность). Реалистическая повесть может представить карьеру какой-нибудь вымышленной звезды или миллиардера, но не вымышленный всемирный кризис или революцию в Америке, потому что реалистическая повесть должна иметь подтверждение в независимой от повести хронике исторических событий. Если бы господину Ф. пришла в голову мысль «исправить мир», фантастические события немедленно столкнули бы повесть с реалистической основы в гротеск или в область чудесного. Однако реализм был для меня conditio sine qua non[333] этой повести, потому что Фауст, история которого развивается в какой-то выдуманной исторической эпохе, перестает быть Фаустом наших дней. Фауст – это драма ненасытного духа, который стремится к недостижимому небу и приземляется в аду. Современный Фауст не может быть эротоманом, филистером, политиканом или наемным убийцей. В качестве Гретхен я выбрал уже умершую красотку, потому что господин Ф. должен добиваться чего-то невозможного – для нашего непрерывно текущего времени. Однако этот вариант, именно по причине его тривиальности, я отбросил, потому что он опирается на безвкусную плоскость натуралистического романотворчества. Возможности Фауста растут неожиданным и внезапным образом. Это внезапный «прилив сил» частично может быть иллюзорным, но, однако, это единственный фактор, который влияет на него извне, потому что все, к чему он стремится, должно быть его собственной выдумкой. Он по-прежнему остается незаметным, но из этого возникает перечень скрываемых до сих пор прихотей, то есть карикатура проблемы – а не проблема в своем реальном масштабе. Именно по этой причине невозможно насильственное вторжение мифической схемы в повествование – эта схема должна достоверно вписываться в «саму жизнь».
И где же в таком случае следует искать Фауста наших дней? Давайте присмотримся к сегодняшнему миру. Погоня за производством и потреблением уже не кажется настолько существенной в том смысле, чтобы – так было раньше – «как можно большее число людей осчастливить как можно большим количеством товаров». Дальнейший рост производства считается необходимым, однако в том смысле, в каком должно действовать «железное легкое» паралитика – это машина, которая не дает умереть, однако она не служит ничему, кроме сохранения жизни пациента.
Как дошло до подобного изменения способа оценки ценностей? Чтобы это выяснить, следует принять во внимание всю историю человечества. В каждый исторический момент «sapientia»[334], которой располагает homo sapiens, двояка. Часть разума мобильна и невесома: она помещается в человеческих головах. Вторая ее часть «инвестирована в недвижимость» – ведь те же системы производства, коммуникации, города или машины есть не что иное, как воплощение вездесущего духа в материи. А потому разум здесь характеризуется инертностью в том смысле, в каком им обладает разъяренная толпа. Хотя все беспрестанно меняется, то, что является самым важным, не подлежит изменениям: общее направление. Из прошлого мы унаследовали многое от «цивилизации косного разума» и часто не можем распорядиться этим наследием так, как того требуют новые потребности. Именно это я имею в виду, говоря об «инертности разума». Кроме того, похоже, что исторический баланс разума выглядит так, что его часть, отвечающая за инертность, увеличивается за счет «движимой части».
Эту зависимость мы увидим в новом свете, если подумаем, каким образом и почему в процессе естественной эволюции вообще возник разум. Изменения, заставляющие виды приспосабливаться к новым жизненным условиям, продолжались миллионы лет. Также миллионы лет нужны организмам, чтобы развились конечности, клювы или умение строить гнезда. Разум позволяет в миллиарды раз сократить время, необходимое для адаптации. Следовательно, если приспособляемость видов в природе характеризуется инертностью, разум позволяет преодолеть эту инертность. Разумное существо сумеет создать приспособление, эквивалентное конечностям, клюву, построить гнездо, как только такая мысль родится в его голове. Следовательно, разум возник для того, чтобы сделать приспособляемость молниеносной. Сегодня, впрочем, разум уже тяготится инертностью собственных достижений. Чем более развита цивилизация, тем сильнее инертность. А чем сильнее инертность, тем медленнее она сумеет приспособиться к новым условиям. Слабость живого ума в сопоставлении с инертностью, унаследованной от цивилизации, вызывает всемирную неприспособляемость в форме политических, педагогических и общественных анахронизмов, интеллектуального разброда, что приводит к переизбытку информации, проявляясь также в форме деструктивных, нигилистических движений, создавая ощущение.
Картина разума, ограниченного результатами собственных дел, соответствует fatum[335] из греческой трагедии. Одновременно этой картине сопутствует определенная ирония судьбы, если учесть, что разум должен быть лекарством от самого большого порока эволюции: ее инертности. Инертности биологического наследия, которому для метаморфозы, необходимой для выживания видов, потребовались миллионы лет. Можно также сказать, что это не fatum, не ирония судьбы, а тривиальное следствие равнодушия мира к человеку. Если никто сверху не запланировал эволюцию и возникновение человека, нет никакого рационального повода, чтобы один из продуктов этой же эволюции – в данном случае наш разум – на каком-то этапе своего существования не мог оказаться настолько ненадежным, чтобы создать угрозу самому себе.
Вышеприведенные размышления показывают, что в поисках современного Фауста нахождение золотой середины между психологией героя и мифологией ненасытного разума – не самое важное. Главной проблемой становится сведение ситуации всего человечества к ситуации личности. Здесь мы сталкиваемся с невыполнимой задачей. Намереваясь написать этого «Фауста», я был близок к повторению ошибки, в которой когда-то обвинил Томаса Манна[336]. Я тогда считал, что его Фауст не показателен для судьбы Германии, потому что то, что искушало Леверкюна, – это не то, что увлекло Германию в нашем столетии. Фауст Манна – классическая трагедия личности, готовой заплатить любую цену ради творческой самореализации. Однако ни немцы не были таким Фаустом, ни Гитлер не был тем дьяволом, который нанес визит Леверкюну. Дьявол, который принял облик фашизма, был соблазнителем масс. И не случайно, что самый удачный портрет Гитлера вышел из-под пера Канетти[337], который был увлечен тем, что можно назвать человеческим «единством», а именно отказом личности от индивидуальности ради погружения в анонимную, плазмообразную массу.
Дьявол Манна не является олицетворением фашизма, потому что это разумное зло, которое выбирает разумные жертвы, чтобы искушать их аргументацией, которую нельзя категорически отбросить. Думаю, что нашлось бы немало творческих личностей, готовых, как и Леверкюн, заплатить за создание шедевров – даже «холодных» и «декадентских» – такой болезнью и таким концом. Я думаю также, что не все мотивы Леверкюна заслуживают осуждения.
Дьявол и искуситель Леверкюна требует соблюдения договора только после исполнения того, что обещано. В то время как фашизм обманывал и своих сторонников и противников, отказывался от обещаний и побеждал людей не искушениями, которым разум может воспротивиться, а как обманщик и преступник. Поэтому стыд масс, соблазненных фашизмом, – это не трагедия Фауста. Манн создал великолепный роман о близком конце определенной эпохи в культуре, о конце эпохи, которая жертвует этическими ценностями ради последнего отблеска застывшей эстетики. Но это не роман о падении Германии. Книга – уже не социологической, а мифической природы, своей патетической символикой отодвигают на второй план проблему, которая касается не только фашизма, и не только Германии. Эту серьезную проблему поднял Карл Поппер в своем труде «The Open Society and its Enemies»[338]. Фашизм представлял собой попытку преобразования открытого общества в закрытое. Поэтому единственным современным Фаустом является коллективный Фауст – то есть человечество на распутье. Открытое общество оберегает себя от возможности ревизии ценностей, на основе которых до сих пор функционировало, – для цивилизации это означает возможность совершать спасательные маневры.
Следует признать, что микроскопический шанс на такого рода изменения, которые освободили бы нас от инертности «закоснелого духа», постоянно уменьшается. Но закрытое общество вообще не имеет таких шансов, потому что оно непрозрачно само для себя. Такое общество не знает само себя, потому что его действительную форму для него самого скрывает однозначно жесткая интерпретация мира, который, впрочем, может включать в себя самые возвышенные гуманистические ценности. Когда речь идет о таком обществе, мы обычно думаем о гражданах, запертых в государстве-тюрьме, однако самым недостижимым в таком обществе остается дорога к самосознанию, необходимому для самодиагноза – а это обязательное условие для всех адаптационных изменений. В таком обществе дело доходит до того, что цели, а затем и ценности, придающие смысл коллективному существованию, герметично закупориваются в рамках официальной версии, поддерживаемой тем или иным способом. В дальнейшем инертность цивилизации в таком обществе должна нарастать, пока не разнесет застывшую форму такого существования – в результате наступит хаос.
Но не только насилие может превратить открытое общество в закрытое. К несчастью, есть и путь, ведущий как бы в противоположном направлении. И двигаясь по этому пути, можно прийти к «обществу вседозволенности» (permissive society). Трансформация в закрытое общество в этом случае может произойти так мягко и постепенно, что ее вообще не заметят.
О подобной угрозе я писал в одном из своих произведений. Точнее, такую повесть я не написал, а только изложил ее в рецензии на несуществующую книгу «Being Inc.»[339], приписав ее вымышленному автору. Этот гротеск можно найти в «Абсолютной пустоте». Почему я не написал эту книгу «нормальным способом», если – в отличие от Фауста – это было возможно? В таком случае эта история должна была бы соответствовать определенным канонам произведения: то есть действие развивается последовательно и «с близкого расстояния», что-то вроде похоронной процессии, когда провожают на кладбище фундаментальные ценности нашей истории. Получилось бы необыкновенно обескураживающее, насмешливое произведение, написанное языком, не оставляющим ни тени надежды. Тот прием, который я применил – дав краткое содержание в гротескном изложении, – существенно уменьшил давящую тяжесть описываемых событий. За счет миниатюризации и ускорения хода событий чудовищность приобрела элементы комизма – как если бы перевернули телескоп, в который наблюдают за похоронной процессией, галопирующей к кладбищу.
Однако у скрытой за этим гротеском проблемы не только комическая сторона. Мы живем во времена, когда судьба личности переходит в ведение общественных институтов. В прошлом противостояние стихийным бедствиям, обучение детей, лечение болезней и борьба с нищетой предоставлялись инициативе личностей. С течением времени все сильнее проявляется стремление личностей возложить ответственность за изменчивые пути судьбы на обезличенные организации. В этом смысле цивилизация представляет собой «устройство», целью которого является устранение случая из человеческой жизни. Пределов в этом направлении мы достигнем тогда, когда ничего случайного уже не произойдет. В таком мире нет места нищете или семейным драмам, нет войн или стихийных бедствий, никто не сомневается в смысле собственного существования и не теряет веры. То есть достигнут полный порядок. Добавим еще, что футурология пытается двигаться именно в этом направлении: пытается предостеречь нас от неожиданностей даже в самом далеком будущем.
В вымышленной рецензии «Корпорации «Бытие» эти предпосылки не вынесены на первый план. Произведение повествует о трех корпорациях, которые исполняют желания своих клиентов, сведенные в компьютеризированное «древо познания добра и зла», дружественное людям больше, чем сам рай, потому что потребление его плодов не только не запрещено, но и безусловно приветствуется. Именно потому, что эти плоды созданы таким образом, что последствия их потребления известны заранее. Кому? Компьютерам, которые заботятся о клиентах. А их клиентами являются все. Успех настолько полный, что уже никто не знает его реальной цены.
Человечество и понятия не имеет, что оно создало для себя рай полной недееспособности. И она абсолютна, так как каждый, кто считает, что поступает в соответствии со своим капризом, в действительности делает то, что ему предписано сверху. И нет никакой опасности, что это разоблачат как искусственное или подстроенное действие – потому что ничего естественного уже не осталось. Компьютер обманывает людей, однако он делает это не так, как министерство пропаганды, а как родители, которые тайно подкладывают игрушки своему ребенку, чтобы он поверил в Деда Мороза. Обманывая людей, компьютеры делают это «чистым» способом, так как не используют смесь лжи и скрытых угроз уничтожить в наказание за идеологические отклонения. Они отказываются от угроз в пользу прекрасной лжи. С уверенностью можно сказать, что никакая организация – или правительство, состоящее из людей, не способно действовать с такой точностью и расчетом. (В таком случае существовал бы по крайней мере узкий круг людей, знающих реальную ситуацию – что было бы недопустимо, так как, если хотя бы один знает правду, имитация правды перестает быть идеальной.) Впрочем, в «обыкновенном» закрытом обществе власти обычно переоценивают значение, которое имеет достижение первенства во лжи. Вспомним хотя бы фрустрацию Геббельса, который – как автор мистифицированного общественного сознания – стремился к совершенству во лжи, что, однако, встречало сопротивление и критику у некоторых тузов Третьего рейха, потому что они больше верили в силу, а фальсифицирование информации воспринимали исключительно как вспомогательное средство в достижении власти.
Однако в «Корпорации «Бытие» мистификация достигает полного успеха. Там властвует «установленная сверху гармония» благодаря социотехническим программам компьютеров, которые коррелируют человеческую жизнь, синхронизируют и проводят оптимизацию, не являясь при этом ни тиранами, ни людьми.
Они не черпают удовлетворения из своего правления и не имеют понятия, что благодаря безошибочному управлению стали электрифицированным видом провидения. Возможно, тому, кто не обладает социологической фантазией, это совершенство лжи, эта «окончательная ложь» покажутся чистой фантастикой. К сожалению, это не так. Состояние «прозрачной закрытости» можно определенным способом осуществить, используя человеческие склонности и влечения, подсовывая выдуманные дилеммы, чтобы они стали частью общественного мнения, или сделать так, чтобы изначально монолитное общество поддалось разбиению на отдельные группы (divide et impera[340]). Однако главным образом – через манипуляцию значением понятий, через искажение целого понятийного аппарата, определяющего информационный порядок.
Долгосрочные последствия этой мимикрии (которая устраняет различие между правдой и ложью) могут оказаться пагубными, хотя на первый взгляд они не производят столь же шокирующего впечатления, как истязания, описанные Оруэллом в романе «1984», потому что мучениям можно противопоставить мужество и отчаяние, однако нельзя бунтовать против ограничений, которые неотличимы от свободы. Следовательно, «Корпорации «Бытие» представляет своеобразное сошествие Фауста в ад, причем ад этот оказывается неожиданно комфортным местом. Люди не могут этот ад покинуть, потому что не знают, что в него попали.
Именно так выглядит дальнейшее продолжение истории Фауста, которую я не написал.
Хотя многое еще можно было бы сказать о «Корпорации «Бытие», это не имеет ничего общего с драматическим выбором, перед которым стоит Фауст. Потребовалось бы представить его драму таким точным и вместе с тем коварным способом, что она перестала бы быть заметна.
Тобина
1
Намного более интересным, чем бермудский треугольник, я считаю треугольник между автомобилем, порнографией и индустрией развлечений (шоу-бизнесом), так как в этой области зияет рыночная ниша, которую до сих пор никто не замечал, не говоря уже о том, чтобы кто-то пытался ее заполнить. Таким образом, мое сообщение может одновременно служить проектом соответствующей заявки на патент.
С психологической точки зрения автомобиль превратился в усилитель личности. Или, поскольку здесь все же уместнее использовать терминологию из области автомобильной техники, в домкрат эго. Автомобиль позволяет стеснительному стать наглым, слабому – сильным, безобразному – красивым. Вначале он не очень-то был пригоден в качестве средства передвижения, а сейчас – так как круг начинает замыкаться – он не может шагать в ногу ни с железной дорогой, ни с авиацией. Однако по названной выше психологической причине автомобиль противостоит всем неприятностям, связанным с его применением. И даже если авомобиль едва ли можно будет использовать для передвижения, он все же никуда не денется – в качестве целлофановой упаковки или витрины на колесах, из которой выглядывает гордый владелец. Для полного паралича движения не требуется нефтяного кризиса; достаточно, чтобы производство автомобилей продолжалось и дальше. Даже «Роллс-ройс Силвер Клауд» станет незаметным элементом в оживленном уличном движении – как бриллиант в водопаде. Автомобиль, передвигаясь все медленнее и медленнее, вместе с этим теряет атрибуты своей красоты. Хрустальная снежинка очень красива, но триллион таких снежинок образует всего лишь скучную белую массу. Для чего сотни лошадиных сил, лаковое покрытие цвета червонного золота и изощренные контуры, если ты находишься в колонне, которая движется как вязкая каша и которую без усилий обгоняют пешеходы по тротуару? А кто, собственно говоря, эти пешеходы? Более счастливые водители, которые уже нашли место для парковки, в то время как мы все еще напрасно ищем подобное пристанище. Тем самым преимущество превратилось в свою противоположность: средство осуществления мечтаний и возвышения стал тяжелой ношей, которую нужно тащить дальше. Большое количество автомобилей уничтожило значимость автомобиля как домкрата эго, и только производители пытаются убедить нас, что это не соответствует действительности.
2
Сегодняшняя реклама автомобилей демонстрирует не столько новые модели, сколько общий фон без людей и автомобилей. Но мы давно лишились этого блаженного одиночества. В уличное движение нужно вносить минимальный порядок, и поэтому количество правил дорожного движения и связанных с ними законов экспоненциально растет.
Правда, это означает, что люди уже смирились с таким положением вещей. Это означает, что ничего нельзя сделать. Но это огромная ошибка, сделавшая невидимой рыночную нишу, о которой я хочу говорить. Итак, я приглашаю вас в ближайшее будущее.
Сначала вы прокладываете себе путь через плотное уличное движение, причем некоторые светофоры случайно вышли из строя, а некоторые именно сейчас проходят профилактику. Далее – надо еще преодолеть все объезды – причем такое впечатление, что те, кто их устраивал, занят исключительно тем, что создает препятствие движению. Едва переводя дух, вы приезжаете к цели и оставляете машину на огромной парковке, потом платите приемлемые деньги за вход и идете пешком в зал, полный сверкающих, новехоньких автомобилей. Здесь вы можете выбрать транспортное средство, на котором будете ездить в Тобине.
Что такое Тобина? Полностью автоматизированная, голографически устанавливающая обратную связь пломба, которая заполняет упомянутую выше рыночную дыру. Слово происходит от «toben» – бушевать, «sich austoben» – успокоиться, «выпустить пар». После того как вы сели за руль, вы должны ознакомиться с несколькими неизвестными устройствами. Звукового сигнала нет, на его месте вы находите извергатель четырех– или даже шестиэтажных ругательств. А также другие незнакомые рукоятки и кнопки: для выдвижения щипцов от дураков, удалителя стариков, прибора-дубинки вместе с устройством для определения пола, рядом находится педаль вонючего опрыскивателя с центробежным насосом для экскрементов, а недалеко от рычага переключения передач светится красным рукоятка лазерной пушки – это на самый крайний случай. В этом автомобиле есть также и некоторые другие полезные дополнения, но время, предоставленное вам перед стартом, вышло, большие ворота поднимаются, и вы выезжаете – сначала еще очень осторожно и медленно – на абсолютно банальную улицу, переполненную людьми и машинами. И сразу же тормозите, потому что пешеходы на переходе еле ползут – как всегда, они и не торопятся. Тут вы с надеждой нажимаете на свою кнопку извергателя ругательств, и громовой голос, более мощный, чем голос Иеговы на горе Синай, сметает из зоны видимости всех дам и господ таким ревом ругательств, что даже старый матрос позавидовал бы неповторимой силе выражений. А ведь вы использовали только первую, самую слабую ступень своего извергателя ругательств. Этот небольшой урок для застрявших пешеходов оказал на вас благотворное воздействие. Вы едете дальше – со слабой улыбкой облегчения, но сразу же на углу улицы замечаете полицейскую машину и фигуру полицейского, который пытается вас остановить. Он уже усердно листает свою записную книжку, предвкушая удовольствие зафиксировать ваше правонарушение. Здесь не поможет даже самая высокая ступень извергателя ругательств. Но вы вспоминаете о вонючем опрыскивателе, и густая черная струя бьет точно в лицо вашему мучителю, так что он даже зашатался. Разве это не прекрасно? Накопившаяся желчь, многие годы травившая вашу душу, кислота, которой вы обязаны – или будете обязаны язвой желудка – все ваши разочарования одним махом испаряются. Вы едете дальше, сияя от радости. Движение становится интенсивнее, снова приходится тормозить. Да еще вдобавок за вами – мотоциклисты в разноцветных дурацких шлемах, под рев моторов они несутся, как одержимые, среди медленно ползущих впритык друг к другу машин, и от этого вам становится дурно. Вы абсолютно бессильны и отданы на произвол этим негодяям, нет, этим бестиям. Или?.. Быстрое нажатие на кнопку, и из-за решетки вашего радиатора появляется сверкающее плечо рычага, и ваш умелый рычаг-дубинка начинает устанавливать справедливость, так что вокруг уже полным-полно падающих противных мотоциклов. Вам не нужно целенаправленно управлять устройством, оно запрограммировано на ваших врагов, удары, которые оно им наносит, вы едва слышите, но если вам, как особо чувствительной натуре, мешают злобные возгласы падающих, то пожалуйста, – только нажмите на кнопку успокоителя, и хныканье и стоны заглушит приятная, специально подобранная музыка из вашей автомагнитолы.
Немного позже вам приходит мысль где-нибудь остановиться, оставить ненадолго автомобиль и получше рассмотреть необычную картину города: все-таки не каждый день удается беспрепятственно побеситься за счет всех своих соседей. На полосе, разделяющей две проезжие части, вы замечаете свободное место, но когда хотите туда свернуть, в этот промежуток с противоположной стороны протискивается огромный олдсмобиль или даже кадиллак. Его блестящий хром – это абсолютнейшая наглость, а водитель, на которого вы вдруг уставились с большой ненавистью, кажется, вас вообще не замечает – парень смотрит прямо сквозь ваше лобовое стекло и сквозь вас, будто вас тут и нет вовсе. Без сомнения, это крайний случай, поэтому устройство для крайних случаев – сюда! Вспышка, короткий резкий таранный удар, и противная жестяная коробка выброшена ударом назад на проезжую часть, где она с сильным грохотом сразу же сталкивается с несколькими машинами. Это вам мешает, вы приводите в действие таранный рычаг второй раз, и, после того как облако дыма и пыли рассеялось, вокруг вас воцарилась прямо-таки очаровывающая тишина… Теперь, после того как вы слегка огляделись, вы едете дальше, все длится полчаса или целый час, в зависимости от того, какой входной билет купили. И если из-за мощного четырехосного тяжеловеса вы не можете идти на обгон, ему придется плохо – вы так накажете наглеца со всеми его тоннами железа, что только клочья полетят.
После того как вы отделались не только от полиции, но и от парней в кожаных куртках на мотоциклах, на душе у вас становится так радостно, что вы сочувствуете брюзжащему старику, который плетется через улицу на красный, но, к сожалению, как только он вздрагивает и начинает сгибать колени, в робкой попытке побежать, – эта суета все-таки выводит вас из терпения. Впрочем, интересно проверить, как действует удалитель стариков. Иначе зачем он в автомобиле?
Когда, наконец, поездка завершается, вы отлично понимаете, о какой рыночной нише шла речь и для чего нужно учреждение, которое обеспечивает усовершенствованную спасительную психологическую разрядку в условиях сложной транспортной обстановки. Речь идет не столько о стремлении к власти, сколько об целебном активно-действенном освобождении от всего того унижения, которое на сегодняшний день вызывает у водителя автомобиля бессонницу, язву желудка, неподвижные взгляды, полные ненависти, потение ног, дрожание рук, недовольное выражение лица и учащенное сердцебиение. Вы уже понимаете, что находитесь в своего рода санатории или лечебном учреждении, и, может быть, для вас становится совершенно очевидной идея, что следовало бы также построить Тобины принципиально другого типа – в первую очередь, конечно, для активно-действенного освобождения от правительства!
Вы отлично осознаете: все, что вы натворили, было только голографической видимостью и компьютеризированным обманом – вы же не обидели и мухи, никого пальцем не тронули, хотя ваш автомобиль имеет определенные следы пережитых приключений в виде разорванных в клочья полицейских фуражек, разбитых очков, дамских трусиков, зубных протезов, собачьих поводков, портфелей – и всякого такого прочего. Вы довольны собой, показываете смотрителю протокол своей поездки, взятый из автомобиля, пережившего приключения но этот человек, к вашему удивлению, смотрит на вас почти с сочувствием и замечает, что сдерживаться не обязательно, хотя, впрочем, на первых порах все ведут себя скромно. «Да что же можно было натворить еще?» – спрашиваете вы, смутившись, и вам отвечают, что есть тобинозависимые (некоторые называют их тобинцами – по созвучию с якобинцами), которые устанавливают рекорды, проезжая через дома, через спальни с супругами, причем последние со всей семьей превращаются в облако пыли, что есть даже такие, кто преследуют исключительно пешеходов определенного типа, например (как бы банально это ни звучало!) пожилых женщин, которые похожи на их тещ или на бывших жен (а если тобинец женщина, то он преследует, наоборот, мужчин). И вы узнаете, что можете взять с собой за небольшую плату в качестве сувенира и трофея кое-что из разбитого вашим автомобилем.
Болтливый смотритель даже рассказывает вам об одном господине, который поселился в Тобине и не собирается переступать ее порог. Наконец, он предостерегает вас, что сейчас по дороге домой вы должны быть особо внимательны, потому что теперь вы себе ничего, совершенно ничего больше не можете позволить!
Возможно, выше представленное описание, претендующее на заявку на патент, вызовет у читателей некоторое моральное возмущение. Что за идея – отвратительная, прямо-таки гнусная! Боюсь, такого рода возмущение здесь неуместно. То, о чем я рассказал, называют самосбывающимся прогнозом. Нравится это кому-то или нет – мне это определенно не нравится, – Тобины будут существовать, когда соответствующие голографические технологии и технологии дистанционного управления достигнут нужного уровня. Не беспокойтесь, эта рыночная ниша будет заполнена, причем таким предприятием, оснащение которого будет намного превосходить то, что я здесь изобразил. Вы думаете, это немыслимо? Но примерно десять или пятнадцать лет назад так же немыслимы были порноконцерны с миллиардными оборотами. Или бескорыстные убийцы, которые переименовали себя в идеологически мотивированных террористов. Все это – неизбежные побочные явления общества массового потребления. Законодательство – конечно! – не даст разрешения первым проектировщикам садистских фата-морган. Но также было и с порноиндустрией, и с кинофильмами: еще несколько десятилетий назад в Америке было строго запрещено показывать на экране внутреннюю сторону женского бедра. А сейчас с дочерьми тех актрис любовные интриги разрешается заводить обезьянам и инопланетянам, оснащенным искусственными (а то и настоящими) инструментами совокупления. Тот же процесс проникновения и развития начнется и здесь – с робких попыток. Можно даже уже сейчас представить себе все голоса «за» и «против», которые будут сопровождать это событие. Одни журналисты скажут, что потенциальный насильник выпустит в Тобине пар, поэтому нужно считать ее морально оправданным профилактическим мероприятием находящейся в стадии зарождения «техноэтики». Противники возразят, что речь идет подготовке преступников самого скверного типа. И вскоре обвиняемые в убийстве станут уверять суд, что они переехали соседа исключительно по рассеянности, так как полагали, что находятся внутри Тобины, считая это смягчающим обстоятельством. Что касается моей личной точки зрения на эту тему, то должен признать, что, пожалуй, посещению Тобины я все же предпочту посещение кинотеатра с экраном. Осознавая свою абсолютную невинность, Тобину я посетил бы из чистого любопытства. И знаю заранее, с каким глубоким отвращением я бы ее покинул. Правда, во время поездки домой я постепенно замечал бы, как тяжело быть водителем. Как водителя сводят с ума пешеходы, которым непременно нужно перейти улицу еще на желтый, и как приятно было бы поторопить их легким нажатием кнопки. И мое негодование на бесчинства Тобины чуть-чуть бы поутихло. И тогда через неделю или десять дней…
Я думаю, вы меня уже понимаете.
Январь 1978 г.
Черное и белое
I
Огромный вытянутый прямоугольник двора, с четырех сторон – колоннады. Двор вымощен плитами из белого мрамора с тонкими прожилками. Такие же белые колонны портиков. За колоннами мрачные сводчатые галереи, темные по контрасту с этим замкнутым пространством, залитым сиянием солнца. Вдали, там где колонны образуют короткую стену двора, между ними на мраморном постаменте виднеется простой алтарь, тоже весь из белого мрамора. Пусто. Издалека доносится слабый звон колокола, постепенно затихающий – в тот колокол уже перестали бить, а он еще продолжает звучать, пока не перестанет раскачиваться. В тени колонны, по левую сторону двора, кто-то стоит. Нечеткая темная фигура, прячущаяся за колонной. С правой стороны выходит белая фигура – в белой одежде с белой пелериной, в круглой шапочке. Лица не видно – белая фигура медленно направляется к маленькому алтарю. Там опускается на колени и склоняет голову. Этот человек в папском белом одеянии: высокого роста, широкоплечий, слегка сутулится, но еще полон сил. Стоит на коленях и молится, а солнце перемещается по небу, и поэтому тени, отбрасываемые правой стороной колоннады, удлиняются. Отблески, бегущие от мраморных плит двора, уже подбираются к месту, где в темноте стоит человек. Лица нельзя разглядеть, потому что его скрывает черный капюшон. Черное одеяние напоминает не монашескую рясу, а скорее просторную одежду, которую носят на Востоке. Черный человек пошевелился, все еще продолжая стоять за белой колонной, и извлек из-под одежды что-то, что иногда поблескивает металлом, тоже черным, как и он сам. Прячась за колонной, он выглядывает из тени. Левой ладонью он поддерживает правое плечо, в правой же руке, согнутой в локте, держит тяжелый револьвер и прицеливается в стоящего на коленях. Потом опускает руку с оружием, заходит за колонну и исчезает. Появляется на несколько колонн дальше – теперь ближе к молящемуся на коленах. Еще раз исчезает, как бы не считая расстояние достаточно близким для точного выстрела. Он снова появляется в десяти шагах от человека в белом и вдруг становится в позу профессионального стрелка из короткоствольного оружия: расставив согнутые ноги и вытянув руку. Раздается выстрел, после чего сразу же второй, третий и четвертый. На белый мрамор падают гильзы от патронов. Белый человек вздрогнул от неожиданности, он как бы хотел резко подняться, но сразу же оседает перед алтарем, его ноги сползают с мраморной подставки, он падает лицом вниз, правая рука придавлена телом, левая вздрагивает, а на белой одежде, посередине спины, немного ближе к левой стороне, там где сердце, выступает, быстро увеличиваясь, красное пятно крови. Белый лежит лицом вниз на мраморе, он умирает. Черный молниеносно осматривается. Капюшон закрывает ему и лицо, только глаза блестят сквозь прорези в ткани. Торопливо подбегает к лежащему, трогает его тело ногой, на миг задумывается, затем поднимает оружие и добивает умирающего еще одним выстрелом. Отступает к левой галерее, с левой стороны двора продолжая смотреть на убитого, на большое кровавое пятно, которое появилось рядом с первым на спине – и исчезает в темноте за колоннадой. Крупным планом показывают убитого. Он вздрогнул последний раз. Его правая ладонь слегка высунулась из-под груди. На ней блестит золотой перстень. По мраморным ступеням стекают капли крови. Слышны далекие шум, крик, топот бегущих ног. Но никого не видно. Совершенно пусто.
II
Те же декорации. Белый пустой двор. Ранний рассвет, чистое небо, солнце еще не добралось до мраморной поверхности двора. Оно золотит только шпили и портики колоннады с правой стороны. Вдали слышен колокол, созывающий на утреннюю мессу. Из галереи друг за другом выходят семинаристы. Пересекают двор и исчезают на противоположной стороне. Через минуту с этой же стороны выходит Папа. Он один. Та же крупная, широкая в плечах фигура. Он идет медленно, с неким трудом. Приближается к небольшому алтарю и опускается на колени на мраморные ступени.
Вдруг эта картина сильно уменьшается. Сейчас она видна в бинокль. С большой высоты виден правильный четырехугольник колоннады, поодаль – башня часовни, вокруг сочная зелень садов, там поблескивают струи воды, из разбрызгивателей.
Это вид с вершины лысой горы, возвышающейся над городом. Отсюда открывается огромная городская панорама. Вершина выжжена солнцем, покрыта высохшей, колючей растительностью. Тяжелый, черный бинокль покоится на валуне. Смотрящий в него человек лежит, плотно прижавшись к земле – в типичной позе военного. Ноги немного в стороны, даже стопы у него пальцами наружу, словно он под обстрелом. Протирает замшей стекла бинокля. Он смотрит еще раз, в видоискателе – тонкие перекрещивающиеся риски, такие обычно есть в полевом артиллерийском бинокле. Этот крест он наводит на белую спину стоящего на коленах, на его белую пелерину, колеблемую легким ветерком. Человек, смотрящий в бинокль, медленно встает. Его внезапно охватывает бешенство. Он изо всей силы ударяет биноклем по валуну, за которым лежал. Стекла линз разбиваются вдребезги. Остыв, он опускается на колени и тщательно собирает стеклянные осколки. Сейчас он в черном – так же, как и в тот день, когда стрелял в Папу. Он прячет осколки в маленький черный мешок, который достал из-под черной одежды. Начинает спускаться с вершины. Узкая тропинка вьется вниз по склону. В расщелине скалы почти полностью темно. Там есть небольшая пещера. Черный входит в нее, низко наклоняясь под нависающей скалой. Через некоторое время он появляется. В руках у него черный скрипичный футляр. Исчезает за поворотом дороги.
III
Сады, фонтаны и живые изгороди. По аллее медленно идет Папа, но он теперь уже не двигается с трудом. Рядом с ним идет молодой семинарист. Папа что-то говорит ему, и тот, кивнув, уходит. Папа, оставшись один, с легкой улыбкой на лице идет между двумя стенами живой изгороди. В нескольких шагах за ним черный человек высовывается из зеленой листвы. Обеими руками низко держит автомат. Когда оттягивает затвор, Папа, услышав звук этого скрежета металла о металл, останавливается и поворачивается к черному человеку. Никакого страха, только удивление в глазах. Белая фигура поднимает правую руку, будто хочет перекрестить. Автомат, дергаясь, стреляет. Очередь наискось от правого плеча до левого бедра пересекает белую одежду, Папа падает сначала на колени, потом на бок, лицо обращено к небу. Он застывает в этой позе. Его еще приподнятая правая рука с золотым перстнем на пальце опускается в песок. Черный подходит к убитому. Толкает его ногой. Прицеливается в лицо и стреляет еще раз. Струей бьет кровь. Черный молниеносно бросается в живую изгородь по левую сторону аллеи, по движению веток видно, как он продирается на другую сторону. Слышен неясный шум, какие-то возгласы. Черный за живой изгородью лихорадочно сдирает с себя черную одежду, автомат уже спрятан в скрипичном футляре. Его видно со спины. Нейтральная одежда, обычная, не слишком светлая, не слишком темная. Он уходит и исчезает из виду. Бьют колокола. Слышны сирены. Опускается темнота.
IV
Вечер. Земля темнеет, но небо еще очень светлое. По длинной аллее вдоль старых деревьев одиноко идет Папа. Его фигура то исчезает в тени этих деревьев, то снова появляется на свету, исходящему сверху. За ним вдогонку почти что бежит тот, другой. Видно Папу и этого человека сзади. Папа идет плавно, неспешно, руки сцеплены за спиной. На убийце уже нет просторной черной одежды, он одет как пастор. Немодный черный мужской костюм, черные туфли, черные носки, на руках темные перчатки. В руке держит достаточно большой рулон свернутой бумаги. Возможно, услышав его шаги, Папа останавливается. Тот тоже останавливается, и, склонив голову из уважения, приближается к Папе. Как бы ожидая благословения. Папа с доброжелательной улыбкой поднимает правую руку с кольцом, а когда начинает осенять крестом, тот с длинным ножом, вынутым из рулона, подскакивает к нему, левой рукой хватает за край развевающейся белой пелерины, а правой ударяет в грудь. Хлещет кровь. Изумление, ничего более, только сильное изумление на лице убиваемого. Приоткрывает рот, но не подает голоса. Медленно опускается, убийца поддерживает его левой рукой и продолжает наносить удары ножом. Белая одежда вся залита кровью. Тело убиваемого никнет. Убийца – запыхавшийся, дрожащий, вытирает нож о еще не окровавленный край папской одежды. Папа, лежа на боку, начинает приподнимать правую руку кистью вверх, как бы повторяя жест, которым обычно делает знак креста в воздухе. Тогда убийца падает на колени и раз за разом начинает колоть лежащего, вслепую, бессчетное количество раз. Его бешенство поражает. Он убивает, убивает, и все еще не полностью уверен, действительно ли уже окончательно убил. Медленно поднимается с коленей. Стало темнее. Папа виднеется белым пятном на песке аллеи, под большим раскидистым деревом. Теперь в полумраке кровь его кажется почти черной. Убийца тяжело дышит, вытирает нож о траву, потом опять о папское одеяние. Тянет труп за ногу. За вторую. Он бородатый, но борода кажется приклеенной. На шее у него колоратка. Уверенный, что убил наверняка, он дышит все спокойнее, с облегчением. Начинает удаляться. Однако неожиданно его взгляд останавливается на торчащем из земли так называемом милевом камне, покрашенном известью. Он начинает возиться с камнем, пытаясь вытащить его из глины. Видно, что он прилагает огромные усилия. Наконец, камень, наполовину обросший мхом, удается вырвать из земли. Подняв его обеими руками, он бежит к убитому, поднимает камень и со всей силы бросает его в голову Папе. Видно это с места, где находился камень. Папа лежит с размозженной головой. Фальшивый священник стоит над ним некоторое время в густеющих сумерках. Потом отходит, но через каждые несколько шагов приостанавливается и смотрит в сторону мертвого тела. Когда он уже у самого конца аллеи, ему кажется, что труп вздрогнул. Он каменеет, смотрит, но не имеет мужества вернуться. Далекое белое пятно слегка шевелится. Убийца начинает убегать. Далеко, очень далеко бьют колокола. Наступает полная темнота.
V
На вершине лысой горы убийца снова в своей черной одежде смотрит в бинокль вниз, туда, где в восходящем солнце белеет прямоугольник мраморной колоннады. Колокол бьет, но двор по-прежнему пуст. Радость на лице наблюдающего. Там, внизу, появляются темные сутаны, идут вереницей, но нигде нет белой фигуры.
Слышен шелест шагов. С противоположной стороны на вершину лысой горы поднимается Папа. Черный роняет бинокль. Он вскакивает, его приклеенная борода отваливается. Папа, добродушно улыбаясь, раскинув руки медленно направляется к нему, как будто бы хочет его обнять. Черный отступает. Папа чуть заметным жестом дает понять: «ничего не случилось, не беспокойся, все прощено и забыто». Черный отступает назад, и чем отчетливее проявляется доброжелательность в движениях Папы, медленно идущего к нему, тем большим, сводящим с ума, становится страх убийцы. Он выхватывает из-под черной одежды револьвер, нажимает на спусковой крючок, но слышен только стук ударяющего бойка. Тогда он бросает оружие и отступает на самый край обрыва. Безграничная доброжелательность светится на лице Папы. Он останавливается, снимает круглую шапочку, обнажая седую голову. Смотрит на черную фигуру над пропастью, неподвижную, как статуя. Папа продолжает двигаться к черному. Слегка спотыкается о брошенный черный мешок, из которого выглядывает автомат. Из мешка, задетого ногой Папы, вываливается блестящий на солнце нож. Папа усмехается словно взрослый, увидевший невинные, смешные игрушки ребенка, и, обходя большой плоский валун, на котором лежит бинокль, приближается к застывшей на фоне неба фигуре. Пораженный этой невообразимой добротой, черный теряет равновесие. Несколько мгновений он отчаянно машет руками, но ноги скользят по высохшей траве, смешанной с известковой крошкой, и он падает вниз. Он рухнул у входа в ту небольшую пещеру, где был раньше. Лежит как упал, лицом вниз, голова неестественно повернута, капюшон съехал на шею, открывая спутанные черные волосы, левая рука покоится на песке, правая придавлена телом при падении, поэтому он покоится почти в таком же положении, как лежал Папа, когда был убит в первый раз. По тропинке среди зарослей, зигзагами ведущей вниз, спускается Папа. Еще достаточно далеко. Он двигается уже не с достоинством священника, а почти бежит, спеша на помощь. Просторная, черная одежда, укрывающая убийцу, начинает белеть. Становится все более светлой. Волосы на мертвой голове начинают седеть. Наконец он становится белым, как снег – таким же, как папское одеяние.
Вена, октябрь 1983
XIII Приложение
Павел Околовский Теология дьявола Станислава Лема (о рассказе «Черное и белое»)
Рукопись «Черного и белого» датирована как «Вена, октябрь 1983». Начнем с обстоятельств появления этого рассказа. 13 мая 1981 г. в Риме произошло покушение на жизнь Папы Римского Иоанна Павла II – три пули прошили его тело, из-за чего он едва не погиб. Вскоре выступив на «Радио Ватикана», Папа «искренне» «простил» своего палача; закулисье этого преступления так и не было раскрыто. Год спустя произошло новое покушение (12 мая 1982 г. в Португалии он был ранен священником, вооруженным ножом). В июне 1983 г. состоялось второе паломничество Папы на родину, растоптанную военным положением (с 13 декабря 1981 г. много тысяч людей было арестовано, десятки были убиты ради подавления духа свободы в народе). В Кракове тогда Кароль Войтыла произнес запоминающиеся слова из псалтиря: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною» (Пс. 22:4). В декабре того же года, когда рассказ уже был написан, Папа посетил покушавшегося на его жизнь Али Агджу в тюрьме, повторив слова прощения. 19 октября следующего года на берегах Вислы было совершено убийство священника Ежи Попелушко, что Лем – можно сказать – литературно предсказал. Последовательность упомянутых событий, их отличительная особенность – насилие – идеально соответствуют повествованию в «Черном и белом». Станислав Лем был тогда (1982–1988) в эмиграции, сначала в Западном Берлине, а затем вместе с семьей в Вене. И хотя в ноябре 1982 г. умер агрессивный Леонид Брежнев, после его смерти противостояние между США и СССР продолжало быть чрезвычайным – по оценке Лема почти манихейским[341]. Большой стала политическая и патриотическая ангажированность польского писателя, обычно считавшегося мизантропом. Он отправлял свои тексты в парижский польскоязычный ежемесячник «Культура», а его душевное состояние было сродни духу Великой эмиграции 1830-х гг, которая выдала величайшие произведения польского романтизма (Адам Мицкевич, Фредерик Шопен). Стоит также отметить, что в это время в полной мере у Лема проявился интерес к теории зла, о чем свидетельствует хотя бы «Народоубийство»[342], опубликованное в Польше в 1980 г., и его беседы на эту тему со Станиславом Бересем, проходившие в первые месяцы военного положения, а в книжном виде изданные в Польше в 1987 г.[343]
Рассказ «Черное и белое» был опубликован (впервые и до сих пор единственный раз) в 1984 г. в Германии в составе сборника фантастических рассказов «Добро пожаловать в обезьянник»[344]. Мнение (в связи с неопубликованием рассказа в Польше), что это произведение Лема представляет собой незавершенный черновик или недоработанный сценарий, является необоснованным. Станислав Лем – что видно по его достижениям и известно из его биографии – никогда не отдал бы незавершенный текст редактору, тем более немецкому, не разместил бы такой текст вместе с работами таких авторов, как Воннегут и Мрожек. Поэтому следует трактовать это произведение как завершенное, целостное и осознанно представленное миру. Без сомнения, появилось оно по зову сердца и имеет очень эмоциональный характер. Автор, повествуя, был глубоко тронут покушениями на главу Католической Церкви – тем более что с Каролем Войтылой он был знаком лично и испытывал к нему большое уважение, считая – вместе с Юзефом Пилсудским и Чеславом Милошем – величайшим поляком ХХ века.
Рассказ состоит из пяти сцен, изображающих убийцу вместе со своей жертвой. Рассказ фантастический, ибо невозможный в действительности, и представляет собой описание трех удавшихся покушений на одну и ту же персону. Остальное, хотя и вымышлено, до боли реалистично, и подчеркивают это «кинематографические» псевдоремарки. Тематика и символика рассказа в основном читаемы: речь в нем о сосуществовании нравственного добра и зла, о их таинственной диалектике. (Физические добро и зло – «созидание и разрушение» – это отдельный вопрос, часто обсуждаемый в эссеистике Станислава Лема). При помощи света и тени в описании сцен автор сразу же направляет читателя на соответствующий ход мысли. А фоном событий является поставленная стоиками и ими же впервые характерным способом решенная проблема теодицеи[345] и связанной с ней привативной концепции зла[346] – родом из cв. Августина. Совершенный Бог допускает зло, потому что оно служит гармонии мира, и поэтому в конечном счете также служит добру; зло по своей сути является отсутствием добра – как тень отсутствием света. Вся материя представленных в тексте Лема событий в прах разбивает эту теорию древних. Зло у Лема лежит в первооснове, является бытием более ощутимым, чем каменные колонны, ибо активным и бессмертным – как все возрождающееся личное намерение причинения вреда. Имея совесть, невозможно понять, как действия «черного» могут быть оправданы.
Обращает на себя внимание однозначность этого текста: зло в нем является злом и ничем иным, никаким не заменителем, сведенным к обыденным вещам – таким, как эгоизм, глупость или болезнь. В рассказе отсутствуют организаторы убийства, то есть заказчиком является сам исполнитель. Его мотивы поэтому кристально чисты, хотя и черные. Нравственное зло, а именно о нем речь, – это что-то изначальное и бескорыстное. Беллетристика Лема в этом вопросе вписывается в традиционное направление рациональной теологии, или шире – метафизику всякого разумного существования (топозофию, как ее определяет Лем в своем «Големе XIV»[347]). Покровительствуют ему св. Августин в своем «О граде Божием» и св. Ансельм, который в трактате «О падении диавола» на вопрос: почему падет злой ангел? – отвечает: исключительно потому, что хочет этого. Покровительствует Лему, конечно, и Достоевский. Лем показывает, чем является бескорыстное зло в человеческом исполнении, как действует в нас дьявольство – одинаковое в Катыни, Треблинке или Камбодже Пол Пота. В светском смысле можно сказать, что он представляет теологию дьявола.
Зло, по мнению Лема, интеллектуально: разумно, хитро, предусмотрительно, скрупулезно; и что еще более важно, оно имеет характер: терпеливо, настойчиво, упорно, и даже героично (четыре последовательных покушения). Вторая попытка убийства не состоялась, вероятно, из-за чрезмерного расстояния до цели. Символический крест в бинокле (который можно воспринимать как молчаливый взгляд Бога) только поддерживает усилия «черного». Прежде всего потому, что зло ненавидит добро: удовлетворяется сведением его на нет (триумфальный камень, разбивающий голову, лежит вне какого-либо интереса) и не столько боится его, сколько противится (последняя сцена). Для дьявольской гордости прощение оскорбительно.
В «Черном и белом» Папа воплощает в себе высшее добро. Смысл деятельности Церкви, во главе которой он стоит, заключается, как известно, в приближении Царствия Божиего, то есть в попытках спасти как можно большее количество людей. Это, возможно, мало что значит в мире насилия, подкрепленного инстинктами и идеологией. Папское прощение, за которым стоит как институциональный, так и личный авторитет, по своей сути адресовано не «черному». Не говорят ведь с ДНК. Это жест, направленный сообществу – тем, у кого есть шанс измениться. Церковь, вместе с эсхатологическим[348] услужением, противостоит нравственному злу. В противном случае она теряет свое достоинство. Видно, как близко Лему сотериологическое[349] учение в духе «Книги Псалмов».
Неизбежно возникает желание философского истолкования текста. Проблема может заключаться в самом его окончании. Побежденный дьявол там «белеет», но ничего в жизни и творчестве автора не говорит в пользу того, что зло должно быть прощено (например, принципиальное, в духе Канта, допущение Лемом смертной казни!). И здесь не апокастаз[350] вступает в игру, хотя ересь Оригена[351] сегодня очень модна, даже в Церкви. Ключом к разгадке последних четырех предложений может быть сцена преображения Иисуса на горе Фавор, описанная в Евангелиях. Там имело место откровение Иисуса в своем божеском обличии как сына Божьего, раскрытие тайны перед учениками Петром, Иаковом и Иоанном. Читаем: «И преобразился перед ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как снег» (Мф. 17,1–2). Доротея Форстнер в книге «Мир христианской символики» (Инсбрук, 1959) пишет, что «белый» – это среди прочего цвет поклонения, а также победы и вечной славы Божией (например, белые одежды ангелов). У Лема таким образом представлена тайна теодицеи (которую, по его мнению, рационально невозможно объяснить). То, что зло после своего поражения «становится белым», означает лишь, что оно всегда было включено в планы Бога. Говоря по-светски: по каким-то причинам мир является именно таким, с вросшими друг в друга добром и злом. Поэтому неизбежна вечная борьба между ними, без которой мир не будет иметь смысла.
Рассказ «Черное и белое» крайне важен для понимания личности и творчества Станислава Лема. Дополнительную ценность он приобретает после мая 2011 года в свете беатификации Иоанна Павла II и убийства Усамы бен Ладена.
* * *
Об авторе: Павел Околовский (Paweł Okołowski, 1963 г. р.) – доктор философии, научный сотрудник Отделения философии религии Института философии Варшавского университета, автор книги «Материя и ценности. Неолукреционизм Станислава Лема» (Okołowski P. Materia i wartości. Neolukrecjanizm Stanisława Lema. – Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2010, 562 s.) и многих статей о философии С. Лема.
Язневич В.И Из Станислава Лема обо всем понемногу Библиографическая справка
Настоящий сборник появился по инициативе главного редактора издательства АСТ Науменко Николая Андреевича. В начале 2012 г. я предложил ему опубликовать в каких-нибудь антологиях три неизвестных русскоязычным читателям (да и польскоязычным тоже) рассказа Станислава Лема, до сих пор публиковавшихся в книгах, изданных только на немецком языке. В ответ главный редактор предложил взять эти три рассказа, к ним добавить рассказы, «затерявшиеся» в «Молохе» и «Моем взгляде на литературу», взять предисловия/послесловия, взять несколько эссе из польского сборника «ДиЛЕМмы», взять несколько интервью – и должен получиться хороший том. И вот читатель держит в руках такой том, который дает представление главным образом о философском, литературно-критическом и публицистическом направлениях творчества Станислава Лема, которым великий писатель уделял гораздо больше времени, чем беллетристике, особенно в последние двадцать лет своей жизни. В целом творчество С. Лема можно разделить на два этапа: утопический (1945–1956) и антиутопический (1957–2006, RIP), а в последнем в свою очередь можно выделить следующие периоды: литературно-философский (1957–1970), литературно-экспериментаторский (1971–1986), философско-публицистический (1987–2006). В настоящем сборнике представлены статьи, написанные С. Лемом во всех этапах и в разные периоды творческой деятельности, при этом сделана попытка охватить все направления творчества писателя при помощи статей, еще не публиковавшихся на русском языке. Распределение статей по главам настоящей книги, разумеется, достаточно условное, ибо, например, советам может предшествовать критика, мечтам – прогнозы, рекомендациям – рецензии, удивляться можно прошлому (в воспоминаниях), настоящему (в критике) и будущему (в прогнозах), обо всем можно размышлять и рассказывать, все можно облечь в форму повествования и сопроводить шуткой, а сами шутки зачастую являются сатирой.
* * *
Характеризуя творчество Станислава Лема в целом, следует отметить, что он занимался и современным романом, и научной фантастикой, в том числе в реалистическом стиле, и фантастическим гротеском (и в стиле рассказов эпохи Просвещения, и в стиле сказки), и окололитературными фантастическими очерками-апокрифами (в виде рецензий и вступлений к «ненаписанным книгам»), и научными литературными и философскими монографиями, в том числе в виде «платоново-берклиевых» диалогов, и так называемой «сильвической» прозой (скомпонованной из разнообразных фрагментов: заметок, комментариев, воспоминаний, анекдотов), и разнообразными эссе преимущественно на литературные, научные и научно-популярные темы, а также фельетонами в основном о политике и культуре. Большое место в его творчестве занимают «живые беседы» – три книги-интервью и многочисленные интервью, данные преимущественно для прессы, но иногда и для ученых-филологов и философов, а также эпистолярный жанр (к сожалению, пока что доступный исследователям только фрагментарно). И можно утверждать, что во всех видах своих произведений он создал настоящие шедевры. Его литературную деятельность характеризуют творческий размах, эрудиция, увлекательность (несравненные фантазия и чувство юмора), глубина мысли, а также безусловно присутствующий во всем этом дидактизм (Лем: «Можно сказать, что среди написанных мною книг мало таких, которые были бы лишены дидактических целей»; «это, наверное, забавно, что дидактический замысел направлен не только в адрес читателя, но и в мой собственный адрес»). При этом Лем подчеркивал, что «дидактичность не должна быть следствием установок на дидактизм», что «дидактизм должен присутствовать непроизвольно», что это даже «вопрос порядочности».
Говоря об основах своего творчества, Лем отмечает, что писатель не может работать «без веры в положительный результат своего труда, веры, которую ничто извне не может заменить (жажда успеха идет, скорее, снаружи, так же как и реальный успех). При этом тот, кто такую веру имеет и пишет, может вообще о ней не знать. Это есть libido sui generic, неосознанная необходимость, которую по сути не анализируют, над ней не размышляют, подобно как не размышляют над собственным инстинктом самосохранения. В моем случае, – писал Лем, – это было, а точнее, постепенно становилось своеобразным кредо, основой которого было Призвание [еще можно перевести как Миссия. – В.Я.]. Опять-таки не знаю, но мне кажется, что то обстоятельство, что как пророк в belles léttres я не буду услышан, не лишит меня этой вышеупомянутой удивительной «Веры». Пожалуй, нет».
Как автор художественной прозы Станислав Лем является продолжателем лучших традиций польской литературы: Яна Хрызостома Пасека (1636–1701), Болеслава Пруса (1847–1912), но главным образом Генрика Сенкевича (1847–1916). («Отдельный вопрос – это наша классика, знакомиться с ней я начал рано. Сначала был Прус – «Кукла» и «Фараон», а также Сенкевич, прежде всего «Трилогия», которую я прочитал в одиннадцать лет».) Причем «Трилогия» Сенкевича – это непревзойденный образец прозы для Лема. К «Трилогии» он неоднократно обращался, постоянно перечитывал, посвятил ей несколько статей, даже взял с собой в эмиграцию в Австрию, а также планировал написать книгу о Сенкевиче под названием «Фокусник и обольститель». «Языковое пространство, которое господствует в большинстве рассказов «Кибериады», это Пасек, пропущенный через Сенкевича и высмеянный Гомбровичем. Это определенный период истории языка, который нашел потрясающе великолепную эпохальную репетицию в произведениях Сенкевича – в «Трилогии»; при этом Сенкевичу удалось сделать воистину неслыханную вещь, а именно: его язык («Трилогии») все образованные поляки (за исключением несущественной горстки языковедов) невольно принимают за «более аутентично» соответствующий второй половине XVII века, нежели язык тогдашних источников». Причем в статистических показателях результатов литературной деятельности, как писал Лем, «относительно изданий, тиражей, переводов, обсуждений, предложений, приглашений, писем и т. д. я уже второй после Сенкевича, книги которого уже несколько десятков лет после смерти автора работают на его устойчивое реноме, а я вышел на это второе место в течение каких-то 10–12 лет».
Явными «предками» писателя можно считать также Вольтера (1694–1778) («Посмотрите философские сказочки Вольтера. Я считаю, что некоторые фрагменты моей «Кибериады» или «Сказок роботов» более близки к Вольтеру, чем к кому-либо другому, это как бы следующая инкарнация эпохи Просвещения»), Джонатана Свифта (1667–1745) («Я написал много книг, например, «Кибериаду», «Сказки роботов» или «Звездные дневники». На карте литературных жанров их место – в провинциях гротеска, сатиры, иронии, юмористики свифтовского и вольтеровского образца – суховатой, язвительной и мизантропической; как известно, знаменитые юмористы были людьми, которых поступки людей приводили в отчаяние и бешенство. Меня тоже»), Льюиса Кэрролла (1832–1898) («Я, несомненно, могу отыскать некоторое подобие между моими и кэрролловскими витками воображения, но это не широкомасштабное сходство, поскольку касается лишь того, что можно назвать математической разновидностью воображения») и Ежи Жулавского (1874–1915) («На серебряной планете» Жулавского – книга, которую я люблю и которой многим обязан»). Кроме этого, некоторые специалисты в качестве «предка» Лема считают также Яна Потоцкого (1761–1815) («Для всех ищут предшественников, поэтому зарубежные критики запихнули меня под Потоцкого. Он писал эти свои запутанные истории по-французски, но разве для них это имеет какое-то значение?.. Уж лучше был бы Свифт, пожалуй»).
Что касается литературы ХХ века, в прозе Лема проявляется некая формальная связь с творчеством Хорхе Луиса Борхеса (1899–1986). Сравнивая себя с Борхесом и при этом не соглашаясь с мнением, что «Лем – это Борхес научной культуры», писатель говорил: «Тут немного другое. Во-первых, у меня, пожалуй, фабульной изобретательности побольше, чем у Борхеса, ведь он никогда не писал романов. Во-вторых, я не являюсь, как он, архивистом. Я никогда не творил, будучи одурманен чадом библиотек, я только отбрасывал эти огромные завалы, чтобы взгромоздить над ними какую-нибудь странность. А в-третьих, прошу заметить, Борхеса особенно не занимают ценности когнитивной, чисто познавательной, гностической натуры». И далее: «Я неохотно вижу себя с ним в одной паре. Я, конечно, наблюдаю общее сходство, но в то же время вижу и огромные различия, если принять во внимание наши истоки. Борхес весь из прошлого, из Библиотеки, а у меня доминирующей является – это прозвучит патетически – борьба за человека и его космическую позицию. Это уже весьма принципиальное отличие, прошу также заметить, что я вообще не касаюсь таких аспектов, как эстетический калибр или вопрос артикуляционной мощи, так как считаю, что это не так существенно».
Из классиков мировой литературы и искусства Лем наиболее высоко ценил: писателей Ф.М. Достоевского, Г. Сенкевича, Дж. Конрада, В. Гомбровича, Т. Манна; писателей-фантастов Дж. Г. Уэллса, О. Стэплдона, Ф.К. Дика, Х.Л. Борхеса, братьев А.Н. и Б.Н. Стругацких, поэтов У. Шекспира, Р.М. Рильке, А.С. Пушкина, А. Мицкевича, Ц. Норвида, Б. Лесьмяна, Ч. Милоша, философов А. Шопенгауэра, Б. Рассела, К. Поппера, художников П. Брейгеля, И. Босха («Брейгель – это Луна, а Босх – Солнце»), С. Дали, композиторов Л. ван Бетховена («Пятой симфонии» даже посвятил стихотворение), Ф. Шопена. Правда, к музыке был равнодушен в первую очередь из-за проблем со слухом – с конца 1970-х годов Лем пользовался слуховым аппаратом. Нравилась ему «Ночь на Лысой Горе» Мусоргского – «Это такая музыка, которая собственно музыкой и не является, ибо она представляет Лысую Гору с колдуньями», нравился ему классический джаз в исполнении Эллы Фитцджеральд и Луиса Армстронга (именно в исполнении дуэтом).
Что касается литературных произведений, Станислав Лем отмечал, что «существуют, как известно, книги, которые мы любим и уважаем, такие, которые любим, но не уважаем, такие, которые уважаем, но не любим, и наконец те, которые мы не любим и не уважаем. (Для меня к первой категории принадлежат книги, НЕ ВСЕ, Бертрана Расселла; ко второй – Сименона, к третьей – Кафки, к четвертой, например, – книги типичной научной фантастики.) То же касается нашего отношения и к другим людям. Например, к женщинам!» В 1999 г. для издания в Польше в серии выдающихся книг ХХ века Станислав Лем предложил следующие (в том числе написанные задолго до ХХ века) произведения: 1. Сол Беллоу, «Планета мистера Сэммлера»; 2. Бертран Рассел, «История западной философии»; 3. «Энциклопедия невежества» («The Encyclopedia of Ignorance» – N.Y.: Pergamon Press Inc., 1977); 4. Самуэль Пепис, «Дневники»; 5. Франсуа Вийон, «Большое Завещание» (Лем рекомендовал эту книгу двадцатилетним); 6. Тадеуш Боровский, «Пожалуйте в газовую камеру» (сборник рассказов); 7. Витольд Гомбрович, «Бакакай»; 8. Тадеуш Бой-Желенский, «Словечки»; 9. Ян Юзеф Щепаньский, Партизанские рассказы – избранное из ряда книг. В разные годы Станислав Лем в качестве выдающихся литературных произведений отмечал «Дон-Кихота» С.М. де Сервантеса, трилогию («Огнем и мечом», «Потоп», «Пан Володыевский») Г. Сенкевича, «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери, «Лолиту» В.В. Набокова. О творчестве Набокова Лем говорил: «Нравятся мне также немногочисленные книги Набокова, а особенно «Лолита», которая очень старательно сбалансирована, в противоположность, к примеру, «Бледному огню», где уже дает о себе знать некоторое нарушение пропорций. Набоков смог сделать это так замечательно, с такой холодной точностью, что это меня даже отталкивает. Это вещи, которые часто невозможно объяснить».
Несмотря на разнообразие стилей и жанров, в сочинениях Лема господствует своеобразная мыслительная однородность: дискурсивная проза представляет собой автокомментарий для беллетристики, а беллетристика в свою очередь является иллюстрацией теоретических размышлений. Все это отражает один и тот же реальный мир с разных непротиворечивых точек зрения. В своих художественных произведениях и научных эссе Станислав Лем рассматривает законы природы и общества, вопросы религии, законы эволюции в целом и эволюции человека в частности, кибернетику и информатику, искусственный интеллект и виртуальную реальность, космологию и космогонию. Тем самым проза Лема вырастает прямо из достижений естествоведческих наук ХХ века, из «духа эпохи» («Корова дает молоко, но оно не возникает из ничего; чтобы ее доить, нужно снабжать ее кормом; так и я должен проглатывать груды «настоящей», то есть не выдуманной мною, специальной литературы, хотя конечный продукт столь же мало похож на переваренную духовную пищу, как молоко – на траву»).
Лем говорил, что, по его мнению, дискурсивную и художественную литературу разделить в ста процентах случаев невозможно, приводя в пример хотя бы свою «Сумму технологии». Но для разделения можно пользоваться следующим: «в дискурсивной литературе важнейшим является МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ, а в художественной – ПРОХОДИМЫЙ ПУТЬ… Или иначе: основной чертой дискурсивности является ИНВАРИАНТНОСТЬ объекта дискурса, а художественности – ИЗМЕНЯЕМОСТЬ объекта: различные модальности дискурса не изменяют суть вопроса, в то время как изменение восприятия изменяет сам объект в искусстве…Если объектом дискурса является проблематика, и дискурс, который новую не предлагает или известную по-новому не разрешает, не многого стоит, то в художественной литературе всегда переизбыток новостей, которые с точки зрения дискурса являются фиктивными».
И в соответствии с этим в своем творчестве Лем придерживался следующего: «Для меня всегда было важно писать в обоих ключах ИНАЧЕ, т. е. не повторять никого и ничто. Поэтому в произведения я включал, причем в начале неосознанно, скелеты парадигматики, взятой из науки (эмпирии). Небольшой пример, но характерный – хотя бы история о «Вероятностных драконах», прелесть которой совершенно не ощутит тот, кто никогда в жизни не слышал что-нибудь о квантовой физике. И ужасно долго продолжалось, пока я, остолбенев от изумления, не убедился (такова была человеческая, т. е. моя наивность), что этот трюк (включение парадигм науки в качестве элементов сюжета) никто вообще не в состоянии заметить! Относительно указанной выше дихотомии могу сказать, что то, что дискурсивно, я держу зажатым в кулаке, т. е. осознаю при работе, но над тем, что композиционно – точно так же уже не властен: над дискурсивным главенствую, над художественным НЕТ. Там уже находится мое бессознательное, одержимость, отвращение, неприязнь, необходимость и другие меры принуждения. Не знаю, почему так».
Лем соглашался с мнением, что по сравнению с его дискурсивными книгами в его же беллетристике «открываются бездонные философские горизонты, и это скорее всего происходит потому, что когда пишешь что-нибудь дискурсивное, инстинктивно сдерживаешься, стараешься быть более дисциплинированным». И в этом писатель-философ видел преимущество литературы, которое заключается в том, «что в отличие от науки, от философии в беллетристической поэтике можно самому себе противоречить, можно самого себя подвергать сомнению, можно с самим собой развлекаться так же, как с целым миром. И миры, для развлечения созданные, обладают привлекательностью, которой ни в каком важном или философском дискурсе не найти. А если там найдется, то eo ipso это уже будет Литература, замаскированная, закамуфлированная, представляющаяся философией, не будучи ею «в действительности».
В качестве хорошей иллюстрации к вышесказанному можно привести фрагмент из романа «Осмотр на месте», в котором главный герой Ийон Тихий коротает время долгого космического полета в беседах с великими мыслителями. Конечно, не с ними самими, а с их компьютерными моделями, в которые они «экстрагируются из собраний собственных сочинений, а это имеет тот результат, что воскресенцы говорят не так, как говорили при жизни, но так, как писали: то есть, скажем, поэты – только стихами». И в этом романе на двух десятках страниц представлены беседы на философские темы Бертрана Рассела, Карла Поппера, Пауля Фейерабенда, где они отстаивают свои взгляды, спорят, приводят мнения других (Куайна, Эйнштейна), критикуют третьих (Гегеля, Дьюи, Витгенштейна), а затем к ним присоединяется Уильям Шекспир. При этом Лем как бы развивает идеи этих философов дальше, говорит за них то, что, возможно, следовало из их работ, но не было ими самими явно произнесено («Только за гробом можно позволить себе говорить все, что думаешь, начистоту»), вкладывает свои идеи в уста беседующих и спорящих. А, например, в «Звездных дневниках» (в рассказе «Путешествие двадцать пятое») философы разных школ (физикалисты, семантики, неопозитивисты, томисты, неокантианцы, холисты, плюралисты, бихевиористы, сторонники Рассела и Рейхенбаха) высказывали мнения на одну и ту же тему, каждый по-своему пытался объяснить происходящее, но в «действительности» все оказалось совершенно иначе. Таких фрагментов произведений с явно философским уклоном можно привести множество. А всего в художественных произведениях Лема можно насчитать (явно или намеками) упоминания о более чем 320 реальных людях (ученых, писателях, художниках, композиторах, политиках и др.), в том числе более чем о 60 философах.
Поэтому его сочинения зачастую достаточно сложны для восприятия из-за отражения большого количества важных и непростых (и интересных, но не для всех) проблем. «Суть в том, – писал Лем, – что в моих произведениях, несмотря на то, какова их художественная ценность, обычно заключена некая старательно упакованная Мысль, которой у других не наблюдается, то есть они являются оригинальными интеллектуально, и поэтому также notabene обычно наталкиваются на сильное сопротивление именно интеллектуалов, которые, стыдно сказать, обычно ужасно несамостоятельны в своем интеллектуализме, и не знают, бедняжки, что Мысль – это не то же самое, что Мода (в данном случае Мода на определенный Стиль Мысли)». И поэтому сочинения Лема должны еще найти своего читателя. Лем писал, что «есть еще одно обстоятельство, которое со временем должно сыграть решающую роль в привлечении на мою сторону. Именно то, что мои книги воздействуют своей совокупностью, целостностью сильнее, чем отдельно взятые произведения. Именно так я вижу. Горячим ядром моих книг не является просто традиционный рационализм Вольтера, ни родственность Свифту, ни подобие Кафке (и Гомбровичу), что критикам легче всего заметить. Их основу составляет парадигматика, до сих пор искусству чуждая: во всех моих книгах мыслительные эталоны одни и те же – свойственные естествоведению, и только использование их, этих эталонов, в гротесковых произведениях – одно, иное в произведениях типично фантастических, иное в произведениях таких, как «Рукопись, найденная в ванне» или как «Мнимая величина». Это, без сомнения, очень отличающиеся друг от друга пути, ведущие всегда к одной сути. Природа ее онтологическая, а не политическая или социально-критическая; и именно там проявляется все мое искусство, где научные истоки начинают демонстрировать свою бесполезность, там, где возможности науки оказывается западней или лабиринтом для человеческого духа, там, где Дарвин действительно одерживает победу над Гегелем, но это является Пирровой победой. Это множество путей становится тогда гарантией постижения моего творчества очень разными по своему социальному положению и ментальности людьми».
При этом в своей научно-фантастической прозе Лем строго придерживался им самим установленного принципа-требования: «Фантастичность произведения не может быть целью, а является всего лишь средством ее достижения, а сама цель – стремление детальнее познать человека: «степень фантастичности» – ничто, если этой цели не служит. Даже если какое-нибудь произведение в самом деле предскажет состояние физики в 3000 году, оно явится гениальным прогнозом физики, но наверняка не окажется гениальным романом. Итак, идеалом фантаста должен быть не «максимум фантастичности», а ее «оптимум» – в мере, которой требует цель его работы».
Фантастические миры Станислава Лема по отношению к действительности «почти всегда характеризовались реализмом и рационализмом». («Реализм заключается в том, что пишу о проблемах, которые либо уже являются частью жизни и нас беспокоят, либо о проблемах, появление которых в будущем казалось мне вероятным и даже достоверным. А рационализм означает, что я не ввожу в сюжет ни толики сверхъестественного или, яснее и проще – ничего такого, во что я сам не мог бы поверить».) И научная фантастика оказалась неплохим материалом для моделирования таких миров. С ее помощью Лем показывал, «что происходит, когда «индивидов приспосабливают к обществу» и, наоборот, когда «общество приспосабливают к индивидам». Как можно устранить полицейский контроль и любые уголовные санкции, вместе с тем не ввергая общество в состояние анархии?» Своими произведениями Лем спрашивал, «на самом ли деле человек – творческое существо, способное постоянно совершенствоваться под влиянием культуры? Куда ведет непрерывный рост благ, их доступность, вплоть до бесплатной раздачи, – не приведут ли эти «утопии пресыщения» к причудливым разновидностям ада, к «электронной пещерной эпохе»? Ибо автоматизированное окружение, исполняя любые капризы людей, делает их ленивыми, оглупляет либо разжигает в них пламя агрессии. Агрессии бессильной, поскольку ничто, кроме уничтожения накопленного все-богатства, не способно стать объектом желаний и снов». Тем самым большая часть научной фантастики Станислава Лема является социологически ориентированной.
Лем интенсивно работал на многих фронтах одновременно – в естествоведении, биологии, философии, кибернетике, художественной литературе – так, что все эти направления в некоторой степени объединились в единое целое, неотделимое от восприятия личности писателя. Литературой же он занимался экстенсивно – методом проб и ошибок, о чем свидетельствуют хотя бы следующие слова Лема о своем писательском методе: «Как правило, я писал так, как видит свои сны каждый человек: то, что происходит во сне, то есть в сновидении, не следует из предварительного планирования и никоим образом не предвидится. Это не случайное сравнение, потому что бывает так, что сновидение заходит в тупик некоей безысходности и тогда спасением становится просто пробуждение. Достаточно большое количество сюжетов моих произведений также приводило меня в тупики, но концом этого ошибочного пути просто становилась мусорная корзина». О «технологии» своего писательского труда Лем говорил: «Моим недостатком является то, что у меня отсутствует визуальное воображение. Когда я пишу, я ничего не вижу, пространственно не представляю различные вещи или явления, у меня просто сильно развита моторика, моя мышечная система каким-то образом связана с той областью мозга, которая управляет средствами артикуляции. Элементами, из которых я строю свои фиктивные ситуации и миры, являются слова, понятия, выражения, предложения – то есть язык. Воображение мое par excellence языковое, мне достаточно просто придумывать неологизмы». И как следствие этого исследователи отмечают, что словарь Станислава Лема – самый большой во всей польской литературе. И поэтому не случайно учебники польского языка и польские фразеологические словари иллюстрируются фразами и из его произведений. Например, в одном таком польско-русском «Большом фразеологическом словаре»[352] (Варшава, 1998) – 64 цитаты, а в другом[353] (Минск, 2004) – 172 цитаты из работ писателя.
Также Лем отличался лексикографической изобретательностью. Только в фантастических рассказах циклов «Сказки роботов», «Кибериада», «Звездные дневники» и романе «Футурологический конгресс» насчитывается более полутора тысяч неологизмов – сложнейшая и вместе с тем увлекательнейшая проблема для переводчиков, особенно на неславянские языки. Лем писал: «Неологизмы должны вступать в резонанс – с существующей синтагматикой и парадигматикой языка – множеством различных способов. На многих, так сказать, уровнях можно получить резонанс, создающий впечатление, что данное новое слово имеет право гражданства в языке. И тут можно грубо, топорно произвести дихотомию всего набора неологизмов, так что в одной подгруппе соберутся выражения, относящиеся скорее к сфере ДЕНОТАЦИИ, а в другой – скорее к КОННОТАЦИИ. (В первом случае решающим становится существование реальных явлений, объектов или понятий, имеющих определенное значение вне языка, в другом же случае главной является внутриязыковая, интраартикуляционная, «имманентно высказанная» роль неологизма.) Однако тем, что оказывает наибольшее сопротивление при переводе, является, как я думаю, что-то, что я назвал бы «лингвистической тональностью» всего конкретного произведения, per analogiam с тональностью в музыкальных произведениях». При этом неологизмы Станислав Лем использовал и в научных текстах. Например, большую компьютерную сеть Станислав Лем неоднократно называл «komputerowisko», что на русский язык можно перевести как «компьютеровейник», «компьютуравейник» – от «компьютер» (по-польски komputer) и «муравейник» (mrowisko). Да и себя самого Станислав Лем называл «оптисемистом» («optysemista»): «Я не являюсь крайним пессимистом, являюсь… в общем я бы это назвал оптисемистом, то есть являюсь немного оптимистом, а немного пессимистом». И позже, уже в статье «Признания оптисемиста»: «Лично я являюсь умеренным пессимистом: назвал себя когда-то «оптисемистом». Считаю, что технологический скелет нашей цивилизации до такой степени крепок, что может выдержать многое, даже большие катастрофы». Следует отметить, что само слово-термин «оптисемист» у писателя появилось еще в 1971 г. в фантастическом «Путешествии двадцать первом» Ийона Тихого. Оптисемистами там Лем назвал «философов, черпающих оптимизм в отношении будущего из пессимистической оценки настоящего». Философы-оптисемисты заявляли, что «чем больше прогресса, тем больше кризисов; если же кризисов нет, их стоило бы устраивать специально, поскольку они активизируют, цементируют, высвобождают творческую энергию, укрепляют волю к борьбе и сплачивают духовно и материально – словом, вдохновляют на трудовые победы, тогда как в бескризисные эпохи господствуют застой, маразм и прочие разложенческие симптомы».
Некоторые придуманные Лемом слова вышли за пределы его произведений и продолжили свою жизнь в различных языках. Их можно встретить и в художественных произведениях других писателей, и в публицистике, и в различных блогах Интернета, причем часто они используются без ссылки на автора, то есть фактически стали частью языка. Это, например, такие слова, обозначающие целые явления, как «фантоматика», «фантоматизация», «интеллектроника», «псивилизация», «бустория», «жирократия», «фармакократия», «некросфера», «сварнетика», «кибэротика», «киборгия», «гастронавтика», «астроцид», «зазвездение», ставшее уже фактически научным термином латинское выражение «Silentium Universi» (молчание Вселенной), английские выражения «mindnaping» (похищение разума по аналогии с kidnaping – похищение людей) и «Sex Wars» (неизбежное искусственное (технологическое) торможение роста населения (демографического взрыва) для обеспечения нормальных условий всем живущим (недопущение перенаселения Земли)), упоминавшийся «оптисемист», а также «любвемер», «звездолов», «дегенерал», «коррумпьютер» и др. Да и «Солярис» стал уже философским термином – как образ-метафора чего-то абсолютно неизведанного в Космосе и предощущения грядущего контакта с инопланетным разумом, как модель кантовской «вещи-в-себе»[354].
Многие высказывания Лема, поражающие своей оригинальностью и меткостью, принадлежат канону польской афористики. Если задаться целью и собрать афоризмы из всех произведений писателя, то можно было бы смело поставить Станислава Лема рядом с польским классиком этого жанра Станиславом Ежи Лецем. Например, «Суть старости в том, что приобретаешь опыт, которым нельзя воспользоваться»; «Секретарша была так красива, словно не умела даже печатать на машинке»; «Цивилизацию создают идиоты, а остальные расхлебывают кашу»; «Не может быть справедливости там, где есть закон, провозглашающий полную свободу»; «Не существует малого зла. Этику не измеришь арифметикой»; «Война – это наихудший способ получения знания о чужой культуре»; «Если что-либо, от атома до метеоритов, пригодно к использованию в качестве оружия, то оно будет таким образом использовано»; «Человек – существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается»; «Технология – это независимая переменная цивилизации»; «Чем более продвинуто технически (совершеннее!) средство, тем более примитивные, никчемные и бесполезные сведения при его помощи передаются»; «То, ЧТО мы думаем, всегда намного менее сложно, нежели то, ЧЕМ мы думаем»; «Если ад существует, то он наверняка компьютеризирован»; «Мир нужно изменять, иначе он неконтролируемым образом начнет изменять нас»; «Будущее всегда выглядит иначе, нежели мы способны его себе вообразить» или более развернутые (и менее известные): «Партии в нашей системе не представляют интересов общества иначе, чем случайно. Свои собственные стремления и желания они подсовывают плюралистическому обществу как якобы его интересы. Вцепившиеся друг в друга, представляют отдельное общество, нужное только самому себе»; «Глобализация есть не что иное, как ограничение суверенитета отдельных государств для защиты их от серьезных катастроф, перенаправление которых одними обществами на другие является любимой забавой людей, особенно находящихся у власти».
Станислав Лем очень критично относился к написанному, особенно к литературным текстам. Написал он гораздо больше, чем опубликовал («больше книг написал и уничтожил в рукописи, чем издал»), но рукописи неудавшихся, по его мнению, произведений, вариантов опубликованного, черновики незаконченных произведений сжег собственноручно («Я уничтожаю все свои рукописи, все неудавшиеся попытки, не поддаваясь на уговоры передать этот колоссальный материал куда-нибудь на хранение…, оставив лишь то, чего мне не приходится стыдиться»). О некоторых таких произведениях или замыслах остались только следы-упоминания в статьях, но больше об этом информации содержится в письмах. Например, «в черновиках остались фрагменты нескольких лекций и целая лекция Голема, посвященная математике. Однако, – говорил Лем, – я очень скоро заметил, что здесь есть некоторая несоразмерность, которая заключается в том, что моя компетенция в области самых ярких проявлений современной математики недостаточна, а с другой стороны, при всей своей недостаточности она будет совершенно неудобоваримой для очень многих. Появление таких лекций создало бы дихотомию: для выдающихся математиков предложенное будет недостаточным, а для всех остальных читателей – совершенно непонятным. Это такая шутка чертовой герменевтики, что я не отважился отправить написанное в печать». Или, например, в проработке были вот такие темы с достаточно неожиданным воплощением, о чем Лем писал своему американскому переводчику в конце 1977 г.: «Когда я прочитал всего маркиза де Сада и убедился, каким же он был убогим писателем, совершенно не художником, а просто извращенцем, который примитивным образом удовлетворял свое противоестественное «танатологическое» libido, и потом, когда от Вас услышал о Вашей же концепции сказки об Ужасном Чудовище, с которым герой крутил роман – пожалуй, именно тогда меня посетила мысль, что Настоящая, то есть ДЬЯВОЛЬСКАЯ, порнография вообще до сих пор еще не написана. Как, скажем, не золото и валюта являются теми приманками, на которые дьявол действительно успешно ловит наши души, так же и ни космическое преувеличение генитальной сферы, ни энциклопедическое представление садистским (от де Сада) образом задаваемых мучений не являются порнографией Из Ада Родом. И подумал я о весьма порядочном, интеллигентном, солидном, благородном типе, который всю свою продолжительную жизнь был бы примерным гражданином, отцом, мужем, сыном, коллегой, а этот ад носил бы с собой, имел бы его только в душе. В определенном смысле это было бы воплощение, противоположное тому, что у Рота [Филипа в романе «Грудь». – В.Я.], ведь его онанист был весь наружу, экстраверт, эксгибиционист, открыт, а мой же герой должен был бы до конца жизни никому ничего не выдать из своих мыслей, и этими своими мыслями должен был грешить, ужасным и одновременно гротескным и смешным способом – с дьяволом внутри себя должен был подвергнуться Искушению внешними обстоятельствами – это не сложно организовать. И так бы он стал диссидентом, поднявшимся даже выше, чем хотел, выше Гитлера, и тогда, когда уже мог безнаказанно и с осознанием своей безнаказанности получать то delectation diabolica [дьявольское наслаждение (лат.) – В.Я.] – ничего бы не сделал. Это была бы, одним словом, показанная на Таком Примере ситуация писателя, который, однако, ничего не пишет потому, что то, о чем он пишет, он не может реализовать – внутренний мир его представлений имеет абсолютную автономию, которая суррогатом чего-либо вне его не является. Год назад я даже набросал черновики этого произведения, и забросил… Хотел также собственное творчество, определенные его части, принять в качестве объекта Мрачных Испытаний, чтобы те же самые ситуации, например, из путешествий Тихого, изобразить, но совершенно с другой стороны, чтобы показать как изменение точки зрения становится изменением населяемого мира. И даже это достаточно много проработал, потому что накопилось уже четыре портфеля черновиков. Некоторые эскизы были поразительным образом подобны сегодняшнему реальному положению дел, особенно в сфере таких экстремальных явлений, как терроризм. Все это лежит на полках в моем кабинете. И много других вещей…»
Но, увы, все эти уже напечатанные на пишущей машинке материалы завершили свое существование в костре на лужайке около дома писателя в Кракове. Но осталось очень много копий писем (по оценкам секретаря писателя – порядка шести десятков тысяч (!!!); всю жизнь все свои тексты и письма Станислав Лем печатал на машинке (к счастью, под копирку), так что исследователям творчества писателя, возможно (если наследники дадут на то согласие), предстоит еще много открытий.
Характеризуя личность Станислава Лема, следует отметить, что центр его мира очевидным образом находился вне его, его воля была направлена в окружающий мир. В качестве анекдота Лем рассказывал, что в одном из писем из Америки его сын жаловался матери, «что отец, вместо того, чтобы писать о своей личной жизни или расспрашивать о сыне, пишет о галактиках, о черных дырах, об искривлении пространства». На что жена Лема ответила, что «личной жизнью твоего отца и являются именно черные дыры и галактики». Лем также говорил: «Я из тех сумасшедших, которые выходят за рамки личной жизни» и «пользуясь терминологией с советских времен, могу о себе сказать, что являюсь космополитом; меня интересует судьба человечества» или иначе: «Перипетии отдельных людей меня мало интересуют, всем для меня являются проблемы мира, конечно же, человеческого, хотя и не только». На протяжении всей своей жизни Лем ставил перед собой и отвечал на вопрос «Что можно сделать?», а не на вопрос «Что я должен делать?». Своих антиподов – центр мира которых находится внутри их – Лем недолюбливал, тем более писателей: «Большинство писателей занимаются тем, что ходят по дороге с зеркалом. Меня это не интересует. Мои личные переживания и жизненные переплеты – это глупость», «писатель – не тот, кто носит по дорогам зеркало, чтобы в нем отражались люди, а тот, кто говорит своему обществу и своему времени вещи, до которых никто раньше не додумался».
Относительно темперамента Лема можно определить, как склонного к размышлениям сангвиника. В полном соответствии с определением этого типа людей его можно охарактеризовать как человека, обладающего высокой психической активностью, энергичностью и уравновешенностью одновременно, работоспособностью, быстро реагирующего на окружающие события, сравнительно легко переживающего неудачи и неприятности. В состояние гнева впадал легко («Я действительно бываю суров и поэтому время от времени спускаю кого-нибудь с лестницы. Разумеется, не в прямом, а в переносном смысле». «Размышляя о разных неприятных вещах, могу в середине ночи прийти в состояние такой злобы, что не засну до утра»). Под его «горячую руку» попадали многие ведущие литературные критики и целые редакции периодических изданий и издательств, с которыми он разрывал отношения. Однако обиды долго не держал, и к обоюдному удовольствию отношения в большинстве случаев восстанавливались.
Станислав Лем был счастлив в семье, был в большой мере домашним человеком, в его обязанности входила покупка (а во времена ПНР «добывание») и доставка продуктов питания, не очень-то любил путешествовать, но на разных личных автомобилях, как сказал в одном из интервью, проехал полтора миллиона километров, т. е. «сорок раз вокруг Земли»; так и не побывал в Америке, хотя приглашался туда неоднократно на различные мероприятия и для чтения лекций, но в Европе посетил многие страны (благодаря и на радость жене, которая путешествовать любила и даже вела дневники в таких поездках). О некоторых таких поездках имеются опубликованные статьи – дорожные фельетоны. Глава семьи упорно не хотел иметь детей, об этом он писал: «Я очень долго не решался завести ребенка, и мы вместе с женой воздерживались от этого, как люди, способные к мышлению, да еще и пережившие немецкую оккупацию, поскольку этот мир вообще-то представляется местом, очень плохо устроенным для принятия людей, особенно если учесть именно тот опыт, который стал нашим уделом». Но жена все-таки была иного мнения. Единственный сын родился, когда писателю было уже 47 лет, причем – удивительное совпадение – в самый разгар антисемитской кампании в Польше. Относительно семейной жизни Лем поучал: «Жена права принципиально именно потому, что является женой, а не в зависимости от сути дела. Однако ни за какие блага ей нельзя давать понять, что придерживаетесь именно этой максимы – это сразу же сыграет против вас. Следует всячески убеждать ее, что она права на 99,999 %, но никогда – на 100 %. Это выстраданная мною на практике и никогда не подводившая оптимальная позиция. Издержки этого разные – все зависит от возраста, характера и интеллектуального состояния». В 2003 г. Станислав и Барбара Лем отпраздновали «золотую свадьбу».
В обычном понимании Лем был неверующим (агностиком), хотя духовно был связан с католицизмом. Считал не все религии равнозначными, нравился ему буддизм за «почитание всего живого, независимо от того, кем оно является» (здесь же Лем добавил: «Очень не люблю время, когда приближается Рождество и нужно покупать карпа. А потом дать его кому-нибудь, чтобы убил, потому что я сам никогда на него руку не поднял бы. Использование кого-то другого, его руки – это ужасно. А что поделаешь – мы же являемся ужасными хищниками!»). «И в последнее время – говорил Лем, – я пришел к выводу, что христианство лучше, чем ислам, хотя доказать это очень трудно, ибо в исламском рае есть гурии и другие удовольствия подобного рода. Зато в христианском раю довольно строго, поэтому я предполагал массовые побеги. Но сегодня обстановка сильно обострилась, и надо благодарить Бога, что мы живем в католической стране, что женщины не должны ходить в черных простынях или саванах, как в Иране, а мы не должны по два раза в день падать на колени носом по направлению к Мекке, что, возможно, является признаком покорности, но если бы – живя там – я заявил, что являюсь агностиком, то тем самым подписал бы себе смертный приговор через забрасывание камнями или мне бы отсекли руку. Жаловаться не на что, с этой точки зрения мы родились еще не в самом худшем месте мира». Лем не соглашался с позицией католических священников по вопросам контрацепции и абортов, был сторонником эвтаназии и смертной казни (понятно, что с определенными ограничениями)[355].
Станислава Лема отличало исключительное чувство юмора. Станислав Бересь, соавтор книги «Так говорил… Лем», отмечал, что ни с кем из писателей он так много не смеялся, хотя беседовал почти со всеми современными польскими авторами. Также Лем отличался образностью речи. Например, его друг писатель Я.Ю. Щепаньский в своем дневнике еще в далеком 1953 г. записал: «Сегодня у меня был Лем. Любую тему он может сразу же проиллюстрировать примером, который сам по себе является парадоксальным, живым анекдотом. Такое шифрование понятий позволяет избежать нудных и плоских выводов. Это какая-то par excellence [исключительно (лат.). – В.Я.] литературная способность, которой мне не хватает»[356].
Накопленные знания и аналитический склад ума привели к тому, что в последние годы жизни Лем иногда во сне беседовал с сильными мира сего, историческими личностями или величайшими представителями мира науки (об этом Лем, по словам его сына[357], рассказывал своим домочадцам по утрам за завтраком). Его собеседниками были Владимир Путин, Джордж Буш, Ангела Меркель, он разговаривал с Иосифом Сталиным, спорил с Уинстоном Черчиллем, рассуждал с Максом Планком. Фактически это было почти так же, как в романе «Осмотр на месте» (опубликованном в 1981 г.), в котором главный герой Ийон Тихий в долгом космическом полете коротает время в беседах с виртуальными моделями великих мыслителей: его собеседниками были Бертран Рассел, Карл Поппер, Пауль Фейерабенд, Уильям Шекспир.
Поражает трудоспособность, которую проявлял Станислав Лем в последний период своего творчества. Он максимально пытался использовать оставшееся ему время («У меня нет более ценной субстанции, чем время»). И уже только в XXI веке – то есть на девятом десятке лет жизни – он опубликовал более 500 статей (2–3 статьи еженедельно), а ведь в это же время было еще написано (точнее, надиктовано секретарю) и множество писем, дано большое количество интервью. Действительно, права была жена Станислава Лема пани Барбара, которая еще в конце далеких семидесятых годов прошлого века проницательно выдвинула предположение, что со временем у ее мужа появилось ощущение миссии. «Миссии в том смысле, – повторял вслед за женой Станислав Лем, – что я пришел, чтобы сказать некоторые вещи, люди должны это выслушать, а затем мир должен быть… может быть, не спасен и исправлен, но все-таки мне удастся посодействовать общему исправлению мира». Но слушал ли мир Станислава Лема?..
* * *
Всего Станислав Лем опубликовал около 40 произведений крупной формы (романы, повести, пьесы, киносценарии, научные монографии), около 150 рассказов (в том числе в составе различных циклов), около 400 интервью и около 1500 статей (в том числе около 100 было опубликовано на других языках, главным образом на немецком и русском). К настоящему времени на русском языке полностью или частично в книгах и периодических изданиях опубликовано около 400 статей С. Лема, в том числе 278 статей в следующих книгах Издательства АСТ (не учитываются повторные книжные публикации статей):
Лем С. Молох. – М.: АСТ, 2005–2006, сер. «с/с Лем» и Philosophy, 781 c. – 92 статьи;
Лем С. Мой взгляд на литературу. – М.: АСТ, 2009, сер. «с/с Лем» и Philosophy, 857 с. – 68 статей;
Лем С. Раса хищников. – М.: АСТ, 2008, сер. Philosophy, 285 с. – 44 статьи;
В настоящем сборнике – 74 статьи.
Кроме этого, в послесловии к сборнику «Лем С. Хрустальный шар» (М.: АСТ, 2012, сер. «с/с Лем», 700 с.) впервые на русском языке цитируются фрагменты более чем из 20 статей, а в настоящем послесловии – более чем из 10 статей.
* * *
Ниже приведены библиографические данные статей и рассказов настоящего сборника по главам в следующем виде: номер по порядку в главе, через тире название статьи на русском языке, через тире данные о первых публикациях в периодических изданиях и книгах (на польском, немецком и английском языках), далее, по необходимости, комментарий и данные о предшествующей публикации на русском языке. Если сведения о публикации на русском языке не приведены, то это значит, что на русском языке статья публикуется впервые.
I. Станислав Лем рассказывает
1 – «Я – Казанова науки» (интервью) – «Jestem Casanovą nauki» (wywiad ze S. Lemem). – в книге «Oramus M. Bogowie Lema». – Przeźmierowo: Wydawnictwo KURPISZ, 2007, s. 33–49 (первая публикация: Откровенный разговор с мудрецом… – Szczera rozmowa z mędrcem… / Wywiad ze S. Lemem. – Playboy (Warszawa), 1995, № 10, s.3 8–48).
2 – Мысли о литературе, философии и науке (интервью) – Reflections on Literature, Philosophy and Science (interview with S.Lem). – в книге «Swirski P., A Stanislaw Lem Reader». – Evanston, Ill.: Northwestern UP, 1997, p.21–66. В англоязычном мире это наиболее известное и наиболее цитируемое интервью с писателем.
3 – «Весь этот философский хлам» (интервью) – Der ganze Kram der Philosophie. Ein Gespräch mit Stanislaw Lem. – WESER-KURIER Magazin (Bremen), 19.08.1995, s.2. Также в книге «Приглашение к размышлению – небольшой экскурс в аналитическую философию» – «Einladung zum Denken – ein kleiner Streifzug durch die Analytische Philosophie». – Wien: Verlag Hölder-Pichler-Tempsky, 1998, s.195–217 (mit gleichnamigem Videofilm) [14 интервью с философами].
4 – Универсальность мира Достоевского (интервью) – Uniwersalizm świata Dostojewskiego (wywiad ze S. Lemem). – Przyjaźń (Warszawa), 1971, № 43, s.11.
Много бесед со Станиславом Лемом имеется в книге «Так говорил… Лем». – М.: АСТ, 2006, 764 c. В ней же (на с. 752–762) – библиография опубликованных на русском языке интервью с писателем.
II. Станислав Лем размышляет
1 – От эргономики до этики – Od ergonomiki do etyki. – BruLion (Kraków), 1990, № 14/15, s. 76–84. Текст является измененной версией ранее опубликованного на русском языке: Станислав Лем: «Не может быть рая на Земле» / Письменный ответ на вопросы редакции. – Огонек (М.), 1989, № 13, с.26–28, – при этом польский текст больше русского на 13 %, а общий текст двух вариантов составляет 55 %. Русский вариант заканчивается следующими словами: «Россия была страной могучих талантов; и могучими, наверное, были силы, заставившие ее молчать. Наступает время, когда Россия может заговорить снова».
2 – Урок катастрофы – P. Znawca, Lekcja katastrofy. – Kultura (Paryż), 1986, № 6, s. 9–16. Статья написана «по горячим следам» катастрофы на Чернобыльской АЭС во время пребывания C. Лема с семьей в Австрии и опубликована под псевдонимом (П. Знаток) в польскоязычном оппозиционном ежемесячном журнале «Культура», издававшемся в Париже под редакцией Ежи Гедройца.
3 – Антропный принцип – Zasada antropiczna. – Wiedza i Życie (Warszawa), 1989, № 5, s.6–9.
4 – Предисловие впоследствии – Vorwort im Nachhinein – в книге «Informations und Kommunikationsstrukturen der Zukunft. Bericht anlässlich eines Workshop mit Stanislaw Lem». – München: Wilhelm Fink Verlag, 1983, s. 9–13. Предисловие к сборнику материалов научного семинара «Информационные и коммуникативные структуры будущего», состоявшегося в сентябре 1981 г. в Западном Берлине и посвященного творчеству С. Лема.
5 – Озарение и мозг – Iluminacja i mózg. – Tygodnik Powszechny (Kraków), 2001, № 19.
6 – Искусственный интеллект – Состоит из двух статей: 1) Sztuczny belkot. – Przekrój (Warszawa), 2002, № 29, s. 74; 2) Modele i rzeczywistość – там же, 2002, № 19, s.74. Обе статьи публиковались на русском языке: 1) «Искусственный лепет». – Компьютерная газета (Минск), 2004, № 51; 2) «Модели и действительность». – Компьютерная газета (Минск), 2004, № 49, с. 4; Компьютерра (М.), 2005, № 8, с.54–55.
7 – Бессмертие – Состоит из четырех статей: 1) Lem S. Co Pan na to, Panie Lem? (Prypadłości obecnie zabójcze…). – Przekrój (Warszawa), 2001, № 19, s. 82; 2) Lem S. Starość nadal nie radość. — там же, 2002, № 24, s. 74; 3) Przedlużanie życia: iluzje i fakty. – Znak (Kraków), 2003, № 9, s. 38–41; 4) Lem S., Czy będziemy żyć dłużej? – Przegląd (Warszawa), 2005, № 32.
8 – Во что верит тот, кто не верит? – Listy do Stanisława Obirka SJ. – Życie Duchowe (Kraków), 2001, № 26. Также в книге «Что нас объединяет? Диалог с неверующими» – «Co nas łączy? Dialog z niewierzącymi». – Kraków: Wydawnictwo WAM, 2002, s. 117, 119–120, 123–124, 126, 186–187, 189, 193.
9 – О детективном романе – O powieści kryminalnej. – в книге «Lem S. Wejście na orbitę». – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1962 (В качестве примечания – начало «Неудавшегося детектива» – «Lem S. Sknocony kryminał. Dzieła, Tom XVI». – Warszawa: Agora SA, 2009, s.4).
III. Станислав Лем рецензирует
1 – Рецензия на «Дневник и различные наблюдения» Т.А. Эдисона. – Rec.: Edison T.A. The Diary and Sundry Observation. – Życie Nauki (Kraków), 1948, № 35/36, s.472–473.
2 – Рецензия на «Левую руку тьмы» У. Ле Гуин – Rez.: U.K. Le Guin: The Left Hand of Darkness. – Quarber Merkur (Wien, Frankfurt am Main), 1971, № 25, s. 68–70.
3 – О романе «Дыра в нуле» М.К. Джозефа – M.K. Josephs Roman «The Hole in the Zero» – там же, 1971, № 27, s. 22–26.
4 – Рецензия на «Похитителей завтрашнего дня» С. Комацу – Rez.: S. Komatsu: Pochititeli zavtrasnego dnja – там же, 1971, № 27, s. 69–70.
5 – Рецензия на «Время перемен» Р. Силверберга – Rez.: R. Silverberg: A Time of Changes – там же, 1972, № 31, s. 89–91.
6 – Рецензия на «Игру со страхом» М. Выдмуха – Rez.: M. Wydmuch: Gra ze strachem – там же, 1976, № 43, s. 65–67.
7 – Рецензия на «Земную Империю» А. Кларка — Rez.: A.C. Clarke: Imperial Earth – там же, 1977, № 47, s.7 6–79.
8 – Рецензия на «Марсианский Инка» Й. Уотсона – Rez.: I. Watson: The Martian Inca – там же, 1979, № 50, s. 65–66.
9 – Рецензия на «Космическую революцию» У.С. Бейнбриджа – Rez.: W.S. Bainbridge: The Space Flight Revolution – там же, 1979, № 50, s. 80–82.
10 – Прочитал «Любовь в Крыму» С. Мрожека – Lem S., Przeczytałem «Miłość na Krymie». – Dialog (Warszawa), 1993, № 12, s. 105–108.
IV. Станислав Лем рекомендует
1 – Послесловие к «Убику» Ф. Дика — Posłowie – в книге «Dick Ph.K. Ubik». – Kraków: Wydawnictwo literackie, 1975, s. 243–264.
2 – Послесловие к «Необыкновенным рассказам» С. Грабинского – Posłowie – в книге «Grabiński S. Niesamowite opowieści». – Kraków: Wydawnictwo literackie, 1975, s. 337–345.
3 – Послесловие к «Рассказам старого антиквара» М.Р. Джеймса – Posłowie – в книге «Rhodes J.M. Opowieści starego antykwariusza». – Kraków: Wydawnictwo literackie, 1976, s. 231–234.
4 – Послесловие к «Пикнику на обочине» А. и Б. Стругацких – Posłowie – в книге «Strugackij A., Strugackij B., Piknik na skraju drogi; Las». – Kraków: Wydawnictwo literackie, 1977, s.265–288.
5 – Послесловие к «Волшебнику Земноморья» У. Ле Гуин — Posłowie – в книге «Le Guin U.K. Czarnoksiężnik z Archipelagu». – Kraków: Wydawnictwo literackie, 1983, s.191–198 (В качестве примечания – фрагмент письма С. Лема У. Ле Гуин – в книге «Lem S. Der Widerstand der Materie. Ausgewählte Briefe». – Berlin: Parthas Verlag, 2008, s.117–119).
Послесловия 1–5 были написаны специально для серии книг «Станислав Лем рекомендует» («Stanisław Lem poleca»), но издание серии было прекращено по политическим причинам. Подробности – в статье «Мой взгляд на литературу» в одноименной книге С. Лема.
6 – Предисловиек антологии фантастических рассказов – Vorwort – в книге «Ist Gott ein Taoist?» / Hrsg. Lem S. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1988, s.7–12. Писатель выступил составителем антологии.
V. Станислав Лем вспоминает
1 – В стране памяти — W krainie pamięci – в книге «Энциклопедия приграничья» – «Encyklopedia kresów». – Kraków: Wydawnictwo Kluszczyński, 2004, s. 5–8.
2 – Моя львовская библиотека – Moja lwowska biblioteka. – Pismo (Kraków), 1981, № 2, s.103–105. Воспоминания о чтении в детстве имеются также в статье «Книги детства» в книге «Лем С. Мой взгляд на литературу»
3 – Сигара и англезы – Cygaro i anglasy. – Wysokie obsacy (Warszawa), 2000, № 6, s. 35.
4 – Мои рождественские ели – Moje choinki. – Przegląd (Warszawa), 2002, № 50.
5 – Приятный кошмар – Sympatyczny koszmar. – Tygodnik Powszechny (Kraków), 2002, № 44 (В качестве комментария полностью статья: Donos na samego siebie. – Gazeta Wyborcza (Warszawa), 2002, № 240).
6 – Закат целомудрия – Zmierzch niewinności. – Tygodnik Powszechny (Kraków), 2001, № 1 4.
7 – Жизнь в вакууме – Życie w próżni. – там же, 2003, № 35.
8 – Воспоминание о Мечиславе Хойновском – Wspomnienie o Mieczysławie Choynowskim. – там же, 2001, № 49.
9 – Так было – Rozważania sylwiczne XVIII. – Odra (Wrocław), 1993, № 11. Также под названием «Tak było» в книге «Lem S., Sex Wars». – Warszawa: NOWA, 1996, s. 223–231. Воспоминания о поездках в СССР имеются также в статье «Воспоминания» в сборнике «Книга друзей». – М.: Правда, 1975, с. 249–255.
10 – Иоанн Павел II – Jan Paweł II. – Przegląd (Warszawa), 2005, № 15.
VI. Станислав Лем критикует
1 – Сферомахия – Sferomachia. – Tygodnik Powszechny (Kraków), 2001, № 7. Статья публиковалась на русском языке: Известия (М.), 2001, № 104, с. 7; Компьютерная газета (Минск), 2001, № 28, с. 4; Во славу Родины (Минск), 2001, № 212, с. 3.
2 – Крайний идиотизм – Ostatni idiotyzm. – Przekrój (Warszawa), 2002, № 20, s. 74.
3 – Упадок искусства – Sztuka upodlona. – там же, 2002, № 36, s. 74.
4 – Сайентология – Scjentologia. – Kultura (Paryż), 1997, № 10, s. 114–119.
5 – Исключительно особое мнение – Votum separatissimum. – Przegląd (Warszawa), 2002, № 18 (В качестве примечания полностью статьи: 1) O eutanazji. – Polityka (Warszawa), 2000, № 46, s. 9; 2) O karę śmierci! – Gazeta Wyborcza (Warszawa), 2002, № 204; Klony – там же, 2002, № 89; Dziwna korelacja. – там же, 2003, № 227).
6 – Тайное совещание в аду (сатирический рассказ) – Geheime Höllensache. – NZZ Folio (Zurich), 1993, № 1.
VII. Станислав Лем советует
1 – Беспокойство – Niepokoje. – Tygodnik Powszechny (Kraków), 2000, № 15, s. 6.
2 – Ухабы цивилизации – Состоит из четырех статей: 1) Wyboje cywilizacji. – Przekrój (Warszawa), 2002, № 30, s. 74; 2) Co Pan na to, Panie Lem? (Nie przeprowadzono…). – там же, 2001, № 15, s. 82; 3) Co Pan na to, Panie Lem? (Oszustwa naukowe…). – там же, 2001, № 16, s. 82; 4) Rozważania sylwiczne XLIII. – Odra (Wrocław), 1996, № 2 (фрагмент – только часть 3; фрагмент публиковался в книге «Лем С. Молох», статья полностью – в книге «Лем С., Мой взгляд на литературу»).
4 – Синтетическое топливо – Syntetyczne paliwa. – Przegląd (Warszawa), 2005, № 41.
5 – Атомы для Польши – Atomy dla Polski – там же, 2006, № 4.
6 – Доктрина и практика – Doktryna i praktyka. – там же, 2006, № 7 (В качестве примечания полностью статья: Oszołomy, do władzy. – Gazeta Wyborcza (Warszawa), 2002, № 253.) Эта статья – последняя из продиктованных С. Лемом своему секретарю, датируется 9 февраля 2006 г. На следующий день писатель попал в больницу, из которой уже не вернулся.
VIII. Станислав Лем удивляется
1 – Удивление – Zdziwienie. – Pismo (Kraków), 1983, № 3, s. 96–98.
2 – Музыка генов – Muzyka genów. – Tygodnik Powszechny (Kraków), 2001, № 8.
3 – Паразиты – Co Pan na to, Panie Lem? (Niepokoi pytanie…) [Pasożyty]. – Przekrój (Warszawa), 2001, № 22, s. 82.
4 – Динозавры – Co Pan na to, Panie Lem? (Tym razem…) [Dynozaury]. – там же, 2000, № 50, s. 66.
5 – Удивительное – Zdziwienia. – Tygodnik Powszechny (Kraków), 2003, № 29.
IX. Станислав Лем прогнозирует
1 – Перспективы будущего – Perspektywy przyszłości. – Nowa Kultura (Warszawa), 1954, № 36, s. 2.
2 – Предварительный анализ XXI века – Vorschau auf das nächste Jahrhundert. – в книге «Прошлое будущего» – «Lem S., Die Vergangenheit der Zukunft». – Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1992, s. 133–144 (первая публикация: Metall Jubildumausgabe, 1990, s. 7–10).
3 – Пальцем в небо – Состоит из трех статей: 1) Co Pan na to, Panie Lem? (Osobom, które piszą…) – Przekrój (Warszawa), 2000, № 46, s. 62; 2) Lem S. Rozważania sylwiczne XC. – Odra (Wrocław), 2000, № 5; 3) Lem S. Rozważania sylwiczne CXXXV. – Odra (Wrocław), 2004, № 10.
4 – Вопросы и прогнозы – Pytania i prognozy. – Tygodnik Powszechny (Kraków), 2003, № 50.
5 – Футурология у рулетки – Przy ruletce – próba futurologiczna. – Przekrój (Warszawa), 2002, № 22, s. 74. Статья публиковалась на русском языке (в другом переводе): «Колесо Фортуны. Футурологический прогноз». – Вестник SETI (М.), 2003, № 5/22-6/23.
6 – На Марс? – Na Marsa? – Tygodnik Powszechny (Kraków), 2004, № 5.
7 – Мир в XXI веке – Świat w przyszłym stuleciu – в книге «Книга будущего» – «Księga przyszłości». – Warszawa: Netia Telekom SA, 1999, s. 16–17.
X. Станислав Лем мечтает
1 – Офис Пегаса – Urząd Pegaza. – Przekrój (Kraków), 1974, № 1514, s.14.
2 – Три моих желания – Moje trzy życzenia – там же, 1980, № 1863, s.17.
3 – Исполненные желания – Spełnione życzenia. – Tygodnik Powszechny (Kraków), 1992, № 17, s.10.
4 – Как усовершенствовать демократию? – Jak demokrację usprawnić? – там же, 1992, № 13, s.10.
5 – Десять пожеланий на новое тысячелетие – 10 życzeń Pana Lema na nowe tysiąclecie. – Przekrój (Warszawa), 2000, № 52/53. Статья публиковалась на русском языке: Компьютерная газета (Минск), 2001, № 37, с. 5; Компьютерра (М.), 2001, № 38, с. 17; Химия и жизнь – XXI век (М.), 2004, № 9, с. 24 (под названием «Список десяти самых нужных в новом тысячелетии изобретений»); в книге «Лем С. Молох».
XI. Станислав Лем шутит
1 – На тему «Астронавтов» – W sprawie «Astronautów». – Problemy (Warszawa), 1953, № 10, s. 708.
2 – Переучет – Состоит из двух статей: 1) Felieton remanentowy. – Zdarzenia (Kraków), 1957, № 16, s. 2; 2) Felieton remanentowy – там же, 1958, № 36, s. 2.
3 – Три письма Славомиру Мрожеку – Lem S., Mrożek S., Listy 1956–1978. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2011, s. 21–23, 26–28, 76–77.
4 – Из меню Бабы-яги – Z jadłospisu Baby-Jagi. – Przekrój (Warszawa), 2002, № 17, s. 74 (В качестве комментария – 6 диктантов из книги «Lem S., Dyktanda czyli… w jaki sposób wujek Staszek wówczas Michasia – dziś Michała – uczył pisać bez błędów» – Kraków, Wydawnictwo «Przedsięwzięcie Galicja», 2001, s. 27, 33, 45, 48, 61, 81).
5 – Спасение – Ratunek. – Tygodnik Powszechny (Kraków), 1992, № 11, s. 10.
6 – К вопросу о глупости – W sprawie głupoty. – там же, 1992, № 27, s. 10.
7 – Трактат о заднице – Traktat o dupie. – Przekrój (Warszawa), 2002, № 40, s. 74.
XII. Станислав Лем повествует
1 – Два молодых человека (рассказ) – Dwuch młodych ludzi – в книге «Lem S., Polowanie». – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1965.
2 – Матрас (рассказ) – Materac – в книге «Lem S., Zagadka». – Warszawa: Interart, 1996.
3 – Последнее путешествие Ийона Тихого (рассказ) – Ostatnia podróż Ijona Tichego. – Playboy (Warszawa), 1999, № 5, s.82–89.
Рассказы 1–3 публиковались в книге «Лем С. Молох» (в ней же – библиография предыдущих публикаций этих рассказов).
4 – Господин Ф. (рассказ) – Pan F. – Tygodnik Powszechny (Kraków), 2004, № 33. Рассказ публиковался в книге «Лем С. Мой взгляд на литературу».
5 – Тобина (рассказ) – Die Tobine. – в книге «Lem S. Die Ratte im Labyrinth». – Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1982, s. 148–154. Рассказ публиковался на русском языке: Полдень. XXI век (М.), 2012, с. 145–152.
6 – Черное и белое (рассказ) – Czarne i białe (перевод с рукописи, 1983). Рассказ публиковался на русском языке: Млечный Путь (Иерусалим), 2012, с. 180–186. Рассказ публиковался на немецком языке в 1984 г.
XIII. Приложение
1 – Околовский П., Теология дьявола Станислава Лема (о рассказе «Черное и белое») – Okołowski P., Stanisława Lema teologia diabła (перевод с рукописи, 2011). Статья опубликована на русском языке: Млечный Путь (Иерусалим), 2012, с.187–191. Получив от наследников текст рассказа «Черное и белое», переводчик посчитал нужным обратиться к доктору философии за комментарием, который и был получен в виде этой статьи. Уже в процессе работы над настоящей книгой рассказ С. Лема вместе с комментарием философ Павел Околовский опубликовал на польском языке в качестве приложения к своей книге, в которой много внимания уделено и философским взглядам С. Лема: Okołowski P. Między Elzenbergiem a Bierdiajewem. Studium aksjologiczno-antropologiczne. – Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii UW, 2012. 356 s.
Некоторые из перечисленных в главах II–IX статей впоследствии публиковались (некоторые с изменением названия) в следующих изданных в Польше прижизненных сборниках, состав которых был согласован с пиСатеЛЕМ:
1) «ДиЛЕМмы» – Lem S. DyLEMaty. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2003, 290 s. (в книге 58 статей) – 12 статей: II.5, II.6.1 (под названием «Artificial Intelligence»), II.7.1 (под названием «Nieśmiertelność»), VI.1, VI.2, VI.3 (под названием «Upadek sztuki»), VII.1, VII.2.2 (под названием «Magicy i szarłatany»), VII.2.3 (под названием «Hochsztaplerzy»), VIII.1, IX.3.1 (под названием «Kulą w płot»), IX.3.2 (под названием «Następne dwieście lat»).
2) «Короткие замыкания» – Lem S. Krótkie zwarcia. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2004, 427 s. (в книге 101 статья) – 10 статей: II.5, V.5, V.6, V.7, V.8, VI.1, VII.1, VIII.1, IX.4, IX.6.
Примечания
1
Lem S., Oramus M. «Jestem Casanovą nauki», 1995. © Перевод. Язневич В.И., 2012.
Орамус Марек (род. в 1952 г.) – польский писатель-фантаст и журналист, автор книги о С. Леме («Боги Лема» – Oramus M. Bogowie Lema. – Przeźmierowo: KURPISZ S.A., 2007. 262 s.), содержащей три интервью автора со С. Лемом, в том числе и предлагаемое вашему вниманию. – Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примечания переводчиков.
(обратно)2
«Новый мир приключений» (пол.) – в нем в 1946 г. в номерах 1–31 был опубликован первый роман С. Лема «Человек с Марса». – Здесь и далее названия произведений С. Лема на русском языке даны по изданиям, осуществляемым с 2002 г. издательством АСТ (г. Москва) в сериях «С/с Лем» и «Philosophy».
(обратно)3
Имеются в виду рассказы «Матрас» и «Последнее путешествие Ийона Тихого», включенные в настоящий сборник.
(обратно)4
Фантоматика (польск. Fantomatyka – от «фантом») – С. Лем сам ввел этот термин в «Сумме технологии» в начале 1960-х гг. Так он называл технологию, позволяющую менять ощущения, данные реальностью, на любые заранее заданные. – Примеч. ред.
(обратно)5
См.: Flessner B. Archäologia cyberspace. Anmerkungen zu Stanislaw Lems Phantomatik // Wirklichkeitsmaschinen: Cyberspace und die Folgen». – Weinheim, Basel: Beltz Verlag, 1993 (Zukunfts Studien, Bd.11), s.25–38.
(обратно)6
Книга была подготовлена в канадском Университете Макгилла, но вышла в США: «Свирски П. Читая Станислава Лема» (Swirski P. A Stanislaw Lem Reader. – Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 1997. 129 p.). Книга содержит два интервью автора со С. Лемом, одно из них включено в настоящий сборник («Мысли о литературе, философии и науке»).
(обратно)7
Грефрат Бернд, автор нескольких книг о С. Леме.
(обратно)8
Имеется в виду десятитомное (по плану, реально было издано тринадцать томов) Собрание сочинений Станислава Лема, которое в 1992 г. начало издавать московское издательство «Текст». Тираж первых томов был по 200 000 экз.
(обратно)9
Здесь С. Лем ошибается. Общий тираж книг писателя, изданных в СССР, составил 4 млн экз., еще 6 млн экз. – различные антологии (хотя, конечно, о многих изданиях этого периода, куда входили произведения С. Лема, сам он не знал). В России к настоящему времени (1992–2012) общий тираж книг, включающих произведения С. Лема, – около 3 млн экз.
(обратно)10
Американская ассоциация писателей-фантастов (англ.). Более подробно об этой истории см.: Лем С. Мой взгляд на литературу. – М.: АСТ, 2008, с. 822–824.
(обратно)11
21 апреля 1995 г.
(обратно)12
См. «О сверхчувственном познании» – в кн.: Лем С. Мой взгляд на литературу. – М.: АСТ, 2008, с. 437–461.
(обратно)13
Польское народное достояние (англ.)
(обратно)14
См. Так говорил… Лем. – М.: АСТ, 2006, с.12–15, 174–175, 284–287, 614–615, 678.
(обратно)15
Виртуальная реальность (англ.).
(обратно)16
До сих пор не переведены на английский язык.
(обратно)17
Smuszkiewicz A. Stanisław Lem. – Poznań: Dom Wydawniczy «Rebis», 1995. 163 s.
(обратно)18
Имеются в виду упоминавшиеся ранее Бернд Грефрат и Питер Свирски соответственно.
(обратно)19
«Три закона Лема» представлены в эссе «Одна минута человечества» (1982 г.). А впервые – в статье: Lem S. Posthuma I. – Pismo (Kraków), 1981, № 7, s. 110: «Относительно читающей общественности я вывел, опираясь на собственный опыт и опыт других, три закона чтения. Primo, никто ничего не читает. Secundo, если читает, то ничего не понимает. Tertio, если читает и даже понимает, то сразу же забывает… В этом диагнозе есть преувеличение, которого, впрочем, невозможно избежать, ибо при высказывании произвольного суждения опускается все остальное, то есть весь мир».
(обратно)20
Политическая корректность (англ.).
(обратно)21
Lem w oczach krytyki światowej. – Kraków: Wydawnictwo literackie, 1989. 299 s.
(обратно)22
Выразитель мыслей (фр.).
(обратно)23
Статья, известная также под названием «Маркиз в графе», – см. в кн.: Лем С. Мой взгляд на литературу. – М.: АСТ, 2008, с.113–146.
(обратно)24
На русском языке к настоящему времени (1963–2012) было 46 книжных изданий романа «Солярис» общим тиражом 2,4 млн экз., кроме этого, в СССР роман издавался на других языках общим тиражом 240 тыс. экз.: армянском (1965), латышском (1970), литовском (1978), грузинском (1979), молдавском (1981), украинском (1987) и эстонском (1989).
(обратно)25
См.: «Книги, которые я не напишу» (в кн.: Лем С. Молох. – М.: АСТ, 2005, с.701–702) или «Сильвические размышления XLIII: Моделирование культуры, или Книги, которые я не напишу» (в кн.: Лем С. Мой взгляд на литературу. – М.: АСТ, 2008, с. 663–665).
(обратно)26
Херберт Збигнев (1924–1998) – польский поэт, драматург, эссеист.
(обратно)27
Книга вышла под другим названием: Lem S. Sex Wars. – Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1996. 312 s.
(обратно)28
кстати (лат.).
(обратно)29
Имеется в виду развернувшаяся в Польше на государственном уровне антисемитская кампания – в рамках поиска врагов, виновных во все ухудшающемся положении граждан (а фактически в рамках борьбы за власть). В результате этой кампании большое количество граждан еврейского происхождения вынуждено было покинуть страну.
(обратно)30
Имеется в виду выезд С. Лема с семьей в Австрию в начале 1983 г. после установления в Польше военного положения (13.12.1981).
(обратно)31
Орден Строителей Народной Польши (Order Budowniczych Polski Ludowej) – высшая награда Польской Народной Республики (заменила орден Белого Орла). Последние награжденные орденом – в 1984 г.
(обратно)32
Lem S., Swirski P. Reflections on Literature, Philosophy, and Science, 1992. © Перевод. Язневич В.И., 2012.
Общественная организация (PPN, Polskie Porozumienie Niepodległościowe), созданная в 1976 г. за пределами Польши, поставившая своей целью восстановление реальной независимости Польши (от СССР), установление истинного народовластия и демократии. Деятельность «Соглашения…» была направлена в первую очередь на информирование граждан Польши, их образование. «Соглашение…» сыграло большую роль в формировании общественного мнения и в объединении граждан, что привело к реализации большинства поставленных задач к концу 1980-х гг. Станислав Лем принял непосредственное участие в деятельности «Соглашения…» в части подготовки аналитических документов. В частности, под псевдонимом «Chochoł» (Хохол, не без намека на то, в какой стране оказался сейчас город его детства) он опубликовал в 1978 г. два больших документа: «Прогнозы Хохла» и «Парадоксы советизации».
(обратно)33
В этом парижском польскоязычном ежемесячнике под псевдонимом «P. Znawca» (Пан Знаток) С. Лем в 1983–1988 гг. опубликовал 10 объемных статей с критикой марксизма-ленинизма и СССР. Одна из этих статей – «Урок катастрофы» – включена в настоящий сборник.
(обратно)34
Свирски Питер (род. в 1966 г.) – доктор филологии, профессор, автор и редактор-составитель нескольких книг о С. Леме, во время интервью – докторант Университета Макгилла (Канада).
(обратно)35
См.: Кэрролл Дж. Дитя в небе. – М.: Махаон, 2002. 352 с.
(обратно)36
Luce R. D., Raiffa H. Games and Decisions: Introduction and Critical Survey. – New York: Wiley, 1957. 509 p.
(обратно)37
Дух места и дух времени (лат.) соответственно.
(обратно)38
См. в кн.: Лем С. Мой взгляд на литературу. – М.: АСТ, 2008, с. 113–146.
(обратно)39
Jarzębski J. Zufall und Ordnung. Zum Werk Stanislaw Lems. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986. 219 s.
(обратно)40
Kołakowski L. Informacja i utopia. – Twórczość (Warszawa), 1964, № 11, s. 115–123.
(обратно)41
См. в кн.: Лем С. Молох. – М.: АСТ, 2005, с. 5–36; Лем С. Мой взгляд на литературу. – М.: АСТ, 2008, с. 462–494.
(обратно)42
Корпорация RAND (сокр. от Reseach and Development – научно-исследовательские разработки). RAND стала первой в мире «фабрикой мысли». Основана в 1948 г. (Санта-Моника, Калифорния). Занимается, в частности, разработкой и новейшими методами анализа стратегических проблем и новых стратегических концепций, а также проблемами политологии, экономики, психологии и т. д. – Примеч. ред.
(обратно)43
Имеется в виду немецкий физико-химик Манфред Эйген (род. в 1927 г.).
(обратно)44
Price D.J.d.S. Little Science, Big Science. – New York: Columbia University Press, 1963. 119 p. На русском языке: Прайс Д. Малая наука, большая наука // Наука о науке. – М.: Прогресс, 1996, с. 281–384.
(обратно)45
См. статью «О сверхчувственном познании» (впервые опубликована в 1974 г.) в кн.: Лем С. Мой взгляд на литературу. – М.: АСТ, 2008, с. 437–461.
(обратно)46
См. статью «На тему «Астронавтов»» в настоящем сборнике.
(обратно)47
Lem S., Brill O. u.a Der ganze Kram der Philosophie, 1995. © Перевод. Язневич В.И., 2012.
Беседа проходила с несколькими немецкими философами.
(обратно)48
Лем намекает здесь на так называемый парадокс Эйнштейна – Подольского – Розена: если две квантовые частицы имеют общее прошлое, возникнув в результате одного процесса, то согласно квантовой теории измерение на одной частице одновременно определяет состояние другой частицы, даже если они разделились уже давно, при этом неясно, как можно объяснить такой мгновенный телеметрический эффект. – Примеч. интервьюера.
(обратно)49
Верю, потому что это абсурдно (лат.).
(обратно)50
Верю, потому что это невозможно (лат.).
(обратно)51
Кривая Гаусса, по форме напоминающая колокол, отражает так называемое нормальное распределение определенного качества в определенной среде: вокруг среднего значения находится максимум, по краям кривая резко снижается – Прим. интервьюера.
(обратно)52
Rescher N. A Useful Inheritance: Evolutionary Aspects of the Theory of Knowledge. – Savage, MD: Rowman and Littlefield, 1990. – «Полезное наследство: Эволюционные аспекты теории познания» (англ.), в переводе на немецкий «Почему мы не умнее? Эволюционные преимущества глупости и мудрости»: Rescher N. Warum sind wir nicht klüger? Der evolutionäre Nutzen von Dummheit und Klugheit. – Stuttgart: Hirzel Verlag, 1994.
(обратно)53
Нечеткие множества или нечеткая логика (англ.) соответственно.
(обратно)54
Опубликуй или погибни (англ.).
(обратно)55
Фрагменты кометы упали на Юпитер в период с 16 по 22 июля 1994 г.
(обратно)56
В «Сумме технологии», глава «Интеллектроника».
(обратно)57
Характеристика отражательной способности поверхности.
(обратно)58
«Парк Юрского периода», США, 1993, режиссер Стивен Спилберг.
(обратно)59
Международная конференция по народонаселению и развитию в Каире состоялась с 8 по 13 сентября 1994 г.
(обратно)60
«Плодитесь и размножайтесь» (Бытие 1:20–23).
(обратно)61
Колаковский Лешек (1927–2009).
(обратно)62
Учение о конце мира.
(обратно)63
Воспоминания о Папе Римском – в статье «Иоанн Павел II» в настоящем сборнике.
(обратно)64
Lem S., Podgórzec Z. Uniwersalizm świata Dostojewskiego, 1971. © Перевод. Борисов В.И., 2012.
Подгужец Збигнев (1935–2002) – журналист, редактор, переводчик русской литературы на польский язык (в том числе книг Ф.М. Достоевского).
(обратно)65
В оригинале по-русски польскими буквами: «s żyru bjesiatsa».
(обратно)66
Американская ассоциация писателей-фантастов (англ.). Более подробно об этой истории см.: Лем С. Мой взгляд на литературу. – М.: АСТ, 2008, с. 822–824.
(обратно)67
См. рассказ «Существуете ли вы, мистер Джонс?» (написан в 1955 г.), например, в кн.: Лем С. Больница Преображения; Высокий замок; Рассказы. – М.: АСТ, 2003, с. 406–415.
(обратно)68
См. рассказ «Путешествие двадцать первое» (написан в 1971 г.), например, в кн.: Лем С. Приключения Ийона Тихого. – М.: АСТ, 2002, с. 205–261.
(обратно)69
За прошедшие более чем двадцать лет после написания этих строк ситуация изменилась. Во всем мире издано около 50 книг о творчестве С. Лема, наиболее значимые из них следующие: Грефрат Б. Еретик, дилетант и гений: Переступая границы философии (Gräfrath B. Ketzer, Dilettanten und Genies: Grenzgänger der Philosophie. – Hamburg: Junius, 1993. 360 s.); Яжембский Е. Вселенная Лема (Jarzębski J., Wszechświat Lema. – Kraków: Wydawnictwo literackie, 2002. 340 s.), его же Послесловия ко всем томам изданных в Польше двух Собраний сочинений писателя: последнего прижизненного (33 тома, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1998–2005) и первого посмертного (33 тома, Warszawa: Agora SA, 2008–2010); Плаза М. О познании в творчестве Станислава Лема (Płaza M., O poznaniu w twórczości Stanisława Lema. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. 578 s.); Околовский П. Материя и качество. Неолукреционизм Станислава Лема (Okołowski P. Materia i wartości. Neolukrecjanizm Stanisława Lema. – Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. 562 s.).
(обратно)70
Верящий в возможность усовершенствования мира (от лат. melioratio – улучшение).
(обратно)71
См. в кн.: Лем С. Фантастика и футурология. Кн. 2. – М.: АСТ, 2004, с. 193–239.
(обратно)72
Немецкая ежедневная газета, выходит с 1946 г.
(обратно)73
Zasada antropiczna, 1989. © Перевод. Язневич В.И., 2012.
Kołakowski L. Filozofia pozytywistyczna (Od Hume’a do Koła Wiedeńskiego). – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. 238 s.
(обратно)74
Filozofia pozytywistyczna – od Hume’a do Koła Wiedeńskiego // Studia Filozoficzne (Warszawa), 1967, № 2, s. 45–94 (рассуждения С. Лема на с. 69–82).
(обратно)75
Последнее прибежище (лат.).
(обратно)76
Настоящий текст представляет собой предисловие к сборнику материалов симпозиума «Информационные и коммуникативные структуры будущего» (Informations und Kommunikationsstrukturen der Zukunft. Bericht anlässlich eines Workshop mit Stanislaw Lem. – München: Wilhelm Fink Verlag, 1983. 208 s.), состоявшегося в сентябре 1981 г. в Западном Берлине и посвященного творчеству С. Лема.
(обратно)77
Все допустимо (англ.).
(обратно)78
Невычислительность (англ.).
(обратно)79
Sztuczny belkot (Artificial Intelligence), 2002; Modele i rzeczywistość, 2002. © Перевод. Язневич В.И., 2004.
Hofstadter D. and the Fluid Analogies Research Group, Fluid Concepts and Creative Analogies. Computer Models of the Fundamental Mechanisms of Thought. – New York: Basic Books, 1995. 528 p. [ «Текучие концепции и творческие аналогии. Компьютерные модели фундаментальных механизмов мышления» (англ.).]
(обратно)80
Nieśmiertelność, 2001; Starość nadal nie radość, 2002; Przedlużanie życia: iluzje i fakty, 2003; Czy będziemy żyć dłużej?, 2005. © Перевод. Язневич В.И., 2012.
Подробный анализ проблем, стоящих перед создателями искусственного интеллекта, см. в кн.: Лем С. Молох. – М.: АСТ, 2005. 782 с.
(обратно)81
См. одноименную главу в кн.: Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее. – М.: АСТ, 2004.
(обратно)82
Совокупность этических норм и принципов поведения медицинских работников при выполнении ими своих профессиональных обязанностей (от греч. Deon – долг).
(обратно)83
Не навреди (лат.).
(обратно)84
Listy do Stanisława Obirka SJ, 2001. © Перевод. Язневич В.И., 2012.
Настоящий текст представляет собой основную часть из писем Станислава Лема польскому священнику иезуиту, главному редактору журнала «Духовная жизнь» («Życie Duchowe») Станиславу Обиреку, который, кстати, впоследствии стал крестным отцом внучки писателя. Переписка осуществлялась по электронной почте при посредничестве секретаря писателя.
(обратно)85
«Верю, потому что это абсурдно» и «потому что это невозможно» (лат.) соответственно.
(обратно)86
Человеческая общность (лат.).
(обратно)87
Адвокат дьявола (лат.).
(обратно)88
Незримый бог (лат.).
(обратно)89
Упоминаемая статья опубликована в номере 47 ежеквартальника «Bez Dogmatu», называется «Говорить не говоря лишнее», автор Томаш Жуковский. – Примеч. С. Лема.
(обратно)90
Цирковые зрелища (лат.).
(обратно)91
Имеется в виду меняющаяся редакция журнала «Духовная жизнь», которая, как написал С. Обирек в своем письме, «больше интересуется духовностью, а потому область соприкосновения веры и неверия наверняка отойдет на задний план».
(обратно)92
Скоптофилия – любовь подглядывать, разглядывать (от греч. Skopto – шутить, насмехаться).
(обратно)93
Невозможное не может вменяться в обязанность (лат.).
(обратно)94
В своем письме С. Обирек попросил С. Лема прокомментировать такое утверждение автора статьи: «Отказ от догматических утверждений и обращение к рассказам (коих полно в Библии) открывает дорогу к плодотворному диалогу между христианами и приверженцами других религий, а в последующем между верующими и неверующими».
(обратно)95
O powieści kryminalnej, 1960. © Перевод. Борисов В.И., 2012.
И наоборот (лат.).
(обратно)96
Конец века (фр.). О конце XIX века, характеризующемся упадком буржуазной культуры и нравственности, развитием в искусстве мотивов индивидуализма.
(обратно)97
Л.Г. Ионин в учебнике «Социология культуры» (М.: ГУ ВШЭ, 2004) показывает, что так называемый дедуктивный метод Шерлока Холмса основан на типичных абдуктивных умозаключениях.
(обратно)98
Ошибочно, автор романов о Фило Вансе – Стивен Ван Дайн.
(обратно)99
Убийство Корпорейшн (англ.).
(обратно)100
Заметь хорошо (лат.). Помета для привлечения внимания к отмеченному тексту.
(обратно)101
Смерть канарейки (англ.).
(обратно)102
Хронометраж (англ.).
(обратно)103
Брат и сестра в польских сказках (как в русских сказках – сестрица Аленушка и братец Иванушка). Известны разные варианты сказки, где Ясь и Малгося одурачивают Бабу-ягу, например.
(обратно)104
Крашевский Юзеф Игнацы (1812–1887), польский писатель, отличавшийся необычайной литературной плодовитостью.
(обратно)105
«Дело о вежливом убийце» (англ.).
(обратно)106
Девушки по вызову (англ.).
(обратно)107
«Человек в коричневом костюме» (англ.).
(обратно)108
После того (лат.).
(обратно)109
«Тайна Красного дома» (англ.).
(обратно)110
«Красная правая рука» (англ.).
(обратно)111
Один вместо другого (лат.).
(обратно)112
«Невеста была в черном» (англ.).
(обратно)113
Частный следователь (англ.).
(обратно)114
Битники (англ.).
(обратно)115
Битник-дитя (англ.).
(обратно)116
Джем-сейшн, «приятное времяпровождение» (англ.). Совместное музыкальное действо, когда музыканты собираются и играют без особых приготовлений и определенного соглашения.
(обратно)117
Шедевр (фр.).
(обратно)118
«Нет орхидей для мисс Блэндиш» (англ.).
(обратно)119
«Лечение шоком» (англ.).
(обратно)120
«Дело о задушенной «звездочке»» (англ.).
(обратно)121
Recenzja: Edison T.A., The Diary and Sundry Observations, 1948. © Перевод. Язневич В.И., 2012.
Edison T.A. The Diary and Sundry Observations. – New York: Philosophical Library, 1948. 247 p.
(обратно)122
Обо всем и еще о многом другом (лат.).
(обратно)123
Человек, сам пробившийся в жизни (англ.).
(обратно)124
Своего рода (лат.).
(обратно)125
Rez.: U.K. Le Guin: The Left Hand of Darkness, 1971. © Перевод. Борисов В.И., Лукашин А.П., 2012.
Ursula K. Le Guin. The Left Hand of Darkness. – New York: Ace, 1969. 286 p.
(обратно)126
M K. Josephs Roman «The Hole in the Zero», 1971. © Перевод. Борисов В.И., Лукашин А.П., 2012.
Joseph M.K. The Hole in the Zero. – London: Gollancz, 1967.
(обратно)127
Сколько угодно (лат.).
(обратно)128
Эквифинальный (от лат. Aequns – равный и finalis – конечный) – приводящий к одинаковому результату. С. Лем использовал это понятие в «Сумме технологии».
(обратно)129
Rez.: S. Komatsu: Pochititeli zavtrasnego dnja, 1971. © Перевод. Борисов В.И., Лукашин А.П., 2012.
Сакё Комацу. Похитители завтрашнего дня. – М.: Мир, 1970. (Зарубежная фантастика).
(обратно)130
Rez.: R. Silverberg: A Time of Changes, 1972. © Перевод. Борисов В.И., Лукашин А.П., 2012.
Robert Silverberg. A Time of Changes. – New York: Signet Books, 1971. 220 p.
(обратно)131
Духовное общение (лат.).
(обратно)132
Сокращение: Science & Fiction Fantasy Writers of America – Американская ассоциация писателей-фантастов (около 1800 членов). SFWA – одна из самых успешных некоммерческих организаций мира. На ежегодном банкете ассоциации проводится награждение с вручением авторской премии Небьюла.
(обратно)133
Rez.: M. Wydmuch: Gra ze strachem, 1976. © Перевод. Борисов В.И., Лукашин А.П., 2012.
Marek Wydmuch. Gra ze strachem. – Warszawa: Czytelnik, 1975. 198 s.
(обратно)134
Странная история (англ.) – общее название для подвида фантастики о сверхъестественном.
(обратно)135
Вакуум ужаса (лат.).
(обратно)136
По доверенности (лат.)
(обратно)137
Страшные истории (англ.).
(обратно)138
Rez.: A.C. Clarke: Imperial Earth, 1977. © Перевод. Борисов В.И., Лукашин А.П., 2012.
Arthur C. Clarke. Imperial Earth. – New York: Ballantine Books, 1976. 305 p.
(обратно)139
Маленький человек (нем.).
(обратно)140
Ian Watson. The Martian Inca. – London: Panther Books, 1978. 203 p.
(обратно)141
Rez.: W.S. Bainbridge: The Space Flight Revolution, 1979. © Перевод. Борисов В.И., Лукашин А.П., 2012.
William Sims Bainbridge. The Space Flight Revolution. – New York: J. Wiley Sons, 1976. 294 p.
(обратно)142
Межконтинентальные баллистические ракеты.
(обратно)143
Przeczytałem «Miłość na Krymie», 1993. © Перевод. Язневич В.И., 2012.
Блонский Ян (1931–2009) – историк литературы, критик, переводчик.
(обратно)144
По всем правилам искусства (лат.).
(обратно)145
Эта статья Лема печаталась вместе с пьесой Мрожека (Dialog (Warszawa), 1993, № 12).
(обратно)146
Начнем (лат.).
(обратно)147
Czas powodzi (wywiad z Lemem S.). – Polityka (Warszawa), 1993, № 37.
(обратно)148
Премьера в Польше состоялась 25.03.1994 г., Stary Teatr (Kraków). Почти одновременно – 23.04.1994 г. в Варшаве, Teatr Współczesny (Warszawa).
(обратно)149
Упоминание Парижа не случайно – пьеса была написана по-французски для конкурса пьес во Франции.
(обратно)150
Пьеса была поставлена в России в МХАТ им. А.П. Чехова в 1995 г., режиссер-постановщик Козак Р.Е.
(обратно)151
Сумма сумм; окончательный итог (лат.).
(обратно)152
Виткевич Станислав Игнаций (1885–1939) – польский писатель, художник и философ.
(обратно)153
Последний по счету, но не по важности (англ.).
(обратно)154
Бег по пересеченной местности с препятствиями (англ.).
(обратно)155
Я сказал и тем спас душу свою (лат.).
(обратно)156
Дравич Анджей (1932–1997) – критик, переводчик русской литературы. Дравич, кстати, пьесу раскритиковал в статье под красноречивым названием «Как лучше всего не понять Россию».
(обратно)157
Имеется в виду книга Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории и последний человек»: Fukuyama F. The End of History and the Last Man. – New York: Free Press, 1992. Эту книгу, кстати, Лем неоднократно критиковал (см., например: Так говорил… Лем. – М.: АСТ, 2006, с. 718–719 и др.).
(обратно)158
Крайности сходятся (фр.).
(обратно)159
Posłowie do «Ubika» Ph. Dicka, 1974. © Перевод. Язневич В.И., 2008.
Оскорбление кормилицы (лат.).
(обратно)160
Среди слепых и одноглазый – царь (лат.).
(обратно)161
Противоречие в определении (лат.).
(обратно)162
«The Three Stigmata of Palmer Eldritch» (1964). В переводе на русский язык известен также под названиями «Стигматы Палмера Элдрича» и «Три стигмата».
(обратно)163
«Now Wait for Last Year» (1966). В переводе на русский язык известен под названиями «Наркотик времени» и «В ожидании прошлого».
(обратно)164
«The Galactic Pot-Healer» (1969). В переводе на русский язык известен также под названиями «Мастер всея Галактики» и «Гончарный круг неба».
(обратно)165
Буквально: «Бог из машины» или «Машина из бога» (лат.). В античном театре – появление с помощью машины (механизма из блоков и лебедок) на сцене бога, который своим вмешательством приводит пьесу к развязке. Выражение используется в смысле неправдоподобной развязки ситуации или произведения – при помощи вмешательства сверхъестественных сил, как бы извне. – Примеч. ред.
(обратно)166
В зародыше, в самом главном (лат.).
(обратно)167
Здесь: пророчество гибели.
(обратно)168
Здесь: доступное немногим (лат.).
(обратно)169
Здесь: для толпы (лат.).
(обратно)170
Posłowie do «Niesamowitych opowieści» S. Grabińskiego, 1975 © Перевод. Язневич В.И., 2008.
Grabiński S. Niesamowite opowieści. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1975. 354 s. На русский язык переведены 15 из 25 рассказов сборника «Необыкновенные рассказы», в том числе все упоминаемые в этом послесловии произведения. См.: Грабинский С. Избранные произведения. Т. 1: Саламандра; Т. 2: Тень Бафомета. – М.: Энигма, 2002. Т. 1. 384 с.; Т. 2. 448 с. (Серия «Мандрагора»).
(обратно)171
Уже позже, в 1980-е гг., когда Станислав Лем жил в Вене, однажды его пригласили на австрийское телевидение. Вот как об этом вспоминает сам Станислав Лем: «Пригласили меня туда тогда, когда в Вену приехал израильский чародей Ури Геллер. Позже оказалось, что когда-то он был фокусником, но как-то никто не обратил внимания на эту деталь. Он сидел в студии во время записи около меня и должен был сгибать взглядом вилку (со смехом). Потом он жаловался, что я излучаю какую-то парализующую энергию и поэтому он не может ничего сделать. Для компенсации он вынул из портфеля книгу, в которой были описаны его прежние достижения. Так я ему на это: «Что вы нам тут показываете книгу, на столе лежит вилка, так согните ее». Он пробовал, но как-то не смог (смеется)» – из книги «Так говорил… Лем». – М.: АСТ, 2006, с. 503–504.
(обратно)172
Кровосмешение, гибрид, помесь (греч.).
(обратно)173
Имеется в виду фильм 1973 г. «Изгоняющий дьявола» («Exorcist») режиссера Уильяма Фридкина по одноименной книге Уильяма Питера Блэтти (он же автор сценария); фильм получил два «Оскара» – за лучшие сценарий по книге и звук.
(обратно)174
Книги имеют свою судьбу (лат.).
(обратно)175
Для этой цели (лат.).
(обратно)176
В античном стиле (итал.).
(обратно)177
Необузданное наслаждение (лат.).
(обратно)178
«Я» и «Оно» (лат.) соответственно.
(обратно)179
Posłowie do «Opowieści starego antykwariusza» M.R. James, 1976 © Перевод. Борисов В.И., 2012.
Рассказы о привидениях (англ.).
(обратно)180
Недоразумение, ошибка (лат.).
(обратно)181
Все наши рассуждения, истолковывающие загадку Посещения в повести, могут показаться чудачеством далеко зашедшего педантизма, тем более что мы анализируем не какое-то реальное событие, а литературную выдумку. Но именно тем и отличается полноценная научная фантастика, что ее можно подвергать аналогичным проверкам на связность событий и толковать рационально так же, как явления, происходящие в нелитературной действительности. Такое произведение может исходить из фиктивной предпосылки, даже очень сильной в этой фиктивности. Но это право дается ему в качестве вступительной licentia poetica(*), которое в ходе самого повествования уже не имеет никакой силы. Это означает, что нельзя помогать себе в повествовании, выдумывая любые явления или феномены ad hoc. Вымыслами ad hoc может оперировать сказка, которая вовсе не обязана объяснять показываемые чудеса ни логически, ни эмпирически. Научная фантастика, которая заимствует это сказочное право, сама переходит из пространства реального мира на позиции мира сказочного, в котором все придуманное и сказанное уже тем самым становится возможным и должно неоспоримо приниматься за чистую монету читателем. Одним словом, если фиктивными в научной фантастике могут быть факты, то не может быть фиктивным способ, каким эти факты интерпретирует в повести наука. Ибо меняются научные теории, но не меняется метод познания, свойственный науке, и именно он диктует научной фантастике определенный тип создания гипотез. Так что наша диатриба является примером типичного поведения в критике произведений научной фантастики и mutatis mutandis(**) может быть применена к любому произведению, выполняющему начальные условия жанра. – Примеч. автора.
(*) поэтическая вольность (лат.).
(**) с известными оговорками (лат.).
(обратно)182
Мы представили гипотезу аварии в самой простой версии, что не означает, будто она – наиболее правдоподобная. Так, например, непилотируемый корабль с контейнерами мог быть отправлен безадресно и снабжен датчиками, которые распознавали бы планеты для «одаривания» по заданным заранее параметрам (к примеру, по ее средней температуре, составу атмосферы, особенно – по наличию свободного кислорода и воды, соответствующей в экосферном отношении околосолнечной орбиты и т. п.). Такой корабль, управляемый автоматически, мог бы поочередно приближаться в разведывательных целях к различным звездам. Но поскольку физически невозможно создать такие технические продукты, которые могут выдерживать без повреждений довольно долгое путешествие (исчисляемое миллионами земных лет), такой корабль должен быть снабжен также устройствами, самоуничтожающими его содержимое в случае «технологической просроченности». Именно такой корабль мог посетить Солнечную систему, когда «просроченные» объекты были близки к границе самоуничтожения. Ведь могло быть и так, что эта самоликвидация не произошла лишь потому, что следящие системы корабля открыли Землю и высыпали на нее содержание контейнеров, «уже частично подпорченных». Аварийность отдельных систем слежения, управления и контроля для любых устройств можно определить лишь вероятностно (статистически), и можно быть уверенным лишь в том, что, чем больше проходит времени, тем более правдоподобна вероятность повреждений в программах и в их исполнительных системах. Я бы настаивал еще и на том, что, чем сложнее устройства, тем более неизбежны их дефекты с течением времени, и что это универсальное правило, то есть оно не зависит от типа технологий, реализованных где-либо и как-либо в космосе. А потому наука об «Иных», названная авторами ксенологией, должна учитывать этот статистически-случайный аспект межцивилизационных контактов, как весьма существенный для интерпретации любых Посещений. – Примеч. автора.
(обратно)183
О том, до какой степени авторы подчинили структуру эпилога структуральному образцу сказки, свидетельствует хотя бы фрагмент, в котором говорится о «черных скрученных сосульках, похожих на толстые витые свечи». Это останки людей, которых умертвил Золотой Шар, то есть предшественников Рэдрика и Артура в походе к заколдованному сокровищу. В сказках такие останки – кости смельчаков, которым не повезло, – обычно покоятся у входа к пещере дракона, вокруг Хрустальной Горы и т. п. – Примеч. автора.
(обратно)184
Американская ассоциация писателей-фантастов. В 1973 г. Лем был удостоен почетного членства в этой организации, из которой был исключен в 1976 г. за критику американской научно-фантастической литературы.
(обратно)185
Vorwort, 1988. © Перевод. Язневич В.И., 2012.
Об этом же Станислав Лем написал непосредственно автору (из письма Урсуле Ле Гуин от 22 июня 1972 г.): «Я рад сообщить вам, что ваш роман «Волшебник Земноморья» был для меня замечательным открытием. Честно говоря, я побаивался, приступая к чтению, что это окажется еще одна «история о волшебстве», а я не могу читать даже такого великого человека, как Толкин: его вещи действуют на меня как снотворное. Но ваша книга оказалась совсем не детской, я бы сказал, что подростковая тематика в ней на втором плане. Это такая чистая, такая кристальная, такая ясная история, что я почувствовал что-то вроде зависти. Действительно, это очень редкое состояние для профессионального читателя американской НФ!»
(обратно)186
The Metaphysian’s Nightmare // Russell B. Nightmares of Eminent Persons and Other Stories. – London: The Bodley Head, 1954. На русском языке рассказ не публиковался.
(обратно)187
Stalin’s Nightmare // Там же. На русском языке рассказ не публиковался.
(обратно)188
Sławomir Mrożek. Sąd Ostateczny. – Kultura (Paryż), 1984, № 3, s. 53–59. На русском языке: Мрожек С. Страшный Суд. – Синтаксис (Париж), 1985, № 13, s. 3–10 (См. ).
(обратно)189
Повесть написана в 1873 году. См.: Лесков Н.С. Собр. соч. в 12 т. Т. 2. – М.: Правда, 1989.
(обратно)190
Is God a Taoist? // Smullyan R.M. The Tao is Silent. – San Francisco: Harper & Row Publishers Inc., 1977. На русском языке в книге: Смаллиан Р.М. Молчаливое Дао. – М.: Канон+, 2012, с. 90–120.
(обратно)191
Christopher Cherniak. The Riddle of the Universe and Its Solution // Hofstadter D.C., Dennett R.C. The Mind’s I. – New York: Bantam Books, 1982. На русском языке в книге: Хофштадтер Д., Деннетт Д. Глаз разума. – Самара: Бахрах-М, 2003, с. 239–245.
(обратно)192
Sieben Variationen über ein Thema von Johann Peter Hebel (1760–1826). // Doderer H. von. Die Erzählungen. – München: Biederstein Verlag, 1972. На русском языке в книге: Додерер Х. фон. Повести и рассказы. – М.: Прогресс, 1981.
(обратно)193
Антология (71 рассказ) издана в 1940 г. На русском языке: Антология фантастической литературы / Сост. Борхес Х.Л. и др. – СПб.: Амфора, 1999. 637 с. (Серия «Личная библиотека Борхеса».)
(обратно)194
Nota bene (лат.) – букв. «Заметь хорошо». Пометка, введенная автором в свой текст, чтобы подчеркнуть что-либо, обратить внимание на что-либо. Употребляется в значении «следует заметить», «обращаю внимание». – Примеч. ред.
(обратно)195
Книга об экспериментах с электричеством (нем.).
(обратно)196
Роман американского писателя Роберта Монтгомери Бёрда.
(обратно)197
Воспоминания о чтении в детстве см. также в кн.: Лем С. Мой взгляд на литературу. – М.: АСТ, 2008, с.765–775 («Книги детства»).
(обратно)198
Опровержение (фр.).
(обратно)199
Лем здесь использует интересное польское слово: hulajnoga – гуляй-нога.
(обратно)200
С. Лем неоднократно отказывался посетить Львов, объясняя это, например, так: «Если любишь кого-то, например, женщину, и кто-то ее у тебя отобьет, и она с этим кем-то позже нарожает детей, то я – будучи взрослым – предпочел бы с ней уже не встречаться. Что мы можем сказать друг другу? Этот город для меня уже совсем чужой. Это камни. Чем они меня могут теперь заинтересовать?» – см.: Так говорил… Лем. – М.: АСТ, 2006, с.47 (в этой же книге на с. 12–47 много воспоминаний о львовском периоде жизни писателя).
(обратно)201
Zmierzch niewinności, 2001. © Перевод. Язневич В.И., 2012.
Эта статья была написана в конце октября 2002 г., и здесь имеется в виду представленный правительством и принятый 04.10.2002 г. Сенатом «Закон о декларации и налогообложении имущества», вызвавший споры в польском обществе. Об этом законе резко высказывался и С. Лем – например, в заметке «Донос на самого себя», опубликованной 13.10.2002 г. и приводимой здесь полностью: «Закон об имущественных декларациях означает, что наш парламент вместе с президентом ни во что не ставят конституционные основы юридического порядка, которые должны обеспечить гражданам основные свободы и неприкосновенность их имущества. Ни один тоталитарный режим – включительно с так называемой «народной властью» – не продвинулся так далеко и не атаковал так открыто элементарные привилегии, причитающиеся каждому члену свободного общества. Бессмысленное равнодушие, с каким этот закон был принят большинством поляков, свидетельствует о том, что наша демократия является вывеской, за которой прячется обскурантская свобода». Закон (по инициативе президента) рассмотрел Конституционный трибунал Польши и в ноябре 2002 г. наложил «вето» на его применение, признав неконституционным.
(обратно)202
Русскоязычный ежемесячный журнал, издаваемый с 1999 г. в Варшаве польским Институтом книги.
(обратно)203
От лат. turpis – безобразный, отвратительный. Этот термин в искусстве ввел поэт Юлиан Пшибось, это стиль, развивающий эстетику безобразного в Польше с конца 50-х годов XX в. – Примеч. ред.
(обратно)204
Округ Галиция (нем.).
(обратно)205
Национал-социалистская рабочая партия Германии.
(обратно)206
Рыцарский крест с дубовыми ветвями, мечами и бриллиантами (нем.).
(обратно)207
Добрый по природе (лат.).
(обратно)208
Wspomnienie o Mieczysławie Choynowskim, 2001. © Перевод. Язневич В.И., 2012.
В 1944–1945 гг.
(обратно)209
«Жизнь науки» (пол.).
(обратно)210
Был немалая часть (лат.), то есть принимал большое участие.
(обратно)211
«Задачи и методы популяризации науки за рубежом» – Lem S. Zadania i metody popularyzacji nauki za granicą. – Życie Nauki (Kraków), 1949, № 40/42, s. 422–437; «Популяризация науки в Советском Союзе» – Lem S. Popularyzacja nauki w Związku Radzieckim. – Życie Nauki (Kraków), № 43/48, s. 207–210.
(обратно)212
Имеется в виду статья «Генетика и биология в СССР» – Genetyka i biologia w ZSRR. – Życie Nauki (Kraków), 1948, № 35/36, s.417–422 (опубликована без указания автора).
(обратно)213
Услуга за услугу (лат.).
(обратно)214
Tak było, 1993. © Перевод. Борисов В.И., 2012.
В 1956 г.
(обратно)215
Несколько выражений в тексте Лема записано латиницей, но на русском языке; здесь они оставлены без изменений (напр., «Ничейная Земля», «ничево» и т. п.).
(обратно)216
Воспоминания С. Лема об Иоанне Павле II (1920–2005) см. также в статье «Волна» в кн.: Лем С. Раса хищников. – М.: АСТ, 2008, с. 115–118.
(обратно)217
Sferomachia, 2001. © Перевод. Язневич В.И., 2001.
Имеется в виду Джордж Буш-младший, вступивший на пост президента США в январе 2001 г.
(обратно)218
Роман написан в 1986 г., в статье в изложении приведен фрагмент главы «Демонстрация силы».
(обратно)219
Подъем (англ.).
(обратно)220
Ostatni idiotyzm, 2002. © Перевод. Язневич В.И., 2012.
Невозможное не может вменяться в обязанность (лат.) – формула римского права.
(обратно)221
«The Last Dinosaur» – американо-японский фильм 1977 г.
(обратно)222
Scjentologia, 1997. © Перевод. Борисов В.И., 2012.
В современной классификации неандертальский человек выделен в отдельный вид Homo neanderthalensis.
(обратно)223
Точнее, это средний плейстоцен.
(обратно)224
«Во имя науки» (англ.)
(обратно)225
Служба внутренних доходов или Служба внутренних сборов (англ.) – организация Федерального правительства Соединенных Штатов Америки, которая собирает налоги и внедряет законы внутренних доходов.
(обратно)226
Первая поправка (англ.), которая гарантирует невозможность запрета свободного вероисповедания.
(обратно)227
Нет обиды изъявившему согласие (лат.). Одно из положений римского права, по которому какое-либо действие, совершенное с согласия потерпевшего, не признается правонарушением, и потому потерпевший не имеет права обжаловать такое действие.
(обратно)228
Чувство общности интересов у лиц, принадлежащих к одной социальной или профессиональной группе; корпоративный дух (франц.).
(обратно)229
Сколько голов, столько умов (лат.).
(обратно)230
Votum separatissimum, 2002; O eutanazji, 2000; O karę śmierci! 2002; Klony, 2002; Dziwna korelacja, 2003. © Перевод. Язневич В.И., 2012.
Многие годы Станислав Лем был постоянным автором этого еженедельника.
(обратно)231
Намек на операцию, сделанную Папе Римскому Иоанну Павлу II в возрасте 74 года.
(обратно)232
Об эвтаназии. В принципе я – за эвтаназию, но при условии строгого медицинского и юридического контроля. Человек в предагональном состоянии должен принимать решение, будучи полностью в здравом уме, чтобы не бредил или не шутил. Лучше всего, если о неизлечимости в данном случае, необратимых изменениях в организме и т. п. решение будет принимать консилиум. Применение эвтаназии должно быть допустимо только в странах с определенным уровнем развития, чтобы под этим предлогом не допускались злоупотребления, например, не убивали политических противников или неудобных людей. Я также за отключение подсоединенных к аппаратуре людей, находящихся в состоянии растений, но на это должно быть согласие семьи. Что же касается терпения в христианском понимании, то кто-то верующий действительно может свое терпение адресовать выше и черпать из этого трансцендентальное утешение. Однако я считаю, что человек ломается подобно автомобилю, и не вижу большого смысла в продлении мук. – Примеч. автора.
(обратно)233
О смертной казни! Я сторонник смертной казни в случае тяжелейших преступлений, если нет при этом ни малейшего сомнения в вине преступников. Нельзя, однако, применять ее в судебных решениях, принятых на основании косвенных улик, поскольку предположения не дают стопроцентной уверенности. Зато насильники по отношению к несовершеннолетним, а также убийцы, действующие с исключительной жестокостью, не имеют в моих глазах никакой надежды на социальную реабилитацию. – Примеч. автора.
(обратно)234
Geheime Höllensache, 1993. © Перевод. Язневич В.И., 2012.
Клоны. Особый фурор в последнее время произвело клонирование – ведутся ожесточенные споры о юридическом ограничении экспериментов на человеческих эмбрионах и так называемых материнских клетках. Речь идет, похоже, о неотвратимом вторжении в автоэволюцию человека с абсолютно непредвиденными и просто опасными последствиями. История нашего вида свидетельствует, что homo sapiens никогда не оставлял однажды предпринятых попыток создания нового, поэтому вмешательство технологии, которая изменила нашу планету, в настоящее время обратилось к людям как к последним нетронутым еще инженерией реликтам природы, и это представляется неизбежным. – Примеч. автора.
(обратно)235
Странная взаимосвязь. Польша является страной, где общество в высшей степени религиозно, и вместе с тем происходит наибольшее количество угонов автомобилей. Одновременность этих двух фактов кажется мне очень странной. То ли воры являются атеистами, то ли, скорее всего, верующие лицемерят? – Примеч. автора.
(обратно)236
От infernal – адский, дьявольский (нем.).
(обратно)237
От Teufelsdreck – нечистоты дьявола (нем.).
(обратно)238
Зловонный (лат.).
(обратно)239
16 апреля 1992 г. в Рапалло (Италия) был заключен российско-германский сепаратный договор.
(обратно)240
Именно так В.М. Молотов охарактеризовал Польшу в своем докладе на сессии Верховного Совета СССР 31 октября 1939 г. (после насильственного раздела Польши между Германией и СССР в сентябре 1939 г.).
(обратно)241
«Призыв к России» под заголовком «Моральное самоубийство» подписали: Марек Эдельман, Рышард Капущинский, Войцех Киляр, Станислав Лем, Чеслав Милош, Кшиштоф Пендерецкий, Вислава Шимборская, Анджей Вайда и Кшиштоф Занусси (последовательность фамилий подписантов в соответствии с польским алфавитом).
(обратно)242
Wyboje cywilizacji, 2002; Magicy i szarłatany, 2001; Hochsztaplerzy, 2001; Rozwazania sylwiczne XLIII, 1996. © Перевод. Язневич В.И., 2012.
Эта статья была написана в апреле 2000 г. – во время пребывания В.В. Путина на посту и.о. президента России. Насколько изменилось и каким стало мнение писателя о Путине и политике России, можно судить по его последним статьям, опубликованным в книге «Лем С. Раса хищников» (М.: АСТ, 2008. 285 с.) – главным образом в статьях 2005 г. «Сейсмология и политика» (с.92–96), «Газ и Рапалльский договор» (с. 119–122), «Россия Путина» (с. 123–126).
(обратно)243
См. «О сверхчувственном познании» в кн.: Лем С. Мой взгляд на литературу. – М.: АСТ, 2009, с. 437–461.
(обратно)244
Сборник статей с приложениями (лат.).
(обратно)245
Размером в четверть бумажного листа (лат.).
(обратно)246
Древнебуддийская идея недеяния зла символически представляется тремя обезьянами-шимпанзе, которые о поступках четвертой обезьяны в гротескных позах как бы говорят: «Не вижу зла, не слышу зла, не говорю о зле».
(обратно)247
Syntetyczne paliwa, 2005. © Перевод. Язневич В.И., 2012.
Половые влечения (лат.).
(обратно)248
См. в кн.: Лем С. Раса хищников. – М.: АСТ, 2008, с. 170–174.
(обратно)249
Doktryna i praktyka, 2006; Oszołomy, do władzy, 2002. © Перевод. Язневич В.И., 2012.
Во время написания статьи (09.02.2006 г.): Лех Качиньский – президент Польши, Ярослав Качиньский – лидер партии, имеющей простое большинство в парламенте и сформировавшей коалиционное правительство, через несколько месяцев ставший премьер-министром Польши.
(обратно)250
Имеется в виду польский художественный фильм «Двое, которые украли Луну», в котором в 1962 г. в возрасте 13 лет братья Качиньские сыграли главные роли.
(обратно)251
Леппер Анджей – основатель и лидер националистической партии «Самооборона».
(обратно)252
Гертых Роман – лидер праворадикальной партии «Лига польских семей».
(обратно)253
Об этом С. Лем писал и раньше:
Горлопаны, к власти. Для пользы радикального отрезвления соотечественников следует пожелать, чтобы «Самооборона» вместе с «Лигой польских семей» пришли к власти. Леппер на посту премьера – при помощи именно таким образом сформированного правительства – доведет страну до полного упадка в срок не более двенадцати месяцев. Разводы и внебрачный секс будут запрещены законодательно. Возможно, что только тогда поговорка «умен поляк после неудачи» поможет нам выбраться из кризиса.
(обратно)254
В перевернутый бинокль / Беседа с Лешеком Колаковским // Новая Польша (Варшава), 2005, № 12. В этом интервью Л. Колаковский назвал А. Леппера «безграмотным крикуном», а Р. Гертыха – «надутым молокососом».
(обратно)255
Золль Анджей – в то время омбудсмен (уполномоченный по правам человека), в прошлом – Председатель Конституционного трибунала.
(обратно)256
Лентовская Ева – в то время судья Конституционного трибунала, в прошлом – омбудсмен.
(обратно)257
Zdziwienie, 1983. © Перевод. Язневич В.И., 2012.
Семинар «Информационные и коммуникативные структуры будущего», посвященный творчеству С. Лема (Informations– und Kommunikationsstrukturen der Zukunft. Workshop mit Stanislaw Lem), состоялся в Западном Берлине в сентябре 1981 г.
(обратно)258
Падение доброго – самое плохое падение (лат.).
(обратно)259
Perspektywy przyszłości, 1954. © Перевод. Язневич В.И., 2012.
Покровский Г.И. и др. Теория и практика строительства плотин направленными взрывами. – М.: Госстройиздат, 1951. 119 с.
(обратно)260
Бог из машины (лат.).
(обратно)261
Vorschau auf das nächste Jahrhundert, 1990. © Перевод. Язневич В.И., 2012.
Неговский В.А. Патофизиология и терапия агонии и клинической смерти. – М.: Медгиз, 1954. 256 с.
(обратно)262
Последнее, но не менее важное (англ.).
(обратно)263
См.: Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. – M.: ACT, 2004. 588 с.
(обратно)264
Pytania i prognozy, 2003 © Перевод. Язневич В.И., 2008.
Степень почетного доктора была присвоена Станиславу Лему «за выдающиеся достижения в области информатики». Обосновывая свое решение, руководство германского университета отметило, что тем самым «мы хотим отдать должное литературному труду, проницательность и сила воздействия которого на развитие информатики не имеют прецедента». Церемония вручения диплома состоялась в Кракове. Выступавшие подчеркивали, что научно-фантастическое творчество писателя является ярким примером того, как плодотворно можно соединять науку и литературу. В ответном слове Станислав Лем сказал, что вопрос «Что такое информация?» не перестает занимать его до сих пор, а что касается современных технологий, то они, безусловно, угрожают человечеству, но проклинать их не следует, ибо без них будет еще хуже. Ранее аналогичной степени Станислава Лема удостоили Вроцлавский политехнический институт (в 1982 г.), Опольский университет (в 1997 г.), Львовский государственный медицинский университет (в 1998 г.) и Ягеллонский университет в Кракове (в 1998 г.).
(обратно)265
Имеется в виду принцип принятия решения согласно проекту Конституции Евросоюза. Польша и Испания отстаивали необходимость сохранить формулу голосования, которая была одобрена в 2000 г. на саммите ЕС в Ницце и предоставляет каждой из этих двух стран почти равный по сравнению с «большими» государствами политический вес. Конституция Евросоюза была подписана в 2004 г., в части принятия решения в ней был закреплен компромиссный принцип «двойного большинства».
(обратно)266
Przy ruletce – próba futurologiczna, 2002 © Перевод. Язневич В.И., 2008.
От turpo – пачкать, делать безобразным (лат.) – культ уродства.
(обратно)267
Großes Werklexikon der Philosophie / Hrsg. Volpi F. – Stuttgart: Kröner, 1999, Bd. 2, s. 902–904 [Gräfrath B., Lem Stanisław].
(обратно)268
«Выход в космос» (англ.).
(обратно)269
Объединенными усилиями (лат.).
(обратно)270
Свободное вето (лат.) – право, действовавшее в польском Сейме в XVI–XVIII вв., согласно которому один возражавший мог заблокировать решение Сейма.
(обратно)271
Победа глупости (лат.).
(обратно)272
Имеется в виду серия «Станислав Лем рекомендует». В настоящем сборнике, в соответствующей части, представлены послесловия С. Лема ко всем изданным книгам этой серии.
(обратно)273
Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych – Союз авторов и театральных композиторов (пол.) – польская организация, управляющая авторскими правами на коллективной основе.
(обратно)274
Polska Agencja Artystyczna – Польское артистическое агентство (пол.) – занималось организацией выступлений деятелей культуры.
(обратно)275
Moje trzy życzenia, 1980. © Перевод. Язневич В.И., 2012.
Секретарь у С. Лема все-таки в 1998 г. появился – Войцех Земек, выпускник Филологического факультета Ягеллонского университета, его рабочее место – в новом большем доме писателя в том же предместье Кракова.
(обратно)276
«Инопланетяне приземлились. Анкета» – «Die Außerirdischen sind da. Umfrage durch Matthes & Seitz anläßlich einer Landung von Wesen aus dem All». – München: Matthes & Seitz Verlag, 1979. 336 s.
(обратно)277
Inseln im Ich. Ein Buch der Wünsche. – München: Matthes & Seitz Verlag, 1980. 339 s.
(обратно)278
Spełnione życzenia, 1992. © Перевод. Язневич В.И., 2012.
13.12.1981 – 22.07.1993.
(обратно)279
10 życzeń pana Lema na nowe tysiąclecie, 2000. © Перевод. Язневич В.И., 2001.
Stowarzyszenie PAX – Общество МИР (пол.) – польская светская католическая организация.
(обратно)280
Краковский Лайконик (польск.) – персонаж в костюме татарского всадника, важный элемент краковской фольклорной традиции.
(обратно)281
В конце 40-х годов в СССР развернулось движение по созданию бригад отличного обслуживания покупателей. Они образовались не в связи с принятием какого-либо нормативно-правового акта, а на конкретном примере старшего продавца магазина № 31 Московской конторы «Гастроном» И.Д. Коровкина, который стал одним из инициаторов создания таких бригад. И уже в связи с подобным опытом и, придавая большое практическое значение внедрению во все предприятия торговли и общественного питания передового опыта высококультурного обслуживания покупателей, Министерство торговли СССР издает Приказ от 25 июля 1949 г. № 640 «О распространении опыта работы бригады отличного обслуживания покупателей, организованной ст. продавцом магазина № 31 Московской конторы «Гастроном» товарищем Коровкиным И.Д.».
(обратно)282
PT – pleno titulo – с соблюдением соответствующих титулов (лат.).
(обратно)283
«События» (пол.). – краковский еженедельник, в котором и были опубликованы обе части этого фельетона.
(обратно)284
Абсолютная чепуха (англ.)
(обратно)285
Городская розничная торговля.
(обратно)286
Один из старейших и известнейших ресторанов Кракова.
(обратно)287
Lem S., Mrożek S., Listy 1956–1978. © Перевод. Язневич В.И., 2012.
Если двое делают одно и то же, это не одно и то же (лат.).
(обратно)288
В то время стоимость почтовой марки для пересылки писем внутри Польши.
(обратно)289
Блонский Ян (1931–2009) – историк литературы, критик, переводчик, сосед и друг С. Лема.
(обратно)290
Другое я (лат.).
(обратно)291
Мруз Даниэль (1917–1993) – график, иллюстратор книг С. Лема и С. Мрожека.
(обратно)292
Сборник рассказов «S. Mrożek, Wesele w Atomicach», 1959.
(обратно)293
Щепанский Ян Юзеф (1919–2003) – писатель, репортер, переводчик, сценарист, ближайший друг С. Лема.
(обратно)294
По-польски «Postępowiec» – сатирическая рубрика, которую в 1956–1960 гг. С. Мрожек вел в некоторых периодических изданиях; в книжном виде издано в 1960 г.
(обратно)295
Иредыньский Иренеуш (1939–1985) – писатель, поэт, драматург.
(обратно)296
Улица в Кракове, на которой Лем жил в 1954–1958 гг.
(обратно)297
Льва по когтю (лат.).
(обратно)298
Предместье Кракова, где Лем с семьей жил с 1958 г.
(обратно)299
Преданный тебе (англ.).
(обратно)300
В оригинале по-польски – выслать «do Hamery(ki)» как составленное из двух слов: «do Hamery» (в плавильную печь) и «do Ameryki» (в Америку). По-русски получилось: «в камеру» и «в Америку». Дело в том, что в июле – августе 1959 г. Мрожек был стипендиатом Международного семинара Летней школы Гарвардского университета. Руководителем семинара был Генри Киссинджер. И каждому участнику семинара предоставлялась возможность рекомендовать кого-нибудь для участия в следующем году. Естественно, что Мрожек хотел рекомендовать своего друга – Лема.
(обратно)301
Имеется в виду исторический анекдот о Наполеоне. Ответ жителей начинался: «Во-первых, у нас нет пушек, во-вторых…». «Достаточно», – прервал Наполеон.
(обратно)302
«Остальное – молчание» (англ.) – последние слова Гамлета в одноименной драме Уильяма Шекспира.
(обратно)303
Пропасть, глубина (лат.).
(обратно)304
Мои пожелания и лучшая часть моей души тебе и твоей Жене. Остаюсь, дорогой Гений, твоим покорным слугой на века и так далее (англ.).
(обратно)305
Настоянная на травах, обожаемая европейцами (англ.).
(обратно)306
Транскрипция английского bison – бизон.
(обратно)307
В предшествующем письме Мрожек написал Лему: «Сегодня ввалился в квартиру пьяный швед, которого я не видел два года, познакомился с ним в США. Уселся и сразу же самостоятельно, потому что я уже не мог, выпил полбутылки «White Horse» (0,7 литра), которую я выследил сегодня в универмаге. Но он не блевал, а только падал. Я понял, внимательно прислушиваясь, что являюсь великолепным человеком, что он приехал только ради меня и что будет здесь неделю. Здесь – это значит, как мне кажется, где-то между моей ванной и рабочим кабинетом».
(обратно)308
Балканское блюдо – жаренные на решетке колбаски из перемолотого мяса, подают с большим количеством лука.
(обратно)309
Z jadłospisu Baby-Jagi, 2002 © Перевод. Язневич В.И., 2008.
Переменно (англ.).
(обратно)310
Речь идет о книге «Лем С. Диктанты или… каким образом дядя Сташек в то время Михася – сейчас Михала – учил писать без ошибок» («Lem Stanisław, Dyktanda czyli… w jaki sposób wujek Staszek wówczas Michasia – dziś Michała – uczył pisać bez błędów» – Kraków, Wydawnictwo «Przedsięwzięcie Galicja», 2001, 88 s.) – прелюбопытный сборник текстов, большей частью абстрактных и шуточных, которые в 1970 г. Станислав Лем в течение месяца надиктовал своему племяннику Михалу Зыху для закрепления правил орфографии польского языка. Каждый из 68 текстов посвящен какому-либо правилу и представляет собой небольшую историю. Например, такую: «Когда капитан удушился клецками, корабль напоролся на коралловый риф и затонул. Робинзон Крузо, единственный уцелевший пассажир, по-жабьи доплыл до берега, на котором заметил тощую козу. Приблизившись к козе, он обратился: «Приветствую сударыню! Похоже, что мы на безлюдном острове». Подняв слезящиеся глаза и бекнув, коза рысью бросилась в направлении скальных нагромождений. «Какая-то она неразговорчивая», – подумал Робинзон. Морское течение в это время выбрасывало на пляж сундуки моряков. Просмотрев эти пожитки, Робинзон нашел замасленную колоду карт, мешок дукатов, рог с порохом, мушкет, два канделябра, искусственную челюсть боцмана, жевательный табак, дратву, Библию и пучок сельдерея. Тем временем подул свежий морской бриз. Труп капитана, величественно распухший, кружил у берега, показывая Робинзону почерневший язык. Акулы, попробовав его, выплюнули несъедобные куски и отплыли, подергиваясь от икоты». Или такую: «Породистый пес по прозвищу Перун подцепил почти пятьсот пиявок. Пробовал прогнать пассажиров плаванием, потрясанием плечами, подпрыгиванием. Потом попытался потравить паразитов. Поел полыни, паприки, петрушки, просеянного песка, переждал понедельник. Пришлось попросить помочь плотву, преждевременно поседевшую. Плотва, подкупленная пиявками, подло покинула псиный процесс. Пес призвал пташку – помощница поразбрасывала пиявок по пустырю». Три диктанта опубликованы в кн.: Так говорил… Лем. – М.: АСТ, 2006, с. 677.
(обратно)311
Речь идет о следующем диктанте: «Печень со слегка поджаренным лучком, если только она не горькая от желчи, является великолепной закуской. Чтобы ее приготовить, следует купить автомобиль и мчаться на нем до тех пор, пока кого-нибудь не переедешь. Печень, покойнику уже ненужную, из нутра вынимаем и помещаем в холодильник. Труп выбрасываем или ставим в поле в качестве пугала от воробьев. Из печени пожилых людей получается только паштет, потому что она у них волокнистая. Самая хорошая печень у маленьких мальчиков, обычно ездящих на велосипеде. Лучше всего настичь такого, у которого нет тормозов или стертый протектор покрышки. Таким способом добытую печень не следует бросать в кипящий жир, а можно только ополоснуть уксусом, а, имея наготове булку, из мозгов можно сделать фарш. Хорош также холодец из мальчика (с хреном). Его надо только хорошо оскоблить, чтобы не скрежетал на зубах. Некоторые повара рекомендуют блюда из почек, но они бывают неудобоваримыми. Маленьких детей можно употреблять только в дни поста». В сборнике людоедство упоминается еще в нескольких диктантах, например такой: «Один миссионер, посланный в Судан, обращал в веру тамошних негров, но сильная засуха вызвала голод, и население никак не могло его удовлетворить. В полночь негры бесшумно проникли в жилище миссионера и начали его натирать чесноком. Преодолев сопротивление несчастного, они заставили его съесть шесть килограммов риса, перемешанного с изюмом, потому что решили приготовить миссионера с начинкой. Несчастный с ужасом смотрел на их кулинарные приготовления. Огонь весело пылал, противень, натертый шкуркой сала, блестел, как серебро, а черный поваренок с кружкой воды в руке кропил миссионера, чтобы тот не пригорел. Чудесно подрумяненного, с потрескивающей кожицей, его запекли потом в соусе бешамель. Легенда гласит, что никакой другой миссионер так неграм не нравился. Упоминая ужин, они восклицают: «Какой же это был хороший, нежный и легко усваиваемый учитель!»
(обратно)312
На эту тему также имеется диктант: «В пещере вокруг костра сидели древние люди, занятые, как обычно после обеда, разными делами. Брат у сестры в волосах копался, жирные вши с удовольствием глотая. Дядя пальцем прочищал себе нос, забитый вражьей кровью, ибо в полдень он кремневым молотком соседа прикончил. Дикая и омерзительная прабабка бивнем мамонта размешивала бульон. Далекие родственники вместе с кузинами грызлись, хрипя и скуля, как обычно это делает молодежь. Мускулистый и волосатый старший сын ловца мамонтов со слезящимися глазами и жирной от костного мозга бородой, заложивши ногу на ногу, наигрывал на каменной мандолине новейший шлягер, постукивая в такт твердыми, как рог, пятками, с приятным осознанием того, что он не должен писать никаких диктантов».
(обратно)313
Речь идет о следующем диктанте: «В лесу живут грибы. Гриб отличается от жирафа тем, что не носит носков. Обыкновенные грибы имеют шляпы, зато вечерние грибы используют цилиндры. Снулые рыбы употребляют мало грибов, а любимым их блюдом является гороховый суп. Существуют грибы подводные, дышащие жабрами, которые благодаря идеальному приспосабливанию похожи на щук и карпов так, что стали от них неотличимы. Грибной суп из такой щуки принимают за рыбный суп. Кроме этого, в лесу живет дикий лук, а также волосяные луковицы людей, которые, прохаживаясь по лесу, аукают. Аукание так сотрясает странников, что с них сыплется перхоть. Однако не соответствует действительности, что лесная подстилка состоит только из одной перхоти. Летающий гриб, обычно называемый ястребом-перепелятником, вместо крыльев использует носовые платки, потерянные рассеянными людьми. Самым ужасным из грибов является рыжик-людоед, который подставляет ногу набожным старушкам, а потом съедает их без соли».
(обратно)314
W sprawie głupoty, 1992. © Перевод. Язневич В.И., 2012.
См., например: Станислав Лем: Глупость как движущая сила истории» (интервью) // Комсомольская правда (М.), 1991, 26 февраля, с. 3.
(обратно)315
До бесконечности (лат.).
(обратно)316
Сопротивляющийся знанию и неподдающийся науке (англ.).
(обратно)317
Traktat o dupie, 2002. © Перевод. Язневич В.И., 2008.
Салонный дурак (нем.).
(обратно)318
Левиафан – в библейской мифологии огромное морское чудовище, напоминающее гигантского крокодила.
(обратно)319
Переход вещества из твердого состояния непосредственно в газообразное.
(обратно)320
Преступное использование технических возможностей компьютера (англ.), досл. «компьютерное преступление».
(обратно)321
Виртульное преступление, или преступление в виртуальном мире (англ.)
(обратно)322
Последнее, но не менее важное (англ.).
(обратно)323
Радиовиртуальная реальность (англ.).
(обратно)324
Слуга (англ.).
(обратно)325
На предъявителя (лат.).
(обратно)326
По доверенности (лат.).
(обратно)327
Сексуальное домогательство (англ.).
(обратно)328
Pan F., 1976. © Перевод. Язневич В.И., 2007.
Непристойное поведение (англ.).
(обратно)329
Я мыслю, следовательно, я существую (лат.).
(обратно)330
Для этой цели (лат.).
(обратно)331
Критический эксперимент (лат.), в науке – решающий эксперимент, исход которого определяет, является ли конкретная теория или гипотеза верной.
(обратно)332
Персонаж трагедии И.В. Гете «Фауст».
(обратно)333
Необходимое условие (лат.).
(обратно)334
Мудрость, ум, знание (лат.).
(обратно)335
Фатум (лат.) – воля богов, неотвратимая судьба.
(обратно)336
Речь идет о философском романе «Доктор Фаустус» (1947) немецкого писателя Томаса Манна (1875–1955), лауреата Нобелевской премии, и о статье Станислава Лема «О моделировании действительности в творчестве Томаса Манна» (в журнале «Sinn und Form», Берлин, 1965). Переработанный вариант статьи был включен в двухтомную монографию «Философия случая» (1968) – см.: Лем С. Философия случая. – М.: АСТ, 2005, с. 651–721. Упоминаемый далее Леверкюн – персонаж указанного романа.
(обратно)337
Канетти Элиас (1905–1994), австрийский писатель, лауреат Нобелевской премии; в философско-социальном трактате «Массы и власть» (1960) анализировал природу авторитарной власти.
(обратно)338
«Открытое общество и его враги» (англ.).
(обратно)339
В русском переводе «Корпорация «Бытие» в сборнике рецензий на несуществующие произведения «Абсолютная пустота». См., например: Лем С. Библиотека XXI века». – М.: АСТ, 2002, с. 113–121.
(обратно)340
Разделяй и властвуй (лат.).
(обратно)341
Т.е. непримиримым противостоянием сил добра и зла.
(обратно)342
См. в кн.: Лем С. Библиотека ХХI века. – М.: АСТ, 2002, с. 441–482.
(обратно)343
См. «Так говорил… Лем». – М.: АСТ, 2006, 764 с.
(обратно)344
Willkomen im Affenhaus. – Basel: Beltz & Gelberg Verlag, 1984, s.229–236; название сборника одноименно содержащемуся в нем рассказу Курта Воннегута, среди авторов также Брайан Олдисс, Фредерик Пол, Славомир Мрожек, Дмитрий Биленкин и др.
(обратно)345
Оправдание Бога.
(обратно)346
Согласно которой зло как таковое не существует, а представляет собой лишь отсутствие должного быть блага.
(обратно)347
См. в кн.: Лем С. Библиотека ХХI века. – М.: АСТ, 2002, с. 303–438.
(обратно)348
Связанным с конечными судьбами мира и человека.
(обратно)349
О спасении.
(обратно)350
Возвращение всех вещей в первоначальное состояние.
(обратно)351
Возвращение всех вещей в Бога.
(обратно)352
Wielki słownik frazeologiczny (Polsko-Rosyjski. Rosyjsko-Polski). – Warszawa: Przedsiębiorstwo Wydawnicze «Harald G Dictionaries», 1998. 1102 s.
(обратно)353
Польско-русский фразеологический словарь: В 2 т. / Сост. Гюлумянц К.М. – Минск: Экономпресс, 2004. 688 с. и 718 с.
(обратно)354
Грицанов А. Солярис // Всемирная энциклопедия: Философия. XX век. – Москва: АСТ; Минск: Харвест, Современный литератор, 2002.
(обратно)355
См. «Исключительно особое мнение» в настоящем сборнике.
(обратно)356
Szczepański J.J., Dziennik. Tom I: 1945–1956. – Krakόw: Wydawnictwo literackie, 2009.
(обратно)357
Lem T. Awantury na tle powszechnego ciążenia. – Kraków: Wydawnictwo literackie, 2009. 270 s. [Лем Т. Приключения на фоне всемирного тяготения].
(обратно)

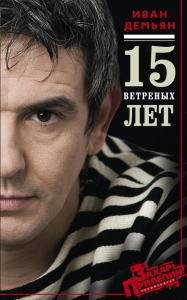
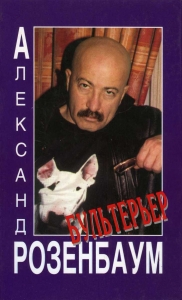

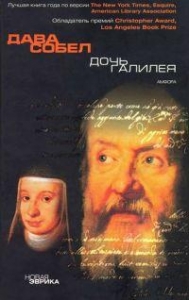

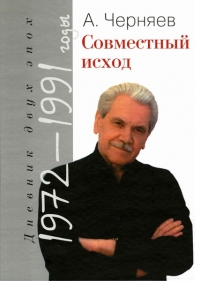
Комментарии к книге «Черное и белое (сборник)», Станислав Лем
Всего 0 комментариев