Владимир Мельник Гончаров и Православие. Духовный мир писателя
Только когда я закончил свои работы, отошел от них на некоторое расстояние и время, — тогда стал понятен мне вполне и скрытый в них смысл, их значение — идея. Напрасно я ждал, что кто-нибудь и кроме меня прочтет между строками и, полюбив образы, свяжет их в одно целое и увидит, что именно говорит это целое.
И. А. ГончаровПо благословению
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси
АЛЕКСИЯ II
Введение
Биография и творчество И. А. Гончарова практически не изучены с точки зрения религиозных проявлений его личности и его религиозного миросозерцания. Чрезвычайная личная скрытность Гончарова в вопросах веры, а также неявно выраженная авторская позиция в его романах привели к тому, что до сих пор неясно своеобразие его религиозных взглядов, их эволюция. До 1917 года, впрочем, было предпринято несколько попыток хотя бы в общих чертах определить своеобразие Гончарова как религиозно мыслящего писателя. Так, например, в 1913 году вышла работа священника Николая Ремизова «Иван Александрович Гончаров в религиозно-этических и социально-общественных воззрениях своих произведений». В самом общем виде автор этой работы попытался очертить религиозное настроение Гончарова: «Иван Ал. Гончаров причисляется к людям, которые специально о религии ничего не писали, богословскими вопросами не задавались и не думали над ними, но которые при всем этом в существе своем, в глубине своей души всегда бывали очень религиозны. В этом смысле Иван Александрович был всегда, от дней детства и до конца жизни своей, глубоко религиозным христианином; скромный во всем, избегавший славы и популярности едва ли не более всех наших писателей, Иван Александрович менее всего был расположен удивлять кого-либо своей религиозностью. Но он носил в себе удивительный родник религиозности, который во всех его произведениях временами брызжет особенною теплотою веры. Религиозные мотивы и проявления у него не часты, но зато они так ярки и так сильны… Вера Ивана Александровича имеет живое, активное свойство, охватывающее весь мир человеческой жизни и мысли. По форме она есть, пожалуй, „старая правда“; веками установившийся строй религиозного мышления и поведения, но в своем содержании и внутреннем существе она есть живая сила, создающая сильный человеческий характер…»[1].
После революции восприятие творчества Гончарова резко и, казалось, бесповоротно изменилось. Господствующим в литературоведении на долгое время стало мнение, что Гончаров абсолютно индифферентен к вопросам религии. Благо, что в текстах писателя религиозные аспекты (как, впрочем, и многие иные) настолько «обытовлены», органически слиты с контекстом, что для их выявления нужен специальный и притом весьма тонкий и глубокий анализ всего его творчества, всей биографии. Вот почему вопрос об отношении Гончарова к христианству, к Православной Церкви и ее деятелям, вопрос о проявлениях религиозного миросозерцания в его произведениях, о его религиозном воспитании и окружении, о его месте в религиозном контексте эпохи — не только не изучен, но и практически не поставлен.
Неизученностъ столь важной проблемы значительно искажает облик писателя, масштаб и глубину его нравственно-художественных исканий. В глазах современников и потомков Гончаров вовсе не относился к числу искателей религиозной истины, подобно Л. Н. Толстому или Ф. М. Достоевскому. Поклонник искусства и красоты, защитник либерального воззрения на жизнь, любитель комфорта, художник, чуждый всякой утопии и тяготеющий к античному культу горацианской «меры», «золотой середины», автор «Обрыва» отчасти справедливо казался современникам человеком, весьма далеким от религиозных исканий. В оценке этой стороны его личности господствовали мнения однозначно негативные. Л. Н. Толстой однажды характерно противопоставил ему Ф. М. Достоевского: «Конечно, это настоящий писатель, с истинно религиозным исканием, не как какой-нибудь Гончаров»[2]. Понятно, что и в советское время в романисте хотели видеть человека атеистического и материалистического мировоззрения. Так, А. Г. Цейтлин в своей солидной монографии о Гончарове отмечал: «Нет в творчестве Гончарова… того религиозного пафоса, без которого нельзя себе представить Достоевского и Льва Толстого последнего периода его жизни. Внешнюю набожность, присущую Гончарову, никак нельзя смешивать с религиозным чувством в подлинном смысле. Веры в бога нет и у героев Гончарова…»[3]. Еще совсем недавно один исследователь утверждал, что «религиозная тема, по существу, отсутствует в романах Гончарова» и что «Гончаров пришел к материалистическому пониманию человека»[4].
Между тем и личность, и творчество Гончарова совершенно невозможно понять вне религиозного контекста. Правда, изучение религиозной жизни автора «Обломова» представляет собой весьма нелегкую задачу в связи с его крайней скрытностью в вопросах внутренней душевной жизни вообще. Еще М. Ф. Суперанский в 1913 году писал: «Что касается внутренней религиозности, то о ней мы знаем очень мало. В эту святая святых своей души он не пускал любопытных глаз. О религии с людьми, равнодушными к ней, он говорить не любил… или отделывался мало значащими фразами… он не был способен высказывать свои задушевные мысли в этой области, и если случайно проговаривался, то сейчас же старался сдержаться, тотчас же посмеяться над собой»[5]. Зато трудно не увидеть прямых и бесчисленных высказываний писателя, подтверждающих его глубокую укорененность в религии, в его статьях, письмах, воспоминаниях. Главное же заключается в том, что Гончаров на протяжении всей жизни последовательно и творчески выстраивал христианское мировоззрение в своих романах. Как у христианского мыслителя у Гончарова была своя «сверхзадача». Она-то и придает его романам истинную глубину и религиозно-философскую масштабность. В этом смысле существующие на сегодняшний день интерпретации гончаровских романов далеко не полно раскрывают их глубинный, все еще скрытый от нас смысл. В научный оборот все еще не попали многие и многие факты биографии писателя. Анализ творчества романиста под углом христианских идеалов обнаруживает и своеобразие Гончарова как религиозной личности и христианского мыслителя. Нужно признать, что автор «Обрыва» занимает куда более значительное место в ряду истинно религиозных писателей XIX века, чем мы это себе представляем.
Религиозное становление И. А. Гончарова в Симбирске
Гончаровы в Симбирске
Анализируя ход развития человеческой личности, Гончаров всегда отмечал органичность, естественность, постепенность этого развития. В письме к Великому князю Константину Константиновичу Романову от 12–15 сентября 1886 года он писал, что «Христовавера» «унаследуется сначала в семейном быту, от родителей, и потом развивается и укрепляется учением, проповедью наставников и, наконец, всем строем жизни христианского общества»[6]. Несомненно, что эти заключения писатель делал, исходя из собственного опыта. Как религиозная личность Иван Александрович Гончаров формировался в глубокой русской провинции, в старинном поволжском городе Симбирске. Обстановка провинциального Симбирска в трудах о Гончарове всегда представлена лишь несколькими штрихами, характеризующими мимолетно лишь некоторые, скорее традиционные и внешние, стороны жизни этого дворянско-купеческого городка. В основном исследователями приводятся отрывки из романа «Обломов», колоритно рисующие природу и нравы родины писателя. Эти всем известные поэтичные картины нравов провинциального города, поволжской природы действительно составляют едва ли не лучшие страницы «Обыкновенной истории», «Обломова», «Обрыва». Из этих описаний так и пробивается любовь писателя к родным местам: «С балкона в комнату пахнуло свежестью. От дома на далекое пространство раскидывался сад из старых лип, густого шиповника, черемухи и кустов сирени. Между деревьями пестрели цветы, бежали в разные стороны дорожки, далее тихо плескалось в берега озеро, облитое к одной стороне золотыми лучами утреннего солнца и гладкое, как зеркало; с другой — темно-синее, как небо, которое отражалось в нем, и едва подернутое зыбью. А там нивы с волнующимися, разноцветными хлебами шли амфитеатром и примыкали к темному лесу» (А. 1. 178)[7].
Несмотря на свою удаленность от столиц, Симбирск не был захолустьем. Более того, это был по-своему весьма примечательный город. В нем причудливо сочетались, с одной стороны, сонная «обломовщина», глубокий неподвижный провинциализм, а с другой — энергичная, порою даже подвижническая деятельность обитателей города в самых различных сферах жизни. Между прочим, Симбирск среди других провинциальных городов России выделялся необычайной представительностью замечательных дворянских родов. В очерке «На родине» сам романист писал: «Губернские города, подальше от столицы, были, до железных дорог, оживленными центрами общественной жизни. Помещики с семействами, по дальнему расстоянию от Москвы, проводили зиму в своем губернском городе. Наша губерния особенно славилась отборным обществом родовитых и богатых дворян» (VII. 233)[8] Как известно, наиболее престижными в дворянских книгах считались дворяне первого (жалованное, действительное дворянство) и шестого (древние благородные роды) разрядов. По количеству дворян этих двух категорий Симбирская губерния заметно отличалась от многих провинций России[9]. Все это создавало особую атмосферу в городе, «Симбирское дворянство было о себе высокого мнения и даже на губернаторов привыкло смотреть как на равных себе и членов своих обществ. Известно, что из-за столкновения с местным дворянством в середине XIX века губернию покинули подряд 3 губернатора (А. М. Загряжский, И. С. Жиркевич и И. П. Хомутов)» [10]
В Симбирской губернии было много знаменитых дворянских усадеб, с которыми так или иначе оказались связаны замечательные представители русской культуры XIX века, такие, как Н. М. Карамзин, Д. В. Давыдов, Н. М. Языков, С. Т. Аксаков, Д. В. Григорович, П. В. Анненков и др.[11]
Гончаров принадлежал к «коренной», заметной в Симбирске фамилии. Известно, что его дед, Иван Иванович Гончаров, родился в 1710 году в Симбирске — в семье солдата. Службой в Оренбургском крае дед писателя выслужил себе дворянство. В 1759 году 49-летний Иван Иванович Гончаров снова числится в Симбирске. У Гончаровых были родственные связи с симбирским дворянством и высокий авторитет в городе[12], его отец был довольно зажиточным купцом, хлеботорговцем, владельцем свечного завода, он неоднократно избирался симбирянами городским головой[13].
Важнейшие события семейной жизни Гончаровых, к счастью, оказались зафиксированными в так называемом «Летописце». Так, в «Летописце» есть запись 1742 года об Иване Ивановиче Гончарове: «Пожалован я из полковых писарей в аудиторы 1738 года июня 28 дня а из аудиторов в порутчики и 1742 году марта 18 дня и порутчицкой патент дан от Военной коллегии»[14]. В этой замечательной рукописной книге отмечено, в частности, и то, что Васса Степановна, вероятно, бабка романиста, «1759 году декабря 4-го числа… преставилась от сего света отыде в вечное блаженство погребена в Синбирску у Троицы в Николаев день»[15]. Тут же встречаются и другие по характеру записи, вроде: «1764-го года августа против 15-го числа то есть Успения Пресвятыя Богородицы всю нощь был гром велий беспрестанно и молния была беспрестанно»[16]. Однако «Летописец» интересен и в другом смысле. Он дает первые документированные сведения о религиозной атмосфере, в которой возрастал Иван Александрович Гончаров в своей семье.
Будущий писатель родился 6 июня 1812 года. Назвали его в честь св. Иоанна Предтечи, день памяти которого отмечается 7 июня, — Иваном. В одном из писем к Великому князю Константину Константиновичу Романову он писал: «Иоанн Креститель — и мой патрон»[17]. Крещение же состоялось 11 июня. Крестным отцом был надворный советник и кавалер Николай Николаевич Трегубов, которому суждено было сыграть немалую роль в дальнейшей судьбе писателя.
Крестной матерью стала некто Дарья Михайловна Косолапова, купеческая вдова.[18] К сожалению, о крестной матери Гончарова нам ничего не известно. Пока не совсем ясно, в какой церкви был крещен Иван Гончаров. Возможно, это была буквально примыкающая к дому Гончаровых церковь во имя Святой Живоначальной Троицы. Впрочем, известно, что свидетельство о крещении выдано лишь через десять лет: 16 мая 1822 года[19].
Гончаровы — старообрядцы? Отец и дед
Первый вопрос, с которым должен столкнуться исследователь религиозной биографии Гончарова, это вопрос о возможной принадлежности Гончаровых к старообрядцам. Один из первых биографов писателя М. Ф. Суперанский (1864–1930) имел возможность пользоваться еще устными преданиями Симбирска. В одной из своих работ он написал об отце Гончарова: «О нем сохранилось известие, что он был „человек ненормальный, меланхолик, часто заговаривался, был очень благочестив и слыл „старовером““[20]. К сожалению, нет точных сведений, был ли на самом деле Александр Иванович Гончаров (1754–1819) „старовером“. Впрочем, в этом не было бы ничего удивительного: как известно, в Поволжье традиционно было много старообрядцев. Когда на Соборе 1666–1667 годов был поднят вопрос о создании новой, Симбирской, епархии, необходимость в ней обосновывалась „остатками язычества среди самих русских и особенно быстрым распространением раскола“[21]. Во всяком случае, еще в середине XIX века, в 1854 году, старообрядцам была передана в Симбирске Успенская церковь.[22]
Впрочем, есть один факт, который косвенно мог бы свидетельствовать о том, что Гончаровы старообрядцами не были. Известно, что один из родственников писателя, некто Алексей Гончаров, еще в XVIII веке пожертвовал Смоленской церкви города Симбирска книгу святителя Димитрия Ростовского „Розыск о раскольнической брынской вере, об учении их, о делах их и изъявление, яко вера их не права, учение их душе вредно и дела их не богоугодны“ (1709)[23]. В то же время этого свидетельства явно недостаточно: Алексей Гончаров лично мог выйти из раскольничества, однако его пример еще не говорит обо всех симбирских Гончаровых, в вопросах веры каждый отвечает за себя. Публикаторы семейного „Летописца“ Гончаровых склонны поддерживать версию о старообрядчестве семьи Гончаровых: „В летописце в период Алексея Михайловича появляются записи о знамениях. Их количество постепенно в семейной части увеличивается. Отмечена и частая смена царской власти конца XVII — первой половины XVIII века. На наш взгляд, это еще одно дополнительное свидетельство в пользу версии о старообрядчестве Гончаровых… Старообрядцы сопоставляли эсхатологические сюжеты с современными им событиями и делали вывод о том, что последние времена наступили, поскольку исполнились предсказания о конце света“[24]. Впоследствии впечатления от „Летописца“ вошли в произведения Гончарова. В особенности это касается „Сна Обломова“, в котором воспроизводится и домашняя атмосфера детства писателя. В „Сне Обломова“ он упоминает, что обломовцы весьма падки на чудеса и знамения: „А то вдруг явятся знамения небесные, огненные столпы да шары…“ Это текстуально перекликается с „Летописцем“: „В тех же временах многое было знамение на небеси очень часто… Того ж году ноября 17-м числа знамение было на небеси огненные лучи и столбы“[25].
Гончаровская семейная книга с ее особенной духовно-нравственной атмосферой сыграла несомненную роль при описании психологии обломовцев в „Сне Обломова“. Собственно, „Летописец“ воспроизводил атмосферу не только семьи Гончаровых, но и всего поволжского городка.
Возникает вопрос: как же старообрядец крестил своих детей в обычной „новой“ церкви? Все дело в том, что в практической жизни очень часто границы новой и старой веры были весьма подвижны. Хотя в своем учении старообрядцы, и, в частности, „поповцы“, отвергали общение с „никонианами“, однако на практике таковое общение не только допускалось, но и было широко распространенным явлением. Границы „раскола“ были нечеткими и весьма подвижными из-за широкого распространения двоеперстия, вне зависимости от того, ходил ли человек на исповедь к „никонианскому“ священнику или в скит. Зачастую старообрядцы и „никониане“ посещали один храм и принимали требы у одного священника. Напомним, что В. И. Даль, отмечая положение старообрядцев в Поволжье в своей служебной записке о расколе, писал: „По всей Волге церковные расколы составляют весьма важную стихию черной стороны общественного быта… Заволжские уезды
Нижегородской губернии населены почти одними раскольниками, и притом северных толков, большею частью поповщины; в средних уездах много этих же раскольников, но есть и беспоповщина; в южных уездах господствует в народе, и даже в мордовском населении, созерцательная наклонность, сближающая его с тамбовскими хлыстами и христовщиной. Даже в чисто православных семьях большинство ходит на исповедь, но не бывает у святого причастия, называя себя недостойным; а обеты девства встречаются во множестве, равно и обычай строить отдельно от селения кельи, целый келейный ряд для этих отшельниц.
Все старания об уничтожении раскола носят на себе тот же странный и прискорбный отпечаток усиленной деятельности в средоточии, расплывающийся в последующих, низших степенях, для одного только виду, в бумажном многоделии, в словах и графах.
При нынешней полиции, а еще более при нынешнем священстве, никакие распоряжения правительства в этом отношении не могут принести пользы, потому что приход без раскольников считается плохим; приход с раскольниками гласными или отписными — также не корыстен; а приход с раскольниками безгласными, не попавшими своевременно в записи или отложившиеся после того, — самый выгодный и доходный. Такие раскольники всегда в руках у попа. Показать их всех раскольниками он не смеет, он тотчас был бы обвинен в том, что они при нем отложились, так как до него они раскольниками не показывались; ему даже и вовсе невыгодно было бы обнаруживать их и потерять этим вдруг лучшую часть своего дохода; не менее того, каждый из них у него в руках и каждому он грозит донесением об отступничестве его, потому что каждый записан православным. Дело оканчивается тем, что раскольники эти, по духовным росписям, оказываются самыми ревностными сынами церкви и записываются бытчиками. Таких бытчиков, по росписям, никогда не ступающих ногою на паперть церковную, много, гораздо более, чем отписных или гласных, и их каждый приходский священник передает преемнику своему, имея лучшую часть прихода, которою дорожит.
При таких отношениях очевидно, что никакие распорядки не могут помочь беде. Раскольники считают себя привилегированным сословием, которое бывает виновато тогда только, когда не уплатит требуемых с него поборов. Затем, раскольника преследуют следствием и судом, только по особым случаям ссоры с попом или при отказе в непосильных требованиях; и всякое новое постановление по расколу, в чем бы оно ни состояло, служит новыми тисками для вымогательства, более в нем местного значения нет“[26].
Соответственно, и приходскому духовенству было очень трудно различить православных и „раскольников“. Следует учесть и отношение к проблеме светской власти.
Окончательно вопрос мог бы быть прояснен, если бы сам Гончаров каким-либо образом указал на образ веры своих предков или оценил его. Однако романист почти не высказывался по поводу старообрядчества, нельзя сказать, что в его произведениях или письмах этот вопрос хоть сколько-нибудь акцентирован. Тем не менее добросовестности ради нужно, пожалуй, отметить некоторые факты, например, чтение Гончаровым „старообрядческой“ повести Н. С. Лескова „Запечатленный ангел“, которая упоминается в „Необыкновенной истории“[27]. Кроме того, во время своего путешествия по Сибири Гончаров повсюду видел старообрядческие поселения. В главе „Обратный путь через Сибирь“ он пишет: „Русские все старообрядцы, все переселены из-за Байкала. Но всюду здесь водружен крест благодаря стараниям Иннокентия[28] и его предшественников“ (А. II. 652). Последнее высказывание почти с полной ясностью говорит о том, что старообрядчество не одобряется писателем.
Весьма характерным в этом плане представляется эпизод из цензурной деятельности Гончарова. В 1865 году в газете А. А. Краевского „Голос“ (№ 33) была опубликована статья И. А. Острикова „Остзейский край со стороны религиозной нетерпимости“. В статье вскрывались факты притеснения раскольников „со стороны неразумных ревнителей православия“. Вокруг факта публикации статьи возникла интрига. А. А. Краевский как редактор газеты был привлечен к суду, причем — по настоянию министра внутренних дел П. А. Валуева. Вероятно, Гончаров мог смягчить позицию министра, что видно из обвинений товарища министра А. Г. Тройницкого в сторону Гончарова. Тройницкий упрекал Гончарова в том, что тот не выступил в Совете Главного управления по делам печати против решения министра привлечь Краевского к суду[29]. Итак, Гончаров мог выступить, но не захотел. Кажется, все дело в том, что Гончаров последовательно не принимал старообрядцев — и всегда занимал здесь официальную позицию.
Небезынтересно взглянуть и на его поздний очерк „Христос в пустыне“. Картина г. Крамского». Размышляя о зрителях, которые не могут принять изображения Иисуса Христа средствами живописи, Гончаров весьма категорично пишет о старообрядцах: «Сектанты наши, как известно, всякую другую иконопись, кроме византийской, старинного стиля, признают ересью» (VIII. 187). Логика же статьи самого Гончарова такова, что указанная оценка может восприниматься лишь как весьма негативная: «С большинством этой группы, стало быть, об искусстве рассуждать нельзя» (VIII. 187). При этом писатель употребляет такие оценочные по духу определения зрителей картины И. Н. Крамского, как «неразвитые» и «развитые». Очевидно, что критерий прогрессивности доминирует в сознании автора статьи. Вряд ли при таком, совершенно неслучайном, как мы увидим далее, умонастроении
Гончаров мог питать симпатию к старообрядчеству. Таково было и общее в то время восприятие старообрядчества, а именно: как сектантства. Много способствовала этому и официальная политика правительства по отношению к старообрядцам, особенно в эпоху Николая I.[30]
Есть и еще одна сторона вопроса, едва ли не более важная. Старообрядчество Гончаров увидел в Симбирске в «обломовском» варианте. С точки зрения столь важного для Гончарова понятия, как «обломовщина», речь должна идти уже не о старообрядчестве и не о Православии вообще, а о застойности провинциальной жизни, о своеобразном преломлении христианского мировоззрения в повседневной жизни провинциального человека. С этой точки зрения старообрядчество Гончаров не мог принять категорически. На протяжении всей жизни Гончаров был весьма чуток к вопросу о превращении религии в обряд, о внимании лишь к внешней стороне духовной жизни. Неприятие старообрядчества для Гончарова сопрягается прежде всего вопросом о творчестве, истории, цивилизации — в рамках христианства. Это был едва ли не коренной вопрос его религиозных воззрений. Романисту была глубоко чужда эсхатологичность миросозерцания старообрядцев.
В знаменитом «Сне Обломова» Гончаров описывает родной город как место сна и покоя, место, в котором царит именно религиозный обряд, прикрывающий, по сути, полуязыческое отношение к жизни. Здесь на первый план выступают сон и еда: «Какие запасы были там варений, солений, печений! Какие меды, какие квасы варились, какие пироги пеклись в Обломовке!» Вся эта картина как будто списана с жизни самого Гончарова в родном доме. Ведь здесь тоже царили довольство и достаток: «Дом у нас был, что называется, полная чаша, как, впрочем, было почти у всех семейных людей в провинции, не имевших поблизости деревни. Большой двор, даже два двора, со многими постройками: людскими, конюшнями, хлевами, сараями, амбарами, птичником и баней. Свои лошади, коровы, даже козы и бараны, куры и утки — все это населяло оба двора. Амбары, погреба, ледники переполнены были запасами муки, разного пшена и всяческой провизии для продовольствия нашего и обширной дворни. Словом, целое имение, деревня».
Однако рядом с этим довольством — празднословие, пересуды, равнодушное отношение к ближнему (писатель упоминает, что обломовцы всем селом пошли посмотреть на упавшего в бессилии больного человека, потрогали вилами и ушли!). Православие в Обломовке крайне обытовлено, затрагивает лишь плотски-душевную жизнь человека и не касается его духовной жизни. Отсюда столь большое место суеверий в Обломовке. Здесь любят разгадывать сны: «Если сон был страшный — все задумывались, боялись не шутя; если пророческий — все непритворно радовались или печалились, смотря по тому, горестное или утешительное снилось во сне.
Требовал ли сон соблюдения какой-нибудь приметы, тотчас для этого принимались деятельные меры».
Не случайно Гончаров в своих произведениях очень много места уделяет изображению контраста в человеке внешней обрядовой набожности и внутреннего несовершенства. Особенно его поражало, видимо, такое понимание христианства, при котором на первый план выступал своеобразный «фатализм», а самодеятельность человека («Бог-то Бог, да и сам не будь плох») не принималась во внимание. Именно из этого, похоже, и выводил Гончаров феномен «обломовщины». В черновиках к роману «Обломов» еще лучше, чем в окончательной редакции, была прописана эта сторона жизни в Обломовке: «Впрочем, старик был доволен, если хороший урожай или возвысившаяся цена даст ему дохода больше прошлогоднего: он называл это благословением Божиим. Он только не любил выдумок и натяжек к приобретению денег. „Отцы и деды не глупее нас были, — говорил он в ответ на какие-нибудь вредные, по его мнению, советы, — да прожили век счастливо: проживем и мы: даст Бог, сыты будем“. Получая, без всяких лукавых ухищрений, с имения столько дохода, сколько нужно было ему с семейством, чтоб быть с излишком сытым и одетым, он благодарил Бога и считал грехом стараться приобретать больше. Если староста приносил ему две тысячи, спрятав третью в карман, и со слезами ссылался на град, засуху, неурожай, старик Обломов крестился и тоже со слезами приговаривал: „Воля Божья; с Богом спорить не станешь. Надо благодарить Господа и за то, что есть“…» (А. V. 112–113),
Такие картины окружали романиста с детства. Он сделал заключение, что в подобных случаях апелляция к Богу есть лишь оправдание собственной нерадивости, бездеятельности. Для обломовцев же это вопрос принципиальный. Они настаивают на том, что отсутствие деятельности не допускает и греха. В том типе Православия, которое исповедовалось в Обломовке (возможно, и в семье Гончаровых), приобретение считалось грехом. В черновиках к роману сказано, что Илья Ильич «уж был не в отца и не в деда. Он… учился, жил в свете. Он понимал, что приобретение не только не грех, но что это долг всякого гражданина… частными стремлениями и трудами поддерживать общее благосостояние» (А. V. 115). А ведь это уже почти протестантский взгляд на приобретение. В Обломовке говорят о грехе тогда, когда нужно оправдать свою бездеятельность: «Если бы кто-нибудь из соседей, которые чужие дела знают лучше своих, вздумал породить в Обломове подозрение насчет бескорыстия приказчика, старик всегда качал головой и приговаривал: „Не греши, брат, долго ли опорочить человека? ну а как неправда, что тебе на том свете за это будет?“…» (А. V. 113).
Язычество, суеверие, бездеятельность, неподвижность, чудным образом уживавшиеся с православным обрядом, видимо, произвели на будущего писателя гнетущее впечатление. Чем более он будет взрослеть, приходить в меру духовного возраста, тем более его будет интересовать проблема: как должны в идеале сочетаться в обыденности религиозные истины и жизненная практика. Гончаров жаждал религии, которая могла бы органично сочетаться с культурой, жизненным комфортом, цивилизацией. В Симбирске же он столкнулся с обрядоверием.
Если его отец и был старообрядцем, то он умер довольно рано, в сентябре 1819 года, когда будущему писателю едва исполнилось семь лет. В дальнейшем его воспитание, в том числе и религиозное, будет значительно скорректировано иными влияниями. Независимо от вопроса о старообрядчестве нельзя не отметить действительно глубокой религиозности Гончаровых по отцовской линии. М. Ф. Суперанский, отмечая самые характерные черты в роду Гончаровых, упоминает «глубокую религиозность, крепко соединенную с обрядностью, как и привязанностью к старому русскому быту вообще, отличавшие старшие поколения, включая брата и сестер писателя»[31].
Дед писателя, Иван Иванович Гончаров, был человеком не только религиозным, но и «книжным», что и проявилось в упомянутом «Летописце». Весьма заметную часть этой рукописной семейной книги занимают «Страсти Христовы». Иван Иванович Гончаров в 1720-х годах взял на себя своего рода духовный подвиг: несколько лет переписывал (и даже, возможно, обрабатывал[32]) средневековое сочинение «Страсти Христовы», которое имело особенно широкое распространение именно в старообрядческой среде. В этом книжном памятнике подробно описывались последние дни жизни Иисуса Христа перед распятием. Нет сомнения, что еще в детстве маленький Иван Гончаров слышал чтение этой дедовской книги и держал «Летописец» в руках. Можно себе представить, что чувствовал и переживал впечатлительный мальчик, когда кто-нибудь из взрослых читал: «Наутрие же и возложиша на него великия железа на шию его и руце и приведоша его во двор Каиафе и тогда собрашася окаянии жидове малие и велице и с великою радостию яко во своих руках имеют его начата его бити по ланитам и пхаху и плеваху аки в простое лице и в пречистые его очеса и во святыя уста…» Несомненно, дед писателя имел творческие наклонности и скорее всего действительно не ограничивался механической перепиской памятника. О его склонности к живописанию свидетельствуют заключительные строки, содержащие выразительную метафору: «Во славу снятый единосущный и неразделимые Троицы Отца и Сына и Святаго Духа написежеся сия богодохновенная книга страсти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Лета от сотворения мира 7236 году от воплощения же Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 1728 году сентября 14 дня солдатского сына Ивана Иванова Большаго Гончарова и писана в городу Синбирску от оного Ивана Гончарова много грешнаго ево рукою яко серна от тенет избавися и тако и аз от сего труда. Аминь»[33].
После того, как в 1728 году Иван Иванович закончил обрабатывать «Страсти Христовы», он начинает списывать в «Летописец» повесть под названием «Повесть о крестном сыне». Повесть представляет собою апокриф, рассказывающий о том, как один бедный человек не мог найти крестного отца для родившегося сына: все гнушались бедностью этого человека. Однако, видя такую несправедливость, Сам Господь вызвался стать крестным отцом мальчика. Этот апокриф был широко известен, он зафиксирован и в собрании В. И. Даля. Дед писателя поясняет в конце, зачем он переписал эту повесть: «…Сие же написано бысть слышащим пользы ради»[34]. Читая указанные апокрифы, переложенные дедом писателя, удивляешься как религиозности совсем еще юного Ивана Ивановича Гончарова, так и его литературному дару. После опубликования «Летописца» можно не сомневаться, что писательский дар в семье Гончаровых был наследственным. Автор «Обломова» и унаследовал его от своего деда.
Мать: Авдотья Матвеевна (рожд. Шахторина)
Если Гончаровы по отцовской линии отличались глубокой религиозностью, то и мать писателя, Авдотья Матвеевна, урожденная Шахторина (1785–1851), судя по всему, была женщиной набожной — ив этом духе старалась воспитывать своих детей. Она происходила из купеческой семьи и вышла в 1803 году замуж за 50-летнего Александра Ивановича в 19 лет. О родной ее семье Шахториных в религиозном отношении ничего сказать нельзя за неимением сведений. Сама же Авдотья Матвеевна отличалась еще и необыкновенным умом, практичностью, деловитостью. О своей матери Гончаров вспоминал как о «необыкновенно умной, прозорливой женщине», она была для детей нравственным авторитетом, перед которым они «склонялись с не нарушенным ни разу уважением, любовью и благодарностью». Хотя Авдотья Матвеевна не получила образования, она была хорошей воспитательницей своих детей. «Мать любила нас, — отмечал Гончаров, — не той сентиментальною, животною любовью, которая изливается в горячих ласках, в слабом потворстве и угодливости детским капризам и которая портит детей. Она умно любила, следя неослабно за каждым нашим шагом, и с строгою справедливостью распределяла поровну свою симпатию между всеми нами четырьмя детьми. Она была взыскательна и не пропускала без наказания или замечания ни одной шалости, особенно если в шалости крылось зерно будущего порока. Она была неумолима» (VII. 235). Семья получилась немаленькая: кроме Ивана, было еще трое детей. Брат Николай (1808–1873) стал учителем гимназии, а в конце 1850-х — начале 1860-х годов — редактором газеты «Симбирские губернские ведомости». Были еще сестры: Александра (по мужу Кирмалова, 1815–1896) и Анна (по мужу Музалевская, 1818–1898), Мать строго следила за воспитанием осиротевших в 1819 году детей. Следует прибавить, что иногда она прибегала даже к телесным наказаниям[35].
Как уже было сказано, Авдотья Матвеевна была религиозна. Известно, что даже дома она часто молилась и читала акафисты. Внук Авдотьи Матвеевны Александр Николаевич Гончаров вспоминал, что в ее комнате «был большой киот и постоянно горела синяя лампада»[36]. Ежегодно, по заведенному обычаю, она присутствовала на исповеди в Спасо-Вознесенском соборе[37].
Судя по роману «Обломов», Авдотья Матвеевна пыталась приучить Ивана к молитве: «Став на колени и обняв его одной рукой, подсказывала она ему слова молитвы. Мальчик рассеянно повторял их, глядя в окно, откуда лилась в комнату прохлада и запах сирени.
— Мы, маменька, сегодня пойдем гулять? — вдруг спрашивал он среди молитвы.
— Пойдем, душенька, — торопливо говорила она, не отводя от иконы глаз и спеша договорить святые слова. Мальчик вяло повторял их, но мать влагала в них всю свою душу» (Ч. 1. Гл. IX). О религиозном воспитании романиста можно получить представление и из романа «Обыкновенная история». Александр Адуев «вспомнил, как, будучи ребенком, он повторял за матерью молитвы, как она твердила ему об ангеле-хранителе, который стоит на страже души человеческой и вечно враждует с нечистым; как она, указывая ему на звезды, говорила, что это очи Божиих ангелов, которые смотрят на мир и считают добрые и злые дела людей, как небожители плачут, когда в итоге окажется больше злых, нежели добрых дел, и как радуются, когда добрые дела превышают злые. Показывая на синеву дальнего горизонта, она говорила, что это Сион…» (Ч. 2. Гл. VI).
Как ни старалась Авдотья Матвеевна, мальчишеское, детское брало-таки верх. В черновиках очерка «На родине» Гончаров признается: «Убегаешь, бывало, к нему (крестному Николаю Николаевичу Трегубову. — ВJVf.), когда предстояло идти ко всенощной, или в непогоду, когда она (мать. — В. М.) шила, читать ей вслух, или пока она молится, стоя на коленях, Акафист Спасителю…»[38]. В доме Гончаровых было множество образов, перед которыми домочадцы будущего писателя молились, а мать читала акафисты. Биограф Гончарова Е. Ляцкий, очевидно, опираясь на устные воспоминания самого писателя или иных свидетелей, отмечал, что в доме Гончаровых «находили приют юродивые; стекались и множились рассказы о святых местах, чудесах, исцелениях»[39]. По смерти Авдотьи Матвеевны «большой киот» был, видимо, расформирован. Александр Николаевич, племянник Гончарова, рассказывал: «Из старого гончаровского наследства всем нам досталось по два, по три образа. Я получил два образа, из которых один — образ Спасителя в тяжелой позолоченной ризе. У Ивана Александровича, на Моховой, в задней комнате, также было несколько образов из старого гончаровского дома».[40]
Скорее всего именно в Симбирске Гончаров узнал простонародный обычай «клятвенно побожиться», сняв со стены образ и поцеловав его. В романе «Обломов» Анисья успокаивает Илью Ильича, «сказав ему, что никто о свадьбе ничего не говорил: вот побожиться не грех и даже образ со стены снять» (Ч. 3. Гл. IV). В другом месте Анисья говорит, что «хозяйка тоже готова снять образ со стены», что слух о свадьбе «выдумал, должно быть, враг рода человеческого» (Ч. 3. Гл. VI). Вообще в Симбирске, прежде всего, видимо, усилиями Авдотьи Матвеевны, заложены были основы религиозного мировосприятия писателя, так называемого «народного Православия». Нельзя умолчать о замечательном факте, относящемся до религиозной жизни Авдотьи Матвеевны. Скончалась она в день Святой Пасхи. В «Летописце» имеется запись: «1851-го года 11-го апреля на Пасху в среду скончалась Авдотья Матвеевна Гончарова на 65-м году от рождения, урожденная Шахторина, от удара, а погребена 13-го апреля на кладбище Всех Святых»[41]. Своей сестре Александре Александровне Гончаров писал 5 мая 1851 года: «Притом жизнь ее, за исключением неизбежных человеческих слабостей, так была прекрасна, дело ее так было строго выполнено, как она умела и могла, что я после первых невольных горячих слез смотрю покойно, с некоторой отрадой на тихий конец ее жизни и горжусь, благодарю Бога за то, что имел подобную мать. Ни о чем и ни о ком у меня мысль так не светла, воспоминание так не свято, как о ней».
Говоря о религиозной атмосфере, сложившейся в семье Гончаровых, Е. Ляцкий отмечал: «Иван Александрович не ушел далеко от своих предков в этом отношении, а все Гончаровы были очень религиозны — у некоторых членов их рода религиозность доходила до мании. Таков был брат писателя, вынесший эту черту, несомненно, из родительского дома и впоследствии развивший ее до крайности. Сын его, Александр Николаевич, с ужасом вспоминал хождения по церквам после систематических субботних порок и пинки в поощрение молитвенного усердия»[42]. Можно отметить, что Николай Александрович был в вопросах религиозного быта более традиционным человеком, нежели его петербургский брат.
Как бы то ни было, родители Гончарова создали в семье атмосферу религиозного благочестия, которую Иван Александрович впитал в детстве. Несомненно, что в своей семье писатель получил серьезную религиозную закваску. Рядом с домом Гончаровых находилось несколько храмов, Храм Вознесения находился не более чем в ста метрах от дома Гончаровых (ныне его не существует), на Большой Саратовской улице, и, конечно, по воскресным дням и православным праздникам мальчик Гончаров ходил либо туда, либо в храм Живоначальной Троицы вместе с матерью на службы.
Не случайно о «всенощных», которые нужно было ему посещать вместе с матерью, упоминает он в очерке «На родине». Как мы увидим далее, впоследствии это помогло ему встать на путь личного благочестия, сохранить в либеральной среде, чуждавшейся религиозной горячности и считавшей ее «манией», глубокую веру в Бога, быть вполне воцерковленным человеком. Решающая роль в этом, конечно, принадлежала его матери.
Крестный Николай Николаевич Трегубов
Отец Ивана Александровича умер, когда будущему писателю было всего семь лет. После смерти Александра Ивановича многие заботы о воспитании детей взял на себя их крестный отец, отставной моряк, дворянин Николай Николаевич Трегубов, В биографиях Гончарова о нем почти ничего не говорят. Единственное издание, дающее хотя бы некоторые представления о жизненной канве Трегубова, это энциклопедический словарь «Русское масонство». Поскольку биография Трегубова до сих пор неизвестна, позволим себе более подробный рассказ о ней. В упомянутом словаре сказано, что в 1784 году Трегубов поступил в Инженерный корпус кадетом. В 1788-м состоял при знаменитом полководце А. В. Суворове для связи с гребной флотилией. В 1789 году произведен в лейтенанты артиллерии и определен в Черноморский флот. На корабле «Преображение» участвовал в 1790 году в сражениях с турецким флотом при Керченском проливе и у Гаджибея, а в 1791-м — у Калиакрии. До 1797 года плавал на транспортных судах в Черном море. В ноябре 1798 года уволен от службы в чине капитан-лейтенанта, но продолжал служить артиллеристом на военном корабле. Участвовал в сражениях с французами в Средиземном море, в блокаде итальянских портов. Затем его следы обнаруживаются уже в Симбирске, где была одна из самых сильных в России масонских лож. И здесь карьера его быстро набирает высоту. В 1803–1814 гг. бывший морской офицер служит заседателем Симбирской палаты уголовного суда, становясь в 1812 году надворным советником. В 1821–1822 гг. он уже судья палаты совестного суда, помещик. Умер Трегубов в 1849 году.[43] Сам Гончаров в воспоминаниях «На родине» говорит о нем следующее: «Добрый моряк окружил себя нами, принял нас под свое крыло, а мы привязались к нему детскими сердцами, забыли о настоящем отце. Он был лучшим советником нашей матери и руководителем нашего воспитания.
Якубов (под этой фамилией Гончаров описывает в очерке Трегубова. — В. М.) был вполне просвещенный человек. Образование его не ограничивалось техническими познаниями в морском деле… Он дополнял его непрестанным чтением — по всем частям знания, не жалел денег на выписку из столиц журналов, книг, брошюр…» (VII. 234).
Заступивший место отца Трегубов отчасти смягчал строгую систему воспитания матери. Он был, по словам Гончарова, «отец-баловник… Баловство — не до глупой слабости, не до излишества — также необходимо в детском воспитании. Оно порождает в детских сердцах благодарность и другие добрые, нежные чувства. Это своего рода практика в сфере любви, добра. Сердце, как и ум, требует развития.
Бывало, нашалишь что-нибудь: влезешь на крышу, на дерево, увяжешься за уличными мальчишками в соседний сад или с братом заберешься на колокольню — она (мать. — В. М.) узнает и пошлет человека привести шалуна к себе. Вот тут-то и спасаешься в благодетельный флигель, к „крестному“. Он уж знает, в чем дело. Является человек или горничная с зовом: „Пожалуйте к маменьке!“ — „Пошел“ или „Пошла вон!“ — лаконически командует моряк. Гнев матери между тем утихает — и дело ограничивается выговором вместо дранья ушей и стояния на коленях, что было в наше время весьма распространенным средством смирять и обращать шалунов на путь правый» (VII. 235). Гончаров всю жизнь вспоминал о нем, что это был человек «редкой, возвышенной души, природного благородства и вместе добрейшего, прекрасного сердца». «Особенно, — писал он, — ясны и неоцененны были для меня его беседы о математической и физической географии, астрономии, вообще космогонии, потом навигации. Он познакомил меня с картой звездного неба, наглядно объяснял движение планет, вращение земли, все то, что не умели или не хотели сделать мои школьные наставники» (VII. 238).
Именно Трегубову обязан Гончаров своим путешествием на фрегате «Па л лада». Бывший моряк, сам освоивший Черное и Средиземное моря, видимо, мечтал о большем и, как это часто бывает, свои несбывшиеся надежды хотел воплотить в «подрастающем поколении». Он буквально заразил маленького Гончарова мечтой о кругосветном путешествии. В библиотеке Трегубова было множество книг о кругосветных плаваниях. Книги эти маленький Ваня «жадно поглощал». Подолгу смотрел он на морские инструменты, находившиеся во флигеле крестного: на телескоп, секстан, хронометр. В заключение бесед со своим любимым воспитанником Трегубов говаривал: «Ах, если бы ты сделал хоть четыре морские кампании… то-то бы порадовал меня!» Еще ребенком Ваня целые часы мечтательно вглядывался в широкую пелену волжских вод с высокого городского обрыва: «Поддаваясь мистицизму, можно, пожалуй, подумать, что не один случай только дал мне такого наставника, — для будущего моего дальнего странствия» (VII. 239).
Влияние Трегубова и его роль в семье Гончаровых были очень велики. Например, племянник романиста Александр Николаевич Гончаров в своих воспоминаниях отмечал: «Музалевские имели очень хорошие по тому времени средства: Трегубов оставил Анне Александровне (родной сестре Гончарова. — ([А-ЯA-Z]) ([А-ЯA-Z])) около десяти-двадцати тысяч рублей и до двухсот десятин земли вблизи Симбирска»[44].
Однако что представлял собою Трегубов как религиозная личность, как влиял он на Гончарова в детстве в этом отношении? Собственно, о религиозном его влиянии писатель не упоминает ни разу. Однако ясно, что общее влияние крестного было слишком велико. Трегубов был масоном и человеком скорее атеистического, чем религиозного склада. Следует помнить, что Симбирск был традиционно сильным масонским центром. Лишь после 14 декабря 1825 года, когда правительство стало преследовать масонские ложи в России, все масоны в Симбирске, как отметил в своих воспоминаниях Гончаров, «пошили себе мундиры; недавние атеисты являлись в торжественные дни на молебствия в собор… „Крестный“ мой… под ферулой прежнего страха, тоже вторил другим» (VII. 247).
Никто из советских и позднейших биографов Гончарова не упоминает о том, что Николай Трегубов в конце жизни сильно изменился. Однако известно, что, будучи тяжело больным и приближаясь к преждевременной смерти, крестный отец Гончарова сознавал свое положение как наказание за грех. Он резко меняет свое отношение к церкви. Е. Ляцкий в своей книге пишет: «Перед смертью Якубов (под этим именем выведен Трегубов в очерке Гончарова „На родине“. — ([А-ЯA-Z]) ([А-ЯA-Z])), этот масон и вольнодумец в Екатерининском вкусе, раскаялся и, как передает г. Потанин со слов племянника Ивана Александровича, „говел всю Страстную неделю, лакеи таскали его, безногого, к заутрене, к обедне, к вечерне и, главное, непременно к заутрене“…»[45].
Священник Федор Степанович Троицкий
За Волгой, в селе Репьевка, существовал пансион «для местных дворян»[46], который содержала Екатерина Павловна Хованская, дочь соратника Суворова — генерала П. И. Ивашева и сестра декабриста В. И. Ивашева, члена «Южного общества». Здесь Гончарова воспитывал три года (в 1820–1822 гг.) священник Федор Степанович Троицкий, образ которого скорее всего представлен в романе «Обрыв». Е. Ляцкий пишет, что он был «воспитанник казанской академии, человек просвещенный и, можно думать, широко образованный»[47]. Сам же Гончаров в своей первой автобиографии называет Троицкого «сельским священником, весьма умным и ученым человеком» (VIII. 221). Это был «прогрессивный» священник. Он изящно одевался, читал светских философов и писателей. В пансионе Гончаров впервые понял, что такое библиотека. Более всего ему запомнились сочинения Г. Р. Державина, которые он «переписывал и учил наизусть», Д. И. Фонвизина («Недоросль»), В. А. Озерова.
Помимо немецкого и французского языков, в пансионе маленький Гончаров изучал, между прочим, Закон Божий и Священную историю. В романе «Обрыв» рассказывается, что Райский учился в школе вроде пансиона, откуда иногда приезжал домой. В этой школе «священник толковал историю Иова, всеми оставленного на куче навоза, страждущего». Образ св. Иова пройдет через все творчество Гончарова. Во многом он сам уже в старости сознавал прожитую жизнь в свете этого библейского образа. Не в сельском ли пансионе было положено отцом Федором начало глубокой жизненной философии Гончарова? В таком случае священник Троицкий — далеко не проходной образ в биографии писателя.
Женат отец Федор был на лютеранке, перешедшей в Православие. А в романе «Обрыв», может быть, неслучайно, священника герои зовут непривычно: по имени-отчеству (Николай Иванович), да и в круг чтения этого батюшки входят такие мыслители, как Б. Спиноза, Ф. Вольтер, Л. Фейербах… Может быть, на этот раз следует поверить сбивчивым и не всегда правдивым воспоминаниям писателя Г. Н. Потанина, который подчеркивает некоторую светскость в образе отца Федора: «Почтенный протоиерей… был весьма замечательный человек; он кончил курс в академии и присватался к местной гувернантке Лицман; та приняла Православие и превратилась в попадью, а он после посвящения получил место попа в родное село Архангельское и, точно в знак благодарности, принял от жены фамилию Лицман. В доме Гончаровых я часто видел протоиерея Троицкого, уже стариком, но и тогда он был красавец и щеголь, одевался в бархат, имел приятный голос, живо, увлекательно говорил, а от братии своей попов отличался особенно изящными манерами и умел держать себя корректно. В доме Гончаровых протоиерей Троицкий был такая почетная личность, что его встречали как архиерея»[48].
Вот такой несколько европеизированный батюшка воспитывал в детстве Гончарова. В его библиотеке нашел маленький Ваня Гончаров, помимо упомянутых русских классиков, путешествия Д. Кука, C. IL Крашенинникова на Камчатку, Мунго-Парка в Африку, исторические книги К. Ф. Милота, Н. М. Карамзина, И. И. Голикова, тут же произведения Ж. Расина, Т. Тассо, Вольтера, Ж. Ж. Руссо, Л. Стерна, А. Радклиф, М. В. Ломоносова.
Гончаров в своей автобиографии уже в конце 1858 года все еще считает важным отметить, что батюшка был «женат на иностранке» (первая автобиография). В последней автобиографии он уже обойдет этот факт молчанием, не станет придавать ему столь большого значения. Пансион отца Федора дал первую цивилизационную прививку душе Гончарова. Вряд ли религиозная обстановка в родной семье позволяла мальчику понять, что религиозность и цивилизованность совместимы, что религия может находить выход в вопросы культуры. Отец Феодор был первым, кто словом и делом мог направить ум Гончарова по тому пути, который приведет его в последующем к настоящим религиозным исканиям — в рамках означенной проблематики. Гончаров никогда не изменял евангельским идеалам, все более и более утверждаясь в них. И вместе с тем любимыми словами писателя до конца жизни останутся «культура», «гуманитет», «цивилизация», «комфорт». Его религиозность по своему духу в значительной степени предшествовала тому типу религиозности, который сложился в интеллигентской среде начала XX века.
Симбирск и святой блаженный Андрей (Огородников)
Нельзя не отметить еще один важный фактор религиозного воспитания Гончарова: самый Симбирск, его религиозную атмосферу. Уже в 1648 году, когда был основан Симбирск, в нем было 18 церквей и 3 часовни[49]. В начале 1832 года в Симбирской губернии было уже 603 приходские церкви[50]. В 1698 году был основан Покровский мужской монастырь[51]. Одновременно с Симбирским кремлем начал строиться Спасский женский монастырь, располагавшийся в нескольких сотнях метров от дома Гончаровых.
Симбирск относился к тем благодатным местам, в которых не иссякало народное благочестие. Недаром здесь одновременно с Гончаровым возрастал на примерах этого благочестия известный «Серафимов служка» Николай Александрович Мотовилов, который был старше
Ивана Александровича всего на три года. Были в Симбирске свои святыни и легенды, мимо которых вряд ли прошел маленький Иван Гончаров. Нельзя не упомянуть здесь известный факт явления иконы святителя Николая Угодника в селе Промзино. Это чудесное явление знали все симбиряне, да и не только симбиряне, но и жители соседних губерний. Почитание «Николиной горы» зародилось издавна и продолжается до сих пор. Явление этой иконы предание связывает с защитой села Промзина-Городища от набега кубанских татар в XVI веке. В 1552 году к Промзину подошли полчища кубанских татар и приготовились к переправе через холодную и прозрачную реку Суру. Небольшой гарнизон Городища ожидал неминуемой гибели. Но внезапно нападавшие остановились. Один из сторожевых воинов, знавший татарский язык, переправился через Суру в стан кубанцев. Он спросил: «Что стоите вы здесь вот уже столько времени?» Ему отвечали: «Разве ты не видишь, какой ужас перед нами? Вокруг нас непроницаемая мгла, среди которой на горе в необыкновенном сиянии стоит какой-то величественный старец с изображением вашего храма в одной руке и с мечом в другой. Рядом с ним на коне, со смертоносным копьем еще какой-то грозный юноша, готовый ринуться на нас тотчас, как только мы осмелимся сделать хоть шаг вперед… Мы желали бы возвратиться скорее домой, но сзади нас такой дремучий лес, которым мы как будто и не шли сюда. Наверно, за землю вашу вступился сам Бог ваш и грозит нам своим мечом».
Взглянул воин на Белую гору и увидел на ней величественного старца и рядом с ним грозного юношу-воина. В них он узнал святого Николая Чудотворца и святого великомученика Георгия Победоносца. Воин показал татарам обратный путь, и они обратились в бегство, а сам он возвратился в Городище и рассказал о всем виденном. Жители поспешили на Белую гору, а во главе их поехал воин, говоривший с кубанцами. На вершине горы конь вдруг споткнулся и пал передними ногами на колени. Оказалось, что он стоит на коленях перед иконой святителя Николая Чудотворца, скрытой в земле. Народ с благоговением поднял икону.
Икона эта существует и доныне. В гончаровские времена она хранилась в селе Промзино, но приведенную легенду о ней Гончаров скорее всего слышал. Может быть, не лишним будет отметить, что она пользовалась большим уважением у старообрядцев[52]. Были и в самом Симбирске чудотворные иконы (прежде всего образ Смоленской Божией Матери), которые, без сомнения, почитала мать писателя[53]. Почитание Смоленской Божией Матери в доме Гончаровых, между прочим, отразится и в романе «Обломов», о чем будет сказано позже подробно. Но главной «религиозной достопримечательностью» Симбирска был Андрей Ильич Огородников.
В дни гончаровского детства нередки были поездки симбирян к великому подвижнику русской земли преподобному Серафиму Саровскому. А тот им говорил: «Зачем это ко мне, убогому, вы трудитесь приходить — у вас лучше меня есть, Андрей ваш Ильич…» И вправду Андрей Ильич, в 1998 году прославленный Церковью как местночтимый святой, а в 2004 году — как святой всей Русской Православной Церкви, был душой старого Симбирска XIX века, его заступником и Ангелом-хранителем. Это был человек великих дарований, в городе его все знали и любили.
Блаженный Андрей Ильич почитался всеми симбирянами, независимо от того, к какому сословию они принадлежали, — как заступник, хранитель Симбирска. Тогда это был весьма небольшой дворянско-купеческий городок, так что жизнь Андрея Ильича проходила, можно сказать, на глазах у всех горожан — потому-то многие эпизоды его жизни сохранились в народной памяти. Деревянный Симбирск, как известно, неоднократно горел. Однако при жизни Андрея Ильича в городе ни разу не было больших опустошительных пожаров. Интересно, что после смерти святого пожары в Симбирске возобновились. Андрей Ильич еще с раннего детства взял на себя подвиг молчальничества и объяснялся жестами. Все горожане знали о том, что каждое действие Андрея Ильича имеет потаенный смысл. Если он давал кому-то деньги, то человеку этому способствовал успех в делах или повышение по службе. Если же блаженный Андрей подавал человеку щепку или горсть земли — то это было знаком скорой кончины. Часто предупреждал он людей о смерти, готовя их к христианской кончине, и тем, что приходил к ним в дом и, вытягиваясь, подобно покойнику, ложился под образами в переднем углу.
Блаженный не только отказался от многих условностей, от обуви, одежды, Аскеза его превосходила всякое воображение. Известны случаи, когда он мог прямо из огня вытаскивать руками чугунные горшки. Много раз целовал Андрей Ильич кипящий самовар, и притом если обливался кипятком, то нисколько не страдал из-за этого. Горожане часто видели его стоящим босиком в сугробах по целым ночам. Часто стоял он почти нагой на перекрестке улиц и, покачиваясь с боку на бок, переминаясь с ноги на ногу, повторял: «Бо-бо-бо», Особенно часто простаивал он в снежных сугробах ночи перед алтарем Вознесенского собора, который находился на Большой Саратовской улице, то есть прямо около дома Гончаровых. Там его не раз заставал стоящим в снегу священник В. Я. Архангельский, который и был духовником блаженного. В сильные зимние морозы стоял Андрей Ильич в холодной воде озера Маришка. Умер блаженный в 1841 году. В это время Гончарову было уже 29 лет, он успел окончить Московский университет, послужить год секретарем канцелярии у симбирского губернатора Александра Михайловича Загряжского, а затем получить место, не без помощи того же Загряжского, в Министерстве финансов в Санкт-Петербурге.
Глубоко религиозная мать Ивана Александровича, несомненно, как и все горожане, почитала святого человека. Если св. блаженный Андрей чаще всего переминался с ноги на ногу именно у Вознесенского собора, то маленький Гончаров его, несомненно, видел неоднократно. В Музее И. А. Гончарова ныне хранится портрет св. блаженного Андрея Симбирского, написанный, очевидно, при его жизни и хранившийся в доме Гончаровых. История портрета пока не раскрыта. В книге, посвященной блаженному Андрею, сказано, что этот портрет «находился над письменным столом писателя-симбирянина И. А. Гончарова, упоминавшего блаженного в своих произведениях»[54]. Однако Иван Александрович почти никогда не упоминал о представителях так называемого народного Православия, о юродивых, прорицателях, аскетах (гораздо понятнее и ближе ему был христианский ученый-мыслитель блаженный Августин, с трудами которого автор «Обрыва» действительно был знаком). Хотя во «Фрегате „Паллада“» встретится фигура «сибирского Иова» — типичного представителя народного Православия, напомнившего, вероятно, писателю о родном Симбирске и его нравах. Гончаров, несомненно, много слышал о блаженном Андрее как об одной из главных живых достопримечательностей Симбирска.
Но как ни хороша идиллическая картина, а достоверно известно, что портрет блаженного Андрея никогда не висел над письменным столом «писателя-симбирянина» Гончарова. Ни в одной автобиографии, ни в воспоминаниях «На родине», ни в романе «Обрыв» — нигде не говорит романист об этой живой легенде Симбирска[55]. Лишь один раз в письме к сестре, Анне Александровне Музалевской, от 20 сентября 1861 года он напишет о своем племяннике Викторе Михайловиче Кирмалове: «По возвращении моем сюда, застал я его бледна, изнуренна, крайне лохмата местами, под мышцами более, в изодранном одеянии и при том без калош по грязи ходяща, так что если бы он выучился мерно произносить: би, би, бо, бо, бо, — так мог бы с большим успехом поступить в должность симбирского Андреюшки, которую тот с таким успехом исправлял в течение 30 или 40 лет»[56].
Помнил Иван Александрович блаженного Андрея Ильича хорошо. Так хорошо, что и называет его так, как звали большинство горожан: «Андреюшка». Есть основания предполагать, что блаженный Андрей, часто заходивший в дома симбирян, бывал и у Гончаровых. Может быть, устные воспоминания родственников Гончарова дали Е. Ляцкому основание сказать о том, что в доме Гончаровых «находили приют юродивые». Если о юродивых здесь сказано столь неопределенно, то в первую очередь следует предположить, что речь идет о блаженном Андрее Ильиче Огородникове, Именно он мог посетить богобоязненных Гончаровых. Других юродивых в то время в Симбирске не было. Не отсюда ли и портрет блаженного Андреюшки в доме Гончаровых? В любом случае ясно, что еще в детстве будущий писатель не прошел мимо этого святого. Это была его первая встреча со святым человеком. Впоследствии ему будет суждена еще одна такая же встреча (со святителем Иннокентием Вениаминовым). Но тогда он уже сумеет оценить ее и даже подробно описать в своей книге «Фрегат „Паллада“».
Среди святынь, которые ценили симбиряне, был и Свято-Троицкий монастырь в городке Алатыре Симбирской губернии, в то время еще очень обширной. Еще в середине XVIII века, в 1748 году, найден был в монастыре гроб с нетленными мощами схимонаха Вассиана. С тех пор место его погребения привлекало к себе много народа. У мощей схимонаха Вассиана совершалось много исцелений[57].
Таким образом, в родном Симбирске были заложены надолго духовные основы всей жизни Гончарова. Здесь не все было равнозначно: крепкая религиозность семьи дополнялась впечатлениями от религиозного индифферентизма крестного Трегубова, а обучение у весьма «прогрессивного» батюшки Федора Степановича Троицкого — разговорами или, может быть, даже общением с блаженным Андреем Ильичом Огородниковым и его святым благословением. Таким образом, Гончаров уже в детстве причудливо соединил в себе традиционную православную провинциальную религиозность с тяготением к цивилизации и культуре.
Годы учения. Москва
Постановка преподавания в Московском коммерческом училище
Религиозное становление личности Гончарова продолжилось в Москве, во время обучения его в Коммерческом училище и в Московском университете. Московская жизнь Гончарова начинается в Коммерческом училище (1822–1830). Будущий писатель попадает в это своеобразное учебное заведение в десятилетнем возрасте и выходит из него юношей восемнадцати лет.
8 июля 1822 года Авдотья Матвеевна Гончарова записала в семейном «Летописце»: «Сего числа отправлен Ванечка в Москву». Определяла Ванечку в училище подполковница Анна Чекалова, очевидно, знакомая семьи Гончаровых. «Подполковница Анна Чекалова, — говорилось в прошении, поданном директору Коммерческого училища, — желает отдать, по препоручению симбирской купеческой жены вдовы Авдотьи Гончаровой, сына ее Ивана от роду 10-ти лет в число полных пансионеров Училища, который читать и писать по-российски, немецки и французски умеет и обе части арифметики знает достаточно; обучался также Закону Божию, Священной истории, российской грамматике и основаниям всеобщей географии»[58].
Для Авдотьи Матвеевны Москва, конечно, была прежде всего городом русских православных святынь, «сорока сороков» златоглавых храмов[59]. Здесь в Чудовом монастыре почивали мощи святителя Алексия, многие симбиряне хаживали на поклонение преподобному Сергию Радонежскому в Троице-Сергиеву Лавру. Но самого Ивана Александровича Москва манила не храмами. Повез его в Москву крестный Николай Трегубов. Коммерческое училище считалось образцовым. Над ним шефствовала сама Императрица Мария Федоровна[60]. Как раз в то время, когда в стенах училища обучался Гончаров, Император Николай I посетил это учебное заведение в 1826 году. Скорее всего государь прибыл вместе со своей матерью, вдовствующей Императрицей Марией Федоровной, которая была официальным шефом Московского коммерческого училища. Тогда-то, вероятно, и увидел ее Гончаров. И запомнил на всю жизнь, продолжая и впоследствии интересоваться ее личностью и благотворительной деятельностью. В неопубликованном письме к своему доброму знакомому, члену Попечительного совета заведений общественного призрения в Петербурге Кесарю Филипповичу Ордину, от 18 февраля 1878 года Гончаров весьма горячо отзывается о ее личности: «Вы не подозреваете, какой живой интерес имеет для меня Ваша книга[61], независимо от ее литературных и внешних достоинств издания. Для меня идеалы величайшей в мире женщины воплощаются в лице Императрицы Марии Федоровны (которую я видел в детстве в Москве): она — моя настоящая героиня!
Если б не старость и не лень, если б у меня было побольше таланта — и именно такого, какой нужен, — я избрал бы себе задачею быть ее — не биографом (это мелко и мало для ее жизни), а историографом. Нужно большую силу таланта, ума и много любви к добру, чтобы изобразить этот образ, или „воплощение добра и милосердия“, как Вы сказали в своей речи.
Вот по каким причинам и Ваша книга, и еще другая (Переписка Нелединского-Мелецкого, изд<анная> княз<ем> Оболенским) имеет для меня особенный, драгоценный интерес материалов для будущего памятника ее жизни»[62]. Напомним, что Мария Федоровна (1759–1828) — вторая жена Павла I, до перехода в Православие — София-Доротея-Августа-Луиза, Благодаря ее покровительству и содействию в царствование Александра I основано несколько женских учебных заведений в Санкт-Петербурге, в Москве, Харькове, Симбирске и других городах.
В училище преподавали бухгалтерию, коммерческую арифметику, математику, технологию, коммерческую географию, историю, риторику, словесность и чистописание на трех языках — русском, немецком и французском, законоведение, рисование, церковное и светское пение и танцы. Образовательный курс был рассчитан на восемь лет и разделен на четыре «возраста»[63].
Документальных сведений о московском периоде жизни Гончарова почти нет[64], В Московском коммерческом училище, по утверждению самого Гончарова, большинство предметов преподавалось весьма скучно и примитивно. В письме к брату Н. А. Гончарову от 29 декабря 1867 года романист писал: «Об училище я тоже не упомянул ничего в биографии, потому что мне тяжело вспоминать о нем, и если б пришлось вспомянуть, то надо бы было помянуть лихом, а я этого не могу, и потому о нем ни слова. По милости тупого и официального рутинера, Тита Алексеевича, мы кисли там 8 лет, 8 лучших лет без дела! Да, без дела. А он еще задержал меня четыре года в младшем классе, когда я был там лучше всех, потому только, что я был молод, то есть мал, а знал больше всех. Он хлопотал, чтобы было тихо в классах, чтоб не шумели[65], чтоб не читали чего-нибудь лишнего, не принадлежащего к классам, а не хватало ума на то, чтобы оценить и прогнать бездарных и бестолковых учителей, как Алексей Логинович, который молол, сам не знал от старости и от пьянства, что и как, а только дрался линейкой, или Христиан Иванович, вбивавший два года склонения и спряжения французского и немецкого, которые сам плохо знал; Гольтеков, заставлявший наизусть долбить историю Шрекка и ни разу не потрудившийся живым словом поговорить с учеником о том, что там написано, И какая программа: два года на французские и немецкие склонения и спряжения да на древнюю историю и дроби; следующие два года на синтаксис, на среднюю историю (по Кайданову или Шрекку) да алгебру до уравнений, итого четыре года на то, на что много двух лет! А там еще четыре года на так называемую словесность иностранную и русскую, то есть на долбление тощих тетрадок немца Валентина, плохо знавшего по-французски Тита и отжившего ритора Карецкого! А потом вершина образования — это естественные науки у того же пьяного Алексея Логиновича, то есть тощие тетрадки да букашки из домашнего сада, и лягушки, и камешки с Девичьего поля; да сам Тит Алексеевич преподавал премудрость, то есть математику 20-летним юношам и хлопотал пуще всего, чтоб его боялись!
Нет, мимо это милое училище!..»[66].
Другие воспитанники Коммерческого училища оставляли о нем также нелицеприятные отзывы. Так, некто С-ов в своих воспоминаниях писал, что директор училища Тит Алексеевич Каменецкий — «человек чрезвычайноискательный, хитрый и вкрадчивый… а lа Чичиков… Образования он был весьма недальнего, особенно для занимаемого им поста»[67]. Историк С. М. Соловьев приходил в училище к отцу, служившему там в те годы, когда там обучались Гончаров и его брат Николай. Он отмечал: «Учили плохо, а учителя были допотопные»[68].
Учился Иван Гончаров без особой охоты. Многие предметы были ему чужды. 1 июля 1826 года педагогическая конференция отметила: «Иван Гончаров, хотя по числу баллов и заслуживал бы награждения, но, как пробыл в классе вместо одного два двухлетия, и, как по сему, так и по летам своим долженствовал бы оказать лучшие успехи пред всеми учениками того класса, в коем находился, и притом шалостлив, — то Конференция, не признавая его достойным отличия, почитает справедливым и достаточным переместить токмо во 2-й возраст»[69]. Но мальчик не терял времени даром. В письме к Великому князю Константину Константиновичу Романову от января 1884 года он вспоминал: «Я, с 14–15-летнего возраста, не подозревая в себе никакого таланта, читал все, что попадалось под руку, и писал сам непрестанно… И все это было без всякой практической цели, а просто из влечения писать, учиться, заниматься, в смутной надежде, что выйдет что-нибудь»[70]. Именно в это время, в середине 1820-х гг., Гончаров познакомился с сочинениями Н. М. Карамзина и В. А. Жуковского, а главное — А. С. Пушкина.
Учитель «Закона веры» — протоиерей Михаил Васильевич Соловьев
О духовной жизни Гончарова в Коммерческом училище ничего не известно. Разве что исследователь А. Рыбасов не без иронии отметил в своей книге о писателе: «Однообразно текла повседневная жизнь училища. День начинался и кончался по звону колокола, висевшего на небольшой башне во дворе. Каждое утро и вечером, перед сном, воспитанников в строгом порядке выводили на молитву, Согласно предписанным правилам, они делали поясные и земные поклоны, то воздевая очи свои горе, то опуская смиренно их долу… В праздники и воскресенья их вели в школьную церковь. Церковный хор из воспитанников училища славился на всю округу, привлекая в приход именитых особ и доставляя „августейшую“ похвалу директору»[71].
Известно, что в училище велось преподавание Закона Божьего. Этот предмет по бумагам Коммерческого училища значится как «Закон веры». Так вот, в «Законе веры» Иван Гончаров «оказал успехи… очень хорошие»[72]. Знания его действительно были крепкие. Даже позже, уже в старости, Гончаров гордился своими познаниями в этом предмете и преподавал его сам своей воспитаннице Сане Трейгут. В письме к графине А. А. Толстой он писал в 1878 году: «Самоотвержение мое заключается… в… ежедневном труде обучения их (детей покойного слуги. — ([А-ЯA-Z]) ([А-ЯA-Z])) грамоте русской, арифметике, письму и закону Божию, да и закону Божию, который я тоже немного понимаю, и полагаю, что меня не собьет с пути и не опровергнет не только моя воспитанница Саня… но даже… и Вы, Графиня!»[73].
В списке служащих Коммерческого училища за 1826 год числится и священник, преподаватель Закона Божьего Михаил Васильевич[74]. К сожалению, его фамилия отсутствует в публикуемых документах. Зато она названа в статье И. П. Ярославцевой о святителе Филарете (Дроздове)[75]. Кто же этот Михаил Васильевич? Оказывается, законоучителем и настоятелем в Московском Коммерческом училище был ни много ни мало отец знаменитого историка Сергея Михайловича Соловьева и дед философа Владимира Соловьева — протоиерей Михаил Васильевич Соловьев (ум. в 1861 г.).
Имя его до сих пор не значилось в списке знакомых Гончарова. Это был весьма просвещенный человек, к тому же снисходительный и добрый. Известно, что, как истинный священник, он никогда никого не осуждал. Этому, видимо, учил и своих воспитанников. Он был очень ласков с детьми. Михаил Васильевич всю жизнь (43 года) прожил при Московском Коммерческом училище и в 1860 году перевелся на священническое место при церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Левшине. Там он очень тосковал о Коммерческом училище. «О нем сохранилась память, как о „пламенно верующем служителе алтаря“ (по словам С. М. Лукьянова). Дети С. М. Соловьева чрезвычайно любили дедушку и очень его уважали, считая его почти святым»[76]. Получив образование в Славяно-греко-латинской академии, Михаил Васильевич отличался начитанностью, свободно говорил по-французски, всю жизнь пополнял личную библиотеку, хорошо знал греческий язык. Хотя у нас нет пока сведений о деятельности отца Михаила в Коммерческом училище, о том, как преподавал он свой предмет, можно видеть, что в письме к брату Гончаров не отмечает Закон Божий среди других плохо преподаваемых предметов и не упоминает отца Михаила в своем критическом эссе. Надо думать, что все-таки священник Соловьев, умевший привить любовь к знаниям своему сыну, будущему знаменитому историку, отличался от тех преподавателей Коммерческого училища, которых не мог вспомнить добрым словом Гончаров.
Вера отца Михаила была живая. Он мечтал, чтобы его дети и внуки наследовали священство. Известно, что он пытался определить своего сына сначала в духовное училище. И лишь видя, что Сергей Михайлович не проявляет никакого интереса к священству, но со всею страстью отдается науке, решил не противиться наклонностям сына. Также известно, что Михаил Васильевич «некогда привел его (Владимира Соловьева. — В. М.), ребенка 7–8 лет, в алтарь, поставил на колени перед престолом и, произнеся пламенную молитву, благословил его на служение Богу»[77]. Не вина Михаила Васильевича, что его сын и внук избрали для себя иное поприще. Очевидно, что при таком духовном настрое живую любовь к Богу прививал отец Михаил и воспитанникам Коммерческого училища. Конечно, надо учесть, что в столь нежном возрасте и притом в казарменной обстановке училища Иван Гончаров вряд ли всерьез задумывался о духовных вопросах. Его духовная жизнь была наполнена в училище изучением Закона Божьего, посещением церковных служб. Надо учесть и то, что рядом с ним в училище был его брат — Николай Александрович, человек крепкой традиционной веры «без умствований».
По воскресным дням будущий писатель посещал Никитский женский монастырь. Московское коммерческое училище находилось в центре Москвы, на Остоженке. От Остоженки до Никитской улицы было недалеко. Однажды Гончаров встретил в церкви… самого Александра Сергеевича Пушкина! Ему в то время было 16–17 лет, и он уже начал читать стихи великого поэта. «Пушкина я видел впервые… в Москве в церкви Никитского монастыря. Я только что начинал вчитываться в него и смотрел на него более с любопытством, чем с другим чувством»[78]. Знакомство с творчеством великого поэта, пожалуй, было главным в образовании Гончарова в этот период его жизни. В письме к А. Н. Пыпину от 10 мая 1874 года романист вспоминал об этом времени: «Имя Пушкина… запрещали в школах» (VIII. 472). «В это время Гончаров, как известно, „читал все, что попадалось под руку, и писал сам непрестанно“»[79]. В основном это были авторы отошедшего века: В. А. Озеров, М. М. Херасков, И. И. Дмитриев, в лучшем случае — Г. Р. Державин и Н. М. Карамзин. «И вдруг Пушкин! Я узнал его с „Онегина“, который выходил тогда периодически, отдельными главами. Боже мой! Какой свет, какая волшебная даль открылась вдруг, и какие правды — и поэзии, и вообще жизни, притом современной, понятной, — хлынули из этого источника, и с каким блеском, в каких звуках! Какая школа изящества, вкуса, для впечатлительной натуры!» (VIII. 470).
Впрочем, посещение храма в воскресный день, к которому, очевидно, приучила писателя его мать, Авдотья Матвеевна, не исчерпывает религиозной жизни мальчика в это время. Но как именно шло духовное возрастание Гончарова в эти годы — остается загадкой, во всяком случае — пока.
Московский университет
Иван Гончаров долго страдал как от обстановки, сложившейся в училище, так и от нелюбимых предметов. Он давно уже был увлечен одним — литературой. Его мечтой была настоящая учеба — в университете, на «словесном» факультете. Через восемь лет обучения в Коммерческом училище он решается подать прошение об увольнении. Запись в журнале заседаний совета училища от 13 сентября 1830 года гласит: «Слушав присланное в сей Совет от симбирской купеческой вдовы Авдотьи Матвеевой Гончаровой прошение, в котором прописывает, что в августе 1822 года записан был в число полных пансионеров сего Училища сын ее Иван, который по трудной болезни брата своего Николая, обучавшегося также в сем Училище, должен безотлучно находиться при нем, а как окончание сей болезни предвидеть невозможно, да и по расстройству коммерческих дел ее, Гончаровой, она, не в состоянии будучи продолжать платы пансионных денег за сына своего Ивана Гончарова, просит Совет уволить его из училища и исключить из списка пансионеров, снабдить его об учении и поведении надлежащим свидетельством»[80].
В 1831 году Гончаров поступает в Московский университет, В то время университет был очагом свободомыслия, А. И. Герцен, учившийся здесь с 1829-го по 1833 год, писал в «Былом и думах», что «университет больше и больше становился средоточием русского образования. Все условия для его развития были соединены — историческое значение, географическое положение и отсутствие царя.
Сильно возбужденная деятельность ума в Петербурге, после Павла, мрачно замкнулась 14 декабрем. Явился Николай с пятью виселицами, с каторжной работой, белым ремнем и голубым Бенкендорфом.
Все пошло назад, кровь бросилась к сердцу, деятельность, скрытая наружно, закипела, таясь внутри. Московский университет устоял и начал первый вырезываться из-за всеобщего тумана. <…> Университет рос влиянием, в него, как в общий резервуар, вливались юные силы России со всех сторон, из всех слоев, в его залах они очищалась от предрассудков, захваченных у домашнего очага, приходили к одному уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны России, во все слои ее»[81].
Московский университет собирал вокруг себя разнородную, но самую талантливую русскую молодежь. Для своего времени это было училище свободомыслия в самом широком (а не политическом только) смысле слова. Герцен прежде всего отмечает вольный и западный по сути дух университетского обучения. Но этим не исчерпывалась университетская жизнь. Гончаров учился на филологическом факультете в блестящую его пору. Вместе с ним в одно время в университете учились Николай Огарев, Виссарион Белинский. «Между прочими тут был и Лермонтов, впоследствии знаменитый поэт, тогда смуглый, одутловатый юноша, с чертами лица как будто восточного происхождения, с черными выразительными глазами. Он казался мне апатичным, говорил мало и сидел всегда в ленивой позе, полулежа, опершись на локоть. Он недолго пробыл в университете»[82]. Запомнились Гончарову и Н. В. Станкевич, К. С. Аксаков, О. М. Бодянский, С. М. Строев (будущий известный историк). Однако ни с кем из них будущий романист не был знаком, его студенческая жизнь проходила в другом кругу знакомцев. Он уже в университете был чужд политических разговоров и увлечений: это стало его принципом на всю жизнь.
Из профессоров особенное влияние на него имели Николай Иванович Надеждин и Степан Петрович Шевырев. Его воспоминания «В университете» воспроизводят несколько иную, чем мемуары Герцена, университетскую атмосферу: «Благороднее, чище, выше этих воспоминаний у меня, да, пожалуй, и у всякого студента, в молодости не было. Мы, юноши, полвека тому назад смотрели на университет как на святилище и вступали в его стены со страхом и трепетом[83].
Я говорю о Московском университете, на котором, как на всей Москве, по словам Грибоедова, лежал особый отпечаток…
Наш университет в Москве был святилищем не для одних нас, учащихся, но и для их семейств и для всего общества. Образование, вынесенное из университета, ценилось выше всякого другого. Москва гордилась своим университетом, любила студентов, как будущих самых полезных, может быть, громких, блестящих деятелей общества. Студенты гордились своим званием и дорожили занятиями, видя общую к себе симпатию и уважение. Они важно расхаживали по Москве, кокетничая своим званием и малиновыми воротниками. Даже простые люди, и те, при встречах, ласково провожали глазами юношей в малиновых воротниках. Я не говорю об исключениях. В разносословной и разнохарактерной толпе, при различии воспитания, нравов и привычек, являлись, конечно, и мало подготовленные к серьезному учению, и дурно воспитанные молодые люди, и просто шалуны и повесы» (VII. 194–195).
Студенческий период жизни Гончарова характеризуется ярко выраженным интересом к театру. Как раз в это время в Москве начинается расцвет театральной жизни, В 1823 году был открыт Малый драматический театр, сыгравший большую роль в его культурном становлении. Следом за этим, в 1825 году, открылся Большой театр. В Большом ставились в основном оперы и балеты, гораздо реже — драматические спектакли. Москва становится театральной столицей, а москвичи — заядлыми театралами. С 1823-го по 1831 г. московскими театрами руководил драматург и переводчик Ф. Ф. Кокошкин, а с 1831 года — известный писатель М. Н. Загоскин. Кокошкин был в дружбе со многими профессорами Московского университета, которые являлись преподавателями Гончарова: М. Л. Каченовским, А. Ф. Мерзляковым[84]. В 1831 году он пригласил в театральное училище в качестве преподавателя логики, российской словесности и мифологии Н. И. Надеждина[85]. Возможно, именно это и сыграло свою роль в том, что Гончаров стал посещать дом актрисы Марии Дмитриевны Львовой-Синецкой. Но скорее он явился туда вместе со своим университетским товарищем, заядлым театралом Федором Алексеевичем Кони, будущим редактором «Театральной газеты», который уже в студенческие годы писал водевили для московского театра и лично для Львовой-Синецкой.
Став студентом университета, в котором столь силен вольный дух, Гончаров по-прежнему, как и в годы обучения в училище, продолжает посещать храм Никитского женского монастыря.[86]
Это был старый московский монастырь, основанный в 1582 году боярином Никитой Романовичем Захарьиным-Юрьевым, братом первой жены Ивана Грозного — Анастасии. Монастырь был построен на месте старой церкви, носившей имя св. мученика Никиты, По имени монастыря получила позже свое название и улица, на которой он находился. Когда монастырь посещал Гончаров (1822–1835 гг.), он уже был восстановлен от разрушения, случившегося после пожара Москвы в 1812 году. Как раз в это время, в 1833 году, в монастыре был построен новый храм — во имя святителя Николая Чудотворца.
Об этом монастыре вспоминает Гончаров и в «Обрыве»: «В университете Райский делит время, по утрам, между лекциями и Кремлевским садом, в воскресенье ходит в Никитский монастырь к обедне» (Ч. 1, гл. XII). И не только в Никитский монастырь хаживал в это время будущий писатель. Златоглавая Москва не могла не привлечь его внимание своими старинными церквями, монастырскими стенами. В Симбирске он таких не видел… Если фигуру Райского принять как автобиографическую, то из «Обрыва» можно узнать и о том, что в студенческие годы Гончаров пережил благодаря старым монастырям и храмам Москвы увлечение русской историей, «уходил в окрестности, забирался в старые монастыри и вглядывался в… почернелые лики святых и мучеников, и фантазия, лучше профессоров, уносила его в русскую старину» (Ч. 1, гл. XII). Как натура впечатлительная Гончаров глубоко погружался «в образ» древнего благочестия: «Долго, бывало, смотрит он, пока не стукнет что-нибудь около: он очнется — перед ним старая стена монастырская, старый образ: он в келье или в тереме» (Ч. 1, гл. XII).
Университет освобождал от стереотипов провинциального мышления. Конечно, Гончаров ощущал, как и многие, дух университетской свободы, которой, по его собственным словам, не было, например, в «военных или духовных заведениях» (VII. 196). В своих воспоминаниях он пишет: «Я не говорю, чтобы свободе этой не полагалось преград: страх, чтобы она не окрасилась в другую, то есть политическую краску, заставлял начальство следить за лекциями профессоров, хотя проблески этой, не научной, свободы проявлялись более вне университета; свободомыслие почерпалось из других, не университетских источников. В университетах молодежь, более чем в других заведениях, ограждена серьезною содержательностию занятий от многих опасных увлечений, заносимых туда извне, больше издалека… Но тем не менее на лекции налагалось иногда veto, как, например, на лекции Давыдова.
Он прочел всего две или три лекции истории философии; на этих лекциях, между прочим, говорят (я еще не был тогда в университете), присутствовал приезжий из Петербурга флигель-адъютант, и вследствие его донесения будто бы лекции были закрыты» (VII. 196).
Лекции в Московском университете развивали ум, приобщали к европейской культуре. В эти годы Гончаров серьезно увлекается немецким эстетиком Иоганном Винкельманом, французской литературой. О. Бальзак, Ж. Жанен, Э. Сю — таков круг его чтения. «Неистового романтика» Эжена Сю он даже переводит, и перевод этот, опубликованный в журнале профессора Надеждина «Телескоп», становится точкой отсчета в его литературной деятельности. В своих воспоминаниях «В университете» Гончаров сам признает серьезное влияние Надеждина: «Это был самый симпатичный и любезный человек в обращении, и как профессор он был нам дорог своим вдохновенным, горячим словом, которым вводил нас в таинственную даль древнего мира, передавая дух, быт, историю и искусство Греции и Рима. Чего только не касался он в своих импровизированных лекциях!.. Он один заменял десять профессоров» (VII. 211). Надеждин занимал должность ординарного профессора теории изящных искусств и археологии. В то же время это была личность широких интересов: журналист, литературный и театральный критик, эстетик, историк, этнограф. Любопытно и то, что Надеждин, родившись в семье потомственных священнослужителей, получил духовное образование: сначала в Рязанской духовной семинарии, а затем в Московской духовной академии — и стал священником. Он имел степень магистра богословских наук и в свое время преподавал в Рязанской духовной семинарии. Правда, в связи с болезнью подал прошение о сложении с него духовного звания. В 1830 году Надеждин защитил диссертацию на степень доктора этикофилологических наук. В университете он в 1831–1835 гг. преподавал логику, мифологию, эстетику, теорию и историю изящных искусств. Богословское образование и христианская вера вполне ощутимы в статьях Надеждина. Его статьи на самые отвлеченные темы часто проникнуты церковной лексикой и мыслью. Например, в статье «Европеизм и народность в отношении к русской словесности» он пишет: «Но Творец не разделил с нами Своего всемогущества: Он не дал нам силы творить жизнь, а Сам создал нас живыми, взяв персть от земли и вдунув в нее небесное дыхание. И из взаимного действия сих двух противоположных начал возникла наша человеческая жизнь: жизнь умственная, нравственная — и (творческая) литературная». Или в другом месте: «В храме Софийском, под мусией греческой, водружен был крыж латинский; польский пан топтал конем своим стогны града Ярославова; римский иезуит шептал мшу[87] пред гробами Ольги и Владимира; православная русская народность гибла в своей колыбели… Правда, терпение русское, терпение железное, наконец, истощилось; грянул час освобождения, и православие, первое начало русской народности, восторжествовало!..»[88].
Между прочим, перу Надеждина принадлежат труды по русскому расколу: книга «Исследование о скопческой ереси» (1845), записка «О заграничных раскольниках» (1846). Эти труды явились результатом его службы в Министерстве внутренних дел (с 1842 года). Исследовав вопрос о раскольниках, Надеждин сделал вывод о необходимости ужесточения политики властей против раскольников как людей, опасных для государственного устройства России.
Духовный настрой Надеждина как литературного критика сказался в том, что он был сторонником нравственно-воспитательной ориентации искусства. Недаром он называл XVIII век «веком кощунства и нечестия». Зато он одобрял нравственно-христианскую поэзию А. Ламартина, А. Манцони и Новалиса (и отвергал «макабрскую пляску мертвых костей на кладбище жизни» Дж. Байрона, Р. Саути, В. Гюго и Ж. Санд).
При этом Надеждин, как бы предваряя поиски «золотой середины» Гончаровым, пытался соединить христианскую мысль с мечтой о цивилизованности своего отечества. В уже упомянутой статье «Европеизм и народность в отношении к русской словесности» он сетовал на многовековое засилье церковнославянского языка в русской письменности: «При первом введении письма на Русь письменность сделалась церковнославянскою; и эта церковнославянская письменность, по своей близости и вразумительности каждому, тотчас получила авторитет народности. Это не был отдельный, священный язык, достояние одной известной касты — но книжный язык всего народа! Кто читал, тому нечего было читать, кроме книг церковнославянских; кто писал, тот не смел иначе писать, как приближаясь елико возможно к церковнославянскому! Что же сделалось с русской живой, народной речью? Ей оставлены были в удел только низкие житейские потребы; она сделалась языком простолюдинов! Единственное поприще, где она могла развиваться свободно, под сению творческого одушевления, была народная песня; но и здесь над ней тяготело отвержение, гремело проклятие. Народные песни в самом народе считаются поныне греховодной забавой, тешеньем беса! У наших предков законное, безгрешное употребление поэзии разрешалось только в составлении акафистов и канонов или в пении духовных стихов, где доныне звучит священное церковнославянское слово… Так, в продолжение многих веков, последовавших за введением христианства, язык русский, лишенный всех прав на литературную цивилизацию, оставался неподвижно, in statu quo — без образования, без грамматики, даже без собственной азбуки, а в одном и том же, неизменном состоянии, приноровленном к его свойствам и особенностям. И между тем предки наши, в ложном ослеплении, не сознавали своей бессловесности; они считали себя грамотными: у них были книги, были книжники; у них была литература! Но эта литература не принадлежала им: она была южнославянская по материи, греческая — по форме; ибо кто не знает, что богослужебный язык наш отлит весь в формы греко-византийские, может быть даже с ущербом славянизма?»
Личность и любимые идеи професора Надеждина, разумеется, вольно или невольно выказывались на лекциях, Гончаров впитывал образ мыслей своего любимого профессора. Статьи Надеждина проникнуты пафосом примирения европеизма и народности. Очевидно, мысль пришлась по вкусу Гончарову, что положило начало его серьезным размышлениям на эту тему. После отца Феодора Троицкого Гончаров снова попал «в учение» к человеку, который совмещал в себе светские и духовные познания. Думается, что и эта встреча сильно повлияла на выработку философии творчества Гончарова, поставившего в своих романах вопрос, как, будучи современным цивилизованным человеком, тяготеющим к культуре и комфорту, оставаться в полной мере человеком евангельских идеалов, христианином.
Выделяет Гончаров и лекции Степана Петровича Шевырева, который «принес… свой тонкий и умный критический анализ чужих литератур, начиная с древнейших — индийской, еврейской, арабской, греческой — до новейших западных литератур» (VII. 211).
Характерен и его отзыв о будущем редакторе религиозно-патриотического журнала «Москвитянин» Михаиле Петровиче Погодине. Гончаров признает его огромное влияние на развитие и образование студентов, но ему кажется, что в своей религиозности и патриотизме Погодин был не совсем искренен: «У Михаила Петровича… было кое-что напускное и в характере его и в его взгляде на науку… Может быть, казалось мне иногда, он про себя и разделял какой-нибудь отрицательный взгляд Каченовского и его школы на то или другое историческое событие, но отстаивал последнее, если оно льстило патриотическому чувству, национальному самолюбию или касалось какой-нибудь народно-религиозной святыни…» (VII. 215). Эти слова писались уже на склоне лет. Похоже, что Гончаров вполне разделял мнения «скептической школы» Каченовского и его учеников.
На родине. Губернатор А. М. Загряжский
После окончания университета летом 1834 года Гончаров, не имея конкретных планов, отправился на некоторое время домой, в Симбирск: отдохнуть, осмотреться, подумать о будущем. Симбирск жил своей тихой, ни в чем почти не изменяющейся жизнью: «Родимый город не представлял никакого простора и пищи уму, никакого живого интереса для свежих, молодых сил». Это была все та же, хорошо ему знакомая Обломовка. Летом в городе была скука, так как все общество собиралось лишь к осени. Но осенью Гончаров надеялся уже быть в Петербурге. Впрочем, все повернулось не совсем так, как он думал. Крестный Н. Н. Трегубов составил Гончарову протекцию — и его пригласили служить секретарем губернатора Александра Михайловича Загряжского (1796 после 1878). Симбирский губернатор входил в петербургскую масонскую ложу «Соединенных друзей»[89] — может быть, поэтому и не отказал своему собрату Трегубову.
В своих воспоминаниях романист освещает провинциальное масонство как чуждое чего-либо серьезного: «Под тайными обществами, между прочим, разумелись масонские ложи.
Якубов (так в своих воспоминаниях называет Гончаров Трегубова. — В. М.), как почти все дворяне тогда, или, лучше сказать, вся русская интеллигенция, принадлежал тоже к масонской ложе. В Петербурге все лучшие, известные высокопоставленные лица были членами масонских лож; между прочим, говорили, что и Император Александр Павлович тоже был член.
В нашем губернском городе была своя отдельная масонская ложа, во главе которой стоял Бравин[90]. Члены этой ложи разыгрывали масонскую комедию, собирались в потаенную, обитую черным сукном комнату, одевались в какие-то особые костюмы с эмблемами масонства, длинными белыми перчатками, серебряными лопатками, орудием „каменщиков“, и прочими атрибутами масонства.
Не все члены, однако, были посвящены в таинственную суть масонства. Общая, всем известная цель была — защита слабых, бедных, угнетенных, покровительство нуждающимся и т. п. дела благотворительности. Многие из членов занимали низшие должности в иерархии ордена, например, что-то вроде каких-то звонарей и т. п., и повышались в степенях, после разных испытаний, смотря по способностям и значению.
Все это я узнал после, частию от самого Якубова, а более от других, менее скромных и пугливых бывших членов. „Крестный“ открыл мне весьма немногое, случайно…» (VII. 245–246).
Между прочим, воспоминания Гончарова показывают, что ему была известна не только «театральная» сторона жизни симбирского масонства. В частности, он вполне адекватно оценивает в очерке «На родине» фигуру предводителя дворянства князя М. П. Баратаева (Бравина): «Переполох по поводу масонства повел после 14-го декабря к обыскам у всех принадлежавших к этому братству. Забирали бумаги, отсылали в Петербург, а председателя ложи, Бравина, самого отвезли туда, забрав всю его переписку. Но важнейшая часть его бумаг, за несколько часов до обыска, говорят, была брошена в пруд в его саду. Об обыске предупредил его полицмейстер, его приятель, и тем спас Бравина, может быть, от тяжелых последствий. Бравин был в переписке с заграничными масонами и, вероятно, был не чужд не одних только всем открытых, благотворительных, но и политических целей, какие входили в секретный круг деятельности, как видно, иностранных и русских масонских лож.
14 декабря открыло правительству глаза на эти последние цели и вызвало известное систематическое преследование масонства, а с ним — всяких „тайных обществ“, которые подозревались, но которых, кроме заговора декабристов, кажется, тогда не существовало» (VII. 246).
В самом деле, фигура М. П. Баратаева была по-своему весьма замечательной. Его действия в Симбирске и вне его пределов были отнюдь не театральными и смешными. Стоит здесь напомнить известную историю с «Серафимовым служкой» Николаем Александровичем Мотовиловым, земляком и ровесником Гончарова.
Характеристику М. П. Баратаеву дал Император Николай I, когда отправлял в Симбирск очередного губернатора и предупреждал его о Баратаеве: «Вам известны обстоятельства, по которым я счел нужным переменить в Симбирске губернатора Загряжского. Я им был, впрочем, доволен, но он… У него вышли какие-то дрязги с губернским предводителем <дворянства>, князем Баратаевым. Личность, о которой я и знать бы не хотел». В своих «Записках» Мотовилов вспоминал события того времени не без скорби: «Вышедши из Императорского Казанского университета действительным своекоштным студентом 8 июля 1826 года… я через друга матушки моей, Надежду Ивановну Саврасову, вскоре познакомился с симбирским губернским предводителем, князем Михаилом Петровичем Баратаевым, и вскоре сблизился в ним до того, что он открыл мне, что он грандметр ложи Симбирской и великий мастер Иллюминатской Петербургской ложи. Он пригласил меня вступить в число масонов, уверяя, что если я хочу какой-либо успех иметь в государственной службе, то, не будучи масоном, не могу того достигнуть ни под каким видом.
Я отвечал, что батюшка, родитель мой, запретил мне вступать в масонство, затем, что это есть истинное антихристианство, да и сам я, будучи в университете и нашедши книгу о масонах, в этом совершенно удостоверился и даже видел необыкновенные видения, предсказавшие судьбу всей жизни моей и возвестившие мне идти против масонства, франкмасонства, иллюминатства, якобинства, карбонарства и всего, с ними тожественного и в противление Господу Богу имеющегося. Это так разозлило его, и тем более в простоте сердца ему открытое намерение мое вскоре по устройстве дел моих ехать в Санкт-Петербург для определения на службу в Собственную Его Императорского Величества канцелярию, что он поклялся мне, что я никогда и ни в чем не буду иметь успеха, потому что сетями масонских связей опутана не только Россия, но и весь мир.
Вскоре после того вышел закон, чтобы молодые люди, хоть и окончившие курс учения и получившие дипломы на ученые степени в высших училищах, не имели бы права отправляться на службу в столицу, а должны были бы три года послужить в губернии будто бы для ознакомления с процедурой провинциальной службы. Срезанный на первых порах с ног, я, как говорится, сел как рак на мели»[91].
Разговор с Баратаевым мог происходить летом — осенью 1826 года. Весь этот год правительство царя Николая I тщательно отслеживало все связи декабристов-бунтовщиков в среде русского столичного и провинциального дворянства, в особенности и прежде всего — в среде масонской. Трудным был этот год для Баратаева, но все же ему удалось выкрутиться из неприятной истории.
Похоже, что Гончаров сгустил краски, изображая атмосферу всеобщего страха в масонской среде. Баратаев теперь уже никого и ничего не боялся. Разговор с Мотовиловым показал, что он тут же начал вербовать новых членов в масонские ложи. Полной безнаказанностью объясняется его неприкрытая злоба к Мотовилову, его страшные проклятия и обещания. Нужно сказать, что он сдержал свое слово. Молодому выпускнику университета не по силам оказалось тягаться со сплоченным в Симбирске тайным обществом, в которое входили, как правило, все видные провинциальные деятели и главные губернские чины. Уверенность князя Баратаева, что Мотовилову за свой отказ вступить в члены масонской ложи ни в чем не будет успеха, вскоре подтвердилась. Уже в 1829 году Баратаев призвал его к себе и объявил:
— Этой должности вам не видать как своих ушей. И не только вы этой должности не получите, но не попадете ни на какую другую государственную должность, ибо и Мусин-Пушкин[92], и министр князь Ливен[93] — подчиненные мне масоны. Мое приказание — им закон!
Вступление Мотовилова в должность по службе отдалилось благодаря проискам Баратаева и его союзников на долгих 14 лет. Совсем иначе, как видим, складывалась в Симбирске чиновничья карьера Гончарова.
В разговоре с Мотовиловым князь не хвастал: он действительно был весьма могущественен. Его стараниями в 1817 году в Москве была открыта ложа «Александра к тройственному спасению», а в том же году в Симбирске — ложа «Ключ к добродетели». Князь являлся членом привилегированной петербургской ложи «Соединенных друзей», в которую входил и симбирский губернатор А. М. Загряжский, наместным мастером российского отделения этой ложи, входил в Капитул «Феникс» (тайный и высший орган управления масонства в России), был почетным членом многих лож.
Пользуясь большим уважением, он привлек в ложу «Ключ к добродетели» многих представителей симбирского общества. Эта ложа состояла из 39-ти действительных и 21-го почетного члена. Среди «братьев» ложи значились генерал П. Н. Ивашев, крестный отец писателя Ивана Александровича Гончарова Н. Н. Трегубов, Н. А. Трегубов, сенатор и бывший симбирский губернатор Н. П. Дубенской, Г. В. Бестужев, П. П. Бабкин, М. Ф. Филатов, А. А. Столыпин, Н. И. Татаринов, И. С. Кротков, П. П. Тургенев, графы А. В. и Я. В. Толстые, А. П. и П. А. Соковнины, И. С. и С. В. Аржевитиновы, Ф. М. Башмаков, И. И. Завалишин, Н. И. и С. И. Тургеневы и др. В эту ложу, весьма влиятельную, поступали не только из уездов Симбирской губернии, но и из соседних губерний. Так ценили «жаждущие славы мира сего» близость к Баратаеву. Собрания ложи проходили в гроте, устроенном в саду его имения. Члены ложи собирались в гроте и после запрещения масонства специальным манифестом Александра I в 1822 году,
В том же году в Симбирскую губернию — сначала в Сенгилей, а затем в Симбирск — был выслан известный мистик и масон, вице-президент Академии художеств, издатель «Сионского вестника» А. Ф. Лабзин. Сам выбрав место ссылки, он пожелал удалиться в Симбирскую губернию, где проживало много его знакомых и единомышленников. Симбирские масоны с нетерпением ждали приезда известного русского мистика Александра Федоровича Лабзина, которого они почитали как «мученика за идею». Начальник удельной конторы А. А. Крылов помог Лабзину в найме дома госпожи Назарьевой. Умер А. Ф. Лабзин в Симбирске в январе 1825 года и был похоронен на кладбище мужского Покровского монастыря, где хоронили наиболее почетных граждан города.
Не один лишь Баратаев с узким кругом знакомых числился в масонах Симбирска. Это был город с давними масонскими традициями. Если по всей России ложи начали открываться в самом конце XVIII — начале XIX вв., то в Симбирске первая масонская ложа «Золотой Венец» появилась еще в 1784 году. Основатель ее — один из активнейших деятелей московского масонства, член «Дружеского ученого общества» Иван Петрович Тургенев. Открытие ложи не было случайным. К этому времени в городе уже были масоны, причем числом достаточным для создания ложи. Обычно называют имена А. Ф. Голубцова, Ф. Н. Ладыженского, И. В. Колюбакина, С. В. Аржевитинова, А. П. Соковнина, И. В. Жадовского. Все они во вновь образованной ложе получили должности, которые не могли доверить новичкам, так как они предполагали знание ритуалов и обрядов. Великим мастером ложи являлся И. П. Тургенев, а управляющим мастером — симбирский вице-губернатор А. Ф. Голубцов.
В конце XVIII века в Симбирске был построен едва ли не единственный в России масонский «храм» во имя св. Иоанна Крестителя. Этот «храм» без алтаря был выстроен в имении
В. А. Киндякова. В. А. Киндяков являлся одним из немногочисленных губернских подписчиков изданий Н. И. Новикова. В храме проходили собрания симбирской масонской ложи «Златого Венца», в которой состоял в степени товарища молодой тогда еще Николай Михайлович Карамзин. Основателем ложи являлся член новиковского кружка Петр Петрович Тургенев. Странный и мрачный был этот «храм». Он представлял собой каменное сооружение высотой до 16 метров, круглое в плане, с куполом и четырьмя портиками (на них изображены были масонские символы — урна с вытекающей водой, череп и кости и т. п.). Оно было увенчано не крестом, а деревянной фигурой св. Иоанна Предтечи, которого сами масоны мыслили как покровителя ордена вольных каменщиков. Храм этот Гончаров, конечно, видел, прогуливаясь в Киндяковке. Руины его сохранялись до начала 20-х годов XX века.
Поступление Гончарова в секретари к Загряжскому, конечно, не ставит вопроса о вступлении будущего писателя в масоны, но, во всяком случае, обозначает некоторые, впрочем, естественные при таком крестном отце, как Трегубов, связи с этой средой. Не последнюю роль играл в ней губернатор Загряжский. В воспоминаниях своих Гончаров изображает Загряжского как человека талантливого и в то же время крайне легкомысленного. В частности, Гончаров подчеркивает в губернаторе его страсть к художественным преувеличениям в рассказах о встречах с известными людьми: «У него в натуре была артистическая жилка, и он, как художник, всегда иллюстрировал портреты разных героев, например, выдающихся деятелей в политике, при дворе или героев Отечественной, в которой, юношей, уже участвовал, ходил брать Париж, или просто известных в обществе людей. Но вот беда: иллюстрации эти — как лиц, так и событий — отличались иногда такой виртуозностью, что и лица и события казались подчас целиком сочиненными. Иногда я замечал, при повторении некоторых рассказов, перемены, вставки. Оттого полагаться на фактическую верность их надо было с большой оглядкой. Он плел их, как кружево. Все слушали его с наслаждением, и я, кроме того, и с недоверием. Я проникал в игру его воображения, чуял, где он говорит правду, где украшает, и любовался не содержанием, а художественной формой его рассказов. Он, кажется, это угадывал и сам гнался не столько за тем, чтобы поселить в слушателе доверие к подлинности события, а чтоб произвести известный эффект — и всегда производил» (VII. 263).
Тем более характерно, что даже при столь беззлобном и «артистичном» губернаторе масоны в Симбирске устроили смертельную травлю Мотовилова.
В деле ареста Мотовилова сыграл свою роль не только испуг губернатора, пытавшегося вовлечь Мотовилова в антиправительственные разговоры, но и то, что общая атмосфера в так называемом «обществе» была пропитана нетерпением истинного христианства в человеке. Среди мотивов ареста губернатор Загряжский в своем донесении министру юстиции называет прежде всего «странности поведения» столь молодого и уже столь религиозного человека, каким был Николай Александрович. В «Записках» читаем: «В донесении же своем, которое, впрочем, показал мне, он писал господину министру, что, арестовав симбирского помещика, действительного студента Мотовилова и отобрав от него все его бумаги, он был к тому возбужден следующим. Первое, что Мотовилов познакомился в Воронеже с людьми известными. Второе, что он, будучи недурно образован, хотя и не бегает света, но и не так привязан к нему, как бы молодому человеку его лет следовало. Третье, что о вере он говорит так сильно и увлекательно, что речь его и на образованных людей остается не без значительных впечатлений, и на массу народа, приходящего к нему толпами под предлогом расспросов о его исцелении воронежском, и еще сильнее действует»[94]. Это был, таким образом, арест за христианскую веру Мотовилова. Вполне вероятно, что Загряжский, как подчиненный по масонской ложе, лишь выполнил не столь давние угрозы Баратаева. Три месяца продолжалось заключение Мотовилова. Лишь по высочайшему повелению он был выпущен из-под ареста министром юстиции Д. В. Дашковым во время приезда его в Симбирск в 1833 году.
Из фактов религиозной жизни писателя в это время можно привести всего лишь один: посещение правящего архиерея, правда, по настоянию Трегубова, хорошо знавшего провинциальные нравы. Правящим архиереем в 1834 году был высокопреосвященный Анатолий (в миру Андрей Максимович). Архиепископ Анатолий (1766–1844) много потрудился при открытии и благоустройстве Симбирской епархии и ее духовно-учебных заведений. Именно при нем был освящен Свято-Троицкий кафедральный собор, упоминаемый, между прочим, Гончаровым[95]. Подробности визита к нему Гончарова неизвестны, но можно предположить, что это был вполне «дежурный визит».
Храм святого Пантелеймона
Губернатор Загряжский был уволен в 1835 году. Отправляясь в Петербург, он взял с собою и своего секретаря, Гончарова. Более того, помог ему поступить на службу в Министерство финансов. С 1835-го по 1852 г. Гончаров служит в этом ведомстве. В 1852 году он отправляется в кругосветное плавание на фрегате «Паллада» — и снова секретарем. На этот раз секретарем руководителя экспедиции — адмирала Е. В. Путятина. Лишь в 1854 году Гончаров через Сибирь возвратился в Петербург.
При скудости сведений о жизни писателя мы не можем точно сказать даже о том, какие храмы посещал Гончаров как прихожанин в течение своей жизни. Такие сведения есть лишь о храме св. великомученика Пантелеймона.
Скорее всего Гончаров начинает посещать его, когда поселяется в доме на улице Моховой, в 1862 году[96]. Храм располагался недалеко от дома. После возвращения в Санкт-Петербург в 1854 году он поселяется на Невском проспекте в доме Кожевникова, близ Владимирской улицы[97]. Впрочем, возможно, уже после возвращения из «кругосветки» он посещает указанный храм. Это предположение можно сделать на основании его общения со священником М. Ф. Архангельским.
В приходе св. Пантелеймона, который находился в центре Санкт-Петербурга, служили священники, имеющие ученые степени. В списке духовенства обозначено, что в этом приходе служили, помимо Гавриила Васильевича Крылова, священники Михаил Ферапонтович Архангельский и Павел Федорович Краснопольский, а также дьякон Николай Васильевич Тихомиров.
Все они, судя по упомянутому списку, были людьми учеными: либо кандидатами, либо магистрами. Воспоминания Н. И. Барсова дают некоторое представление о духовнике Гончарова — протоиерее Гаврииле Крылове. Это был человек, судя по всему, влиятельный в церковном мире. Достаточно сказать, что Барсов упоминает о близком знакомстве отца Гавриила с придворным протоиереем Иоанном Васильевичем Рождественским, который обучал Закону Божьему Великого князя Сергея Александровича Романова[98].
Протоиерей Иоанн отличался высокими духовными качествами, которые еще более укрепились в посланных ему Божиим Промыслом испытаниях: перед принятием священства он потерял жену и всех детей. Конечно, не случайно, что именно такой священник, которому столь понятен был духовный путь Иова, должен был воспитать будущего мученика — Великого князя Сергея Александровича, убиенного в 1905 году террористом Каляевым. Отец Иоанн собственноручно составил для Сергея Александровича специальную книгу для изучения Закона Божия. Эту книгу Великий князь хранил до своей кончины. Знакомство с отцом Иоанном духовника Гончарова свидетельствует как о замечательных духовных дарованиях отца Гавриила, так и о его авторитете в церкви.
По свидетельству Барсова, отец Гавриил «был человек хворый, чахоточный…»[99], Иван Александрович любил и уважал своего духовного отца «как человека простого и доброго и прекрасного священника»[100].
Гончаров не только «уважал» своего духовного отца, но и очень многое доверял ему. Самые сложные духовно-нравственные проблемы жизни Гончарова, упоминаемые в его письмах, получали ту или иную оценку отца Гавриила. Впервые своего духовника Гончаров упоминает, кажется, в письме к Софье Александровне Никитенко (которая, кстати сказать, тоже хорошо знала отца Гавриила и, возможно, также была его духовным чадом) от 4 июля 1868 года. Речь в письме идет о некоей А. Н., женщине, к которой Гончаров, судя по всему, был неравнодушен, но от которой буквально бегал, подозревая, что она лишь выполняет тайное поручение его личных врагов. Из письма выясняется, что в подобные проблемы своей жизни он посвящал отца Гавриила: «Ведь Вам мое длинное письмо ни в чем не помешает… А пишу по привычке поверять Вам все вообще и, между прочим, об А. Н., о которой только и могу говорить с Вами да с отцом Гавриилом, Не забудьте прочесть ему это мое письмо: пусть он не поскучает выслушать.
Я спешу написать это все Вам затем, чтобы и он, и Вы, услышавши от кого-нибудь, что и А. Н. и я — в Швальбахе, не подумали, что я поехал сюда, знавши о ней что-нибудь, и не обвинили бы меня, как ее покровители, с ее слов и жалоб — и по наружным признакам. Боже меня сохрани! Я бы тогда ни ногой сюда! И теперь ничего: не подходи она ко мне, не останавливай, словом не затрогивай — и я не только не заговорю с ней, даже лишнего взгляда не кину — и мне нисколько не мешает работать то, что она тут близко» (VIII. 390).
Письмо к С. А. Никитенко от 19 июля еще более подробно рассказывает об отношениях Гончарова с таинственной «Агр. Ник.» и о ее характере. И здесь снова упоминание отца Гавриила, причем очень характерное: «священник, знающий все обо мне»[101]. В более позднем письме к С. А. Никитенко от 4 июня 1869 года писатель снова упоминает своего духовного отца. Судя по контексту письма, отец Гавриил действительно знал о писателе все и был в курсе тяжбы Гончарова с Тургеневым, который, по мнению Гончарова, использовал в своих романах мотивы и образы еще неопубликованного, но уже прочитанного вслух «Обрыва». Духовник Гончарова мог советовать и советовал ему только одно: смириться: «Наш общий знакомый отец Гавриил все твердил и в прошлом и в нынешнем году: „Простите всем, смиритесь, и вам простится“… „Простите, смиритесь!“ — говорят мне — и отец Гавриил и собственное мое желание» (VIII. 411–412)[102]. Гончаров являлся духовным чадом отца Гавриила до самой смерти последнего.
Дружественные отношения установились у писателя и с другим священником храма — М. Ф. Архангельским. Любопытно, что Архангельский подарил Гончарову свой труд, в котором касается и творчества самого Гончарова. Будучи преподавателем словесности в Санкт-Петербургской Духовной семинарии в 1851–1855 годах, протоиерей Архангельский составил «Руководство» для «напоминания воспитанникам пространных изустных толкований». Упоминание о романисте И. А. Гончарове мы находим в главе «О замечательнейших описаниях путешествий в нашей литературе», где Архангельский называет, помимо гончаровского «Фрегата „Паллада“», «Письма об Испании» В. П. Боткина и малоизвестные «Письма из Венеции, Рима и Неаполя» В. Яковлева. Гончаровскую книгу священник представил под названием «Путешествие И. А. Гончарова в Японию на русском фрегате „Паллада“ в 1852 и последующих годах».
Весьма любопытно мнение духовного лица об этом произведении: «Оно отличается естественностью, верностью, подробностью, полнотой и занимательностью описаний, юмористическим изложением и написано языком простым, но весьма правильным, показывает в авторе глубокое знание отечественного наречия… При чтении путешествий г<осподина> Гончарова забываешь своё место, своё занятие, и, кажется, сам, вместе с автором, странствуешь по местам, которые он описывает».
Неизвестно точно, когда состоялось их личное знакомство, но, возможно, уже в 1855 году, при посещении храма, и уж во всяком случае, не позднее 1857 года, когда вышла упомянутая книга. Дело в том, что цензором книги выступил как раз Гончаров, который и подписал цензурное разрешение на выход книги в свет 13 марта 1857 года[103].
Именно в храме великомученика Пантелеймона состоялась еще одна знаменательная для Гончарова встреча — с духовным писателем Николаем Ивановичем Барсовым (1839–1903). Барсов преподавал русскую словесность в Петербургской духовной семинарии и в женских гимназиях столицы. Он был сыном священника, родился в Лужском уезде Петербургской губернии. Первоначальное образование получил в Александро-Невском духовном училище, в 1859 году поступил в Петербургскую духовную академию, по окончании которой занял место учителя словесности в Петербургской семинарии. В 1869 году советом Петербургской духовной академии был избран на кафедру пастырского богословия и гомилетики и кафедру эту в звании исправляющего должность ординарного профессора занимал до 1889 года.
Из написанного Барсовым следует отметить труды: «Братья Денисовы и их значение в истории раскола» (СПб., 1866), «Русский простонародный мистицизм» (СПб., 1869), «История первобытной христианской проповеди до IV века» (СПб., 1885) и др. Кроме того, Барсов напечатал множество статей церковно-исторического и публицистического содержания в различных журналах и газетах. Часть этих статей собрана им в книге «Исторические, критические и полемические опыты» (СПб., 1879). Экземпляр этой книги он в свое время подарил Гончарову.
Первая встреча писателя с Барсовым произошла в 1867-м или 1868 году (точная дата неизвестна) в день Ангела Гавриила Васильевича Крылова, протоиерея Пантелеимоновской церкви, духовного отца Гончарова. В этот день, по словам самого Барсова, у отца Гавриила собрались его родственники и знакомые. Среди гостей были придворный протоиерей И. В. Рождественский, протопресвитер М. И. Богословский с семейством, несколько протоиереев и священников, а также несколько лиц светских, в том числе некий И. Т. Осинин, который не значится в кругу знакомых писателя. Именно здесь Барсов был представлен Гончарову.
Между ними состоялась небольшая беседа, которая навсегда сохранилась в памяти Барсова. Автор «Обломова» поинтересовался:
«— Ну обо мне-то, я думаю, вам не приходится говорить на ваших уроках словесности!
— Почему же, — отвечал Барсов, — не только на уроках истории литературы приходится излагать содержание ваших сочинений и делать их общую характеристику, наравне с Тургеневым, Островским и другими современными лучшими писателями, но и на уроках теории словесности и при других практических работах учениц приходится штудировать эпизоды из ваших романов. „Сон Обломова“ помещен даже в хрестоматии Галахова[104]. А один отрывок из „Обыкновенной истории“ — рассуждение о материнской любви, которое ведет автор по поводу сцены, произошедшей при отправлении Адуевой своего сына на службу, — я имею обыкновение заставлять учениц заучивать наизусть или писать под диктовку, когда оказывается нужной проверка их познаний в орфографии»[105].
Гончаров, по словам Барсова, был немного изумлен этим. Закончилась эта беседа приглашением Ивана Александровича «быть знакомыми». Потом состоялась еще одна встреча у отца Гавриила, после которой Барсов стал видеться с Гончаровым чаще: в доме у него был, впрочем, не больше 5–6 раз за все время.
Отношения их не были интенсивными, но продолжались около 20-ти лет. Во время первого посещения Гончарова на дому (не ранее 1879 года) Барсов подарил ему экземпляр своей книги «Исторические, критические и полемические опыты». На титульном листе сохранилась дарственная надпись: «Его Превосходительству И. А. Гончарову в знак глубочайшего уважения от автора. 18.IV.79». В библиотеку Гончарова она поступила уже в 1881 году, где хранится и по сей день.
Гораздо позже, уже в 1886 году, посетив Барсова, Гончаров подарил ему свой портрет с «весьма лестною», как пишет сам Барсов, для него надписью. Очень часто они виделись на прогулках.
Барсова, как преподавателя словесности, больше всего интересовал вопрос о методах и постановке образования. Он развивал идеи о способе согласования классицизма с христианством через правильную постановку среднего и высшего преподавания древних языков, с одной стороны, и обучения религии — с другой. «В самом деле, не есть ли это аномалия, — говорил Барсов, — что, с одной стороны, через изучение древних авторов знакомят молодых людей с древним античным мировоззрением, с доктринами и принципами язычества и в то же время думают сделать молодых людей хорошими христианами через два недельных урока катехизиса, преподаваемых совместно с десятком уроков древних языков? Если конечная цель всякого образования — дать людям цельное и законченное мировоззрение, то как достигается эта цель при совместном изучении классиков и Евангелия?»[106]. Конечно, Гончарову, который всю сознательную жизнь вырабатывал философию «цивилизованного христианства», это было чуждо. Своему собеседнику он отвечал приблизительно так: «Никакого миросозерцания ни в том, ни в другом случае, т. е. ни в гимназиях, ни в университетах, не изучают и не приобретают…»[107]. Знание, по мнению Гончарова, появляется вне школы, из домашнего быта и из домашних традиций, из среды, в которой вращается юноша, наконец, из элементов самообразования. Отсюда и появляется невежественное отношение к религии, так как не во всех домах можно почерпнуть необходимое знание. Нужно было поднять образование на более высокий уровень.
В подаренной Гончарову книге у Барсова есть размышления, которые волновали и Гончарова: это мысли о неразвитости религиозного сознания русских писателей и о разъединении веры и науки в России. Автору книги «Исторические, критические и полемические опыты» кажется, что во всей Европе нет страны, где религия и наука, церковь и общество находились бы в таком разъединении и отчуждении одна от другой, где творческая интеллигенция была бы до такой степени неверующая, как у нас в России. Он отмечает, что нигде нет такого глубокого невежества в отношении к религии, как у нас между так называемыми «образованными» и «развитыми» людьми, а особенно — между писателями. Барсов делает вывод, что происходит это от того, что писатели никогда не занимались серьезным изучением религии. По его мнению, в незнании Закона Божия виновато слабое развитие богословской науки у нас в России. На Западе наука, образование более или менее зиждутся на религиозном основании, «самое неверие тамошнее есть естественный продукт тамошних религиозных начал». В России же христианство, вера не составляют мировоззрения; скорее это кодекс понятий, свойственных толпе, но недостойных человека развитого, и развитой человек не станет искать в нем ответа на высшие запросы духа. Ищут этих ответов в науке и, благоговея пред наукой, игнорируют религию.
И Гончаров, и Барсов были верующими людьми, оба говорили о разрыве культуры и религии, но расставляли различные акценты. Барсов считал, что преодоление разрыва возможно через глубокое воцерковление представителей культуры. Гончаров, судя по его личному опыту, не мог с этим не согласиться, но подчеркивал другое: необходимо научиться прикладывать христианское мировоззрение к практической цивилизованной жизни. Нельзя отвергать цивилизацию «с порога», нужно одухотворять ее христианскими истинами. Скорее всего подобные темы обсуждались Гончаровым и Барсовым в их разговорах, ибо эти разговоры касались зачастую и церковных тем. Например, Барсов свидетельствует, что Гончаров особенно хвалил митрополита Московского Иннокентия «за его пастырские и общечеловеческие добродетели»[108].
Непостыдная кончина
Предсмертные недели и дни Гончарова снова и снова подтверждают глубокую религиозность и воцерковленность писателя. Существует несколько свидетельств современников об этих последних днях жизни Гончарова. 27 августа 1891 года он заболел воспалением легких. В это время Гончаров находился на даче в Старом Петергофе. 6 сентября наступило некоторое улучшение, и писатель возвратился в Петербург.
Известно, что в последние дни перед своей кончиной Гончаров засыпал только с молитвой «Отче наш». Без нее уснуть не мог. С. Шпицер в своей книге пишет об этом, цитируя А. Ф. Кони: «Смерть его пугала… при жизни он страшно боялся даже одной мысли о ней… В последнее время он стал очень религиозным. Бывали минуты, когда, желая заснуть, ночью или днем, он то и дело просил своих близких говорить с ним „Отче наш“. Больной слабо повторял слова молитвы и только тогда спокойно засыпал…»[109].
Самое значительное событие происходит 13 сентября, однако оно не нашло отражения в «Летописи жизни и творчества И. А. Гончарова»[110]. Это событие — принятие Святых Христовых Таин. С. Шпицер пишет о 13 сентября: «Близкие думали, что уже пришел конец, когда Гончаров выразил пожелание причаститься. Пришел священник…»[111]. А. Ф. Кони в письме к С. В. Максимову отмечал: «Старик отошел тихо и с верою. „Что такое смерть? — допрашивал он меня (я бывал у него каждый день). — Как ее объяснить? Мне вот казалось ночью, что ко мне подходили две большие собаки и больно меня кусали, — ужели это смерть?“ Ему хотелось еще жить (а было 80 лет). „Авось и на этот раз, — говорил он, — меня Господь помилует“. Но после причастия он вполне примирился со смертью. Последнее, что я от него услышал, было: „Я знаю, что умру, ну что ж, пожалуй, я ведь спокоен. Я видел сегодня во сне Христа — и Он меня простил“…»[112]. Скончался романист 15 сентября 1891 года.
Подробности его кончины дает газета «Русская жизнь»: «Покойный захворал 28 августа, слег в постель и уже более не вставал. Последнюю ночь покойный провел беспокойно, утром успокоился и заснул. Все находившиеся в квартире думали, что Иван Александрович спит, но он уже спал непробудным сном. Когда в 11 час<ов> 10 мин<ут> утра его стали будить, то не могли уже добудиться.
…В воскресенье утром прибыл по обыкновению к нему на квартиру, в которой покойный прожил более 40 лет, лечивший его доктор Данилович и никакой перемены к худшему в больном не заметил. Едва только доктор вышел из квартиры, как близкие к покойному люди заметили, что он перестал дышать. Он умер в полном сознании, без каких-либо страданий или предсмертных агоний»[113].
Гончаров умирал с христианской надеждой на прощение и вечную жизнь. Достаточно вспомнить несколько строк воспоминаний А. Ф. Кони: «Глубокая вера в иную жизнь сопровождала его до конца. Я посетил его за два дня до смерти, и при выражении мною надежды, что он еще поправится, он посмотрел на меня уцелевшим глазом, в котором еще мерцала и вспыхивала жизнь, и сказал твердым голосом: „Нет! Я умру! Сегодня ночью я видел Христа, и Он меня простил“[114].
Любопытно, что Д. С. Мережковский, писавший, как известно, о спокойной религиозности романиста („Религия, как она представляется Гончарову, — религия, которая не мучит человека неутолимой жаждой Бога, а ласкает и согревает сердце, как тихое воспоминание детства“)[115], неожиданно глубоко и резко почувствовал кончину писателя именно как христианское успение. В течение своей жизни Мережковский не раз подтверждал высочайшую оценку творчества Гончарова. Но совершенно особняком стоит одно его свидетельство, ставшее известным совсем недавно — в связи с опубликованием его записной книжки. Вот эта запись: „Я только что с панихиды Гончарова. Я стоял в маленькой скромной прихожке… Покойный лежал в третьей комнате. И вдруг — когда я взглянул на лицо его — все исчезло: и постылые лица знакомых литераторов, и суетное настроение, и маленькая комната. Я даже не помню, во что был одет усопший, я помню только это бледное, бесконечно тихое лицо. Я видел его при жизни. Это был полуслепой дряхлый старик. Лицо его казалось тогда безжизненным, равнодушным и ленивым, выражало только суетную и скучную поверхность жизни, а свое заветное он слишком глубоко таил от людей, этот одинокий, нелюдимый художник. И вот теперь заветное и глубокое его сердца, то, что создало Веру и голубиную чистоту Обломова, выступило, освобожденное смертью, на бледном, помолодевшем и успокоенном лице. И я почувствовал вдруг, как я всегда любил этого чужого и незнакомого человека, самою чистой и бескорыстной любовью, как только можно любить на земле, не как отца, не как брата, не как друга, даже не как учителя, а как человека, чья душа открывала моей душе великое и прекрасное, и за то он был мне ближе, чем брат, отец, друг, учитель. Мне не было его жалко, не было печально, я не чувствовал страха смерти; напротив, мне было радостно за него, что тишина и примирение, которые были его творческой силою, охватили теперь все существо его. И я думал: неужели это восьмидесятилетний старик? Детская чистота, невинность и успокоение делали это мертвое лицо таким молодым и прекрасным, что нельзя было оторвать от него глаза: так тихо спят только дети“.
Сходное ощущение испытывал у гроба Гончарова и другой посетитель — беллетрист и драматург Иван Леонтьевич Леонтьев (псевдоним — Иван Щеглов) (1856–1911), который записал в своем дневнике: „На панихиде у И. А. Гончарова (Моховая 3, 4). Лежит тихий и приятный, точно не умер, а глубоко заснул и видит светлый, мирный сон. Народу вдвое меньше, но зато много молящихся“, чуть не впервые на литературных похоронах (курсив наш. — В. М.). Выдающееся, благолепное служение Пантелейм<оновского> причта»[116]. Так была подведена черта под жизнью Гончарова как христианина.
Похороны Гончарова обнаружили, что русское общество восприняло жизнь писателя и его творчество как эпохально значимые. Многие ведущие русские газеты посчитали своим долгом опубликовать итоговые статьи о его жизни и творчестве. Так, газета «Неделя» (1891, № 38) писала: «По широте замысла и исполнения, по художественной ясности и пластичности изображений Гончаров едва ли имеет себе равного в нашей литературе — да, может быть, не столько в нашей, но и вообще в новейшей литературе европейской». Многие статьи отмечали близость Гончарова-художника к Пушкину и Гоголю.
В то же время жизнь Гончарова была осмыслена уже современниками как христианская. Характерно отразилось это мнение в петербургских и московских газетах, которые дали отзыв на гончаровские похороны.
Политическая, экономическая и литературная газета «Свет» (1891, 17 сентября. № 210) отметила некоторые объективные внешние детали гончаровских похорон, а именно: «16 сентября на квартире покойного были отслужены панихиды в 2 часа дня и в 8 час. вечера». И менее значимые детали: «В кабинете на особом возвышении покоится прах покойного, покрытый золотым покровом. Лицо укрыто кисеей. Все картины и зеркала завешаны. На панихиде присутствовали М. М. Стасюлевич, А. Г. Полотебнов[117], проф. Спасович[118]и много знакомых»[119]. Петербургская газета «Правда» дополняла: «16-го, 17-го и 18-го сентября на квартире происходили панихиды, на которых всегда присутствовала масса лиц, желавших почтить усопшего. Некоторые почитатели покойного И. А. приехали из Москвы, Дерпта, Твери и др. городов. Тело усопшего было набальзамировано и положено в дубовый гроб, 19 сентября состоялось погребение тела в Александро-Невской лавре. За гробом шла тысячная толпа. Гроб всю дорогу несли на руках, а печальная колесница была украшена венками, в числе которых было несколько дорогих серебряных. Отныне имя автора „Фрегата „Паллада““, творца „Обрыва“ и „Обломова“ стало достоянием истории, со страниц которой оно никогда не сойдет».
Некоторым диссонансом звучат воспоминания художника И. Е. Репина: «Третьего дня были на похоронах Гончарова, довольно скромно прошли и было бы совсем тихо. Стройно запели студенты „Святый Боже…“. Но яростно и энергично влетел к ним в середину верховой полицейский чин и потребовал прекращения. Замолчали, но когда он отъехал, пение раздалось снова. Тут полиция налетела с таким азартом!..
Пение не возобновилось, толпа очень поредела, и только на могиле к похоронам немножко собрались люди»[120]. На самом деле людей на похоронах И. А. Гончарова было много, недаром газета «Правда» отмечала, что за гробом шла тысячная толпа.
Наиболее объективную картину христианских похорон писателя дает его духовник протоиерей Василий Перетерский. В письме к М. Ф. Сперанскому 11 октября 1912 года отец Василий вспоминал: «Я служу в приходе Пантелеймоновской церкви с 1869 г., постоянно свыше 40 лет. В этом же приходе, Моховая ул., д. № 3… все в одной квартире свыше 30 лет жил и Иван Александрович Гончаров. Известие, что он был человек совершенно индифферентный к религии, не исполнял обрядов церкви, не причащался et cet., думаю, кем-то выдумано и совершенно не соответствует действительности. Я могу свидетельствовать, что он был человек верующий, хотя, может быть, по обычаю времени и по светским отношениям не всегда в жизни точно соблюдал обычаи и порядки церкви православной. В храм Божий в воскресные и праздничные дни ходил; ежегодно исполнял христианский долг исповеди и св, причащения в своем приходском храме, что особенно памятно нам потому, что он исповедался и причащался тогда, когда причастников в приходской церкви было уже очень немного, именно в Великую субботу за поздней литургией, которая начинается только в 1-м часу дня и по предположительности кончается уже в 3-м часу дня, почему причастников на ней бывает уже мало, но всегда обязательно И. А. Гончаров»[121].
Отец Василий был одним из немногих, знавших истинную духовную жизнь писателя, он свидетельствует об истинном христианском смирении Гончарова: «Я его и напутствовал в последней предсмертной болезни; я тогда получил от него христиански смиренную просьбу, чтобы не хоронили его как литератора, на Волковском кладбище, а чтобы похоронили как простого христианина, скромно, просто, без всяких обычно устрояющихся учащеюся молодежью при погребении литераторов помпы и намеренной пышности и шума, в Невской Лавре»[122]. После смерти писателя отец Василий служил над его прахом панихиды, провожал гроб с телом покойного романиста в Лавру и обычным порядком после отпевания в Свято-Духовской церкви предал земле на Никольском лаврском кладбище, которое в 1891 году называлось Новым,
А. Бахтиаров в журнале «Колосья» (1891, ноябрь. С. 328) отмечал: «Городская дума в ближайшем после смерти Гончарова заседании постановила: переименовать Моховую улицу — в Гончаровскую». Однако улица так и носит до сих пор старое название.
Христианство и культура
Салон Майковых. Первые литературные опыты
Весной 1835 года губернатор А. М. Загряжский был смещен со своей должности. Уезжая в Петербург, он взял с собою и своего секретаря — Гончарова, Видимо, не без его участия Гончаров получил должность переводчика в департаменте внешней торговли Министерства финансов. В департаменте Гончаров близко сошелся с Владимиром Андреевичем Солоницыным, сыгравшим заметную роль в его жизни и писательской судьбе.
В. А. Солоницын (1804–1844) в 1836–1841 гг. являлся помощником правителя канцелярии Департамента внешней торговли Министерства финансов. Он и сам, будучи учителем Аполлона и Валериана Майковых, не лишен был литературного дара. Не случайно в начале 1840-х годов он редактировал вместе с О. И. Сенковским журнал «Библиотека для чтения». Но главное — Солоницын привел Гончарова в семью Майковых, недавно переехавшую в Петербург из Москвы. Семья эта в религиозном отношении жила если не напряженной, то все-таки глубокой жизнью. Это не была жизнь духовная в собственном ее понимании, но скорее — культурно-религиозная, кстати, понятная и близкая Гончарову. Здесь стоит упомянуть, что род Майковых восходит к великому подвижнику Русской Православной Церкви святому Нилу Сорскому. Сам академик живописи Николай Аполлонович Майков расписал знаменитый Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Известно, что в роду Майковых господствовали традиции Православия и монархизма.
«Майковский период» творчества Гончарова отмечен такими произведениями, как «Лихая болесть» (1838), «Счастливая ошибка» (1839). Эти повести показывают высокую степень начитанности Гончарова в Священном Писании. В повестях не случайно встречаются библеизмы, а также реминисценции из Ветхого и Нового Заветов. Рисуя всеобщее пробуждение жизни весной, Гончаров использует в повести «Лихая болесть» библейские реминисценции: «Все засуетилось… на небеси горе, и на земли низу, и в водах, и под землею» (ср. Исх. 20, 4). Смысл скрытой цитаты проясняется при полном воспроизведении текста библейского стиха. В книге «Исход» повествуется об исходе еврейского народа из Египта. Бог обращается к еврейскому народу: «Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой…» (Исх. 20, 3–5). Гончаров весьма тонко использует библейский текст. Ведь сначала создается впечатление, что цитата взята из книги «Бытия» и отсылает к словам Библии о сотворении мира: обычное весеннее пробуждение природы Гончаров, как первоначально кажется, намеренно подает как величайший акт сотворения мира, подчеркивая библейской отсылкой значимость этого события для семьи Зуровых, героев повести, и вызывая ироничную улыбку читателя, На самом деле замысел глубже: Зуровы иронично обвиняются в том, что из своих загородных прогулок они «сотворили себе кумира». Это тем более характерно, что перед приведенными словами в повести «Лихая болесть» читаем: «В природе поднялся обычный шум; те, которые умирали или спали, воскресли и проснулись…» Таким образом, молодой прозаик уже обнаруживает не только прекрасное знание текста Священного Писания, но и умение многопланово включить библейскую реминисценцию в свое произведение. Характерно намечена в этой ранней повести и тема «сна» — в ее духовном ракурсе, что получит столь сильное продолжение в творчестве Гончарова, в частности, в романе «Обломов», В этой же повести заложена и другая традиция: во многих своих произведениях романист упоминает конкретные церкви и монастыри. В «Лихой болести» он делает это впервые, упоминая «Невский монастырь» (А. I. 37), то есть Александро-Невскую Лавру, где Гончаров и будет похоронен в свое время. Упомянута также и Киево-Печерская Лавра, Подчеркивая то, что страсть Зуровых к загородным прогулкам носит характер «болести», Гончаров иронично сравнивает ее с языческой фетишизацией. Зуровы, по его мнению, «сотворили себе кумира» и даже превзошли в своей страсти религиозные устремления верующих: «Никогда ни один поклонник женолюбивого пророка не стремился с такою жадностью в Мекку, ни одна московская или костромская старуха не жаждала так сильно подышать святостью киевских пещер» (А. I. 37).
В повести содержится и первое упоминание религиозных подвижников в творчестве Гончарова: упомянут католический монах-аскет Петр Пустынник: «Я с жаром продолжал убеждать их силою слова, как некогда Петр Пустынник, только с тою разницею, что тот уговаривал, а я отговаривал» (А. I. 58). Петру Пустыннику (ок. 1050–1115) приписывают организацию Первого крестового похода. В этом деле он отличался необыкновенным воодушевлением, которым увлек даже папу Римского[123]. Об этом подвижнике Гончаров мог узнать из поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим», которую он хорошо знал. Петр Пустынник является одним из действующих лиц поэмы.
Подспудно поданный мотив «крестовых походов» не случаен. В повести нарочито последовательно и иронически подчеркивается едва ли не религиозная «высота» страсти Зуровых к загородным путешествиям: в болотах и оврагах под Петербургом они видят «клочок земного Рая», «где пернатые поют согласным хором хвалебный гимн Творцу»[124]. Так автор высмеивает «высокий романтизм» (идеализм) Зуровых.
Христианство и культура. Франты и джентльмены
Уже в начале 1840-х годов вырисовывается одна из стержневых проблем, определяющих своеобразие религиозной настроенности Гончарова. Это проблема внутренней соотнесенности религии и культуры, религии и цивилизации. Будущий романист к этому времени, очевидно, уже осознал бесперспективность всякого нравственного идеала вне религии, вне христианства. Размышления на эту тему должны были волновать его еще в Московском университете, на лекциях Н. И. Надеждина, С. П. Шевырева, М. П. Погодина и других ведущих профессоров. Там же, на студенческой скамье, в общих чертах определилось тяготение писателя к западным, либеральным ценностям. Однако эти ценности не заслонили от него традиционное личное Православие, в догмах и идеалах которого Гончаров никогда не сомневался. Вопрос встал для него в другом плане: как соединить «вечность» и «историю», личное традиционное верование, «веру отцов», с обретенными в университете понятиями и ценностями культуры и цивилизации. Это исходная точка всех его религиозных размышлений. Проблема эта должна была вновь обостренно осмысливаться им в общении с Майковыми и их литературным окружением. Она оказалась актуальна для духовных поисков русской интеллигенции в течение всего XIX века и с новой силой религиозного интеллектуального ренессанса вспыхнула в начале XX века.
Именно на таком «эстетическом» восприятии христианства — в его приложении к потребностям исторического творчества — и построены такие произведения Гончарова, как «Письма столичного друга к провинциальному жениху», «Обыкновенная история», «Фрегат „Паллада“». В 1840-е годы Гончаров начал своего рода эксперимент: попытку осмыслить культуру в свете христианства. Лишь искривление путей России в период революционно-демократического кризиса, а также личный опыт, полученный в период плавания на фрегате «Паллада», заставили его вскоре радикально переосмыслить свое мировоззрение. В 1860-е годы он уже понимал Православие прежде всего как хранилище нравственной и религиозной истины.
Прежде всего речь должна идти о таком его произведении, как «Письма столичного друга к провинциальному жениху». В нем публицистически ясно и очень концентрированно выражено то, что будет так или иначе воплощено во многих других произведениях Гончарова. Романист опубликовал «Письма…» в 11–12 номерах журнала «Современник» за 1848 год под псевдонимом А. Чельский[125]. Тот факт, что автор «Обыкновенной истории» не решился подписать свое собственное имя, а также то, что «Письма» были помещены в разделе «Моды», говорит, казалось бы, о второстепенном характере этого произведения. На самом деле Гончаров не просто выполняет некую черновую литературную работу (это период анонимного, но активного сотрудничества Гончарова с журналом, многие его произведения, опубликованные в «Современнике», до сих пор не установлены). Он по-прежнему, хотя и не в романной форме, занят главным: выработкой религиозно-нравственного идеала современного человека, и притом — европеизированного русского.
«Письма столичного друга к провинциальному жениху» являются в каком-то смысле программным произведением Гончарова, раскрывающим важнейшие стороны его мировоззрения. При этом следует отметить, что в дальнейшем писатель не включал его в свои собрания сочинений. Причину этого следует искать, видимо, в некоей незавершенности мысли, в «фельетонном» по духу характере «Писем». Однако идея, которую попытался в них выразить романист, была стержневой для его мировоззрения, в особенности для его мировоззрения 1840-х годов. В «Письмах» хотя и в фельетонной плоскости, но прямо ставился вопрос об идеале человека и назначении человеческой жизни. При этом Гончаров, как всегда, внешним образом не выходит на уровень религиозных понятий. Гончаров показывает лишь «культурные», «цивилизационные» следствия из правильно или неправильно понятых идеалов человеческой жизни. Однако самое любопытное заключается в том, что, не покидая чисто земной, общественно-социальной почвы, художник выстраивает нечто вроде духовной «лестницы». Этот метод, лишенный всякого патетического религиозного начала (что так свойственно, например, Ф. М. Достоевскому или Л. Н. Толстому), станет для него основным на протяжении всего его творчества. Анализ гончаровских романов доказывает, что хотя писатель и не говорит непосредственно о религии, нравственные проблемы человеческой жизни рассматриваются им в контексте именно религиозного концепта жизни. Но лишь в последнем романе он вынужден был нарушить свои художнические установки и «приоткрыть» завесу над своей художнической тайной. В «Обрыве» Гончаров уже прямо, как никогда ранее не делал, говорит о религии, о вере, о Боге.
На первый взгляд, в «Письмах» ставится вполне практическая задача — показать несколько категорий современных людей, претендующих на звание вполне «светских», «порядочных». Гончаров выстраивает своеобразную классификацию общественно-психологических типов: «франт» — «лев» — «человек хорошего тона» — «порядочный человек». Особенность этой классификации такова, что каждый последующий тип, помимо общего, внешнего соответствия «моде», идеалу «светскости», цивилизованности, все в большей мере усваивает идеал внутренней порядочности, т. е. нравственности. От красоты, понимаемой чисто внешним образом, человек должен, по Гончарову, подняться до внутренней, почти религиозно понимаемой «красоты».
В этом любопытном по жанру произведении, напоминающем одновременно и о типичном «физиологическом очерке», и о философском эссе в духе английского просветителя А. Шефтсбери, Гончаров пытается открыто решать те проблемы, которые остались в подтексте его первого романа «Обыкновенная история». Писатель признает, что между идеалом и реальностью лежит «бездна», но все же свою задачу как художника видит в исследовании «идеальных» потенций самой реальности. Он видит, что разные люди в различной степени сумели приблизиться к идеалу, — и пытается обозначить многоступенчатость (а значит, и принципиальную возможность) «вырастания» идеала из самой реальности, из ее потребностей. По его мнению, самой мощной и наиболее естественной, органично присущей человеку потребностью, которая обусловливает стремление человека к идеалу, выступает «красота», стремление к «красивому».
Потребность в красоте глубоко присуща человеку как существу общественному, социальному. В письме к С. А. Никитенко от 21 августа 1866 года он замечает: «Эта потребность высокая, свойственная только человеческой природе и которой у животных нет» (VIII. 364), Красота — это «мост», соединяющий в человеке внешнее и внутреннее, «биологическое» и духовное. Таким образом, по Гончарову, и самая действительность, «неидеальная» и несовершенная, содержит в себе возможность «идеальную»: стремление к красоте, изначально присущее человеку. В «Письмах столичного друга к провинциальному жениху» и исследуется эта «идеальная» потенция реальности.
Нравственный идеал в «Письмах…» — это «порядочный человек». Причем автор сразу замечает: «Нет и не было вполне порядочного человека, и Бог знает, будет ли когда-нибудь; но есть типы, есть более или менее приближающиеся к этому идеалу существа…» Понятие «порядочного человека» осмыслено писателем философски. На пути к указанному идеалу — несколько ступеней. Первая из них — «франт», в котором понятие порядочности отражается лишь одной своей стороной: умением «мастерски безукоризненно одеться». В нем стремление к красоте выражено исключительно «внешне», поверхностно. Он «трепещет гордостью и млеет от неги, когда случайно поймает брошенный на него каким-нибудь юношей завистливый взгляд или подхватит на лету фразу: „Такой-то всегда отлично одет“. В своем стремлении к красоте франт крайне „овнешнен“, ибо его волнует лишь реакция окружающих: „Это обыкновенно мелкое и жалкое существо“[126]. В то же время в нем хотя и уродливо, но выразилось первоначальное глубинное человеческое стремление к идеалу.
Следующая ступень — „лев“, который является, в сущности, все тем же „франтом“, но с универсально развитыми интересами: „Лев покорил себе уже все чисто внешние стороны уменья жить. В нем незаметно мелкой претензии, то есть щепетильной заботливости о туалете или о другом исключительном предмете, не видать желания блеснуть одной какой-нибудь стороной.“»[127]. «Лев» уже более глубоко, чем «франт», постиг внешнюю красоту: «Он хорошо ест. „ему надо подумать, где и как обедать, решить, какой сорт сигар курить и заставить курить других; его занимает забота о цвете экипажа и о ливрее людей. Он в виду толпы: на него смотрят, как на классическую статую.“» Но и «лев» — еще далеко не «порядочный человек».
Далее следует «человек хорошего тона», который уже вплотную приближается к идеалу истинного джентльмена[128]. Для человека хорошего тона «наружные условия уменья жить», дело второстепенное. Он извлек другую, важную тайну из этого уменья: он обладает тактом в деле общественных приличий. «внутренних, нравственных». Итак, человек хорошего тона внешне уже джентльмен: он соблюдает все правила приличий так же, как и порядочный человек. Однако при ровном, благородном наружном тоне он не убежден внутренне в необходимости такого своего поведения в обществе. Он ориентируется на оценки окружающих, а не на самую высокую, собственно уже религиозную — самооценку. Иначе говоря, его джентльменство может быть лишь маской, но не истинным его лицом. «Человек хорошего тона может и не уплатить по векселю, завести несправедливый процесс», хотя даже и в обмане он «соблюдает ровный, благородный наружный тон», — пишет Гончаров. Поэтому-то автор и замечает: «За нравственность его я не ручаюсь». В человеке хорошего тона уже есть элемент «внутреннего». Он как бы переходная ступень от внешнего к внутреннему ему пониманию красоты.
«Порядочный человек» — совсем иное дело. В гончаровской классификации это, по сути дела, религиозный тип общественного поведения. Человек ориентирован не столько на «моду» или «оценку окружения», сколько на высший нравственный эталон поведения «для себя», «для самого добра». Он «честен, справедлив, благороден» — и притом все «хорошие его качества выражаются в нем тонко, изящно». Автор «Писем…» отмечает в порядочном человеке «тесное гармоническое сочетание наружного и внутреннего, нравственного уменья жить» — причем «первую роль… играет, разумеется, нравственная, внутренняя сторона этого уменья. Наружность есть только помощница, или, лучше, форма первой»[129]. «Порядочный человек» в том виде, как его описывает Гончаров, есть уже человек, просвещенный духовным светом и, как показывает контекст всего творчества Гончарова, именем Христовым, Только этого имени писатель не называет.
Для того чтобы вполне прояснить нашу мысль, приведем высказывание известного православного подвижника епископа Арсения Жадановского. Православные мыслители подходят к той же проблеме, что и Гончаров (синтез внешней и внутренней красоты), только с другой стороны. В своем дневнике епископ Арсений записывает: «Читая наставления преподобного Исайи Отшельника[130], поражаешься, как у святых отцов-подвижников даже внешнее благоповедение доходило до высшей степени вежливости, благопристойности и обходительности. Если хотите, здесь вы можете найти высший тон благовоспитанности. Как сидеть за столом, как говорить, как ходить, как принимать гостей — всему вы здесь найдете указание, все здесь определено и при этом в высшей степени нежно, тонко, духовно и искренно, что весьма дорого. Высший же тон, рекомендуемый в светском воспитании, только вовне благопристоен, внутри же исполнен лицемерия, злорадства и пустоты. О, вера Христова! Как ты высока — ты поистине двигатель нашего совершенства и внутреннего и внешнего! И ты, вера, это совершенство можешь везде давать человеку — будет ли он жить в богатых чертогах, или же в пустынях и пропастях земных»[131].
Идеал «человечности» Гончаров исследует как художник не в религиозных, а в сугубо «общественных» формах. Между человеком и «внутренней красотой» у него стоит как переходная ступень красота «внешняя», ощущаемая «пятью чувствами». Но внутренняя красота, и только она, является целью его художественного исследования в «Письмах». Как светский мыслитель он описывает к ней путь, который возможен для культурного и цивилизованного мирянина. Как видим, выделяя несколько ступеней своей духовно-эстетической «лествицы», Гончаров поднимает ту же проблему, что и, например, епископ Арсений, но показывает светское воспитание не в одном лишь негативном свете (в противопоставлении духовному), а обнаруживает, что и в миру люди стремятся к тому же христианскому идеалу совмещения внутренней и внешней красоты. Можно сказать, что Гончаров поднимает церковную проблему, утверждает все тот же христианский идеал, но подходит к этой проблеме, к этому идеалу, с другого конца. Церкви не важны переходные ступени той «лествицы», которую описывает автор «Писем». Гончарову же важны именно переходные моменты, указывающие на принципиальную возможность внутреннего очищения, движения к идеалу Христа — в формах светской жизни. Таким образом, Гончаров начинает свою нравственно-очистительную работу там, где кончают святые отцы Церкви.
В идеале порядочного человека обозначен самый нерв гончаровского мировоззрения в 1840-е годы. В своем поиске синтеза христианских идеалов и «цивилизации» Гончаров в это время еще пытается сохранить «инкогнито», прикрывая свой поиск флером просветительских идей. Ему дороги эстетизированные гуманистические идеалы, восходящие к просветительской «гуманности» и к распространяемому в России идеалу «дендизма». Гончаровский «порядочный человек» находит явную перекличку с пушкинским «денди», В то же время в его концепции «порядочного человека» явно проглядывают оттенки как своебразного протестантизма, так и просветительства, и даже англомании. Уже гораздо позже Гончаров говорил: «Яне англоман, но не могу, иногда даже нехотя, не отдать им справедливости»[132]. Его «порядочный человек» калькирован с английского идеала «джентльменства», который упорно отстаивал романист на протяжении многих лет. Лишь спустя много лет писатель начнет ощущать кризис просветительства и осознавать тщету примирения его с христианскими идеалами.
Даже в романе «Обыкновенная история» Гончаров очень занят любимой мыслью о нравственно-эстетической классификации людей. Оставаясь хорошим психологом, автор романа показывает, что, как правило, люди весьма завышают свою самооценку. Франт хочет выглядеть «львом», человек хорошего тона — порядочным человеком и т. д. Так, например, и себя, и своего приятеля графа Новинского Петр Адуев считает «порядочными людьми», несмотря на явно непорядочные поступки графа, лишь прикрытые приличием, и свою жестко прагматическую философию жизни, приведшую к трагическому финалу в его отношениях с женой:
«— Укажите, где порядочные люди? — говорил Александр с презрением.
— Вот хоть мы с тобой — чем не порядочные? Граф, если уж о нем зашла речь, тоже порядочный человек; да мало ли? У всех есть что-нибудь дурное… а не все дурно и не все дурны» (Ч. 1, гл. VI).
Кто же на самом деле Петр Иванович Адуев — по гончаровской классификации? В III главе второй части Гончаров пишет о своем герое: «Ни в одном взгляде, ни в движении, ни в слове нельзя было угадать мысли или характера Петра Иваныча — так все прикрыто было в нем светскостью и искусством владеть собой». Это явно не порядочный человек, но человек хорошего тона. Петр Иванович знает наизусть не одного Пушкина, хорошо разбирается в живописи и вместе с тем обладает энергией, деловыми навыками. Автор характеризует его как «человека с умом и тактом». Более того, он «тонок, проницателен, ловок» (Ч. 2, гл. I). Тем не менее перед нами далеко не высший идеал. Петр Иванович лишь декларирует свою веру в высокие идеалы, которым так смешно предан его племянник-романтик. Под предлогом борьбы с мечтательным романтизмом он фактически игнорирует все эти нравственные ценности. Тонкий вкус, знание Пушкина не преображают его внутренне, не предотвращают его семейной катастрофы, то есть остаются чем-то поверхностным, внешним. У него нет друзей, но зато много «нужных людей». Его теория семейной жизни, основанная на разделении любви и брака, цинична. Он может прочесть чужое письмо и выбросить в окно чужую вещь, хотя во всем он соблюдает «изящный, ровный, благородный наружный тон», как и положено человеку «хорошего тона».
Точно так же Сурков вовсе не является «львом», хотя и считает себя таковым: «Туалет его был свеж, но в каждой складке платья, в каждой безделице резко проглядывала претензия быть львом, превзойти всех модников и самую моду. Если, например, мода требовала распашных фраков, так его фрак распахивался до того, что походил на распростертые птичьи крылья; если носили откидные воротники, так он заказывал себе такой воротник, что в своем фраке он похож был на пойманного сзади мошенника, который рвется вон из рук. Он сам давал наставления своему портному, как шить. Когда он явился к Тафаевой, шарф его на этот раз был приколот к рубашке булавкой такой неумеренной величины, что она походила на дубинку» (Ч. 2, гл. III).
Джентльменство для Гончарова — органичный синтез внешнего и внутреннего, эстетики и этики, изящества и нравственности. В неразложимости того и другого — все дело. Уже за несколько месяцев до смерти он написал небольшой очерк, ярко иллюстрирующий, как тесно связаны внешняя и внутренняя гармония в человеке. Героя очерка «Май месяц в Петербурге» отличает безвкусица, эстетическая неопрятность, разладица. Для Гончарова это признаки грубой, корыстной души: «В домашнем быту своем он был во всем приличен, но, вглядываясь в приличие это, заметишь белые швы. У него в квартире было все сборное, никакого единства, то есть вкуса, в обстановке… все… смотрело врознь. Джентльменом он не был, едва ли даже понимал это слово или смешивал его с крупным чином. В настоящую пору он ладил, как бы ему жениться на богатой, хоть на купеческой дочери…»
Интересный спор о джентльменстве возник на страницах романа «Обломов». На вопрос Штольца о том, кто такой Илья Ильич, Захар ответил: «Барин».
«— Барин! — повторил Штольц и закатился хохотом.
— Ну, джентльмен, — с досадой поправил Обломов.
— Нет, нет, ты барин! — продолжал с хохотом Штольц.
— Какая же разница? — сказал Обломов. — Джентльмен такой же барин.
— Джентльмен есть такой барин, — определил Штольц, — который сам надевает чулки и сам же снимает с себя сапоги» (Ч. 2, гл. IV).
Строго говоря, Штольц не совсем прав. Ведь даже один из любимых английских авторов Гончарова философ Д. С. Милль в «Системе логики» писал, что джентльмен — это «всякий, кто живет не трудясь». В Обломове и Штольце просто-напросто столкнулись две культуры — дворянская и буржуазная — и, соответственно, два понимания джентльменства. Начиная со времен Даниэля Дефо, автора знаменитого романа «Робинзон Крузо», весьма интересовавшегося проблемой джентльменства, появилось различение джентльменов по происхождению и джентльменов по воспитанию. В «Обломове» Гончаров безусловно признает лишь вторых. Истинный джентльмен в романе, во всяком случае, в замысле автора, — Штольц, что и было замечено критиком PL Ахшарумовым, который выделил «щегольской фрак из тонкого сукна и тонкие голландские рубашки как символ джентльменства» у Штольца.
Первого «живого» джентльмена Гончаров видел в Симбирске. Это был его крестный Н. Н. Трегубов, о котором сказано в воспоминаниях «На родине»: «Это был чистый самородок честности, чести, благородства и той чистоты души, которою славятся моряки, и притом с добрым, теплым сердцем. Все это хорошо выражается английским словом „джентльмен“, которого тогда еще не было в русском словаре»[133].
Гончаров настолько высоко ценит понятие «джентльменства», что возводит его в общечеловеческий идеал. Так, в статье «Опять „Гамлет“ на русской сцене» (1875) он прямо ставит знак равенства между понятиями «джентльмен» и «человек» в высшем гуманистическом значении этого слова: «Он не лев, не герой, не грозен, он строго честен, благороден, добр — словом, джентльмен, как был его отец… Это совершенный джентльмен — или „человек“…» Идеей джентльменства отмечены многие образы, созданные
Гончаровым, начиная с Петра Ивановича Адуева из «Обыкновенной истории» до Тушина и Райского в «Обрыве», Джентльменство раскрывается в его творчестве как определенный этический идеал, а самое слово отсвечивает в его произведениях почти философской глубиной, ныне утраченной как в обыденной речи, так и в толкованиях словарей.
Понятие, разумеется, далеко не сразу получило место в русских толковых словарях. Кажется, впервые слово «джентльмен» нашло отражение в русском «Энциклопедическом лексиконе» (СПб., 1839), Его использовали и западники (В. П. Боткин, И. С. Тургенев), и славянофилы (Н. Д. Ахшарумов, С. Т. Аксаков). Понятие проникало в жизнь разнообразно. Из словарей и собственно идейно-понятийной сферы оно перешло в реальную жизнь, причем первые попытки его жизненной, бытовой реализации казались достаточно широкими по духу (впоследствии сфера его бытования в русской жизни не то чтобы сузится, но скорее не подтвердятся притязания на легкое и органичное проникновение этого понятия в самые различные сферы русской практической жизни). Характерно, что уже в июне 1843 года на ипподроме Московского скакового общества состоялась первая «джентльменская скачка». Ее победителем стал литератор А. В. Сухово-Кобылин.
Были предприняты попытки этико-философского осмысления понятия, его серьезного «вживания» в русскую жизнь в качестве морального идеала. Здесь прежде всего надо сказать о В. Боткине и Гончарове, которые более других русских писателей подводили под это понятие теоретический базис и при этом ориентировались на историю английской этики.
Первое упоминание о джентльмене дает известное английское двустишие:
Когда Адам пахал, а Ева пряла, Кто был тогда джентльменом?Двустишие относится к XII веку. Один из характерных признаков здесь — джентльмен не занимается ручным трудом, Этот признак оказался очень устойчивым в Англии — он сохранился вплоть до начала XX века. В «Британской энциклопедии» есть сведения, что в 1400 году слово «джентльмен» означало «благороднорожденный», а с 1414 года — младших сыновей, лишенных наследства в силу обычая единонаследия, В 1583 году Томас Смит в трактате «Об английском государстве» делил англичан на 4 разряда: 1) джентльмены; 2) граждане и горожане; 3) мелкие землевладельцы; 4) ремесленники и крестьяне[134]. Здесь джентльмены — это все высшее дворянство от герцогов до баронов.
Освобождение от физического труда — не просто социальная привилегия джентльмена. Его время уходит на совершенствование, культивирование всех лучших свойств человеческой натуры вообще. Без этого он — не джентльмен. Именно в этом — его общественное служение, Он показывает образец человеческого поведения, морали, повышает уровень нравственной жизни общества. В 1713 году в газете «Гардиан» была помещена статья Р. Стила. «Под совершенным джентльменом, — писал Р. Стил, — мы понимаем человека, который способен одинаково хорошо служить обществу и охранять его интересы, а также быть его украшением… ему присуще такое достоинство и такое величие, какими только может обладать человек». Иначе говоря, джентльмен — это собрание всех мыслимых добродетелей, образец человека как такового. Джентльменство включает в себя целый набор совершенств.
В Великобритании несколько столетий шел спор о том, кого же можно считать джентльменом. К идеалу джентльмена нация относилась со всей возможной серьезностью. О джентльменстве как целом институте английской жизни исписаны горы литературы: среди них — книги, статьи, в том числе в знаменитой «Британской энциклопедии»[135].
Между тем русская культура XIX века не только в полном объеме воспринимала значение слова «джентльмен», но и пыталась развить это понятие — в первую очередь в творчестве Гончарова. В России как-то сразу стало устанавливаться понимание, что джентльмены возможны в любом классе общества. В очерке Гончарова «Литературный вечер» один из героев решительно утверждает: «Порядочные люди, или джентльмены, есть во всяком классе; наверху их меньше. Там только бары». Ему возражает старик-либерал Чешнев: «Не высший, не низший, а просто круг благовоспитанных людей, то, что называется джентльменов у англичан или порядочных людей у нас!» Гончаров в 1840-е годы, как и его доверенное лицо в «Литературном вечере» (Чешнев), не связывает джентльменство с узким социальным кругом. «Беда франту и льву без денег: тогда они ничто… Но человек хорошего тона, но порядочный человек и в прахе бедности и неизвестности сохранят негибнущие нравственные признаки хорошего общества: они и туда унесут с собою — один изящество манер и тонкое чувство приличий, другой — прелесть внешнего и блеск нравственного уменья жить. Они как драгоценные алмазы могут затеряться в пыли, не утратив своей ценности».
Красота, по Гончарову, сама по себе настолько высока и самодостаточна, что в нее укладываются в светской жизни даже и религиозные основы миропонимания. В миру она является столь же твердым основанием жизни, как аскеза — в монастыре. В основе нравственных принципов порядочного человека лежит не что иное, как Евангелие. Этого достаточно для Гончарова, ибо он выстраивает в своих произведениях именно евангельскую этику, которую в «Письмах» светски называет «нравственным уменьем жить».
Красота как нравственная категория интересовала Гончарова еще до написания «Писем». Красоту как нравственное и эстетическое явление Гончаров изучал уже в университете: не только на лекциях профессоров, но прежде всего сам, вчитываясь в произведения Ф. Шиллера, И. Винкельмана и др. В одной из автобиографий романист признается, что все свободное от службы время «много переводил из Шиллера, Гете… также из Винкельмана…» (VIII. 223). Имя Винкельмана сопровождает его всю жизнь. В одном из писем к А. Ф. Кони он вспоминал: «Я для себя, — без всяких целей, писал, сочинял, переводил, изучал поэтов и эстетиков. Особенно меня интересовал Винкельман»[136]. В определенном плане имя Винкельмана стоит для него в одном ряду с именами Г. В. Ф. Гегеля, И. В. Гете, В. Г. Белинского. Следует обратить внимание на то, что «Винкельман был в числе главных источников, по которым Надеждин читал лекции о греческих памятниках изящных искусств»[137]; здесь и надо, видимо, искать начало огромного интереса художника к воззрениям Винкельмана. Более всего учился Гончаров у этого немецкого эстетика вкусу, изяществу, пониманию красоты.
«Письма» были написаны в 1848 году, однако очерк «Иван Савич Поджабрин» (1842) показывает, что гончаровская философия человека складывается гораздо ранее. Именно в «Иване Савиче Поджабрине» впервые встречается у Гончарова классически очерченный тип «франта» и, в сущности, ставится проблема уродливого искажения естественного стремления человека к идеалу красоты.
«Обыкновенная история»
В 1844 году Гончаров начал работу над своим первым романом «Обыкновенная история». К середине 1840-х годов писатель уже ощутил тесноту жанровых рамок очерка, повести, новеллы. Роман позволял перейти к более широкому охвату жизненных проблем, а вместе с тем и к более масштабному поиску религиозно-нравственного идеала.
Весьма долгое время «Обыкновенная история» трактовалась как произведение, связанное с предреформенной русской жизнью и проблемой провинциального романтизма. Традицию заложил еще В. Г. Белинский, воскликнувший: «Какой она страшный удар романтизму, мечтательности, сентиментальности, провинциализму!»[138]. Белинский обозначил проблемы, лежащие на поверхности романа. Но от его глаз был сокрыт более масштабный замысел автора — замысел романной трилогии. Этот замысел уже существовал у Гончарова в 1840-е годы, но он сам еще не сознавал всей глубины идейно-философского единства своей будущей трилогии.
Самое слово «удар» в устах Белинского означало, что он попытался трактовать произведение Гончарова как некий публицистический отклик на современность. Как полемический выпад. Но Гончаров по природе своего писательского дара не столько полемист, сколько мыслитель, фундаментально, в пластических образах утверждающий единственно для него возможный идеал. Но каков же этот идеал? Неужели он был сводим лишь к трезвому, реалистическому отношению к жизни, к деятельному в ней участию и т. п,?
С самого начала своей писательской деятельности Гончаров сознавал, что всеохватывающим универсальным идеалом человечества на протяжении не десятилетий или столетий, а уже тысячелетий является идеал христианский. Отсюда, в частности, его всегдашняя обращенность к масштабному историческому обобщению. В предисловии к роману «Обрыв» он написал ясно и определенно: «В нравственном развитии дело состоит не в открытии нового, а в приближении каждого человека и всего человечества к тому идеалу совершенства, которого требует евангелие…» (VIII. 157). А в статье «„Христос в пустыне“. Картина г. Крамского» еще более определенно: «Христианская вера имеет огромное и единственное влияние… Все почти гении искусства принадлежат христианству… чище и выше религии христианской нет… и нет другой цивилизации, кроме христианской…» (VIII.192). Слово сказано. Идеал Гончарова как писателя (то, для чего он работает) — это Евангелие. Его задача как художника — распространять и утверждать в современных людях христианский взгляд на жизнь, христианские идеалы и даже «христианскую цивилизацию» (это словосочетание — ключевое для романиста!). Именно под углом евангельского взгляда на жизнь и раскрывают свой смысл романы Гончарова.
Хотя в первом гончаровском романе нет открытой постановки религиозной проблемы, впервые религиозный фон так или иначе просвечивает в фигуре каждого персонажа, а главное — в общей постановке проблемы. В сущности, Гончаров впервые дерзнул прямо обозначить свой идеал как религиозный, введя в название романа «Обыкновенная история» евангельскую ассоциацию (евангельская притча о широких, т. е. «обыкновенных», и узких вратах).
Религиозное начало в гончаровских героях не акцентируется: религия — это просто некая соразмерная часть их личности. Очевидно, что провинциальные герои Гончарова — всегда люди либо набожные, либо хотя бы воцерковленные. Среди них нет атеистов. Если даже их вера ослаблена, они не смеют выказать пренебрежение к общепринятой норме поведения. Их религия — это не религия острых вопросов жизни и смерти. Скорее — это религия обытовленная: обряд, вошедший в быт. В романах Гончарова в этом смысле можно выделить целую галерею провинциальных типов.
Самый простой случай — слуги. Например, слуги Адуевых если и упоминают Божье имя, то в чисто бытовом контексте. Упоминают они его, как правило, всуе. Так, Аграфена Ивановна, провожая в Петербург своего сожителя Евсея, скрывает глубокие душевные переживания за просторечными восклицаниями, типа: «Вот пострел навязался! Что это за наказание, Господи! И не отвяжется!» Или: «И слава Богу! Пусть унесут вас черти отсюда…» (Ч. 1, гл. I). В свою очередь Евсей, услыхав, что его место в сердце Аграфены Ивановны займет «леший», отвечает в том же духе, но с большей долей серьезности: «Дай-то Бог! Лишь бы не Прошка» (4. 1, гл. I). Причем Евсей обнаруживает крайнее смирение и знание человеческой психологии: «Уж если, Аграфена Ивановна, случай такой придет— лукавый ведь силен, — так лучше Гришку посадите тут: по крайности малый смирный, работящий, не зубоскал…» Евсей — яркий представитель народного Православия. Он первый в гончаровских романах употребляет «клятву образом», выражение, которое автор «Обыкновенной истории» слыхивал в своем симбирском доме. По возвращении из столицы Евсей уверяет, что честно служил барину в Петербурге.
«— Готов не токмя что своим господам исполнять их барскую волю, — продолжал Евсей, — хоть умереть сейчас! Я образ сниму со стены…» (Ч. 2, гл. VI).
И Евсей, и Аграфена мыслят крайне просто, но вместе с тем точно, зная, что душа человеческая колеблется между Богом и дьяволом, и всерьез принимают возможность искушения «от лукавого»:
«— …С тобой только… попутал, видно, лукавый за грехи мои связаться, да и то каюсь…
— Бог вас награди за вашу добродетель! Как камень с плеч!» (Ч. 1, гл. I).
При всей примитивности этого диалога здесь есть все: серьезное отношение к Богу, понимание того, что «враг» постоянно пытается соблазнить человека, сознание своей греховности (Аграфена Ивановна и Евсей не состоят в браке: барыня не разрешает) и покаяние.
Уже на первых страницах «Обыкновенной истории» мы встречаемся с тем чисто провинциальным «религиозным» типом, который, очевидно, часто попадался писателю в родном Симбирске и который вызывал его насмешку, а отчасти и раздражение, — это вездесущий приживала Антон Иванович, характерной чертой которого являются напускная набожность и кажущиеся твердые знания околоцерковного обихода. Гончаров пишет о нем: «Кто же не знает Антона Ивановича? Это Вечный жид. Он существовал всегда и всюду, с самых древнейших времен, и не переводился никогда… У нас, на Руси, он бывает разнообразен…» (Ч. 1, гл. I). Его религиозность чисто внешняя, так как «он прикидывается, что весь век живет чужими горестями и заботами». На самом деле это заурядный приживальщик. Вся его религиозность сводится к суете при исполнении церковного обряда и чело-векоугодию: во время молебна, который служит священник при отъезде Александра Адуева в Петербург, «Антон Иванович созвал дворню, зажег свечу и принял от священника книгу, когда тот перестал читать, и передал ее дьячку, и потом отлил в скляночку святой воды, спрятал в карман и сказал: „Это Агафье Никитишне“» (4. 1, гл. I). Его суетливость естественно связана и с суеверностью. Когда наступает время Александру сесть в экипаж, Антон Иванович берет на себя роль распорядителя. «Сядьте, сядьте все! — повелевал Антон Иванович… и сам боком, на секунду, едва присел на стул. — Ну, теперь с Богом!» Точно так же суетится он и по возвращении Александра в материнский дом.
«— Он! Он! — кричал Антон Иваныч, — вон и Евсей на козлах! Где же у вас образ, хлеб-соль? Дайте скорее! Что же я вынесу к нему на крыльцо? Как можно без хлеба и соли? примета есть… Что это у вас за беспорядок! никто не подумал! Да что ж вы сами-то, Анна Павловна, стоите, нейдете навстречу? Бегите скорее!..
— Не могу! — проговорила она с трудом, — ноги отнялись.
И с этими словами опустилась в кресла. Антон Иваныч схватил со стола ломоть хлеба, положил на тарелку, поставил солонку и бросился было в дверь» (Ч. 2, гл. VI). Антон Иванович знает именно внешнюю обрядовую сторону Православия, но его вера сродни суеверию и язычеству, она никак не выражается в его делах, образе жизни. Неудивительно, что Антон Иванович путает слова молитвы, произносимой им без всякого чувства. Выходя из-за стола, он так читает благодарственную молитву: «Благодарю тебя, Боже мой, — начал он вслух, с глубоким вздохом, — яко насытил мя еси небесных благ… что я! замололся язык-то: земных благ, — и не лиши меня небесного Твоего царствия» (Ч. 2, гл. VI).
Вся жизнь равнодушного к чужим делам, но слывущего за «милостивца» Антона Ивановича сводится к «дармовому» столу у соседей по имению. Поэтому вместо «Не пророню ни словечка» он, постоянно проговариваясь и путая, говорит: «Не пророню ни кусочка» и т. д. И глубокий вздох его на молитве — это вздох после сытного обеда. Так Гончаров создает уже в первом романе один из непривлекательных образов фарисействующего христианина-обывателя.
Мельком упоминает Гончаров о религиозности Елизаветы Александровны, жены Петра Адуева. Однако в одной фразе кроется глубина ее веры и преданность Божьей воле. Успокаивая в последний раз Александра Адуева, она говорит: «Не разочаровывайтесь до конца!., всякому из нас послан тяжкий крест…» (Ч. 2, гл. V).
В особом художественном контексте изображается Гончаровым набожность немца-учителя, преподающего немецкий язык и литературу Юлии Тафаевой. В этом плане любопытно, как учитель отбирает книги для Юлии: «Первая книга была: „Идиллии“ Геснера. „Gut!“ — сказал немец и с наслаждением прочел идиллию о разбитом кувшине. Развернул вторую книгу: „Готский календарь 1804 года“. Он перелистовал ее: там династии европейских государей, картинки разных замков, водопадов. „Sehr gut!“ — сказал немец. Третья — Библия: он отложил ее в сторону, пробормотав набожно: „Nein!“» (Ч. 2, гл. III).
В образе Костикова изображает автор «Обыкновенной истории» человека, любящего клятвы и постоянно повторяющего слово «анафема» (распространенный бытовой тип):
«— Никогда не пойду с вами рыбу ловить, будь я анафема! — промолвил он и отошел к своим удочкам… Костяков на другой же день повлек Александра опять на рыбную ловлю и таким образом, по собственному заклятию, стал анафемой» (Ч. 2, гл. IV).
С любовью, хотя и не без мягкого юмора, описывает Гончаров религиозность матери Александра Адуева. В этом описании ясно ощутим биографический подтекст: Анна Павловна в своей любви к сыну, в своих религиозных переживаниях очень похожа на реальную личность матери Гончарова — Авдотью Матвеевну. В «Обыкновенной истории» Гончаров с удовольствием воспроизводит основные черты так называемого «народного Православия», которое он хорошо усвоил из провинциального домашнего быта и которое, надо признаться, и спасло его «во дни сомнений и тревог». В религиозности матери Адуева причудливо сочетаются простая, не осложненная рефлексией вера в Бога с обычной житейской практичностью и слепой любовью к своему чаду[139]. Гончаров неприметно иронизирует над таким сочетанием. Отговаривая Александра ехать в Петербург, Анна Павловна говорит: «Погляди-ка… какой красотой Бог одел поля наши! Вон с тех полей одной ржи до пятисот четвертей сберем… Подумаешь, как велика премудрость Божия! Дровец с своего участка мало-мало на тысячу продадим…» В ее сознании Богозданная красота сводится к количеству ржи, а Божья премудрость — к обеспеченности дровами. А «истинно небесное великолепие» озера заключается в том, что Адуевы «одну осетрину покупают, а то ерши, окуни, караси кишмя кишат» (Ч. 1, гл. I).
Но есть в ее веровании и глубина, и серьезность — в особенности когда она беспокоится о судьбе сына. В ее последних наставлениях ему— целая «домостроевская» программа жизни. Во-первых, она просит сына не забывать Бога: «Выслушай, что я хочу сказать! Бог один знает, что там тебя встретит, чего ты наглядишься, и хорошего, и худого. Надеюсь, Он, Отец мой небесный, подкрепит тебя; а ты, мой друг, пуще всего не забывай Его, помни, что без веры нет спасения нигде и ни в чем» (Ч. 1, гл. I). Своими словами, по-матерински, пересказывает Анна Павловна учение св. отцов Церкви, выражая народное понимание веры («Без Бога — не до порога»).
Быть с Богом всегда — ив счастье, и в несчастье, в богатстве и в бедности — так учит Церковь, так же учит Александра Адуева его мать: «Достигнешь там больших чинов, в знать войдешь — ведь мы не хуже других: отец был дворянин, майор, — все-таки смиряйся перед Господом Богом: молись и в счастии и в несчастий, а не по пословице: „Гром не грянет, мужик не перекрестится“. Иной, пока везет ему, и в церковь не заглянет, а как придет невмочь — и пойдет рублевые свечи ставить да нищих оделять: это большой грех» (Ч. 1, гл. I).
Наставления матери проникнуты православным взглядом на жизнь и касаются всех основных ее сторон. Прощаясь с сыном надолго, она считает нужным прежде всего сказать о духовном (хотя оно постоянно разбавляется бытовым, что естественно): «Блюди посты, мой друг: это великое дело! В среду и пятницу — Бог простит; а в Великий Пост — Боже оборони! Вот Михайло Михайлыч и умным человеком считается, а что в нем? Что мясоед, что Страстная неделя — все одно жрет. Даже волос дыбом становится! Он вон и бедным помогает, да будто его милостыня принята Господом? Слышь, подал раз старику красненькую, тот взял ее, а сам отвернулся да плюнул. Все кланяются ему и в глаза-то Бог знает что наговорят, а за глаза крестятся, как поминают его, словно шайтана какого» (Ч. 1, гл. I). Разумеется, в народном Православии важна не только оценка человека Богом, но и другими людьми. Эту человеческую оценку и акцентирует Анна Павловна.
Считает нужным сказать она и о деньгах. Причем, как и в случае со средой и пятницей, она, ради земного благополучия сына, готова и слукавить немного перед Богом: «К слову пришлось о нищих. Не трать на них денег по-пустому, помногу не давай. На что баловать? их не удивишь. Они пропьют да над тобой же насмеются. У тебя, я знаю, мягкая душа: ты, пожалуй, и по гривеннику станешь отваливать. Нет, это не нужно; Бог подаст!» (Ч. 1, гл. I).
Но более всего волнует мать воцерковленность Александра: «Будешь ли ты посещать храм Божий? будешь ли ходить по воскресеньям к обедне?
Она вздохнула.
Александр молчал. Он вспомнил, что, учась в университете и живучи в губернском городе, он не очень усердно посещал церковь; а в деревне, только из угождения матери, сопровождал ее к обедне. Ему совестно было солгать. Он молчал. Мать поняла его молчание и опять вздохнула» (Ч. 1, гл. I).
Когда она говорит о себе как матери, ее слова незаметно переходят в молитву: «Ну, я тебя не неволю, — продолжала она, — ты человек молодой: где тебе быть так усердну к церкви Божией, как нам, старикам? Еще, пожалуй, служба помешает или засидишься поздно в хороших людях и проспишь. Бог пожалеет твоей молодости. Не тужи: у тебя есть мать. Она не проспит. Пока во мне останется хоть капелька крови, пока не высохли слезы в глазах и Бог терпит грехам моим, я ползком дотащусь, если не хватит сил дойти, до церковного порога; последний вздох отдам, последнюю слезу выплачу за тебя, моего друга. Вымолю тебе и здоровье, и чинов, и крестов, и небесных и земных благ. Неужели-то Он, милосердый Отец, презрит молитвой бедной старухи? Мне самой ничего не надо. Отними он у меня все: здоровье, жизнь, пошли слепоту — тебе лишь подай всякую радость, всякое счастье и добро…
Она не договорила, слезы закапали у ней из глаз» (Ч. 1, гл. I).
Житейские советы ее проникнуты церковным настроением — она предостерегает сына от мотовства, вина, блуда: «Береги пуще всего здоровье, — продолжала она. — Как заболеешь — чего Боже оборони! — опасно, напиши… я соберу все силы и приеду. Кому там ходить за тобой? Норовят еще обобрать больного. Не ходи ночью по улицам; от людей зверского вида удаляйся. Береги деньги… ох, береги на черный день!
Трать с толком. От них, проклятых, всякое добро и всякое зло. Не мотай, не заводи лишних прихотей. Ты будешь аккуратно получать от меня две тысячи пятьсот рублей в год. Две тысячи пятьсот рублей не шутка. Не заводи роскоши никакой, ничего такого, но и не отказывай себе в чем можно; захочется полакомиться ’— не скупись. Не предавайся вину — ох, оно первый враг человека! Да еще (тут она понизила голос) берегись женщин! Знаю я их! Есть такие бесстыдницы, что сами на шею будут вешаться, как увидят этакого-то…
Она с любовью посмотрела на сына» (4.1, гл. I).
Даже когда она дает чисто бытовые советы, она возвращается к Божиим заповедям:
«— На мужних жен не зарься, — спешила она досказать, — это великий грех! „Не пожелай жены ближнего твоего“, сказано в Писании.
Если же там какая-нибудь станет до свадьбы добираться — Боже сохрани! не моги и подумать! Они готовы подцепить, как увидят, что с денежками да хорошенький» (Ч. 1, гл. I).
Все эти сказанные в последний момент советы — лишь квинтэссенция ее воспитательной программы. Очевидно, что она старалась в меру сил и возможностей воспитывать Александра в евангельском духе. Из диалога понятно, чего удалось ей достигнуть, а чего — нет. Кое-что Александр усвоил:
«Она что-то хотела сказать, но не решалась, потом наклонилась к уху его и тихо спросила:
— А будешь ли помнить… мать?
— Вот до чего договорились, — перервал он, — велите скорей подавать что там у вас есть: яичница, что ли? Забыть вас! Как могли вы подумать? Бог накажет меня…
— Перестань, перестань, Саша, — заговорила она торопливо, — что ты это накликаешь на свою голову! Нет, нет! что бы ни было, если случится этакой грех, пусть я одна страдаю. Ты молод, только что начинаешь жить, будут у тебя и друзья, женишься — молодая жена заменит тебе и мать, и все… Нет! Пусть благословит тебя Бог, как я тебя благословляю.
Она поцеловала его в лоб и тем заключила свои наставления» (Ч. 1, гл. I).
Действительно, двадцатилетний Адуев не так усерден к церкви, как старики. Это обычный молодой человек своего времени и воспитания. Его религиозность ничем не акцентирована.
«Боже мой!» — часто восклицает он, но это восклицание, можно сказать, ни к чему не обязывает. Впрочем, заметим, что в «Обыкновенной истории» важно каждое слово. К указанному образу выражения никогда не прибегает дядя, Петр Иванович. Зато он едва ли не единственный в романе, кто поминает нечистого. Однако же первый роман Гончарова несет в себе, как ни покажется странным, колоссальный религиозный заряд. Речь идет о том, что авторский идеал в «Обыкновенной истории», несмотря на то, что речь в романе идет о вещах сугубо житейских, включает в себя как доминирующий и «конфликторазрешающий» именно религиозный компонент.
Когда-то, объясняя значение своего «Обрыва», писатель с невольной горечью произнес: «На глубину я не претендую, поспешаю заметить: и современная критика уже замечала печатно, что я неглубок». Но здесь же у него вырвалось и другое: «Иные не находили или не хотели находить в моих образах и картинах ничего, кроме более или менее живо нарисованных портретов, пейзажей, может быть, живых копий с нравов — и только… Напрасно я ждал, что кто-нибудь и кроме меня прочтет между строками…»[140]. Что же было «между строками»? Проблематика «Обыкновенной истории» еще шире, чем предполагают современные ученые, — и восходит к Библии. Вопрос о смысле жизни, поднимаемый Гончаровым в его трилогии, предполагал, естественно, прежде всего обращение к вечному, неизменяемому в христианском мире идеалу.
Важнейшей идеологической бинарной оппозицией во всех трех гончаровских романах служит не оппозиция патриархального романтика Александра (Ильи Ильича, Райского) и прагматичного буржуа Петра Ивановича (Штольца, Тушина), но мифологемная и всеопределяющая, универсальная оппозиция «ада» и «Рая», Человек в гончаровских романах, несмотря на практически полное отсутствие церковной лексики, получает как личность религиозную оценку. Его свободный выбор ведет его либо к Богу, либо от Него, Писатель решает проблему человеческой жизни с учетом ее абсолютной, не только земной, но и внеземной ценности и заданности. Более того, Гончаров вынашивает замысел о пути человека к Богу через напластвания и ошибки земной жизни. Хорошо известен факт, что в 1840-е годы романист не только создет и публикует «Обыкновенную историю» и «Сон Обломова» (как зерно и увертюру будущего романа «Обломов»), но и разрабатывает план «Обрыва». Связь «Обыкновенной истории», «Обломова» и «Обрыва» находит выражение в ономастике его романов. Неслучайно, конечно, Петр Иванович и Александр носят фамилию Адуевых.
В книге В. А. Котельникова содержится любопытная версия относительно происхождения фамилии героев романа «Обыкновенная история» — Адуевых, Исследователь пишет: «Она произведена от слова „адуй“ — так называли в народе выходцев из Одоевского уезда Тульской губернии. Адуев — совсем не то, что Онегин или Печорин, в чьих фамилиях нет такого „географического реализма“, поскольку Онега, Печора — это не местности, где действительно живут люди, не уездный угол»[141].
Попытка «расшифровать» фамилию Адуевых дана интересная. Впрочем, вряд ли она соответствует истине. Не далековато ли находился Одоевский уезд Тульской губернии от того «уездного угла», который действительно был мил и близок сердцу И. А. Гончарова? Гораздо реальнее было бы предположить, что фамилия Адуевых носит явно поволжский, полутатарский оттенок (от Атуевых). В переписке Гончарова с родными (письмо к сестре от 26 июня 1876 года) встречается, например, фамилия симбирянина Алаева, типологически весьма близкая фамилии Адуев. Более того, в Симбирской губернии, в Радищевском уезде, было во времена Гончарова (и есть до сих пор) село Адоевщина. Кстати сказать, Радищевский уезд, как и село Адоевщина, сыграл свою роль в ономастике гончаровских романов. Фамилия Радищева, соседа Обломовых, от которого они получают испугавшее всех письмо, встречается в другом романе, в «Сне Обломова». Значит, Гончаров тяготел к родным местам, давая фамилии своим героям.
Но вернемся к проблеме религиозных устремлений писателя. В том-то и дело, что фамилии своим главным героям Гончаров дает не по топонимическим, а религиозно-смысловым признакам. Если второстепенные персонажи получают у Гончарова свои фамилии от бытовых реалии или от «значении действия»[142], то фамилии главных героев несут в себе едва ли не мифологическую[143] многозначность, как, впрочем, и их имена. В случае с Адуевым, Обломовым и Райским — это мифологичность христианская. Недаром старшего Адуева зовут Петр, что в переводе с греческого означает «камень». Образ Петра Адуева как бы слит с каменным Петербургом, со статуей Медного всадника, с петербургской деловитой холодностью. Александр Адуев «посмотрел на домы — и ему стало еще скучнее: на него наводили тоску эти однообразные каменные громады, которые, как колоссальные гробницы, сплошною массою тянутся одна за другою. „Вот кончается улица, сейчас будет приволье глазам, — думал он, — или горка, или зелень, или развалившийся забор“, — нет, опять начинается та же каменная ограда одинаких домов, с четырьмя рядами окон. И эта улица кончилась, ее преграждает опять то же, а там новый порядок таких же домов. Заглянешь направо, налево — всюду обступили вас, как рать исполинов, дома, дома и дома, камень и камень…» (Ч. 1, гл. II).
Через имя Петр Гончаров возводит ассоциативный ряд к самому основателю этого города — Петру Великому. Петр велик в одном и слаб в другом. Историческая раздвоенность образа Петра Великого помогает осознать и авторскую оценку образа Петра Адуева. Соединяя образ Петра и «камня» в изображении каменного Петербурга, Гончаров по-своему возвращал читателя к словам Христа: «И Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою» (Мф. 16, 18). Такова ассоциация, связанная с фактом построения города на Неве, круто изменившего исторические судьбы России и повернувшего ее лицом к цивилизации и просвещению. Однако в этом процессе (как и в поведении Петра Адуева) есть и другая сторона. В финале романа мы обнаруживаем ассоциативную связь с другим евангельским упоминанием: «Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое» (Мф. 7, 24–27). Петр Адуев «слушал и не исполнял» слов Христа, имея каменное сердце, рассчитывая на себя и своей собственной мерой измеряя то, что принадлежало и было подвластно только Христу, — человеческое сердце. Вот почему в финале он переживает «падение великое». Великое падение переживает и его племянник, отрекшийся от «младенческой веры», от серьезных задач жизни. Это изображение первого «обрыва» в гончаровском творчестве.
Есть в имени Петра Адуева и иная новозаветная ассоциация. Племянник, нуждающийся в исключительной духовной поддержке дяди, получает от него весьма своеобразную «помощь», сводящуюся к тому, что дядя старается поскорее «развить», «отрезвить» Александра, лишить его не только юношеских надежд, но и существенно важных и необходимых в жизни человека идеалов. Вместо реальной духовной поддержки Петр Иванович дает Александру лишь отрезвление от идеалов, не исправляя его плохого воспитания, не исцеляя его духовные немощи, а лишь меняя одни на другие — с противоположным знаком. Дядя в данном случае относится к редким исключениям, в основе которых — снова образ камня: «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?» (Мф. 7, 9).
Несомненно, фамилия Адуевых произведена Гончаровым от слова «ад». Неслучайно и то, что герой последнего гончаровского романа «Обрыв» носит фамилию Райский (производное от «Рай»). Здесь явно обозначено движение от ада к Раю. Фамилия же Обломов в этом контексте явно означает «обломок», ни то и ни другое, не ад и не Рай, но нечто между ними. В сущности, глубоко автобиографичный, дорогой для автора трилогии герой (Александр Адуев, Илья Обломов, Борис Райский) поэтапно проходит на протяжении 1840-х-1860-х годов весьма непростой духовный путь, все более приближаясь к требованиям христианства.
Нет ничего странного в принципе, избираемом Гончаровым. Дело не в степени воцерковленности героев, но в их «подсознательном» мировоззрении, в степени приближенности к евангельским заповедям. Если с этой точки зрения взглянуть на Александра Адуева, то его духовная эволюция в романе ведет его от поверхностного идеализма к забвению и предательству «идеалов». Обломов не предает своих идеалов, но и не пытается их воплотить. Райский, при всем том, что он, по собственному выражению Гончарова, все тот же «сын Обломова»[144], все же пытается, хотя и неудачно, реализовать свои представления об идеале. Тем самым он выполняет важный евангельский завет: «И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Лк. И, 9). Райский «ищет», «стучит» в «Райские двери» — и может надеяться на исполнение евангельского обетования, ибо сказано: «всякий просящий получает». Райский вовсе не герой, и у Гончарова осталось чувство неудовлетворения от финала «Обрыва». Очевидно, он хотел бы показать более крепкую и мужественную христианскую душу, действительно идеальную личность. Но, во всяком случае, логика его романной трилогии раскрывается именно в христианском контексте. Поэтому роман насыщен библейской мифологией.
Это не было в буквальном смысле отражением духовного пути самого Гончарова, однако несомненно, что именно духовный рост романиста, его углубленное и скрытое от внешнего взгляда внимание к проблеме христианского смысла человеческой жизни, к проблеме синтеза веры и культуры породило столь явную эволюцию героя в гончаровской трилогии. В статье «Лучше поздно, чем никогда» романист заметил: «Я упомянул выше, что вижу не три романа, а один. Все они связаны одною общею нитью, одною последовательностью идеи — перехода от одной эпохи русской жизни, которую я переживал, к другой — и отражением этих явлений в моих изображениях, портретах, сценах, мелких явлениях и т. д.» (VIII. 107).
В «Обыкновенной истории» два полярных пространственных полюса: Петербург и Грачи (ад и Рай). Петербург ассоциируется в романе с «адом» не только по фамилии главных героев. При отъезде в столицу Сашеньки Адуева мать говорит ему: «И ты хочешь бежать от такой благодати… в омут, может быть, прости Господи… Останься!» (Ч. 1, гл. I). Любопытно, какой сон снится накануне приезда Александра его матери: «Вот я вижу во сне, что я будто сижу этак-то, а так, напротив меня, Аграфена стоит с подносом. Я и говорю будто ей: „Что же, мол, говорю, у тебя, Аграфена, поднос-то пустой?“ — а она молчит, а сама смотрит все на дверь. „Ах, матушки мои! — думаю во сне-то сама про себя, — что же это она уставила туда глаза?“ Вот и я стала смотреть… смотрю: вдруг Сашенька и входит, такой печальный, подошел ко мне и говорит, да так, словно наяву говорит: „Прощайте, говорит, маменька, я еду далеко, вон туда, — и указал на озеро, — и больше, говорит, не приеду“. — „Куда же это, мой дружочек?“ — спрашиваю я, а сердце так и ноет у меня. Он будто молчит, а сам смотрит на меня так странно да жалостно. „Да откуда ты взялся, голубчик?“ — будто спрашиваю я опять. А он, сердечный, вздохнул и опять указал на озеро. „Из омута, — молвил чуть слышно, — от водяных“. Я так вся и затряслась — и проснулась. Подушка у меня вся в слезах; и наяву-то не могу опомниться; сижу на постели, а сама плачу, так и заливаюсь, плачу. Как встала, сейчас затеплила лампадку перед Казанской Божией Матерью: авось Она, милосердная заступница наша, сохранит его от всяких бед и напастей» (Ч. 2, гл. VI). Слушая своего сына, Анна Павловна снова и снова возвращается к образу «омута»: «Подлинно омут, прости Господи: любят до свадьбы, без обряда церковного; изменяют… Что это делается на белом свете, как поглядишь! Знать, скоро света преставление!..» (Ч. 2, гл. VI). Омутом Петербург Анна Павловна называет прежде всего из-за того, что в нем люди почти не ходят в церковь.
«— Ходил ли он в церковь?
Евсей несколько замялся.
— Нельзя сказать, сударыня, чтоб больно ходили… — нерешительно отвечал он, — почти, можно сказать, что и не ходили… там господа, почесть, мало ходят в церковь…
— Вот оно отчего! — сказала Анна Павловна со вздохом и перекрестилась. — Видно, Богу не угодны были одни мои молитвы. Сон-то и не лжив: точно из омута вырвался, голубчик мой!» (Ч. 2, гл. VI).
В конце своего пребывания в Петербурге уже и сам Александр воспринимает его как омут: «Так и хандрил он и не видел исхода из омута этих сомнений» (Ч. 2, гл. IV); «Я уснул было совсем, а вы будите и ум, и сердце и толкаете их опять в омут» (Ч. 2, гл. V).
Естественной оппозицией аду-омуту является в романе Рай-сад. Рай в «Обыкновенной истории» представлен как идиллия, причем часто это — литературная идиллия. Дядя склонен к скептическому, насмешливому восприятию идиллического. Он смеется над своим племянником, когда говорит:
Мне хижина убога
С тобою будет Рай…
Однако сами обитатели Грачей воспринимают их как Райскую обитель. Ассоциации с Раем вызывает в некоторых случаях и слово «сад» (что вообще свойственно для Гончарова). Слово «сад» в романе зачастую отсвечивает библейскими оттенками смысла. Таков сад в Грачах: «От дома на далекое пространство раскидывался сад из старых лип, густого шиповника, черемухи и кустов сирени. Между деревьями пестрели цветы, бежали в разные стороны дорожки, далее тихо плескалось в берега озеро, облитое к одной стороне золотыми лучами утреннего солнца и гладкое, как зеркало; с другой — темно-синее, как небо, которое отражалось в нем, и едва подернутое зыбью. А там нивы с волнующимися, разноцветными хлебами шли амфитеатром и примыкали к темному лесу» (Ч. 1, гл. I),
В Петербурге тоже есть свой идиллический сад. Это сад, в котором встречаются Александр и Наденька. Это идиллический сад, в котором разлито счастье первочеловеков: «Что особенного тогда носится в этом теплом воздухе? Какая тайна пробегает по цветам, деревьям, по траве и веет неизъяснимой негой на душу? зачем в ней тогда рождаются иные мысли, иные чувства, нежели в шуме, среди людей? А какая обстановка для любви в этом сне природы, в этом сумраке, в безмолвных деревьях, благоухающих цветах и уединении! Как могущественно все настраивало ум к мечтам, сердце к тем редким ощущениям, которые во всегдашней, правильной и строгой жизни кажутся такими бесполезными, неуместными и смешными отступлениями… да! бесполезными, а между тем в те минуты душа только и постигает смутно возможность счастья, которого так усердно ищут в другое время и не находят» (Ч. 1, гл. IV). Гончаров даже подчеркивает библейскую параллель в описании сада словами дяди: «С Адама и Евы одна и та же история у всех, с маленькими вариантами» (Ч. 1, гл. III).
Этот петербургский идиллический сад с Александром и Наденькой (Адамом и Евой) есть все еще продолжение идиллии Грачей. Эволюция героя приведет его в другой сад. В этом саду Александр выступает уже не в роли Адама, а в роли Змея-искусителя: «Послушайте! — вдруг заговорила она, робко оглядываясь во все стороны, — не уезжайте, ради Бога, не уезжайте! я вам скажу тайну… Здесь нас увидит папенька из окошек: пойдемте к нам в сад, в беседку… она выходит в поле, я вас проведу. Они пошли. Александр не сводил глаз с ее плеч, стройной талии и чувствовал лихорадочную дрожь. „Что ж за важность, — думал он, идучи за ней, — что я пойду? ведь я так только… взгляну, как у них там, в беседке… отец звал же меня; ведь я мог бы итти прямо и открыто… но я далек от соблазна, ей-богу, далек, и докажу это: вот, нарочно пришел сказать, что еду… хотя и не еду никуда! Нет, демон! меня не соблазнишь“» (Ч. 1, гл. IV).
Слова героини «здесь нас увидит папенька» подчеркивают параллель с библейским событием: как Адам пытался скрыться от Бога. Не случайно здесь появляется и слово «демон». Александр явно демонизируется. Теперь перед нами уже не сад счастливой идиллии, но сад будущего «Обрыва», сад соблазнения и греха. Ведь и в последнем гончаровском романе при первой встрече Марк Волохов предлагает Вере яблоко из ее же сада. Гончаров, таким образом, постоянно возвращается к одной и той же библейской ассоциации.
Однако доминирующий смысл, извлеченный Гончаровым из слова «сад», все же связан с идеей преобразующего труда, понимаемого и духовно, и материально. Образ райского сада лишь в исламской традиции связан с идеей вечного покоя и наслаждения. Гончаров усваивает, естественно, христианскую традицию, в которой сад мыслится как место работы Богу. Господь поселяет Адама в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его (Быт. 2, 15), а о жителях небесного Иерусалима сказано, что будут служить Ему (Откр. 22, 3). Пребывание в Раю, по Библии, неизменно связано с некой деятельностью со стороны человека и изображается не как статика блаженного безделья, а как постоянная динамика духовного и творческого восхождения. Этого-то восхождения и нет в «Обыкновенной истории». Сад в Грачах оказывается лишь садом «наслаждения и покоя». Сад Наденьки Любецкой — садом первозданного счастья первой большой любви. Сад, в котором Александр был, словно вор, пойман за руку отцом девушки, стал садом грехопадения. Нет лишь сада, в котором человек возвращает Богу, по выражению самого Гончарова, «плод брошенного Им зерна». Нет творческого, беспрерывного восхождения человека к Богу. Сад в Грачах в этом смысле — иллюзорен. Это предварение «сна» Обломова. Для самого автора ясно, что вернуться к «младенческим верованиям» невозможно, что этот сад скорее должен быть в Петербурге, нежели в Грачах. В Грачах произошло рождение «тела»
Александра, но «родиться от Духа» он должен на поприще исторического творчества — скорее в Петербурге. Однако и Петербург может стать очередной «иллюзией», как и случилось в романе. Александр не распрощался с иллюзиями, не родился «от Духа», он лишь сменил одни иллюзии, «сны», на другие.
Один из ведущих мотивов «Обыкновенной истории» — мотив искушения. На своего дядю Александр смотрит через призму поэзии Пушкина. В письме к своему другу Поспелову он так характеризует Петра Ивановича: «Я иногда вижу в нем как будто пушкинского демона… Не верит он любви и проч., говорит, что счастья нет, что его никто не обещал, а что есть просто жизнь…» (Ч. 1, гл. II). Имеется в виду пушкинское стихотворение «Демон». К этому стихотворению Гончаров возвращается неоднократно.
Не только роман «Обыкновенная история», но и все романы Гончарова в конечном итоге воспроизводят конфликты вечные, восходящие к библейской мифологии. Вспомним, что мотив «искушения» есть и в отношениях Штольца и Обломова, Марка Волохова и Веры. Стихотворение «Демон» особенно близко совпадает по своему смыслу, конечно, с первым гончаровским романом. По сути дела, оно представляет собою краткий конспект отношений дяди и племянника. Ведь, как и лирический герой «Демона», младший Адуев переживает время, когда ему «новы все впечатленья бытия — и взоры дев, и шум дубровы, и ночью пенье соловья». Ему также волнуют кровь «свобода, слава и любовь». Дядя же его, как и пушкинский демон, «вливает в душу хладный яд», «зовет прекрасное мечтою», «не верит… любви, свободе», «на жизнь насмешливо глядит»…
В «Обыкновенной истории» библейские ассоциации многообразны. Ведь Гончаров разрабатывает тему поиска человеком самого себя, своего места в мире, смысла жизни. Доминирующее место среди новозаветных мифов, к которым обращается в романе автор, занимает трансформированная притча о блудном сыне. Недаром она упомянута в романе: «Кто не знает Антона Иваныча? Это вечный жид. Он существовал всегда и всюду, с самых древнейших времен, и не переводился никогда. Он присутствовал и на греческих и на римских пирах, ел, конечно, и упитанного тельца, закланного счастливым отцом по случаю возвращения блудного сына» (Ч. 1, гл. I)[145]. Возвращение блудного сына упомянуто не случайно. Вернувшись в Грачи, Александр восклицает: «Младенческие верования утрачены, а что я узнал нового, верного?., ничего: я нашел сомнения, толки, теории… и от истины еще дальше прежнего… К чему этот раскол, это умничанье?.. Боже!., когда теплота веры не греет сердца, разве можно быть счастливым? Счастливее ли я?» (4. 2, гл. VI),
Таким образом, Гончаров очень рано нащупал идейный нерв своих романов, связанный с изображением человека, отошедшего от простоты и наивности «младенческой веры» и не обретшего веру иную — мужественную, сознательную, когда преданность Божьей воле сочетается в человеке с мужеством исторического деятеля. Приведенные слова Адуева прямо перекликаются с позднейшими, начала 1880-х годов, высказываниями самого Гончарова: «Да, нельзя жить человеческому обществу этими добытыми результатами позитивизма… надо обратиться к религии… надо обратиться к другому авторитету, от которого убежали горделивые умы, к авторитету миродержавному. Но как? Чувства младенческой веры не воротишь взрослому обществу: основания некоторых библейских сказаний с мифологическими сказаниями греческой и других мифологий (не говоря уже о новейшей науке) подорвали веру в чудеса — и развившееся человеческое общество откинуло все так называемое метафизическое, мистическое, сверхъестественное»[146].
Именно притча о «блудном сыне» в наибольшей степени объясняет то, что происходит, как правило (то есть «обыкновенно»), с человеком в молодости, После окончания университета перед Александром «расстилалось множество путей, и один казался лучше другого. Он не знал, на который броситься. Скрывался от глаз только прямой путь; заметь он его, так тогда, может быть, и не поехал бы» (Ч. 1, гл. I). В этих авторских словах прямо заключен смысл указанной притчи: остаться — значит выйти на «прямой путь». Но что значит — остаться в понимании автора? Весь контекст романа говорит о том, что речь автор ведет о естественном возмужании человека, о взрослении без ломки идеалов. Перед своим отъездом из Петербурга Александр Адуев «горько каялся, что не послушал матери и бежал из глуши» (Ч. 2, гл. IV), Однако «прямой путь» героям «Обыкновенной истории» найти не так просто. Есть ли в романе вообще герой, нашедший его? Не только главные герои (Александр и Петр Адуевы, Елизавета Александровна) не нашли этот прямой путь, но и второстепенные. Они все так или иначе «уклонились» от него.
Побыв «на стране далече», дойдя до нравственного унижения и опустошения, столкнувшись с трудностями жизненного воплощения своих идеалов, Александр, подобно евангельскому «сыну», возвращается в свой дом, на родину. Здесь-то впервые обнаруживается открыто христианский нерв «Обыкновенной истории». Герой сознательно формулирует причины своего душевного кризиса: отход от веры. Ведь было время, когда он внимательно вслушивался в слова матери, детски чисто верил в Бога. В храме во время богослужения в душе Александра просыпаются благотворные воспоминания: «Мало-помалу, при виде знакомых предметов, в душе Александра пробуждались воспоминания. Он мысленно пробежал свое детство и юношество до поездки в Петербург; вспомнил, как, будучи ребенком, он повторял за матерью молитвы, как она твердила ему об ангеле-хранителе, который стоит на страже души человеческой и вечно враждует с нечистым; как она, указывая ему на звезды, говорила, что это очи Божиих ангелов, которые смотрят на мир и считают добрые и злые дела людей, как небожители плачут, когда в итоге окажется больше злых, нежели добрых дел, и как радуются, когда добрые дела превышают злые. Показывая на синеву дальнего горизонта, она говорила, что это Сион… Александр вздохнул, очнувшись от этих воспоминаний» (Ч. 2, гл. IV). Может быть, что-то подобное испытал в своей жизни и Иван Александрович?
Это «момент истины» в «Обыкновенной истории». Кажется, Александр наконец понимает «меру жизни»: «Пока в человеке кипят жизненные силы, — думал Александр, — пока играют желания и страсти, он занят чувственно, он бежит того успокоительного, важного и торжественного созерцания, к которому ведет религия… он приходит искать утешения в ней с угасшими, растраченными силами, с сокрушенными надеждами, с бременем лет…» (Ч. 2, гл. IV). Александр даже формулирует, что есть религия: «успокоительное, важное и торжественное созерцание».
После петербургского «омута» душа героя совсем иначе воспринимает Бога: перед нами уже не то «отмахивание» от материнских наставлений, какое мы видим в начале романа, когда Александр собирается в Петербург, кажущийся ему «землей обетованной». Создается впечатление, что герой вот-вот переродится духовно, вернется к вере, и роман уложится в смысловые рамки притчи о блудном сыне. Однако Гончаров пишет типичную картину современного духовного состояния людей. На протяжении всей жизни — и в произведениях, и в письмах — писатель неоднократно подчеркивал, что вернуться к простоте детской веры современному цивилизованному обществу вряд ли возможно. Адуев в этом смысле — типичный представитель современности.
Устами Адуева здесь говорит все современное человечество. Гончаров строго констатирует факт духовного перерождения русского общества. «Младенческая вера» для самого автора «Обыкновенной истории» совсем не абстракция. Он видел ее — наивную и смешанную с обрядоверием — в Симбирске, в симбирских церквях, в своем родном доме. Народное Православие — не идеал веры для Гончарова, скорее — необходимая часть веры как таковой. В народном Православии писатель видел сохранившееся и крайне необходимое зерно живой «младенческой веры», которое должно сохраняться на всех уровнях религиозного состояния человека, в любом социальном сословии, на любом уровне интеллектуального развития. Сам Гончаров на протяжении всей жизни — при различной степени своей воцерковленности в разные периоды жизни — сохранял это зерно «младенческой веры», страха Божия и смирения.
Любопытно письмо романиста к философу Владимиру Соловьеву по поводу его книги «Чтения о Богочеловечестве». Гончаров принципиально настаивал на том, что Божью мудрость не стоит дополнять мудростью человеческой («горделивых умов»): в основе своей вера и впредь должна оставаться «младенческой», несмотря на прогресс науки и общества. Весьма показательна фраза писателя: «Неизбежно следует убедиться в правде Откровения»[147]. В письме к А. Ф. Кони от 30 июня 1886 г. он обозначил свой «символ веры», ее величественную простоту: «Я с умилением смотрю на тех сокрушенных духом и раздавленных жизнью старичков и старушек, которые, гнездясь по стенке в церквах, или в своих каморках перед лампадой, тихо и безропотно несут свое иго — и видят жизнь и над жизнью высоко только крест и Евангелие, одному этому верят и на одно надеются!
Отчего мы не такие. „Это глупые, блаженные“, — говорят мудрецы мыслители. Нет — это люди, это те, которым открыто то, что скрыто от умных и разумных. Тех есть Царствие Божие и они сынами Божиими нарекутся!»[148].
Александр возвращается в Петербург с благими намерениями. В письме, которое он отправляет Елизавете Александровне из Грачей, нет желания стать вторым Петром Ивановичем. Напротив, письмо это показывает, что Александр пытается уяснить меру своей жизни, причем уяснить в широком жизненном, в том числе и религиозном контексте: «Скоро скажу опять: как хороша жизнь! но скажу не как юноша, упоенный минутным наслаждением, а с полным сознанием ее истинных наслаждений и горечи. Затем не страшна и смерть: она представляется не пугалом, а прекрасным опытом. И теперь уже в душу веет неведомое спокойствие: ребяческих досад, вспышек уколотого самолюбия, детской раздражительности и комического гнева на мир и людей, похожего на гнев моськи на слона, — как не бывало» (Ч. 2, гл. VI). Весьма важными представляются слова Александра о смерти, хотя герою всего лишь около 34-х лет: спокойное отношение к смерти — признак созревшей христианской души. Зрелость этого письма акцентирует в романе Елизавета Александровна: «Четыре года назад: помните, какое письмо вы написали ко мне из деревни? Как вы хороши были там!
— Я, кажется, тоже мечтал там, — сказал Александр.
— Нет, не мечтали. Там вы поняли, растолковали себе жизнь; там вы были прекрасны, благородны, умны… Зачем не остались такими? Зачем это было только на словах, на бумаге, а не на деле?[149] Это прекрасное мелькнуло, как солнце из-за туч — на одну минуту…» (Эпилог).
После возвращения в Грачи Александр, похоже, меняется. Кажется, что герой может полноценно реализоваться и остаться самим собой даже в петербургском «омуте». Это и было бы реализацией мечты Гончарова о «взрослом» современном человеке, который сохраняет живую веру и сочетает ее с мужеством и реализмом исторического творчества. Однако этого не происходит. Адуев в своей эволюции незаметно «проскакивает» норму своей духовной жизни (впрочем, она не угадана ни одним из героев гончаровского романа). «Век» или «мир» все же
берет свое; Александр сливается с ним в одно целое: «Что делать, та taute? — сказал с громким вздохом Александр, — век такой. Я иду наравне с веком: нельзя же отставать!» (Эпилог). В сущности, герой отказывается от своих идеалов и от дальнейшего «беспокойного» духовного поиска.
Александр Адуев, как и многие люди его времени, уже не может вернуться к традиционным, общим для народной массы «младенческим верованиям». Не в силах он оказывается искать и свой индивидуальный вариант исторического духовного творчества. Он выбирает новый, но тоже «массовый», не требующий духовных усилий путь новых иллюзий, повторяя жизненный опыт своего дядюшки. «Обыкновенная история» потому и обыкновенна, что она повествует о человеке, выбравшем торную дорогу: от одних иллюзий к другим, от тезы к антитезе — минуя «синтез». Эпиграфом к «Обыкновенной истории» могли бы стать слова Христа из Евангелия от Матфея: «Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7,13–14). Александр Адуев идет «широкими вратами», «обыкновенной», торной дорогой, и его путь — это путь к духовной смерти. Отсюда и фамилия героя.
Фрегат «Паллада»
Вера Гончарова до путешествия на фрегате «Паллада» спокойно обытовлена, является прочным фундаментом жизни, но не акцентирована в личности Гончарова, Все переменится после путешествия на «Палладе»,
О начале 1850-х годов Гончаров писал, что он «заживо умирал дома от праздности, скуки, тяжести и запустения в голове и сердце». Он ясно сознавал, что нужны какие-то серьезные перемены в жизни. Вот почему он так обрадовался неожиданному предложению отправиться вокруг света в качестве секретаря адмирала Е. В. Путятина на фрегате «Паллада», В письме Е. А. и М. А. Языковым от 23 августа 1852 года он сообщал: «Один из наших военных кораблей идет вокруг света на полгода. Аполлону Майкову предложили, не хочет ли он ехать в качестве секретаря этой экспедиции, причем было сказано, что нужен такой человек, который бы хорошо писал по-русски, литератор. Он отказался и передал мне. Я принялся хлопотать из всех сил: кого мог, поставил на ноги… Вы, конечно, спросите, зачем я это делаю. Но ведь если не поеду, ведь, можно, пожалуй, спросить и так: зачем я остался? Поехал бы затем, чтобы увидеть, знать все то, что с детства читал, как сказку, едва верят тому, что говорят. Я полагаю, что если бы запасся всеми впечатлениями такого путешествия, то, может, прожил бы остаток жизни повеселее… Наконец, это очень выгодно по службе. Все удивились, что я мог решиться на такой дальний и опасный путь, — я, такой ленивый, избалованный! Кто меня знает, тот не удивится этой решимости. Внезапные перемены составляют мой характер, я никогда не бываю одинаков двух недель сряду… Кто меня знает, тот не удивится этой решимости. Внезапные перемены составляют мой характер…» (VIII. 248).
Экспедиция отправилась в путь в октябре 1852 года. Известно, что Гончаров прошел на фрегате «Паллада» от Балтийского до Охотского моря, от Кронштадта до Императорской (ныне Советской) гавани. Затем он сухопутным путем, через Сибирь, возвратился в Петербург.
Православное мироощущение пронизывало всю жизнь писателя. Собираясь в кругосветное плавание на «Палладе», он не случайно вспоминает атмосферу провинциального детства, когда он наблюдал долгие сборы в паломничество к православным святыням: «Если, сбираясь куда-нибудь на богомолье, в Киев или из деревни в Москву, путешественник не оберется суматохи, по десяти раз кидается в объятия родных и друзей, закусывает, присаживается и т. п., то сделайте посылку, сколько понадобится времени, чтобы тронуться четыремстам человек — в Японию. Три раза ездил я в Кронштадт, и всё что-нибудь было еще не готово. Отъезд откладывался на сутки, и я возвращался еще провести день там, где провел лет семнадцать и где наскучило жить. „Увижу ли я опять эти главы и кресты?“ — прощался я мысленно, отваливая в четвертый и последний раз от Английской набережной» (Ч. 1, гл. I).
Плавание на фрегате «Паллада» явилось исключительно важным поступком, наложившим печать на всю последующую жизнь Гончарова, и сыграло немалую роль в духовном самоопределении романиста. Здесь, в мировом океане, Гончаров мог убедиться в справедливости пословицы: «Кто на море не бывал, тот Богу не маливался». Известно, что из плавания на «Палладе» вернулись далеко не все. Особенно много умерших от болезней и несчастных случаев было среди нижних чинов. На фрегате романист погрузился в совершенно иной мир, резко отличный от петербургского чиновничьего и литературного мира. Начать с того, что жизнь на судне шла по строгому распорядку дня, включавшему в себя и церковные службы — по воскресным дням, праздникам и по особым случаям. Если в обычной петербургской жизни Гончаров мог, как и его герой Александр Адуев, не слишком часто заходить в церковь, то на фрегате это было невозможно: помимо всего прочего, обязывало положение секретаря экспедиции и религиозное настроение руководителя экспедиции — адмирала Путятина, с которым у Гончарова сохранялись на протяжении многих лет доверительные отношения, «Не пропуская ни одной службы, зная до тонкости церковный устав, Путятин строго следил за его полнейшим соблюдением и нередко делал суровые замечания о, Аввакуму (судовому священнику по фамилии Честной. — В Ж.), если тот что-нибудь пропускал из всенощной или обедни…»[150].
На корабле писатель вернулся в религиозную атмосферу своего детства, Симбирска. Отсюда во «Фрегате „Паллада“» появляются нехарактерные для гончаровских романов сцены: упоминания богослужений, портреты миссионеров, рассуждения о гонениях на христиан и пр. Во время плавания на «Палладе» Гончарову пришлось встретиться с очень многими священниками, Первым из них был, очевидно, русский православный священник, посетивший «Палладу» в Лондоне. В очерке «Через двадцать лет» Гончаров написал об одном русском священнике, явившемся на «Палладу»: «Русский священник в Лондоне посетил нас перед отходом из Портсмута и после обедни сказал речь, в которой остерегал от этих страхов. Он исчислил опасности, какие можем мы встретить на море, — и, напугав сначала порядком, заключил тем, что „и жизнь на берегу кишит страхами, опасностями, огорчениями и бедами, — следовательно, мы меняем только одни беды и страхи на другие“»[151]. Возможно, это был священник русского посольства в Лондоне. Затем романист описывает еще целый ряд католических и протестантских священников.
Вообще, если говорить о религиозном аспекте кругосветного плавания, то он сводился для Гончарова прежде всего к мысли о миссионерстве. Это и понятно: «Паллада» направлялась для установления новых связей России с нехристианскими странами. Основная религиозная тема «Паллады» — миссионерская. Гончаров впервые столкнулся столь близко с представителями иных конфессий: не только с католиками и протестантами, но и с буддистами и пр. Помимо выдающихся русских миссионеров о. Аввакума Честного и епископа Иннокентия, в походе писатель повстречался и со многими инославными исповедниками христианства. В своей книге Гончаров упоминает и английских протестантских миссионеров Уолтера Медхерста (А. II. 435), и Бернара Жана Беттельгейма (А. II. 506), и католическую миссию в Гонконге (А. И. 290), и знаменитого Игнатия Лойолу, и протестантского немецкого миссионера Карла Гуцлава (А. II. 402). К сожалению, писатель не назвал имени французского епископа, с которым он повстречался на Маниле. Во «Фрегате „Паллада“» приводятся сведения о миссионерских экспедициях испанцев: «В 1644 году Мигель Лопец Легаспи пришел, с пятью монахами ордена августинцев и с пятью судами, покорять острова силою креста и оружия» (А. II. 577). Автор смотрит на распространение Православия в Азии не только как на дело политическое и связанное с экономическим развитием России, но и собственно как христианин, искренне переживающий за судьбы родной веры и спасение человеческих душ. Чрезвычайно содержательной оказалась для него в этом отношении встреча с владыкой Иннокентием Вениаминовым в Якутске.
Неоднократно столкнувшись с миссионерской деятельностью европейцев, Гончаров убедился, что экономика и политика европейских государств, таких, как Англия, строится в Азии с опорой на широкое миссионерство. В этом процессе он выделяет две стороны: вполне здравую и «ложно-миссионерскую». Говоря, например, о Японии, писатель отмечает: «Португальские миссионеры привезли им религию, которую многие японцы доверчиво приняли и исповедовали. Но ученики Лойолы привезли туда и еще страстишки: гордость, любовь к власти, к золоту, к серебру… к превосходной японской меди, которую вывозили в невероятных количествах, и вообще всякую любовь, кроме христианской» (А. II. 361). Вообще, судя по книге «Фрегат „Паллада“», Гончаров весьма настороженно относился к иезуитам. Недаром упоминание о них есть даже в «Обрыве».
В тоне гончаровского повествования ощутимы действительные переживания за судьбу христианства в Азии. Между прочим, стоит упомянуть, что поход «Паллады» состоялся по указанию Великого князя Константина Николаевича — человека весьма религиозного и, видимо, настроившего руководство экспедиции соответствующим образом — не только из политических и экономических соображений. Ведь именно в это время Россия вступает в войну с Турцией, Францией и Англией прежде всего из-за религиозных причин[152].
Описывая жизнь африканцев, корейцев, японцев и других народов, он останавливает внимание не только на быте этих народов, но и на образе их верований. Так, например, верования корейцев представляли собой причудливую смесь буддизма, конфуцианства, даосизма, местных племенных культов. Их веротерпимость распространялась до того, что в пантеоне их божеств всегда находилось местечко для нового объекта поклонения. И. А. Гончаров пишет по этому поводу: «Корейцы увидели образ Спасителя в каюте; и когда, на вопрос их, „кто это“, успели кое-как отвечать им, они встали с мест своих и начали низко и благоговейно кланяться образу. Между тем набралось на фрегат около ста человек корейцев, так что принуждены были больше не пускать»[153].
Гончаров повествует о миссионерской деятельности католиков и протестантов в главах «Ликейские острова», «Шанхай», в «японской» части книги. В главе о Маниле содержится колоритный портрет китайского католического миссионера: «Только на другой день утром мог я переселиться в город. Приехал барон Крюднер с берега с каким-то китайцем. Но какой молодец этот китаец! Большие карие глаза так и горят, лицо румяное, нос большой, несколько с горбом, Они проходят по палубе и говорят чистейшим французским языком. „Вот французский миссионер, живущий в Китае“, — сказал барон, знакомя нас. Мне объяснилось вчерашнее явление за городом. „Вы здесь не одни, — сказал я французу, — я видел вчера кого-нибудь из ваших, тоже в китайском платье, с золотым наперсным крестом…“ — „Круглолицый, с красноватым лицом и отчасти носом… figure rubiconde?“ — спросил француз. „Да, да!“ — „Это наш епископ, monseigneur Dinacourt, он заведывает христианами провинции Джеджиан (или Чечиан, или Шешиан) в Китае; теперь приехал сюда отдохнуть в здешнем климате: он страдает приливами к голове. Хотите побывать у него? Он будет очень рад и сам явится к вам“. — „Очень рады“. — „И к испанскому епископу“. — „Мы бы очень желали… особенно интересно посмотреть здешние монастыри“. — „И прекрасно: monseigneur Dinacourt живет сам в испанском монастыре. Завтра или — нет, завтра мне надо съездить в окрестности, в pueblo, — послезавтра приезжайте ко мне, в дом португальского епископа; я живу там, и мы отправимся“…» Масштабы миссионерства европейцев в Азии поразили романиста: «Мне в Шанхае подарили три книги на китайском языке: Новый Завет, географию и Езоповы басни — это забота протестантских миссионеров. Они переводят и печатают книги в Лондоне — страшно сказать, в каком числе экземпляров: в миллионах, привозят в Китай и раздают даром. Мне называли имя английского богача, который пожертвовал вместе с другими огромные суммы на эти издания. Медгорст — один из самых деятельных миссионеров: он живет тридцать лет в Китае и беспрерывно подвизается в пользу распространения христианства; переводит европейские книги на китайский язык, ездит из места на место. Он теперь живет в Шанхае. Наши синологи были у него и приобрели много изданных им книг, довольно редких в Европе. Некоторые он им подарил.
Одно заставляет бояться за успех христианства: это соперничество между распространителями; оно, к сожалению, отчасти уже существует. Католические миссионеры запрещают своим ученикам иметь книги, издаваемые протестантами, которые привезли и роздали между прочим в Шанхае несколько десятков тысяч своих изданий. Издания эти достались большею частью китайцам-католикам, и они принесли их своим наставникам, а те сожгли» (А. И. 435–436). Глядя на то, как рука об руку идут в Китае, Японии, Корее католическое миссионерство и открытие факторий, писатель мог лишь надеяться на изменение ситуации в пользу России: «Кажется, недалеко время, когда опять проникнет сюда (в Японию. — В. М.) слово Божие и водрузится крест, но так, что уже никакие силы не исторгнут его. Когда-то? Не даст ли Бог нам сделать хотя первый и робкий шаг к тому? Хлопот будет немало с здешним правительством — так прочна (правительственная) система отчуждения от целого мира!» (А. II. 449).
На фрегате «Паллада» Гончарову, как в детстве, пришлось столкнуться с народным
Православием. Писатель не смог пройти мимо сцены, которую он наблюдал:
«Вечером была всенощная накануне Покрова. После службы я ходил по юту и нечаянно наткнулся на разговор мичмана Болтина с сигнальщиком Феодоровым, тем самым, который ошибся и вместо повестки к зоре заиграл повестку к молитве. Этот Феодоров отличался крайней простотой. „Смотри в трубу на луну, — говорил ему Болтин, ходивший по юту, — и как скоро увидишь там трех-четырех человек, скажи мне“. — „Слушаю-с“. Он стал смотреть и долго смотрел. „Что ж ты ничего не говоришь?“ — „Да там всего только двое, ваше благородие“. — „Что же они делают?“ — „Ничего-с“. — „Ну, смотри“. — „Что ж это за люди?“ — спросил Болтин. Тот молчал. „Говори же!“ — „Каин и Авель“, — отвечал он» (Ч. 2, гл. 1). Это не случайное наблюдение.
Вот еще одно — воспоминание о народных гуляньях в Святую неделю: «В Гонконге меня носили в препокойных и удобных носилках, вроде наших качелей, на которых простой народ качается на Святой неделе». В самом деле, в России был обычай народных гуляний на качелях. Обычай этот изображен, например, в «Стихах на качели» писателя XVIII века М. Д. Чулкова, знал о нем и Гончаров.
Не может удержаться Гончаров и от описания праздников. Несмотря на то что он всячески избегает акцентировать религиозную тему, он все же обращает внимание на знаменательность события: празднование Пасхи 1853 года в открытом океане на экваторе: «Кажется, это в первый раз случилось — служба в православной церкви, в Южном полушарии, на волнах, после только что утихшей бури».
Религиозный план содержания гончаровской книги становится еще более ощутимым и понятным в контексте его отношений с выдающимися личностями, причастными к его путешествию на «Пал л аде».
Любопытно, что командирование Гончарова в качестве секретаря адмирала Е. В. Путятина состоялось через знакомого Пушкина — Авраама Сергеевича Норова, личности легендарной и сходной по судьбе с Гончаровым. В 1827 году он сопровождал в качестве секретаря адмирала Сенявина в Англию. Авраам Сергеевич Норов был старше Гончарова на семнадцать лет. В эпоху религиозного индифферентизма Норов был личностью религиозного склада, что нашло наиболее яркое выражение в его паломничествах и книгах. В 1853–1854 годах вышли в свет его «Путешествия по Святой земле», относящиеся еще к 1834–1835 гг. В предисловии ко второму тому (1838) он признается: «Пройдя половину жизни, я узнал, что значит быть больным душою. Волнуемый каким-то внутренним беспокойством, я искал душевного приюта, ждал утешения, нигде их не находил и был в положении человека, потерявшего путь и бродящего ощупью в темноте леса… Мысль о путешествии в Святую землю давно таилась во мне; я не чужд был любопытства видеть блестящий Восток, но Иерусалим утвердил мою решимость: утешение лобызать следы Спасителя Мира на тех самых местах, где Он совершил тайну искупления человечества, заставило меня превозмочь многие препятствия»[154], А после выхода в 1858 году в отставку он уже в 1861 году совершил путешествие в Палестину. В 1864 году он издает «Путешествие игумена Даниила по Святой земле в начале XII века (1113–1116)»,
Известно, что, отойдя от дел, он часто приезжал в Сергиевскую пустынь под Петербургом. «Сергиевская пустынь, — вспоминал протоиерей Николаевской церкви при министерстве народного просвещения Ф. Разумовский, — была главным местом его молитвенных подвигов. В дни скорби (речь идет о кончине жены Норова. — Б. М.) своей он обыкновенно удалялся в пустынь и там жил иногда по целой неделе…» Норова и похоронили в Сергиевской пустыни, в храме Воскресения Христова, рядом с его женой. Откликаясь на его смерть стихотворением «Памяти Авраама Сергеевича Норова», П. А. Вяземский назвал его «паломником — сыном веры и молитвы».
Знакомство Гончарова с Норовым началось заочно: 22 августа 1852 года романист встретился у Майковых с Г. П. Данилевским, который передал Аполлону Майкову приглашение товарища министра народного просвещения А. С. Норова отправиться в кругосветное плавание. Тот отказался и предложил Гончарову заменить его на фрегате «Пал л ад а». Гончаров же с удовольствием согласился. Сбывалась его давняя мечта. 24 сентября он уже присутствовал на вечере у Норова: М. С. Щепкин читал «Театральный разъезд» и «Развязку „Ревизора“». На вечере присутствовали также А. Н. Майков, А. В. Никитенко, В. И. Даль, Г. П. Данилевский[155].
Отношения у Гончарова с Норовым стали, видимо, доверительными сразу — благодаря общим знакомым. В декабре 1855 года, после возвращения из кругосветного плавания, Гончаров переходит на службу в министерство народного просвещения под начало теперь уже министра Норова. Скорее всего ему довелось прочитать и паломнические путешествия Норова по Святой земле. Главное же, есть свидетельство, что Норов не терпел около себя людей нерелигиозных. «Одно только изменяло его всегда ровный тон и было в состоянии возмутить его мягкую, добрую натуру — это когда кто-либо из собеседников позволял себе легкомысленно относиться к вопросам веры и нравственности христианской… Уважая всякое честное убеждение, он не мог равнодушно слышать необдуманные речи о таких священных предметах, хотя вполне допускал разумную, честную критику; и в таких случаях он высказывал правду, нисколько не стесняясь лицами»[156].
Для уяснения религиозных настроений Гончарова не только на протяжении трех лет кругосветной экспедиции, но и в последующие годы, полезно присмотреться к личности начальника экспедиции — адмирала Путятина. Его влияние в этом случае бесспорно.
Граф Путятин (1803–1883) был старше Гончарова на девять лет. В свое время он окончил курс в морском кадетском корпусе, а в 1822–1825 годах совершил в качестве мичмана свое первое кругосветное плавание к берегам Америки под командой капитана 2-го ранга М. П. Лазарева. В 1838–1839 годах Путятин командовал фрегатом, участвовал в высадке десанта на черноморском побережье и был ранен. С 1842 года начинается дипломатическая деятельность будущего адмирала, отмеченная рядом заслуг перед Россией в отношениях с Персией. Так, он убедил персидское правительство уничтожить прежние стеснения русской торговли на Каспийском море и в самой Персии. Экспедиция в Японию была, таким образом, доверена человеку опытному во многих отношениях. Результатом ее явилось заключение в Симоде (в 1855 году) выгодного для России торгового трактата, открывавшего русским купцам японские порты. Именно после японской экспедиции адмирал Путятин был награжден графским достоинством. Японцы с уважением восприняли деятельность адмирала Путятина. В 1881 году японцы наградили Путятина орденом Восходящего Солнца 1-й степени (А. III. 417). В городе Фудзи установлен памятник экипажу фрегата «Диана», где на постаменте — скульптура Путятина во весь рост.
К сожалению, фигуру графа Е. В. Путятина до сих пор не представляют с религиозной стороны. А между тем уже в период кругосветного плавания на «Палладе» он был весьма религиозной личностью, что и сыграло свою роль в случае с Гончаровым. Путятин был человеком горячей и даже несколько жесткой православной веры. «Аристократ-англоман… он в то же время был глубоко религиозен и обладал обширными познаниями в области духовной литературы» (А. III. 417). Известно, что в свободное время гардемарины читали адмиралу Путятину не что иное, как творения св. отцов[157].
Путятин был знаком со многими выдающимися религиозными деятелями своей эпохи. Он состоял в переписке с московским митрополитом Филаретом (Дроздовым)[158]. Дневники святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского, показывают, что Путятин оказался близок этому выдающемуся святому[159]. Очевидно, их связывала не только Япония, но и истинно глубокая религиозность графа, с особенной силой проявившаяся во второй половине его жизни. Почти каждый день бывая у Путятина, святитель служил в его домовом храме и церковные службы. 20 ноября он записывает: «Утром пришел Д. Д. Смирнов, вызванный моею запискою, чтобы договориться с ним служить в 6-ть часов вечера Всенощную у гр. Путятина… За всенощной читали и граф и граф<иня> Ольга Евфимовна — и очень хорошо»[160]. Такие домашние службы владыка Николай проводил у Путятина неоднократно. Запись от 23 ноября 1879 года говорит именно об этом: «После Литургии молебен — у раки св, Алекс<андра> Невского. При выходе из Собора граф Путятин попросил сегодня вечером отслужить у него Всенощную»[161].
Материалы, относящиеся к Палестинскому обществу в России, показывают, что по своим взглядам Путятин примыкал к той части русского общества, которая группировалась вокруг Великого князя Сергея Александровича Романова и обер-прокурора Святейшего Синода Константина Петровича Победоносцева. Этот круг безбоязненно проповедовал Православие в то время, как основная масса дворянско-интеллигентского общества проявляла все больший индифферентизм к религии. В одной из своих статей Победоносцев писал: «Наше время — время упадка религиозного чувства, или, лучше сказать, его извращения… состояние, подобное тому, в коем пребывало римское общество в эпоху Антонинов»[162].
Не только в старости Путятин был столь религиозен. Набожность адмирала уже в 1850-е годы проглядывала даже в его официальных отчетах. В очерке «Через двадцать лет», рассказывая о спасении экипажа фрегата «Диана» во время землетрясения, Гончаров отмечает это: «Наконец начало бить фрегат, по причине переменной прибыли и убыли воды, об дно, о свои якоря и класть то на один, то на другой бок.
И когда во второй раз положило — он оставался в этом положении с минуту…
И страх, и опасность, и гибель — всё уложилось в одну эту минуту!
Все уцепились: кто за что мог. Всё оцепенело в молчании. Потом раздались слова молитвы: все молились, кто словами, и все, конечно, внутренно, так усердно, как, по пословице, только молятся на море!
Бог услышал молитвы моряков, и „Провидению, — говорит рапорт адмирала, — угодно было спасти нас от гибели“. Вода пошла на прибыль, и фрегат встал…»[163].
Во время экспедиции на «Палладе» Путятин выступал и как ревнитель Православия. Дело в том, что успехи католических и протестантских миссионеров в Азии произвели сильное впечатление на участников экспедиции: прежде всего на Е. В. Путятина, И. А. Гончарова, Римского-Корсакова, да и на других.
Отставание Православия в деле миссионерства становилось очевидным. В письме к Норову Путятин писал: «К стыду нашему, все католические и даже протестантские нации, при всяком открытии политических и торговых связей с новыми племенами, первым делом считают распространение между ними истин религиозных и тем всегда успевают образовать партию, расположенную к ним не из одних материальных выгод. Будучи лишены этой святой ревности, мы еще хвалимся пред всеми, что прозелитизм не есть свойство Православия, тогда как в этом нам служит укором вся история христианства, начиная от апостольских и до наших времен.
Пора выйти из этого заблуждения и неслыханное равнодушие к этому предмету заменить тем большим рвением к проповеди евангельской, чем далее мы находились в теперешнем усыплении. Первым делом нашего высшего духовенства должно быть образование миссионерских училищ, в которых с малолетства следует вселять и обращать в первую потребность эту высшую степень христианской любви. Сверх сего, изучение языков и всего, что может споспешествовать успеху проповеди… Если в скором времени не примутся за это, то трудно нам будет стоять за истину Православия; видимые факты будут вопиять противу нас: недостаток жизненных сил духовенства и нужных мер со стороны правительства, заботящегося о расширении своих пределов и не помышляющего о распространении царства Того, Кем все держится»[164].
К сожалению, полный религиозный портрет адмирала Путятина пока не может быть составлен, но и те сведения, которые имеются, однозначно свидетельствуют: адмирал был глубоко религиозным и строго воцерковленным человеком. Недаром он завещал похоронить себя на территории Киево-Печерской Лавры, что и было исполнено.
При таком духовном настрое адмирал уделял большое внимание церковным службам и всему строю религиозной жизни на фрегате «Пал лада». Неукоснительное соблюдение церковного устава на судне, по воспоминаниям капитана фрегата «Паллада» Ивана Семеновича Унковского, объяснялось личностью начальника экспедиции. Среди моряков ходили слухи, будто в молодости, страдая тяжкой болезнью, Путятин дал обет в случае выздоровления поступить в монахи. Болезнь прошла, а с нею и решимость отречься от мира. Невыполненное обещание будто бы тяготило душу адмирала, и он старался в трудных условиях морской жизни по возможности строго блюсти устав и требования Церкви. На «Палладе» «в течение дня многократно раздавалось молитвенное пение, то и дело в каюту адмирала требовали судового иеромонаха архимандрита Аввакума (Честного), а в свободное от служебных и молитвенных занятий время адмирал любил слушать чтение „Жития святых“ или другие душеспасительные книги»[165]. Характер адмирала был таков, что он не переносил праздности. Сам Гончаров отмечает в своей книге: «Адмирал не может видеть праздного человека; чуть увидит кого-нибудь без дела, сейчас что-нибудь и предложит: то бумагу написать… кому посоветует прочесть какую-нибудь книгу; сам даже возьмет на себя труд выбрать ее в своей библиотеке и укажет, что прочесть из нее…» (А. II. 372). Неудивительно, что при своей любви к житиям святых Путятин «выбирал в своей библиотеке» для простых матросов именно книги религиозного содержания.
Уже много позже, в очерке «Слуги старого века», Гончаров отметит, насколько благотворна была эта деятельность адмирала: «Я видел, как простые люди зачитываются до слез священных книг на славянском языке… Помню, как матросы на корабле слушали такую книгу, не шевелясь по целым часам, глядя в рот чтецу…» (VII. 329). Один из участников похода вспоминал, что «глубокая религиозность Путятина и благородство его души сказались… поистине геройским поступком»: Путятин укрыл на борту «Дианы» японца, бежавшего от смертной казни за переход в христианство. Но «Диана» во время землетрясения затонула, моряки вышли на японский берег вместе с новокрещенным японцем. Японская сторона потребовала выдачи соотечественника, грозя применить силу. «На собранном совете Путятин объявил решение в случае необходимости расположить команду „Дианы“ в каре, по углам каре поставить спасенные пушки и, защищаясь до последней крайности, умереть всем до единого, но не выдавать единоверца»[166]. Вот каков был «образ веры» адмирала Путятина, явившегося волею судьбы живым уроком для Гончарова. Будучи младшим и по званию, и по возрасту, Гончаров многому учился у Путятина. Н. И. Барсов, например, отмечает, что «некоторое англофильство» Гончаров приобрел не без влияния Путятина, женатого на англичанке[167]. Очевидно, влиял на своего секретаря адмирал и своим открытым, почти «монашеским» исповеданием Православной веры, что весьма контрастировало с традиционной теплохладностью литературно-либеральной среды, в которой пребывал до своего похода на «Палладе» Гончаров.
Неукоснительное выполнение церковного устава предполагало у Путятина буквально монастырский режим служб: как показывает дневник архимандрита Аввакума (Честного), в воскресные дни литургию служили в 6:30 утра, в обычные дни — в 5 утра. В таком режиме Гончаров не хаживал в храм никогда более в своей жизни. Несомненно, Путятин сыграл определенную роль в том, что со второй половины 50-х годов Гончаров воцерковляется и становится постоянным прихожанином храма св. великомученика Пантелеймона в Санкт-Петербурге.
Между прочим, Гончаров, по общему признанию, пользовался «бесспорным расположением Путятина». Жизнь на одном судне постоянно очень тесно сталкивает людей, и Путятин, конечно, прекрасно изучил своего секретаря. При горячей религиозности адмирала и его постоянном желании воспитывать в религиозном духе окружающих он, разумеется, заметил и религиозную сторону жизни Гончарова. Думается, что если бы — при столь близком контакте в течение весьма долгого времени в условиях корабля — Путятин заметил равнодушие Гончарова к религии и церкви, он бы не проявил столь открытой симпатии к своему секретарю. Не случайно среди всеобщего охлаждения к религии в XIX веке Гончаров оказался в рядах людей веры и открытого исповедания Христа, в кругу Путятина, Победоносцева, Великих князей Романовых. Правда, он не был столь горяч в проявлениях своего религиозного чувства, как, например, адмирал Путятин, и религиозная сторона его жизни оставалась незаметной, скрытой для окружающих его людей, тем более для либерального литературного окружения, в котором Гончаров вынужден был вращаться всю свою жизнь. М. М. Стасюлевич, А. Ф. Кони и другие знали лишь немногое о личной вере писателя. Именно из этого окружения и вышел миф о религиозной индифферентности романиста, миф, столь охотно поддержанный советским литературоведением.
Другим человеком, который в течение столь долгого времени оказывал воздействие на религиозное настроение Гончарова, был судовой священник архимандрит Аввакум. Современники так отзывались об этом человеке: «Кто знал его близко, не мог не любить. Это был светильник, который не для себя существовал, но от которого заимствовало свет и теплоту все, что окружало его»[168]. Первые упоминания о. Аввакума у Гончарова носят чисто внешний характер: в Портсмуте экипаж «Паллады» встречал праздник Рождества Христова в декабре 1852 года: «В первый день праздника была церковная служба, потом общий обед, то есть в кают-компании у офицеров, с музыкой, с адмиралом, с капитаном, с духовной властью и гражданскими чиновниками. Вечером отыскали между подарками, которые везем в дальние места, китайские тени и давай показывать. На столе десерт, вино, каюта ярко освещена, а на палубе ветер чуть с ног не сшибает; уж у отца Аввакума две шляпы улетели в море, одна поповская, с широкими полями, которые парусят непутем, а другая здешняя. Всё бы это было очень весело, если б не было так скучно. Но слава Богу, я выношу сверх чаяния довольно терпеливо эту суку, морскую скуку (не для дам) (см. Тредьяковского); меня с нею мирит мысль, что в Петербурге не веселее, как я уже писал Вам»[169].
Однако за время плавания Гончаров глубже узнал характер о. Аввакума. В этом характере он отмечает кротость, смирение, монашескую невозмутимость при встрече неожиданных обстоятельств, миролюбие и скромность. «Один только отец Аввакум, наш добрый и почтенный архимандрит, относился ко всем этим ожиданиям, как почти и ко всему, невозмутимо-покойно и даже скептически. Как он сам лично не имел врагов, всеми любимый и сам всех любивший, то и не предполагал их нигде и ни в ком: ни на море, ни на суше, ни в людях, ни в кораблях. У него была вражда только к одной большой пушке, как совершенно ненужному в его глазах предмету, которая стояла в его каюте и отнимала у него много простора и свету.
Он жил в своем особом мире идей, знаний, добрых чувств — ив сношениях со всеми нами был одинаково дружелюбен, приветлив. Мудреная наука жить со всеми в мире и любви была у него не наука, а сама натура, освященная принципами глубокой и просвещенной религии. Это давалось ему легко: ему не нужно было уменья — он иным быть не мог. Он не вмешивался никогда не в свои дела, никому ни в чем не навязывался, был скромен, не старался выставить себя и не претендовал на право даже собственных, неотъемлемых заслуг, а оказывал их молча и много — и своими познаниями, и нравственным влиянием на весь кружок плавателей, не поучениями и проповедями, на которые не был щедр, а просто примером ровного, покойного характера и кроткой, почти младенческой души.
В беседах ум его приправлялся часто солью легкого и всегда добродушного юмора.
Кажется, я смело могу поручиться за всех моих товарищей плавания, что ни у кого из них не было с этою прекрасною личностью ни одной неприятной, даже досадной, минуты… При кротости этого характера и невозмутимо-покойном созерцательном уме он нелегко поддавался тревогам. Преследование на море врагов нами или погоня врагов за нами казались ему больше фантазиен) адмирала, капитана и офицеров. Он равнодушно глядел на все военные приготовления и продолжал, лежа или сидя на постели у себя в каюте, читать книгу. Ходил он в обычное время гулять для моциона и воздуха наверх, не высматривая неприятеля, в которого не верил.
Вдруг однажды раздался крик: „Пароход идет! Дым виден!“
Поднялась суматоха. „Пошел по орудиям!“ — скомандовал офицер. Все высыпали наверх.
Кто-то позвал и отца Аввакума. Он неторопливо, как всегда, вышел и равнодушно смотрел, куда все направили зрительные трубы и в напряженном молчании ждали, что окажется.
Скоро все успокоились: это оказался не пароход, а китоловное судно, поймавшее кита и вытапливавшее из него жир. От этого и дым. Неприятель всё не показывался. „Бегает нечестивый, ни единому же ему гонящу!“[170] — слышу я голос сзади себя.
Это отец Аввакум выразил так свой скептический взгляд на ожидаемую встречу с врагами. Я засмеялся, и он тоже. „Да право так!“ — заметил он, спускаясь неторопливо опять в каюту» (А. П. 728–730).
Надо сказать, что Гончаров угадал важнейшие черты характера архимандрита Аввакума, в биографии которого многократно встречаются подтверждения перечисляемых автором «Паллады» качеств. Так, например, скромность о. Аввакума вошла в легенду. Во время пребывания о. Аввакума в Китае там была найдена древняя надпись в монастыре города Баодиньфу, сделанная на камне. Никто не сумел расшифровать найденный текст, и китайские ученые обратились за помощью к о. Аввакуму, который благодаря знанию пяти азиатских языков сумел осуществить перевод. О своем открытии о. Аввакум скромно умолчал, о нем узнали лишь после того, как его огласил в 1846 году член Русского географического общества В. В. Григорьев.
Жизнь священника на «Палладе» была далеко не праздной. Помимо частых молебнов и служб, она была заполнена обычными для священника заботами, нашедшими отражение в его дневнике, тем более интересном для нас, что многие скорбные события, происходившие на фрегате и не прошедшие мимо священника, так и не попали в книгу Гончарова. Писатель, очевидно, не хотел «портить картину» путешествия изображением трудностей и скорбей, которые выпадали на долю участников экспедиции. Даже в тех случаях, когда умолчания были невозможны, Гончаров старается смягчить печальное впечатление. Архимандрит Аввакум как корабельный священник должен был принимать на себя все удары, все скорби людей. Так, 23 июня 1853 года в Гонконге о. Аввакум записал в своем дневнике: «Поутру я ездил в госпиталь причащать матроса Федота Алексеева (безрукого матроса, одержимого лихорадкой)». И уже на следующий день: «В 5 1/2 часов отправился в госпиталь отпевать умершего матроса Федота Алексеева. Гроб проводил за город»[171]. Через два месяца, 6 сентября, — новая запись: «В 6 1/2 часов обедня. По окончании оной при подъеме стеньги один матрос Борисов Адриан свалился с салинга на палубу, ушибся ужасно, поднят без чувств; пущена кровь, пришел в чувства, приобщен Святой Тайне. В 1 1/3 часов умер». На следующий день совершено было отпевание: «7 сентября. Понедельник, В 5 часов утра обедня и отпевание матроса; все это кончилось в 7 часов»[172]. Через две недели, 23 сентября, в дневнике — новая скорбная запись: «В 10 часов я поехал на корвет („Оливуц“. — В. М.) отпеть панихиду по утонувшем в этот день за 2 года назад в Камчатке бывшем командире его Иване Сущове с тремя матросами»[173]. И еще через месяц: «В 6 1/2 часов обедня и панихида по усопших — матери и брата Ивана Семеновича Унковского, о смерти которых вчера привезено известие»[174]. Через три недели — новая смерть: 13 ноября о. Аввакум «поутру отпел панихиду по князе Урусове»[175].
23 июня 1853 года, вернувшись из госпиталя на фрегат, о. Аввакум «застал у себя китайцев, из коих один пришел переписывать китайскую бумагу, другой — с шелковыми шалями, вышитыми белыми шелковыми узорами. Китайский епископ с 2 итальянцами и одним китайским священником был у нас»[176]. Этот эпизод запомнился и Гончарову: «По приезде адмирала епископ сделал ему визит. Его сопровождала свита из четырех миссионеров, из которых двое были испанские монахи, один француз и один китаец, учившийся в знаменитом римском училище пропаганды. Он сохранял свой китайский костюм, чтобы свободнее ездить по Китаю, для сношений с тамошними христианами и для обращения новых. Все они завтракали у нас; разговор с епископом, итальянцем, происходил на французском языке, а с китайцем отец Аввакум говорил по-латыни»[177].
Вот как проходили службы в воскресные и праздничные дни на «Пал ладе». В своем дневнике архимандрит Аввакум записывает: «5 июля. Воскресенье. Неделя 4-я по Пятидесятнице. Обедня. Панихида по матросе Федоте Алексееве. Молебен преподобному Сергию (Радонежскому)— 20 июля. Понедельник. В 8 часов обедница и молебен Илье-пророку… 29 августа. Суббота. В 6 1/2 часов обедня и панихида по убиенным воинам»[178]. И 7 октября: «Исполнился год нашему путешествию. Обедня и благодарственный молебен»[179]. «13 декабря. Воскресенье. В 9 часов обедня, потом молебен Богородице и св. апостолу Андрею и святителю Николаю Чудотворцу Мирликийскому»[180].
Из сопоставления дневника о. Аввакума с текстом гончаровской книги становится ясным, что Гончаров зачастую был собеседником архимандрита: многие факты попадают в книгу Гончарова со слов о. Аввакума. Так, 28 ноября 1853 года последний записывает в своем дневнике: «После завтрака ходили с Гошкевичем к английским миссионерам Мед горсту и прочим. Набрали книг, изданных ими, на английском и китайском языках. Были у Медгорста в комнате. Он занимался с китайцем поправкою Нового Завета, им переведенного. Были в училище и госпитале. После обеда ходили в китайское предместье»[181]. После возвращения на корабль о, Аввакум, очевидно рассказал обо всем этом Гончарову. Так во «Фрегате „Паллада“» появляются строки о Медгорсте.
В других местах книги Гончаров нередко описывает свое общение с о. Аввакумом: «Мы шли по полям, засеянным разными овощами. Фермы рассеяны саженях во ста пятидесяти или двухстах друг от друга. Заглядывали в домы; „чинь-чинь“, говорили мы жителям: они улыбались и просили войти. Из дверей одной фермы выглянул китаец, седой, в очках с огромными круглыми стеклами, державшихся только на носу. В руках у него была книга. Отец Аввакум взял у него книгу, снял с его носа очки, надел на свой и стал читать вслух по-китайски, как по-русски. Китаец и рот разинул. Книга была — Конфуций»[182]. Ни с кем из русских священников или монахов Гончаров не провел так много времени, как с архимандритом Аввакумом в условиях плавания фрегата «Паллада». Общение с этим монахом, священником и ученым было для Гончарова не только интересным, но и полезным с духовной стороны.
Нельзя не упомянуть еще одного священнослужителя, произведшего на Гончарова в эти годы весьма большое впечатление. Возвращаясь в 1854 году с Дальнего Востока в Петербург через Сибирь, автор «Фрегата „Паллада“» в Якутске лично познакомился с будущим московским митрополитом, а в то время архиепископом Камчатским, Курильским и Алеутским Иннокентием (Вениаминовым).
Святитель Иннокентий (в миру Иван Евсеевич Попов-Вениаминов; 1797–1879) был выдающимся церковным деятелем, миссионером, просветившим светом Евангелия народы Восточной Сибири и Русской Америки. Сначала он был священником в Иркутске, в 1823 году вызвался ехать священником на остров Уналашку, где обратил в христианство алеутов. Для этого он изучил алеутский язык. Благодаря его стараниям христианство распространилось по всем Алеутским островам. Затем он был переведен на остров Ситху, где распространил христианство среди колошей. В 1840 году по смерти жены он принял монашество и стал епископом Камчатским, Курильским и Алеутским. Двадцать семь лет длился его апостольский подвиг в Восточной Сибири. Святое Писание было переведено на якутский, алеутский и курильский языки. В 1868 году был назначен митрополитом Московским и Коломенским и стал руководить миссионерским обществом. Честная кончина святителя Иннокентия последовала в Великую Субботу в 1879 году. Ныне его святые мощи покоятся в Свято-Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры.
Нужно сказать, что Гончаров со свойственным ему чутьем осознал необычный масштаб личности владыки, о котором ко времени их встречи уже писали в русских газетах и журналах. В письме к Майковым от 13 января 1855 года Гончаров восторженно характеризует владыку Иннокентия: «Здесь есть величавые и колоссальные патриоты. В Якутске, например, преосвященный Иннокентий: как бы хотелось мне познакомить Вас с ним. Тут-то бы увидели русские черты лица, русский склад ума и русскую коренную, но живую речь. Он очень умен, знает много и не подавлен схоластикою, как многие наши духовные, а всё потому, что кончил ученье не в академии, а в Иркутске и потом прямо пошел учить и религии, и жизни алеутов, колош, а теперь учит якутов. Вот он-то патриот. Мы с ним читывали газеты, и он трепещет, как юноша, при каждой счастливой вести о наших победах»[183].
Готовясь к путешествию, Гончаров много читал, в том числе и о миссионерской деятельности Русской Церкви в Сибири. Прежде всего прочел он книгу самого преосвященного владыки, тогда еще протоиерея, «Записки об островах Уналашкинского отдела» (1840). Книгу писатель оценил высоко: «Прочтя эти материалы, не пожелаешь никакой другой истории молодого и малоизвестного края. Нет недостатка ни в полноте, ни в отчетливости по всем частям знания: этнографии, географии, топографии, натуральной истории: но всего более обращено внимания на состояние церкви между обращенными… Книга эта еще замечательна тем, что написана прекрасным, легким и живым языком»[184]. Читал Гончаров и другую брошюру протоиерея Иннокентия — «О состоянии православной церкви в Российской Америке» (1840). Возможно, читал и книги «Опыт грамматики алеутско-лисьевского языка» (СПб., 1846)и «Замечания о колошенском и кадьякском языках» (СПб., 1846). В библиотеке писателя был «Алеутский букварь» (1846) владыки Иннокентия. Составители книги «Описание библиотеки И. А. Гончарова»
выражают предположение, что «к Гончарову букварь попал, вероятно, в 1854 г., во время посещения Якутска и общения с епископом… Иннокентием»[185]. В главе «По Восточной Сибири» он признается, что уже до личной встречи «слышал и читал много о преосвященном: как он претворил диких инородцев в людей, как разделял их жизнь и прочее»[186]. Возможно, читал наш путешественник и «Наставление священнику-миссионеру», написанное епископом Иннокентием Вениаминовым в 1841 году. В «Наставлении» писалось: «Оставить родину и идти в места отдаленные, дикие, лишенные многих удобств жизни, для того, чтобы обращать на путь истины людей, еще блуждающих во мраке неведения, и просвещать светом Евангелия еще не видевших сего спасительного света, — есть дело поистине святое, равноапостольное. Блажен, кого изберет Господь и поставит на это служение!»
Преосвященный Иннокентий был неутомимым тружеником, много сделавшим не только как миссионер, но и как ученый. Это прекрасно осознал и Гончаров, предложивший владыке написать что-нибудь для журнала «Отечественные записки». В письме к А. А. Краевскому от 14 сентября — 25 ноября 1854 года он признается: «Я уж говорил с преосв<ященным> Иннокентием и думал не шутя выманить что-нибудь для Вас, но он человек такого, как говорит немецкий булочник Каратыгина, здорового ума, что у него не выманишь. Сам он, как видно, трудится и над историей и над языком якутов, но если будет издавать, то осторожно, „потому что я в этом случае буду единственным авторитетом… которому, конечно, поверят, следоват<ельно>, надо говорить верно, а верного мало“»[187].
Автор «Фрегата „Паллада“» сумел разглядеть всю крупность фигуры будущего святителя. Прежде всего Гончаров вполне осознал доминанту духовной деятельности владыки Иннокентия— его апостольство. И осознал не только потому, что владыка апостольствовал среди язычников. Очевидно, и на самом себе ощутил Гончаров духовную силу епископа Иннокентия, поразившего писателя простой величавостью своего духовного подвига. Современный исследователь пишет, что в XIX веке «тенденции отхода от веры и Церкви, а также проникновения в Церковь чуждых Православию „модных“ религиозных веяний получили дальнейшее и быстрое развитие.
Апостольство в такой сложной обстановке должно было осуществляться по отношению к людям, уже отошедшим или сознательно отходящим от Православия, а это было стократ более трудным, чем апостольство среди „детей природы“ — язычников, еще не ведущих истины. Послужить на таком поприще мог с успехом тогда только святитель Иннокентий, сочетавший в себе глубочайшее смирение и сердечную простоту с величайшей апостольской ревностью и твердостью»[188].
Владыка вступал на московскую кафедру в то время, когда Гончаров заканчивал свой роман «Обрыв», направленный против разрушительных тенденций в обществе и Церкви. 26 мая 1868 года в Успенском соборе Кремля святитель взошел на московскую кафедру после кончины митрополита Филарета (Дроздова) и сказал о том, как он понимает свое служение: «Кто я, дерзающий вое приять… власть моих предшественников?.. Братие и отцы! Особенно вы, просвещенные наставники и отцы! Не таков вам подобаше архиерей, как я, бескнижный. Но терпите меня любовию Христовою… паче же молитесь о том, дабы лжеучение и плотское мудрование, пользуясь моим бескнижием, не вкралось в среду Православия»[189]. Протоиерей Л. Лебедев пишет: «Проповедание Православия и защита его от различных „новомодных“ течений — вот в чем видел главную задачу своего апостольства в России святитель Иннокентий».
В его фигуре вышедший из либеральной среды Московского университета и петербургских салонов Гончаров видел живой и укрепляющий дух образец Православной веры. В сознании романиста подвижничество святителя Иннокентия было частью подвижничества русского народа и Русской Церкви в Сибири. Портрет владыки Иннокентия органично вписывается в сибирских главах «Фрегата „Паллада“» в широкую картину освоения и просвещения светом цивилизации и христианской веры языческих народов, живущих за Уралом.
Писатель упоминает «апостола Сибири» как первооткрывателя короткого пути к Охотскому морю: «С сухого пути дорога от него к Якутску представляет множество неудобств… Трудами преосвященного Иннокентия, архиепископа Камчатского и Курильского, и бывшего губернатора камчатского, г. Завойки, отыскан нынешний путь к Охотскому морю и положено основание Аянского порта… По этой дороге человек в первый раз, может быть, прошел в 1845 году, и этот человек, если не ошибаюсь, был преосвященный Иннокентий… Он искал другой дороги к морю, кроме той, признанной неудобною, которая ведет от Якутска к Охотску, и проложил тракт к Аяну»[190].
Наверное, естественно, что более всего Гончарову запомнились события, близкие ему как писателю: это перевод Евангелия на языки сибирских народов: «Я случайно был в комитете, который собирается в тишине архипастырской кельи, занимаясь переводом Евангелия. Все духовные лица здесь знают якутский язык. Перевод уже вчерне окончен. Когда я был в комитете, там занимались окончательным пересмотром Евангелия от Матфея. Сличались греческий, славянский и русский тексты с переводом на якутский язык. Каждое слово и выражение строго взвешивалось и поверялось всеми членами»[191].
В 1852 году владыка Иннокентий и некоторые священники его епархии начали поистине подвижнический труд по переводу книг Ветхого и Нового Завета на якутский язык.
Священники Е. В. Протопопов, Д. В. Хитров, Н. Н. Запольский, М. С. Ощепков, П. П. Попов и Д. В. Попов собирались в доме владыки Иннокентия два раза в неделю после основных своих трудов. В 1858 году были напечатаны на якутском языке «Книга Бытия», «Евангелие», «Деяния Св. Апостолов», «Божественная литургия Иоанна Златоуста и требник» и «Часослов и Псалтирь» (A. IIL 770).
Гончаров увидел в архиепископе Иннокентии воплощение своего идеала миссионера, начиная с внешнего вида владыки: «Я все-таки представлял себе владыку сибирской паствы подобным зауральским иерархам: важным, серьезным, смиренного вида. Доложили архиерею о нас. Он вышел нам навстречу. Да, действительно, это апостол, миссионер!..» Эти слова так ясно перекликаются с тем, что сказал о владыке Иннокентии святитель Московский Филарет (Дроздов): «В этом человеке что-то апостольское»[192].
Лишь попав в Сибирь и повстречавшись с владыкой Иннокентием, Гончаров осознает, что у России есть свое самобытное и широкое поле миссионерской деятельности. Писатель рисует поистине апостольский портрет будущего святителя: перед ним встала «мощная фигура, в синевато-серебристых сединах, с нависшими бровями и светящимися из-под них умными ласковыми глазами и доброю улыбкой».
Несколько строк очерка «По Восточной Сибири» дают представление о разговоре, который состоялся у архиепископа Иннокентия с Гончаровым. «Преосвященный расспрашивал меня подробно о моем путешествии и всей эскадры тоже». Беседовали и о миссионерстве владыки, о московском митрополите Филарете (Дроздове)[193], о жизни и познаниях которого будущий святитель говорил «с большим увлечением».
Ни в одной, пожалуй, другой книге воспоминаний о святителе не найдем мы столь метко зарисованных черт характера и поведения его в быту. Во «Фрегате „Паллада“» рассказано несколько любопытных случаев из жизни святителя Иннокентия. Сведения Гончарова в этом плане просто неоценимы. Так, из его книги мы узнаем, что «преосвященный не звал никогда к себе обедать. Он держался строгой монашеской жизни: ел уху да молочное, а по постным дням соблюдал положенный пост. А светским людям, по его мнению, необходимо было за обедом мясо»[194]. Правда, именно для Гончарова было сделано исключение как для гостя в сибирской глухой стороне: владыка приглашал его на вечерний чай. «Он выставлял тогда целый арсенал монашеского, как он говорил, угощения. Кроме чаю тут появлялись чернослив, изюм, миндаль и т. д.».
Нельзя не привести еще один рассказ святителя о самом себе. Дело в том, что Гончаров часто встречал владыку Иннокентия на обедах в различных домах — и стал недоумевать по этому поводу, зная чисто монашеский образ жизни владыки.
«Он точно угадал мою мысль и однажды заметил мне:
— Вот вы меня нередко встречаете на обедах у здешних жителей, начиная с губернатора, областных чиновников и до купцов. Все они составляют здесь одно общество, из которого выдаемся разве только мы с губернатором. Приняв раз приглашение у кого-нибудь из них… на каком основании откажу я другому?.. Вот я поневоле и езжу ко всем; но везде меня угощают моими монастырскими кушаньями. Я приеду, благословлю трапезу, прослушаю певчих, едва прикоснусь к блюдам и уезжаю, предоставляя другим оканчивать обед по-своему.
И архиерей добродушно засмеялся».
Благодаря очерку Гончарова мы узнаем, о чем любил говорить и вспоминать владыка Иннокентий: «На этих вечерних беседах у преосвященного говорилось обо всем, — всего более о царствовавшем тогда Императоре Николае Павловиче. Преосвященный любил рассказывать о приеме его государем, о разговоре их, о расспросах Императора о суровом крае Восточной Сибири. Между прочим, преосвященный рассказал мне о своем назначении, когда в Петербурге узнал о смерти своей жены, сначала в архимандриты, а затем на кафедру Якутского, Алеутского и Курильского архиепископа.
— На Курильских островах и церкви нет, — заметил докладыващий.
— Выстроят, — сказал государь и продолжал писать»[195].
Дополняет духовный портрет святителя случай, рассказанный Гончарову в Якутске: «Были мы в Светлое Воскресение в соборе… губернатор, все наши чиновники, купцы… Народу собралось видимо-невидимо. Служил владыко с нашим духовенством. После обедни его преосвященство благословил всех нас, со всеми похристосовался. „Ну, говорит, а теперь прошу за мной!“… а он из церкви прямо в острог, христосуется с заключенными и каждого дарит на праздник от скудных средств своих. И что за лицо у него было при этом: ясное, тихое, покойное! Невольно и мы за ним полезли в карманы и повытаскивали оттуда кто что мог… В общем, набралось много денег, которые все и пошли в пользу арестантов. Тогда только владыко, еще раз благословив всех, отпустил нас по домам».
Владыка обладал неподражаемой жизнерадостностью и чувством юмора. Вот губернатор приглашает архиепископа отобедать вместе с ним и Гончаровым. И что же? — следует сцена, проникнутая легким юмором:
«— Его превосходительство „без просьбы“ к убогой трапезе не пригласит! — не без иронии заметил архиерей. — Я, ваше превосходительство, со своей стороны, готов исполнить приказание, но надо доложить архиерею: не знаю, какую резолюцию он положит, позволит ли монаху Иннокентию отлучиться от кельи — хоть бы и „на убогую трапезу“ к игемону Петру…
Он опять закатился смехом, и мы тоже».
Так мы узнаем чисто человеческие черты святителя Иннокентия. Но уже после выхода книги Н. П. Барсукова о митрополите Иннокентии Гончаров дает и исторический масштаб личности святителя: «Он — тоже крупная историческая личность. О нем писали и пишут много и много будут писать, и чем дальше населяется, оживляется и гуманизируется Сибирь, тем выше и яснее станет эта апостольская фигура… Вот природный сибиряк, Самим Господом Богом ниспосланный апостол-миссионер!»
В книге «Фрегат „Паллада“» в основном узнается бытовой фон, окружающий будущего святителя. Писатель не говорит, как воспринимается им духовный облик владыки Иннокентия: этот облик лишь угадывается. Автор изображает владыку Иннокентия без пафоса, без восторга, приводит даже сцены, окрашенные легким юмором. Значит ли это, что писатель не почувствовал святость своего собеседника? Нужно учесть, что Гончаров весьма осторожен в выборе слов, в оценке скрытой от глаз духовной сущности человека. Ведь и везде в своих произведениях он избегает чисто религиозных сюжетов, а старается представить духовное — через повседневный быт. Но сказанное им («Богом ниспосланный апостол-миссионер!») свидетельствует о верном духовном восприятии личности владыки Иннокентия. Гончаров пишет даже о том, о чем обычно никогда не пишет, — о личном впечатлении: «Личное мое впечатление было самое счастливое». Все это говорит о том, что фигура будущего святителя воспринимается им как явно неординарная, выходящая из обычного ряда явлений. Назвав владыку Иннокентия апостолом, Гончаров, в сущности, признает его святость, проявляя, таким образом, духовную зоркость.
Особый вопрос — время написания двух частей воспоминаний о святителе Иннокентии. Первая часть этих воспоминаний относится к 1850-м годам и включена непосредственно в книгу «Фрегат „Паллада“». Воспоминания о владыке Иннокентии здесь носят скорее исторический характер. Владыка изображается в главе «Из Якутска» как миссионер, переводчик на языки сибирских народов Евангелия — в ряду иных подвижников, о которых сказано едва ли не больше, как, например, о священнике Хитрове, который занимался составлением грамматики якутского языка, и отце Никите Запольском. Следует учесть и то, что владыка в это время был жив и, вероятно, не желал бы встретить в печати слишком интимные подробности о своей жизни. Да и похвал он не любил. Однажды святитель признался: «Могу ли присвоить себе что-либо из того, что при мне или через меня делалось? Ибо Бог видит, как мне тяжело читать или слышать, когда меня за что-либо хвалят… Признаюсь, я желал бы, если бы это было возможным, чтобы нигде не упоминалось мое имя, кроме перечней и поминаний…»[196]. Очерк же «По Восточной Сибири» создавался позже, после кончины «сибирского апостола», в 1889 году, Притом уже в 1860-е годы происходит заметный перелом в духовной жизни писателя, все более серьезно и глубоко утверждавшегося в Православии. Кроме того, следует учесть, что в 1883 г. в Москве вышла книга Н. П. Барсукова «Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский», а в 1887 году собраны и изданы тем же Барсуковым «Творения» митрополита Иннокентия.
В это время фигура святителя Иннокентия видится Гончарову уже в несколько ином свете. В итоге в печати появляются бесценные подробности встреч писателя и владыки Иннокентия, любопытные штрихи бытовой жизни и миссионерской деятельности будущего святителя. Встреча с владыкой Иннокентием, думается, была для Гончарова по-своему очень важной: в фигуре святителя он увидел еще одного, и притом очень яркого, русского священника-подвижника, увидел необычайно трудную духовную работу самого святителя и его священнического окружения. Глядя на них, он получал подтверждение своим мыслям о том, что призванием человека на земле является возвращение Богу плода от «брошенного Им зерна». Жизнь и личность святителя Иннокентия сами по себе были высочайшим образцом духовного подвижничества, православного образа жизни. Так или иначе, но такая встреча не могла не отразиться на духовном настрое Гончарова. Она тоже явилась фактором укрепления его в Православии и в том воцерковлении, которое пережил Гончаров после возвращения из кругосветного путешествия на фрегате «Паллада».
В Сибири Гончаров снова дышал забытой с детства атмосферой «народного Православия», возобновляя в душе образцы недекларируемой, естественной, но крепкой веры в Бога, полной преданности Божьей воле. Замечательна была его встреча с одним из таких безвестных праведников, описанная в очерках «Фрегата „Паллада“». Если владыка Иннокентий сравнивается в книге с апостолом, то этот случайный попутчик Гончарова вызывает в его душе ассоциацию с библейским Иовом,
Известно, что Евангелие было настольной книгой Гончарова. Он беспрестанно обращается к этой вечной книге, размышляет над жизнью и строит свою личность — именно в соответствии с Новым Заветом. Гораздо труднее заметить в его произведениях цитаты или упоминания персонажей из Ветхого Завета. Один из немногих случаев — многострадальный Иов, который, судя по общим жизненным установкам писателя, был ему близок и созвучен его духовному настрою.
Ветхозаветный Иов — невинный страдалец, перенесший невиданные муки ради своей верности Богу. Иов был человек «непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла» (Иов 1, 8). Бог наградил его множеством детей и необыкновенным богатством. Иов не забывал ежедневно хвалить и благодарить Бога. Однако сатана обратился к Богу с коварной речью: «Разве даром богобоязнен Иов?.. Но простри руку Твою, и коснись всего, что у него, — благословит ли он Тебя?» (Иов, 1,9–11). Все пропало у Иова: умерли дети, погиб скот, рухнул дом. «Тогда Иов встал, и разодрал верхнюю одежду свою, и пал на землю, и поклонился, и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно! Во всем этом не согрешил Иов, и не произнес ничего неразумного о Боге» (Иов, 1, 20–22). Книга Иова оставила большой след в мировой литературе. Мотивы этой великой книги можно обнаружить в шекспировском «Короле Лире»[197] и, соответственно, в повести И. С. Тургенева «Степной Король Лир».
Видимо, книга Иова, некогда прочитанная Гончаровым, поразила его. Романист, конечно, не вникал в богословские тонкости при чтении этой книги. Его поразил сам образ терпеливого перенесения страдания, непоколебимой верности Богу и Его воле.
Упоминания библейского Иова раскрывают нам глубину гончаровского личностного миропонимания. Ведь в письмах автора «Обломова» довольно часто встречается известный евангельский стих: «Претерпевший же до конца спасется» (Мф. 24,13). О терпении как одной из главных христианских добродетелей романист размышлял постоянно, но, разумеется, не отвлеченно, а в контексте раздумий о собственном жизненном пути, о судьбе своих героев. Образ Иова как символа полного и абсолютного подчинения человека воле Божией, как символа бескрайнего терпения бед и страданий ради верности Богу своему, безусловно, был хорошо известен Гончарову, но встречается в его произведениях лишь дважды — между прочим, во «Фрегате „Паллада“» (глава «До Иркутска»).
Во время переезда писателя с тихоокеанского побережья в Петербург произошла встреча Гончарова с ямщиком Дормидоном, который вез его от Жербинской станции. Дормидон рассказывает «барину» о постигших его бедах. Сначала романист воспринял его страдания не слишком серьезно, и лишь потом ему на ум приходит образ страдальца Иова. В главе «До Иркутска» он пишет: «Встретил еще несчастливца. „Я не стар, — говорил ямщик Дормидон, который пробовал, было, бежать рядом с повозкой во всю конскую прыть, как делают прочие, да не мог, — но горе меня одолело“. Ну, начинается обыкновенная песня, думал я: все они несчастливы, если слушать их. „Что же с тобой случилось?“ — спросил я небрежно. „Что? Да сначала, лет двадцать пять назад, отца убили…“ Я вздрогнул…. боязливо молчал, не зная, что сказать на это. „Потом моя хозяйка умерла: ну Бог с ней! Божья власть, а все горько!“ — „Да, в самом деле он несчастлив“, — подумал я: что же еще после этого назвать несчастьем? — „Потом сгорела изба, — продолжал он, — а в ней восьмилетняя дочь… Женился я вдругоряд, прижил два сына; жена тоже умерла. С сгоревшей избой у меня пропало все имущество, да еще украли у меня однажды тысячу рублей, в другой раз тысячу шестьсот. А как наживал-то! Как копил! Вот как трудно было!“ Мне стало жутко от этого мрачного рассказа. „Это страдания Иова!“ — думал я, глядя на него с почтением… Дормидон претерпел все людские скорби — и не унывает… А мы-то: палец обрежем, ступим неосторожно…»
В этом диалоге и в комментариях самого автора все достойно внимания. Имя многострадального Иова упоминается романистом не потому только, что страданий у Дормидона много (смерти близких, разорение и пр.), но прежде всего из-за его безропотного, как у библейского Иова, принятия Божьей воли. Терпение Дормидона также выказывает его праведность, особую отмеченность Богом, ибо Сам Господь говорит: «Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю» (Откр. 3, 19). Согласно православному учению, скорби приближают человека к Богу. Свт. Иоанн Златоуст говорит: «Кто здесь не имеет скорби, тот чужд и радости о Бозе». Вот почему Гончаров смотрит на Дормидона «с почтением».
Характерно, что писатель упоминает об Иове и в романе «Обрыв», где страдающая детская душа главного героя романа Райского переживает историю Иова, «всеми оставленного на куче навоза, страждущего» (Ч. 1, гл. VI).
Христианство и цивилизация
Первоначальное восприятие «Фрегата „Паллада“» современниками определялось прежде всего тем, что книга ощущалась как новаторская, как самое легкое и занимательное путешествие, когда-либо являвшееся на русском языке, Гончаров ломал привычные стереотипы жанра путешествия.
Автор предисловия к отдельному изданию «Паллады» И. Льховский писал, что задачей автора было «не забыть о призвании, доставившем уже ему известность и внимание публики; не забыть, что на нем, по выражению одного критика, „почил дух Пушкина“, и в своем быстром и случайном пути взглянуть на разнообразные картины беспрестанно сменявшейся пред ним панорамы, на мелькавшие пред ним явления чуждой жизни с точки зрения поэта. Владея поэтическим талантом, юмором и всеми тайнами родного языка, он мог ограничиться даже летучими, непосредственными и личными впечатлениями, не дополняя их чужим знанием и опытом, — что пришлось бы, может быть, сделать тому, кто, находясь в его положении, но не владея его средствами, захотел бы все-таки сделать описание своего путешествия общезанимательным». И. Льховский видел заслугу Гончарова в легкости, поэтичности и оригинальности: «Классически простое, ясное и веселое, как день, изложение путевых впечатлений и наблюдений человека, одаренного оригинальным умом, поэтическим талантом и глубоко русской природой, всегда найдет ценителей не только в кругу дилетантов, но и в кругу читателей, занятых вовсе не литературными интересами или не сознающих еще этих интересов…»[198].
А. В. Дружинин отмечал, что в своих путевых заметках Гончаров «оригинален и национален, оттого его последняя книга читается с великим наслаждением»[199]. Им вторил и Д. И. Писарев: в книге Гончарова «читатель находит ряд картин, набросанных смелою кистью, поражающих своей свежестью, законченностью и оригинальностью»[200]. Современники как будто впервые получали от книги путешествия истинно эстетическое наслаждение — и удивлялись способности автора к легкому непринужденному рассказу, основанному, по мнению Дружинина, на том, что писатель, посещая дальние страны, остается на родной почве. Вряд ли и сам автор поначалу мог оценить глубину и масштабность той общей картины, которая складывалась у него из его «наблюдений». Более того, впоследствии гончаровская книга и вовсе стала восприниматься как «простое описание дальнего плавания, содержание которого определялось, с одной стороны, культурными интересами автора, а с другой — объективными данными, так сказать, географического порядка.
Книга была занесена в разряд географических сочинений…»[201]. Глубина вольно и невольно пробивавшейся сквозь отдельные авторские «наблюдения» концепции жизни и человека не была замечена: «Удивлялись точности отдельных описаний, отдавали должное отдельным картинам тропической природы, но еще более говорили об убожестве гончаровского мировоззрения, о тривиальности его вкусов…»[202]. С конца 60-х годов XIX века «книга, строго говоря, была забыта. Она перестала ощущаться как литературное произведение. А между тем она, конечно, представляет собой замечательное явление именно в области художественной литературы, — писал в 1935 году Б. Энгельгардт. — Она занимает свое особое место в истории жанра путешествий, где очень трудно подыскать к ней аналогию во всей европейской литературе…»[203]. Переходя от биографического плана гончаровского путешествия в концептуальный, необходимо прежде всего уяснить, что длительное плавание на «Палладе», ознакомление с жизнью разных стран и народов способствовало окончательной выработке мировоззрения Гончарова, созданию единой, цельной, религиозной в своей основе картины мира. Существующие на сегодняшний день попытки расширительного толкования книги «Фрегат „Паллада“» (а то, что книгу однозначно следует воспринимать как масштабную, философскую по мысли, чувствовали все, кто обращался к ее изучению) сводятся в конечном итоге к двум положениям.
Весьма долгое время эту масштабность, вытекающую из заявленной самим Гончаровым параллели «между чужим и своим», искали в сопоставлении двух культур, двух типов цивилизаций: «патриархально-феодальной» и буржуазной[204]. Рядом с этим (и на той же социологической основе), с легкой руки Б. М. Энгельгардта, появились попытки прочесть книгу как «роман», тесно связанный с романной трилогией Гончарова: «И здесь и там одно и то же противопоставление: трезвой, реалистической, деловой идеологии лавочника — „обломовщине“… Только взаимоотношение между обоими членами противопоставления различно. В романе весь передний план занят великолепно осуществленным образом барина, а лавочнику отведено место на втором плане… В очерках путешествия, напротив: образ лавочника вырастает до идеально величавых размеров, а путешественник показан очень скромно»[205].
Наконец, пришло осознание того, что «это книга очерков, тесно спаянных авторской концепцией. И. А. Гончаров не просто стремился сообщить определенную информацию о быте, нравах, истории, произведениях искусства разных стран, но ставил перед собой поистине грандиозную задачу — представить цельную картину мира, в основе которой лежала разработанная писателем концепция мировой жизни»[206].
Однако какова же эта «концепция мировой жизни»? К чему она сводится? В. А. Недзвецкий в статье «Фрегат „Паллада“» И. А. Гончарова как «географический роман» определяет главное в книге как «отстоявшиеся и многократно повторявшиеся в быте и нравах национальные (континентальные) „образы жизни“… а также авторский идеал или, как предпочитал выражаться романист, „норма“ социального и межнационального общежития»[207].
Концепция В. А. Нед звецкого основана на термине М. М. Бахтина «географический роман», употребляемый исследователем в отношении к античному роману. До настоящего современного романа книга Гончарова «не дотягивает» ввиду отсутствия любовного сюжета[208].
Е. А. Краснощекова снова пытается вывести разговор о «Фрегате „Паллада“» в широкое философское русло: «Пафос этой книги Гончарова традиционно трактуется специалистами в рамках узколитературных… Масштаб и глубина книги Гончарова явно недооцениваются (не находится места ее философско-историческим и собственно психологическим аспектам)…»[209].
На наш же взгляд, «Фрегат „Паллада“» — книга в каком-то смысле имеющая более выраженный характер обобщения, чем любой роман из гончаровской трилогии. Она лишь частью своей примыкает к романам Гончарова, но носит благодаря своей свободной очерковой форме и прямому выражению авторских симпатий и антипатий более открытый характер. Помимо открытости, ее достоинством является и самый высокий уровень обобщения в плане изображения «картины мира» в целом, включая проблему: «Бог и история человечества». Роман Гончарова решает иную проблему: «Бог и человек».
Во «Фрегате „Паллада“» дело не сводится и к противопоставлению цивилизаций (хотя это, бесспорно, самая заметная и последовательно проводимая автором тема). Главное в «картине мира», изображаемой романистом, есть раздумья над Промыслом Божиим о человечестве. История построения человеческой цивилизации у Гончарова как человека религиозного осмысливается с христианских позиций. Во «Фрегате „Паллада“» писатель заканчивает осмысление проблемы «Христианство и культура», начатой в «Письмах столичного друга к провинциальному жениху» и переводит ее в более широкий план: «Христианство и история», «Христианство и цивилизация», «Христианство и прогресс». Прогресс человечества автор пытается осмыслить в рамках размышлений о конечных (религиозных) целях человеческой истории, в рамках размышлений о тех задачах, которые поставлены перед человеком и человечеством Самим Творцом. Каковы же эти задачи? Каков высший долг (перед Богом) человека и человечества — в рамках земной истории?
Как видим, Гончаров не старается заглядывать за рамки земной истории человечества, не судит о посмертной судьбе человека и всего мира. Эти вопросы он принципиально отсекает, оставляя их ведению тех, кто может судить об этом более компетентно. В этом — принципиальное отличие его от писателей типа Ф. М. Достоевского. Автор «Обломова» судит лишь о подготовительном этапе в Царствие Небесное, да и то не акцентирует, что обычное поведение человека в быту, в повседневной жизни есть целый ряд проявлений его как христианской личности.
В книге Гончарова вопрос о конечных задачах человеческой истории решается в двояком плане: во-первых, автор выясняет роль отдельных наций в развитии человечества и его истории, а во-вторых, пытается осмыслить проблему Божьего Замысла о человечестве и его земной жизни. Исходит писатель из того, что, по словам Петра Адуева, «нас там пока еще не спрашивают» (значит, Бог предусмотрел активную человеческую деятельность на земле), и из того, что земная жизнь есть лишь этап подготовки отдельного человека и всего человечества к жизни вечной. Для Гончарова как для православного человека это звучит аксиоматично.
Чаще всего вопрос о роли отдельных наций в истории рассматривался современниками Гончарова в рамках гегелевской концепции, согласно которой каждый новый период в развитии мировой истории и культуры связан с расцветом той или иной нации. В свое время эту концепцию развивал в своих критических статьях В. Г. Белинский. Отголоски ее встречаются и в книге М. М. Стасюлевича «Опыт исторического обзора главных систем философии истории» (которую Гончаров, несомненно, знал). Стасюлевич писал здесь, что каждый народ «выполняет свою роль: как атом, вместе с другими себе подобными составляет целое, называемое человечеством»…[210] Писал в этом же духе и Ф. М. Достоевский: «Судьба распределила между ними (народами. — В. М.) задачи: развить ту или другую сторону общего человека… только тогда человечество и совершит полный цикл своего развития, когда каждый народ, применительно к условиям своего материального состояния, исполнит свою задачу»[211]. Эта мысль определяла во многом гончаровский патриотизм, его размышления о задачах русского общества в целом и русского человека-деятеля как представителя своей нации. В «Необыкновенной истории» сказано: «Каждая нация рождается, живет и вносит свои силы и работу в общую человеческую массу, изживает свой период и исчезает, оставив свой неизгладимый след!»[212]. Устами Чешнева в очерке «Литературный вечер» романист говорит о необходимости «каждому народу переработать все соки своей жизни, извлечь из нее все силы, все качества и дары, какими он наделен, и принести эти национальные дары в общечеловеческий капитал! Чем сильнее народ, тем богаче будет этот вклад и тем глубже и заметнее будет та черта, которую он прибавит к всемирному образу человеческого бытия»[213].
Правда, Гончаров затрудняется определить точно ту «русскую идею», которая призвана дополнить «всемирный образ человеческого бытия». В отличие, например, от Достоевского, склонявшегося даже к идее мессианства, автор «Обрыва» не знает, в чем точно выразится участие русского народа в общечеловеческом прогрессе. Лишь однажды в словах писателя промелькнет какой-то слабый намек. В письме к С. А. Толстой от 11 ноября 1870 года он заметил: «Никогда Россия, говоря по-французски и по-английски, не займет следующего ей места, то есть центра и главы славянских народов…» (VIII. 436–437). Впрочем, подобная мысль является своеобразным «идеологическим штампом» того времени, а кроме того, она могла появиться и под влиянием момента (речь идет о русско-турецкой войне и судьбах славянства). В упомянутом письме он говорит о том, что пока Россия вносит свой вклад в общечеловеческое развитие «через национальность» — «как-то вяло и лениво».
Не представляя конкретно, в чем выразится участие русского народа в общечеловеческом прогрессе, в движении к «этому общему идеалу человеческого конечного здания» (VIII. 438), художник в то же время четко сформулировал те условия, которые делают это участие реальной возможностью. Он пишет о том, что необходимо иметь развитую «русскую науку, свое искусство, свою деятельность» (VIII. 437). Гончаров хочет видеть свою родину сильным, самостоятельным государством, способным конкурировать с сильными державами, а это уже даст России «ту моральную силу, какую имеют Англия, Франция, Германия, Италия и имели по очереди все старые государства!» (VIII. 437). Он считает, что пока такие условия не созданы: «У нас не заговорила еще своя, русская наука, свое искусство, своя деятельность!» (VIII. 437).
В основу своих мечтаний о сильной России писатель положил мысль о необходимости подвижнического, упорного «цивилизаторского» труда. Яснее всего это как раз и выражено во «Фрегате „Паллада“», в «сибирских» главах этой книги. Путешествие заставило Гончарова много и напряженно размышлять над ролью России в процессе творческого обновления общечеловеческой жизни. Сибирь увидена им в масштабном контексте всемирного движения к «цивилизации». Побывав в Европе, Африке и Азии, писатель всюду наблюдал оживление, вносимое в жизнь «деловым англичанином». Его размышления о преобразующем труде русского подвижника в Сибири потому и оказываются столь философскими по духу, что за ними постоянно ощущается всемирный «контекст». В главе «Из Якутска», например, автор пишет: «Несмотря, однако ж, на продолжительность зимы, на лютость стужи, как все шевелится здесь, в краю! Я теперь живой, заезжий свидетель того химически-исторического процесса, в котором пустыни превращаются в жилые места, дикари возводятся в чин человека, религия и цивилизация борются с дикостью и вызывают к жизни спящие силы» (III. 379). Развитие цивилизации в Сибири писатель-путешественник рассматривает как национально самобытный вариант «прогресса», подчеркивая различия с «цивилизаторской» деятельностью англичан и американцев, представляющих западноевропейские католические и протестантские государства, Он прямо говорит о «русском, самобытном примере цивилизации, которому не худо бы поучиться некоторым европейским судам, плавающим от Ост-Индии до Китая и обратно» (III. 387).
Важно подчеркнуть, что в своих описаниях сибирской деятельности русского человека Гончаров постоянно имеет в виду не только практические результаты этой деятельности, но и ту задачу, которую выполняет русский народ как свой «долг» перед человечеством. Он подчеркивает: «И когда совсем готовый, населенный и просвещенный край, некогда темный, предстанет перед изумленным человечеством, требуя себе имени и прав, пусть тогда допрашивается история о тех, кто воздвиг это здание… Это те же люди, которые в одном углу мира подали голос к уничтожению торговли черными, а в другом учили алеутов и курильцев жить и молиться — и вот они же создали, выдумали Сибирь, населили и просветили ее и теперь хотят возвратить Творцу плод брошенного им зерна» (III. 379), Таким образом, Сибирь, «населенная и просвещенная», мыслится Гончаровым как «вклад в общечеловеческий капитал» и как возвращение православной Россией «долга» Творцу.
Что касается второй части вопроса — о долге всего человечества перед Богом, о промыслительном смысле человеческой истории, то Гончаров делает упор на необходимости и неотменимости прогресса, цивилизации, о важности для христианства правильно налаженной жизни общества, социума. Здесь он вступал на зыбкую почву «культурных» по духу размышлений, на которые Церковь не дает однозначных ответов. Церковь дает ясный ответ лишь на вопрос о нравственном прогрессе; и здесь Гончаров всегда выражал именно церковную каноническую точку зрения. Он многократно высказывал ту мысль, что в своем нравственном развитии человечество будет стремиться к идеалу, указанному Христом, В предисловии к роману «Обрыв» он писал: «В нравственном развитии дело состоит не в открытии нового, а в приближении каждого человека и всего человечества к тому идеалу совершенства, которого требует Евангелие» (VIII. 156–157). В другом месте он пишет: «Напрасно Бокль и подобные ему мыслители хотят измерить человеческий прогресс только мерилом знания — и в нем одном слить совершенствование человечества! Нравственное несовершенство, конечно, частью зависит от неведения, но большею частью и от дурной и злой воли. А победа последней достижима не одним только ведением, но и силою воли! А потому заповеди и евангелие будут на этом пути единственными руководителями!» (VIII. 156),
Но в отличие от многих своих современников Гончаров никогда не отрицал необходимости и прогресса внешнего: технического, научного. Писатель серьезно следил за развитием науки. В предисловии к «Обрыву» он заметил: «Нельзя жертвовать серьезными практическими науками малодушным опасениям незначительной части вреда, какая может произойти от свободы и широты ученой деятельности. Пусть между молодыми учеными нашлись бы такие, которых изучение естественных или точных наук привело бы к выводам крайнего материализма, отрицания и т. и. Убеждения их останутся их личным уделом, а учеными усилиями их обогатится наука» (VIII. 156). Центральным вопросом в книге путешествия для него и оказывается вопрос о цивилизации как проявлении христианства, христианского отношения к жизни. Православная Россия, католическая и протестантская Западная Европа и христианские миссионеры в Азии и Сибири демонстрируют — при всех издержках цивилизации и цивилизаторства — именно единство цивилизации и христианства. Это коренная мысль «Фрегата „Паллада“». В книге перед нами разворачивается широкая картина изменения мира, все более могучего распространения христианства и внешней формы его бытования в мире — европейской (христианской) цивилизации.
С точки зрения Божьего замысла о человечестве и его истории, книга ясно показывает, что в основу своих размышлений об этом Гончаров положил мысль: Бог дал человеку сотворчество. Задача человечества — научиться творчески преобразовывать мир, «превращать пустыню в сад». Заметим, кстати, что образ сада в этом смысле — сквозной для всего гончаровского творчества.
В совершенно иной смысловой плоскости развивает этот образ-символ Ф. М. Достоевский в «Братьях Карамазовых». Старец Зосима говорит: «Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад Свой, и взошло все, что смогло взойти, но взращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего с таинственным миром иным»[214]. Если для Гончарова важен человек-работник, человек-цивилизатор, выполняющий задание Бога по превращению пустыни в Сад, то Достоевский пишет о другом: Бог Сам взращивает Свой сад. Человек в этом саду — лишь его живая часть, ощущающая свою связь с Творцом. В этих подходах отразились две стороны Православия: творчески-созидательная и мистическая.
Превращение пустыни в Сад Гончаров наблюдает в разных точках земного шара, легко подверстывая этот процесс в свою расширительно толкуемую концепцию «сна» и «пробуждения». В основе основ здесь лежит мысль о преображающей творческой деятельности, о внутреннем, духовном преображении человека, где идеал — Евангелие, и о внешнем цивилизационном преображении мира, где идеал — задача: вернуть Богу плод брошенного Им зерна[215].
В подобном соединении религии с цивилизацией, с земной историей человечества Гончаров был некоторым исключением и предвосхищал русских мыслителей Серебряного века. Церковь открыто не отрицала, но и не акцентировала важности исторического цивилизационного творчества. Немногие представители церкви напоминали о словах Апостола: «Каждый оставайся в том звании, в котором призван» (1 Кор. 7, 20)[216].
Романисту весьма близки оказались бы рассуждения Ы. А. Бердяева, С. Л. Франка и других философов русского зарубежья, пытавшихся размышлять именно о проблеме: христианство и история. «Христианство, — писал Н. А. Бердяев в статье „Царство Божие и царство Кесаря“, — не может внешне относиться к историческим кризисам, переворотам и переломам, не может рассматривать их как движение мертвой материи, никакого отношения не имеющее к жизни духа, к движению духа. Христианство имеет универсальную природу, оно объемлет все, все происходящее в мире с ним связано и ему подчинено… Мы перестали понимать церковный смысл исторических событий, потому что утеряли интегральную, космическую идею Церкви. Рационалистическое и номиналистическое сознание превратило Церковь в учреждение, существующее дифференциально наряду со всем остальным»[217]. Гончаров был среди немногих, кто в середине XIX века осмысливал жизнь христианства и Церкви в историческом ракурсе.
Таким образом, гончаровская книга оказывалась необъятно масштабной в своей попытке показать, в чем заключается смысл истории и что являет собою человеческая история на современном этапе. Эта мысль теснейшим образом оказывалась связанной и с его последующими романами «Обломов» и «Обрыв».
Нужно сказать, что Гончаров готовил к публикациям свои очерки «вразбивку», не всегда представляя себе целое и его глубинный смысл. Но то, что получилось в итоге, свидетельствует о необычайной целостности мировидения автора, его концентрированности и концептуальности. Интуитивный художнический взгляд Гончарова во время путешествия, стало быть, уже был отточен и сосредоточен на самых существенных моментах происходивших «тектонических изменений» исторического ландшафта. Тем самым Гончаров подтверждает свою репутацию не просто вдумчивого художника, обладающего повышенной тягой к обобщениям, но по-своему гениальную способность возводить пластически изображенные частности в «перл создания». Уровень его обобщений поражает: Гончаров увидел мир как «творческую лабораторию» Бога-Творца и человечества. Но еще более поражает, что во время путешествия и собирания из отдельных очерков книги Гончаров вряд ли размышлял о конечном идеологическом результате своего художественного эксперимента. Перед нами — невиданный всплеск художественной интуиции, сосредоточенной на мысли о конечных (т. е. религиозных) целях человеческого существования.
Любовь как христианский поступок
К середине 1850-х годов относится вспышка сильного чувства к Елизавете Васильевне Толстой, знакомой Гончарову еще по кружку Майковых. Хотя и весьма трудно касаться столь тонкого и интимного чувства писателя, не следует забывать, что в подобных проявлениях человеческой натуры едва ли не прежде всего проявляется религиозный настрой личности. В одном из писем к своему близкому другу Анатолию Федоровичу Кони он признавался: «Пустяками между прочим я назову те драмы, героинями которых являются в жизни мужчин — женщины. Женщины, конечно, играют огромную роль, но это тогда весело, удобно, приятно, когда сношения с ними имеют значения комедий. Тогда это придает dit fixe[218] жизни, бодрость, игру, живется легко, не мешает делу и делам. Но беда, когда мужчина примет любовь en serieux[219] и начинает любить „горестно и трудно“… Именно такие драмы уносят лучшие наши силы, можно сказать, обрывают цвет сил и отводят от дела, от долга, от призвания.
Последнее все я говорю про себя: поклонник, по художественной природе своей, всякой красоты, особенно женской, я пережил несколько таких драм и выходил из них, правда, „небритый, бледный и худой“, победителем, благодаря своей наблюдательности, остроумию, анализу и юмору. Корчась в судорогах страсти, я не мог в то же время не замечать, как это все, вместе взятое, глупо и комично. Словом, мучаясь субъективно, я смотрел на весь ход такой драмы и объективно — и, разложив на составные части, находил, что тут смесь самолюбия, скуки, плотской нечистоты, и отрезвлялся, с меня сходило все, как с гуся вода.
Но обидно то, что в этом глупом рабстве утопали иногда годы, проходили лучшие дни для светлого, прекрасного дела, творческого труда. Я и печатно называл где-то такие драмы — болезнями. Да, это в своем роде моральный сифилис, который извращает ум, душу и ослабляет нервы надолго! Просто недостойно человека! Это вовсе не любовь, которая (то есть не страсть, а истинно доброе чувство) так же тиха и прекрасна, как дружба».
Если нам что-нибудь и известно о Елизавете Толстой, то только благодаря тому, что она не прислушалась к просьбе писателя: уничтожить его письма. Напротив, она их бережно сохранила и передала как особую ценность по наследству. Опубликованные в 1913 году П. Н. Сакулиным, они ярко рисуют отношения романиста и совсем еще молодой женщины. Тридцать два письма Гончарова выстраиваются в короткий, но ярко вспыхнувший роман, исполненный зрелой страсти, духовных и душевных упований, надежд и… сознания собственного бессилия…
Этот роман лишь условно можно назвать романом как таковым, ибо Гончаров сгорал в костре страсти один… Судя по письмам Ивана Александровича, на которые он получал в ответ лишь иногда редкие и скупые слова, обозначенные легкомысленным юным тщеславием, характер Елизаветы Васильевны, привыкшей к поклонению, не был гармоничным.
Какое-то странное противоречие было в нем. Может быть, нечто похожее мы видим в Ольге Ильинской, которая, казалось бы, куда как высоко стоит по сравнению с Агафьей Пшеницыной, женщиной слишком простой и неодухотворенной, — а вот христианского долга, о котором она столь много говорит в романе Илье Обломову, так и не выполнила, не спасла его душу… В Ольге доминирует тщеславие молодой женщины, способной оживить уже немолодого мужчину, вдохнуть в него жизнь. Эта способность, неожиданно явившаяся для нее самой, поражает ее воображение, вызывает прилив сил, желание поиграть этой страшной для мужчины силой.
Но способность не воплощается в великом деле спасения души. Драма романа любовного в «Обломове» именно в этом: созидательная сила, не сознав своего долга, отступила — и стала разрушительной. То же было и в жизни Гончарова. Елизавета Толстая была младше его на пятнадцать лет. Ей нравилось, конечно, что большой, получивший известность в России писатель, словно юноша, весь поглощен чувством к ней. В одном из писем она написала Ивану Александровичу: «Можно гордиться дружбою такого человека»[220].
Письма Гончарова поражают силой и полнотой чувства. Он говорит о «магнетизме глаз, вибрации голоса» — обо всем, «чем Вы так могущественно на меня действуете». В другом письме снова: «Сияющий умом и добротой взгляд… мягкость линий, так гармонически сливающихся в волшебных красках румянца, белизны лица и блеска глаз»[221].
Как это благоговейное чувство к изящному, грациозному, «артистическому созданию», должно быть, напоминало в жизни Илью Обломова с его наивно-детским восхищением красотой Ольги Ильинской! В русской классике нет аналога выражения сильнейшей в своей почти детской наивности влюбленности: «Боже мой, какая она хорошенькая! Бывают же такие на свете! — думал он, глядя на нее почти испуганными глазами. — Эта белизна, эти глаза, где как в пустыне, темно и вместе блестит что-то, душа, должно быть! Улыбку можно читать, как книгу; за улыбкой эти зубы и вся голова… как она нежно покоится на плечах, точно зыблется, как цветок, дышит ароматом… Боже мой, какое счастье смотреть на нее! Даже дышать тяжело» (4. 2, гл. V). Это счастье «смотреть на нее» постоянно ощущается в гончаровских письмах…
Но, как и в романе, красота героини — лишь внешняя сторона дела, и мы бы не поняли Ивана Гончарова, автора бессмертного христианского романа «Обломов», если бы свели все дело к красоте Ольги Ильинской и Лизы Толстой. Нет, не только в белизне лица, чудесных глазах, чудной вибрации голоса, внешнем изяществе и грациозности дело.
В любви Гончарова присутствовал, несомненно, высокий христианский, почти недосягаемый по высоте запросов мотив — спасения души. Все — как в его «Обломове», где сказано: «Она укажет ему цель, заставит полюбить опять все, что он разлюбил… Он будет жить, действовать, благословлять жизнь и ее. Возвратить человека к жизни — сколько славы доктору, когда он спасет безнадежно больного! А спасти нравственно погибающий ум, душу? Она даже вздрагивала от гордого, радостного трепета; считала это „роком, назначенным свыше“» (Ч. 2, гл. VI). Точно так и Иван Александрович, лишь окружающим казавшийся благополучным человеком, а внутренне ощущавший себя созданием погибающим (почти безнадежным, судя по его письмам ко многим знакомым — например, к И. И. Льховскому, С. А. Никитенко), ждал от своей любви нравственного потрясения, пробуждения… Значит, было в Елизавете Васильевне нечто и кроме кокетства и легкомыслия? Гончаров пишет о себе и о ней в третьем лице: «Я часто благословляю судьбу, что встретил ее: я стал лучше, кажется, по крайней мере с тех пор, как знаю ее, я не уличал себя ни в одном промахе против совести, даже ни в одном нечистом чувстве: мне все чудится, что ее кроткий карий взгляд везде следит за мной, я чувствую над своей совестью и волей постоянный невидимый контроль»[222]. В устах Гончарова это звучит более чем серьезно. Да, здесь поистине задача полного обновления жизни…
А что же героиня? По силам ли ей взвалить на себя такую тяжкую ношу? Да еще при ее молодости? Обратимся снова к роману: «И все это чудо сделает она, такая робкая, молчаливая, которой до сих пор никто не слушался, которая еще не начала жить! Она — виновница такого превращения!» (Ч. 2, гл. VI). Великая сила дана женщине над мужским сердцем. Тем величественнее ее нравственная задача: спасти душу, обновить в человеке жизнь. Задача тяжелая, ее не выполнить, опираясь лишь на женское тщеславие и самолюбие. Нужно еще любить другого человека, причем не только как мужчину, но и как душу христианскую. Ольга Ильинская не справилась, хотя и размышляла об этой задаче: «Жизнь — долг, обязанность, следовательно, любовь — тоже долг: мне как будто Бог послал ее, — досказала она, подняв глаза к небу, — и велел любить» (Ч. 2, гл. IX). Елизавета Толстая и не ставила перед собой такой задачи. Она светила Гончарову отраженным светом его собственных надежд и упований. Он хотел видеть в ней то, чем она не являлась и что ей было не по силам. Он пытался пробудить в ней сочувствие: «Ужели вы без любопытства посмотрите на эту борьбу, из которой ему выйти поможет только или забвение героини, или ее горячее участие»[223],
Илья Обломов лишь на миг единый воскрес и обновился, а потом впал снова в сон и апатию. Как это похоже на то, что было у самого автора с Елизаветой Толстой! «Чувствую, однако ж, что апатия и тяжесть возвращаются понемногу ко мне, а Вы, было, своим умом и старой дружбой расшевелили во мне болтливость»[224]. И в другом, более позднем письме: «При Вас у меня были какие-то крылья, которые отпали теперь»[225].
Причина неудачи во многом сходна с той, что видна и в «Обломове»: героиня «не дотягивает» до идеала, ибо и сама задета обломовщиной, только иного рода. У каждого она своя. У Ольги Ильинской есть тщеславие, но не хватает христианского смирения и любви, чтобы нести крест[226].
Понимает Иван Александрович, что и Лиза Толстая, как Ольга, горда и тщеславна, что не дано ей правильного, полного понимания того, что есть любовь. Отсюда без конца в письмах к ней неожиданные, суровые, хотя и быстро преходящие мотивы и нотки: «Вы ленивы. Вы рассеянны, Вы живете только под влиянием настоящего момента… Вы — притворщица, Вы — только самолюбивы, и в привязанностях Ваших не лежит серьезного основания, т. е. теплого и сердечного» или еще: «Суетность, тщеславие…»[227]. Любопытно, что письма к Елизавете Толстой, кажется, неожиданно обнаруживают знакомство Гончарова со святоотеческой литературой и уж в любом случае свидетельствуют о глубоко религиозном восприятии жизни и любви. Речь идет об одной параллели с текстом преп. Макария Великого.
В писаниях преп. Макария Великого есть одно место, где он говорит о взаимоотношениях мира и человека в том смысле, что соприкосновение с миром ведет человека к нравственным потерям: «Если же подобными местами проходит человек нерадивый, ленивый, беспечный, неповоротливый, недеятельный — то хитон его, развеваясь туда и сюда… рвется об сучки и тернии или загорается от огня, или изрезывается вонзенными мечами, или грязнится в тине… Если же кто по недеятельности и беспечности невнимательно ходит в жизни сей и по собственной своей воле не отвращается от всякого мирского вожделения… то хитон тела его рвется от терний и дерев мира сего, опаляется огнем вожделения, оскверняется грязью удовольствий»[228]. Святые отцы часто пользовались для выражения своих мыслей метафорами. В данном случае тело человека сравнивается с платьем его, с «хитоном», который рвется и загрязняется от невнимательного отношения к «миру сему». Любопытно, что И. А. Гончаров, говоря о горестях своей любви к кокетливой и молодой Е. В. Толстой, упоминает «пробел в нравственном воспитании» и пользуется тем метафорическим образом, который восходит к прел. Макарию: «Оттого, может быть, что она слишком хороша собой, а поклонники слишком искательны, настойчивы, живы, любезны, кладут к ее ногам все: она нет-нет, да наконец и сжалится… Она, если ты прав в своих догадках насчет этого юноши, разбрасывает сокровища, которые при других обстоятельствах должны быть достоянием одного счастливца. Мужчины как терновые кусты: женщина, пробираясь между толпой их неосторожно, как на кусте, на каждом оставит по клочку платья, т. е. женского достоинства. И если долго будет бродить между ними, то можешь сам вообразить, в каком положении выйдет оттуда»[229]. Гончаров, разумеется, не повторяет дословно слова преп. Макария, но, вероятнее всего, сам образ платья, которое от невнимательности, неосторожности хозяина его рвется о тернии, писатель позаимствовал в «Добротолюбии». Судя по всему, перед нами одно из наиболее ранних свидетельств чтения Гончаровым святых отцов. Некоторые прямые свидетельства чтения св. отцов Гончаровым в «Обрыве» находятся. Но, как видим, и до 1860-х гг. романист скорее всего уже знакомился с творениями св. отцов, выходившими в России.
Итак, Гончаров трезво смотрел на недостатки Елизаветы Васильевны Толстой, но недаром ведь сказано в «Обломове», что «любовь менее взыскательна, чем дружба, она даже часто слепа, любят не за заслуги…» (Ч. 4, гл. IV). То же и в письмах к ней: «Ах, сколько бы я исписал страниц, если б вздумал исчислять Ваши недостатки, сказал бы я, но скажу достоинства…»
Несомненно, что при всех ясно сознаваемых недостатках Елизаветы Васильевны Толстой Гончаров видел в ней женщину, способную серьезно изменить его жизнь, придать ей смысл и значение. Его любовь к молодой женщине была столь же сильна, сколь и беззащитна. Уже зная почти наверняка, что она выйдет замуж за другого (не сразу открыла ему это Елизавета Васильевна, придав его мучениям продолжительность), он в одном из писем вдруг обнаруживает, как далеко он сам зашел в этой любви к ней, обнаруживает без привычной осторожности, без недомолвок, без ложного самолюбия. Сила его любви проникнута истинно христианским смирением и простирается до смертного порога: «Прощайте же… не теперь, однако ж, а когда будете выходить замуж или перед смертью моей или Вашей… А теперь прощайте… до следующего письма, мой чудесный друг, моя милая, умная, добрая, обворожительная… Лиза!!! вдруг сорвалось с языка. Я с ужасом оглядываюсь, нет ли кого кругом, почтительно прибавляю: прощайте, Елизавета Васильевна: Бог да благословит Вас счастьем, какого Вы заслуживаете. Я в умилении сердца благодарю Вас за Вашу дружбу…»[230].
Это уже прямо по Пушкину, искренне, от сердца идущее пожелание: «Дай Вам Бог любимой быть другим…» Гончаров поступает и чувствует так, как должен бы поступать и чувствовать православный человек, как, вероятно, должен чувствовать его «джентльмен» или «порядочный человек». И чувства великодушия, кротости, проявленные им, оказались не просто словами. Когда над будущностью Елизаветы Васильевны нависнут тучи и нужно будет преодолеть церковные установления для разрешения брака с тем самым соперником, о котором столько написано было в ее дневнике (а это был двоюродный брат Толстой — Александр Илларионович Мусин-Пушкин), именно Гончаров поможет молодым влюбленным.
Вся эта драма разыгралась стремительно — с конца августа до конца декабря 1855 года. Были, правда, написаны еще письма и после Нового года, но они уже не в счет: в них только долг вежливости, стремление соблюсти «форму». А полный душевный провал обнаружился гораздо ранее (первые признаки понимания происходящей личной драмы можно отметить еще в октябрьских письмах Гончарова). Такого бурного и столь полно завершенного сюжета любовной драмы у Гончарова более нет, его не дает переписка ни с одной другой женщиной. Тем более характерны проявления христианской сущности характера Гончарова.
«Обломов»
Между тем роман с Е. В. Толстой важен для нас и в творческом отношении. Известно, что коллизии этой любви породили главную психологическую линию романа «Обломов», который был задуман давно, еще в 1847 году, но к которому автор не обращался после «Сна Обломова». Причина была проста: для романа нужен был стержневой любовный сюжет. К 1857 году Гончаров был готов сесть за роман и закончить его. Должность цензора Петербургского цензурного комитета с приличным жалованьем позволяла писателю почти ежегодно проводить длительный отпуск за границей. Первый же такой отпуск, летом 1857 года, ознаменовался тем, что в Мариенбаде в течение семи недель Гончаров завершил своего «Обломова». Критика назвала это «мариенбадским чудом».
Роман вышел сначала в журнале «Отечественные записки» (№№ 1–4 за 1859 год), а затем и отдельным изданием. Успех превзошел все ожидания Гончарова. Недаром И. С. Тургенев сказал о романе: «Пока останется хоть один русский — до тех пор будут помнить Обломова»[231]. Было ясно, что «Обломов» — произведение нерядовое. В самом деле, роман имеет необычный даже для русской классической литературы масштаб обобщения. В нем выразился в наиболее полном виде русский национальный мента литет. Недаром JLH. Толстой написал А. В. Дружинину 16 апреля 1859 г.: «Скажите Гончарову, что я в восторге от „Обломова“ и перечитываю его еще раз. Но что приятнее ему будет — это то, что „Обломов“ имеет успех не случайный, не с треском, а здоровый, капитальный и не временный в настоящей публике»[232]. Философ В. С. Соловьев считал, что Гончаров создал «такой всероссийский тип, как Обломов, равного которому по широте мы не находим ни у одного из русских писателей»[233].
До сих пор роман «Обломов» рассматривался прежде всего с социальной точки зрения. Этот подход не лишен оснований. Первые отклики на выход романа одновременно дали симбирский адвокат и журналист Н. Соколовский[234] и критик Н. А. Добролюбов. Еще до выхода в свет статьи Н. А. Добролюбова «Что такое обломовщина?» Н. Соколовский первым поставил Илью Обломова в ряд «лишних людей» и обратил внимание на необходимость анализа социальной стороны романа.
Н. А. Добролюбов исчерпывающе рассмотрел явление «обломовщины», проецируя его как на современную социальную ситуацию (крепостное право), так и на особенности личностной психологии человека. Вместе с тем статья Добролюбова — образец глубокого эстетического анализа, чем он поразил автора «Обломова», писавшего: «Да как же он, не художник, знает это?.. Такого сочувствия и эстетического анализа я от него не ожидал, воображая его гораздо суше» (VII. 276).
Для Н. А. Добролюбова Обломов прежде всего — чисто социальный тип, классический носитель «обломовщины», олицетворение неподвижности, косности, да и элементарной лени. Для А. В. Дружинина гончаровский Обломов — национальный и эстетический тип, герой созерцательно-поэтического склада, милый и симпатичный человек. В Илье Ильиче Дружинин видит много положительного, истинно поэтического. Он обращает внимание на то, что Гончаров поистине любит своего героя и не только критикует его, но и любуется им.
Статьи Добролюбова и Дружинина зафиксировали два во многом противоположных, но и дополняющих друг друга подхода к роману «Обломов». Национальное у Гончарова объясняет поведение человека едва ли в меньшей степени, чем социальное. Размышления о достоинствах и противоречиях русского характера в «Обломове» оттенены параллелью Ильи Обломова с русским немцем Андреем Штольцем.
Но роман «Обломов» ориентирован не только на социально-историческую и национальную проблематику. Несомненно, высшей художественной задачей для Гончарова было дать нравственный христианский идеал человеческой личности. С этой точки зрения драматическая коллизия романа — это коллизия самопознания и попыток борьбы с самим собой доброго, но гибнущего человека. Это христианская сердцевина романа, в котором у Обломова нет явных врагов, нет борьбы с какими бы то ни было противниками. Вся борьба замыкается на самом себе, происходит в душе Ильи Ильича. Остальные герои так расставлены автором в композиции романа, что они лишь оттеняют и иллюстрируют эту внутреннюю борьбу Обломова с самим собой. Штольц в этом плане хотя и обладает противоположными качествами характера, натуры, менталитета, но вовсе не является врагом Обломова, «конфликтующей стороной». Это служебная фигура, введенная в роман для поучительного и достаточно мягкого сопоставления, но не противопоставления.
Точно так же Агафья Матвеевна вовсе не входит в конфликт с Ольгой Ильинской. Это конфликт в душе Обломова. Даже Тарантьев, которому Обломов дает пощечину, вовсе не враг Ильи Ильича, а всего лишь дополняющий его «двойник». Не случайно, когда роман заканчивается, все продолжает крутиться вокруг Ильи Ильича Обломова. Его вспоминает добрым словом Захар, к нему на могилу ходит и молится о нем Агафья Матвеевна, живущая лишь памятью об Илье Ильиче, который просиял в ее жизни, как солнце. Штольц и Ольга Ильинская воспитывают ребенка Ильи Ильича. Обломову не с кем конфликтовать в романе: его фигура столь велика, что она как бы вбирает в себя всех остальных героев, которые лишь акцентируют и оттеняют драматизм главного конфликта романа: Обломов против Обломова.
Драматизм этой борьбы не просто велик: речь идет о смысле жизни человека. Вопрос же смысла человеческого бытия для Гончарова однозначно разрешается в религиозном ключе, хотя и опосредуется вопросами общественного и нравственно-личностного существования героя. Стало быть, как и в романе «Обыкновенная история», в «Обломове» содержится религиозная задача.
* * *
Более ста лет назад Д. С. Мережковский попытался определить своеобразие религиозности Гончарова-писателя: «Религия, как она представляется Гончарову, — религия, которая не мучит человека неутолимой жаждой Бога, а ласкает и согревает сердце, как тихое воспоминание детства»[235].
Действительно, христианство присутствует в романах Гончарова стилистически сдержанно, неакцентированно. Однако за этим спокойствием, как всегда у автора «Обломова» — а позже А. П. Чехова, — скрывается глубинный трагизм земного бытия человека, проблема духовной жизни и смерти. В этом смысле роман «Обломов» есть православный роман о духовном сне человека, о попытке «воскресения» и, наконец, об окончательном погружении в «сон смертный».
Герои «Обломова», конечно, не живут столь же интенсивными религиозными переживаниями, как, например, герои Ф. М. Достоевского.
Они не размышляют вслух о том, есть ли Бог; в своих духовных падениях и «обрывах» они не цитируют Евангелие, не спорят страстно о религиозных вопросах. Многие религиозные реминисценции и мотивы вообще кажутся обиходно случайными, слишком тесно связанными с бытом. Таков, например, диалог Агафьи Матвеевны Пшеницыной и ее жильца Ильи Ильича Обломова:
«— Под праздник ко всенощной ходим.
— Это хорошо, — похвалил Обломов.
— В какую же церковь?
— К Рождеству: это наш приход…» (Ч. 3, гл. IV).
Однако постепенно выясняется, что герои живут наполненной религиозной жизнью, хотя и не выставляют ее напоказ. Выясняется также, что вся нравственная проблематика романа — в узловых ее моментах — решается и разрешается автором в религиозном ключе, с точки зрения Православия[236]. Именно с этой позиции наиболее ясно и полно понимается, о каком «сне» Ильи Ильича Обломова идет речь в романе. Слово «сон» в «Обломове», несомненно, многозначно, оно несет в себе различные смыслы. Это и сон как таковой: лежание Ильи Обломова на диване стало символическим обозначением «русской лени» героя. Это и сон-греза, сон-мечта, сон-утопия, в рамках которого развиваются в романе созерцательно-поэтические мотивы. Несомненно, присутствуют ассоциации со сказкой о спящем царстве. Фольклорный пласт романа, акцентированный самим Гончаровым, упомянувшим сказку о Емеле и щуке, слишком явно проявляется в «Обломове»[237]. И то, и другое важно для понимания образа. Однако и то, и другое является лишь телесно-душевной формой проявления «сна смертного», сна духовного, «сна уныния». Этот последний сон — сон-грех, сон-падение, отнимающий у человека надежду на спасение бессмертной души. Об этом сне говорится в молитве Василия Великого: «Тем же молим безмерную Твою благость, просвети наша мысли, очеса и ум наш от тяжкого сна лености возстави».
Противоположным «сну» понятием является «бодрость», «трезвенность». В молитве Василия Великого говорится: «И даруй нам бодренным сердцем и трезвенною мыслию всю настоящего жития нощь прейти… да не падше и обленившеся, но бодрствующе и воздвижении в делании обрящемся готови…» Описывая лежащего «в лености», «падшего» на диван и «обленившегося» Обломова, Гончаров, разумеется, имеет в виду не одну лишь примитивную бытовую лень, не только лень душевную, но и духовную.
Вышедший из недр почти языческой Обломовки, усвоившей христианские истины едва ли не только с их обрядовой стороны, Обломов несет на себе ее родимые пятна. Обломовцы по-своему религиозны. Как когда-то Ларины из «Евгения Онегина»[238], Обломовы живут обрядовой стороной православного календаря: они не упоминают месяцев, чисел, но говорят о святках, Ильине дне, крестинах, поминках и т. д. «Потом потянулась пестрая процессия веселых и печальных подразделений ее (жизни. — В. М.): крестин, именин, семейных праздников, заговенья, разговенья…» («Сон Обломова»). В обряд, и только в обряд вкладываются душевные силы обломовцев: «Все отправлялось с такой точностью, так важно и торжественно».
Православие в Обломовке крайне обытовлено, затрагивая лишь плотски-душевную жизнь человека и не касаясь его духовной жизни. Отсюда столь большое место суеверий в Обломовке. Здесь любят разгадывать сны: «Если сон был страшный — все задумывались, боялись не шутя; если пророческий — все непритворно радовались или печалились, смотря по тому, горестное или утешительное снилось во сне. Требовал ли сон соблюдения какой-нибудь приметы, тотчас для этого принимались деятельные меры».
Суеверие — прямой грех с православной точки зрения. Но не только суеверием грешат обломовцы. В первой книге «Бытия» Адаму было заповедано: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: „не ешь от него“, проклята земля за тебя… В поте лица твоего будешь есть хлеб…» (Быт. 3, 17–19). Обломовцы же «сносили труд как наказание, наложенное еще на праотцев наших, но любить не могли, и где был случай, всегда от него избавлялись, находя это возможным и должным».
В Обломовке нет христианской любви к другому человеку. Это хорошо видно из эпизода, повествующего о мужике, каким-то случаем оказавшемся «за околицей». Изнемогшего от болезни человека обломовцы потрогали издалека вилами и ушли, бросив его на произвол судьбы.
Ни разу не упомянул писатель о духовных устремлениях обитателей «благословенного края». На первый план в их жизни выходит сугубо плотское начало: «Забота о пище была первая и главная жизненная задача в Обломовке». Автор подчеркивает неожиданную активность своих героев: «Всякий предлагал свое блюдо… всякий совет принимался в соображение, обсуживался обстоятельно и потом принимался или отвергался…»
Не обходит Обломовку стороной и грех праздности и осуждения: «…Играют в дураки, в свои козыри, а по праздникам с гостями в бостон… переберут весь город, кто как живет, что делают; они проникнут не только в семейный быт, в закулисную жизнь, но в сокровенные помыслы и намерения каждого, влезут в душу, побранят, обсудят недостойных…»
Лишь один-два эпизода во всем «Сне Обломова» вообще свидетельствуют о том, что религиозная жизнь не чужда обломовцам. Детство автобиографического героя Гончарова вырастает из материнской молитвы. Мать Ильи Ильича, «став на колени и обняв его одной рукой, подсказывала… ему слова молитвы. Мальчик рассеянно повторял их, глядя в окно… но мать влагала в них всю свою душу». Однако речь не идет о том, что мать Ильи Ильича является каким-то исключением в Обломовке. Ее религиозность и ее молитва за Илюшу носит совершенно определенный, тоже «обломовский» характер. О чем просит Бога она — ясно из ее отношения к воспитанию сына. В этом воспитании она выделяет прежде всего плотски-бытовую сторону: «Мать возьмет голову Илюши, положит к себе на колени и медленно расчесывает ему волосы, любуясь мягкостью их и заставляя любоваться и Настасью Ивановну, и Степаниду Тихоновну, и разговаривает с ними о будущности Илюши, ставит его героем какой-нибудь созданной ею блистательной эпопеи. Те сулят ему золотые горы».
Если пользоваться терминологией протоиерея Георгия Флоровского, то в Обломовке несомненно господствует «ночная» культура, еще тесно связанная с язычеством[239]. Георгий Флоровский пишет словно бы об Обломовке и ее специфическом христианстве: «Изъян и слабость древнерусского духовного развития состоит в недостаточности аскетического закала (и совсем уже не в чрезмерности аскетизма), в недостаточной „одухотворенности“ души, в чрезмерной „душевности“, или „поэтичности“, в духовной неоформленности душевной стихии… Крещение было пробуждением русского духа — призыв от „поэтической“ мечтательности к духовной трезвости и раздумью»[240].
Флоровский вслед за Гончаровым и русской литературой XIX века в целом акцентирует ту мысль, что «изъян и слабость духовного развития» русского человека состоит в «духовной неоформленности», в недостаточности «аскетизма», в излишней поэтической мечтательности и созерцательности — за счет духовной трезвости.
Илья Обломов — выходец из полуязыческой-полухристианской Обломовки, а потому он несет на себе и ее грехи, О духовном сне немало написано святыми отцами Церкви. В частности, в «Начертании христианского нравоучения» святителя Феофана Затворника читаем: «Внутренность свою надобно уязвлять и тревожить, чтоб не уснуть. Во сне и Самсона связали, и остригли, и силы лишили»[241].
Напомним, что тема сна духовного в святоотеческой литературе развивает евангельский мотив сна учеников Господа в Гефсиманском саду: «Тогда говорит им Иисус… побудьте здесь и бодрствуйте со Мною… И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна… И пришед находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели… Тогда приходит к ученикам Своим и говорит им: вы все еще спите и почиваете? вот приблизился час…» (Мф. 26, 38–45). Сон упоминается и в одной из притчей, рассказанных Иисусом Христом: «Когда же люди спали, пришел враг и посеял между пшеницею плевелы» (Мф. 13, 25).
Илья Обломов чувствует свой грех: «С первой минуты, когда я сознал себя, я почувствовал, что уже гасну… гаснул и тратил по мелочи жизнь…» (Ч. 2, гл. IV).
Религиозный фон романа не акцентирован, хотя и просматривается за библейскими реминисценциями, бытовыми упоминаниями церковных праздников, храмов и пр. В то же время и этот незначительный по видимости фон дает представление о религиозности самого Гончарова. Начать с того, что писатель постоянно апеллирует к Ветхому и Новому Заветам. Несомненно, высшей точкой его духовно-культурных поисков была попытка осмысления жизни в свете учения Христа. В гончаровских текстах сравнительно редки случаи упоминания Ветхого Завета, и, напротив, они пестрят реминисценциями из Евангелия. Ведь Евангелие было настольной книгой романиста. Если он знал наизусть почти всего Пушкина, то тем более это можно сказать о Новом Завете. Роман «Обломов» дает образец глубокого проникновения Гончарова в дух Евангелия.
Крупным планом в романе дан главный момент жизни Обломова: попытка подняться, проснуться от «сна смертного». С точки зрения христианской это попытка грешника перейти от сознания своего греха и даже разговоров о нем к реальному делу спасения своей души. К Илье Обломову прямо приложимы рассуждения святителя Феофана Затворника: «Надобно строго различать две вещи: помышление о том, что надобно спасать свою душу или исправлять свою жизнь, и самое начатие дела спасения и самоуправления. До первого еще возможно и самому собою доходить… довольно серьезно подумать о том и речи заводить о самоисправлении. Пока не пришла благодать — возбудительница от сна греховного, то как бы сладко и широко ни разглагольствовала душа сама с собою и с другим, коль скоро коснется до самого дела, она сейчас отступит назад, ибо связана по рукам и ногам. Она походит на ленивца, который сидит на покойном месте. Охотно и сам с собою рассуждает он, и другим говорит, что то и то ему необходимо надо сделать; но коль скоро до движения, все отлагает до другого времени…»[242], Согласно православному учению, собственные усилия человека и не могут освободить его от греха. Источник исправления — благодать Божия. А дело человеческой воли — все усилия направлять на поиск благодати: «И дома молиться, и в Церковь ходить, и всех освятительных действий не чуждаться, читать и беседовать… Не канет ли откуда-нибудь искра Божия и не зажжет ли в сердце ревности…. Видя такой труд и вопияние души, Господь сжалится над душою и пошлет ей благодать»[243].
Встав перед вопросом о гибели своей души и сказав себе: «Теперь или никогда!» — после исповедального разговора со Штольцем, — Илья Обломов готовится от слов перейти к делу, к «труду и вопиянию души». Решение настолько серьезно, что Обломов весьма трезво пытается оценить ситуацию: «Вслушиваясь в отчаянное воззвание разума и силы, он сознавал и взвешивал, что у него осталось еще в остатке воли и куда он понесет, во что положит этот скудный остаток» (Ч. 2, гл. V). Согласно каноническому Православию, душа, обнаружив свое бедственное состояние, должна просто «вопиять» к Богу, ничего не взвешивая и не уповая на свои собственные силы. Однако понятие воли, играющее столь большую роль во всей концепции романа «Обломов», отсвечивает у Гончарова внешними, направленными в мир, в социум сторонами.
Если «Обыкновенная история» является своеобразной модификацией притчи о блудном сыне, то «Обломов» как роман о драматической и закончившейся неудачно попытке истинного христианского покаяния и исправления своей жизни отталкивается от евангельской притчи о зарытом таланте. Притча эта трактуется разнообразно. Но важно определить, что понимать под «талантом». Как известно, в древнерусских текстах «талант» означает дарование от Бога духовных даров. Свт. Иоанн Златоуст в толковании Евангелия от Матфея пишет: «Никто не должен говорить: я имею один талант и ничего не могу сделать. Можешь и с одним талантом заслужить одобрение»[244]. Такое понимание представляется близким Гончарову. Начиная с XVIII века, в процессе секуляризации культуры в России, вырабатывается иное, более широкое и в то же время светское понимание таланта как «природной способности» [245].
Притча о талантах повествует о теме, волнующей Гончарова во всех его произведениях, даже во «Фрегате»: это тема возвращения Богу «плода» от «брошенного Им зерна», или, иначе говоря, тема даров и «талантов», получаемых человеком от Бога. Свт. Иоанн Шанхайский так определяет смысл этой притчи: «Господь произнес притчу о том, как хозяин раздал таланты своим рабам, сообразуясь со способностями каждого. По прошествии некоторого времени он потребовал от них отчета и наградил тех, кто заработал столько же, сколько получил. Но того, кто ничего не делал и принес только полученный им талант, он подверг строгому наказанию. Хозяин тот — Господь Бог, таланты — Его дарования, рабы — люди. Дает Господь дарования духовные, дает отдельным людям, дает и целым народам».
Обломову было много даровано: он человек самый одаренный из всех героев романа. Пожалуй, у него даже не один, а все пять талантов. Несомненно, он должен «пустить их в оборот», то есть преумножить. Однако он закапывает их в землю и становится живым мертвецом, духовно гибнет. Ольга же (тот дар, который он получает от судьбы) «передается» не погубившему своих талантов Штольцу. Эту гибель Обломова окружающие ощущают как драму, так как видят, какими дарами наделил Бог Илью Ильича. Отсюда «рыдание» над ним
Ольги, отсюда плач Ильи Обломова над самим собою:
«Она опять закрыла лицо платком и старалась заглушить рыдания.
— Отчего погибло всё? — вдруг, подняв голову, спросила она. — Кто проклял тебя, Илья? Что ты сделал? Ты добр, умен, нежен, благороден… и… гибнешь! Что сгубило тебя? Нет имени этому злу…
— Есть, — сказал он чуть слышно.
Она вопросительно, полными слез глазами взглянула на него.
— Обломовщина! — прошептал он, потом взял ее руку, хотел поцеловать, но не мог, только прижал крепко к губам, и горячие слезы закапали ей на пальцы. Не поднимая головы, не показывая ей лица, он обернулся и пошел» (Ч. 3, гл. XI). Таким образом, «обломовщина» — это не только социальное, но и духовное понятие в романе Гончарова. И обозначает она духовную смерть героя, его нераскаянность, его нежелание духовной работы — для преумножения Божиих даров, данных человеку для духовного возрастания в Царствии Небесном. То, что Гончаров сознательно ориентирован на евангельскую притчу о талантах, несомненно. Недаром между Обломовым и Штольцем состоялся разговор о приложении земных сил человека и о «преумножении капитала»:
«— …Тружусь…
— Когда-нибудь перестанешь же трудиться, — заметил Обломов.
— Никогда не перестану. Для чего?
— Когда удвоишь свои капиталы, — сказал Обломов.
— Когда учетверю их, и тогда не перестану» (Ч. 2, гл. IV).
Казалось бы, Штольц постиг тайну и смысл жизни, он готов трудиться бесконечно, даже и после удвоения «своих капиталов». Но, к сожалению, Штольц еще менее духовен, чем Обломов. Удвоение и учетверение капиталов он видит лишь в рамках чисто земной жизни, вне Христа. Под капиталами (или по-евангельски — «сребром») он разумеет в буквальном смысле деньги, в то время, как евангельская и святоотеческая традиция трактует понятие «капиталов» в духовном смысле, на что хорошо указывают слова преподобного Серафима Саровского, сказанные им в беседе с Николаем Александровичем Мотовиловым:
«— Ну а как же, батюшка, быть с другими добродетелями, творимыми ради Христа, для стяжания благодати Духа Святаго? Ведь вы мне о молитве только говорить изволите?
— Стяжевайте благодать Духа Святаго и всеми другими Христа ради добродетелями, торгуйте ими духовно, торгуйте теми из них, которые вам больший прибыток дают. Собирайте капитал благодатных избытков благости Божией, кладите их в ломбард вечный Божий из процентов невещественных, и не по четыре или по шести на сто, но по сто на один рубль духовный, но даже еще и того в бесчисленное число раз больше. Примерно: дает вам более благодати Божией молитва и бдение, бдите и молитесь; много дает Духа Божьяго пост, поститесь: более дает милостыня, милостыню творите, и, таким образом, о всякой добродетели, делаемой Христа ради, рассуждайте.
Вот я вам расскажу про себя, убогого Серафима. Родом я из курских купцов. Так, когда не был я еще в монастыре, мы, бывало, торговали товаром, который нам больше барыша дает. Так и вы, батюшка, поступайте, и, как в торговом деле, не в том сила, чтобы лишь только торговать, а в том, чтобы больше барыша получить, так и в деле жизни христианской не в том сила, чтобы только молиться или другое какое-либо доброе дело делать»[246]. Преподобный Серафим здесь воспроизводит святоотеческую традицию, которую встречаем, например, в молитвах преп. Ефрема Сирина: «Управь, Господи, ладию купли моей и даруй разумение маломощному купцу, чтобы окончить мне куплю свою, пока еще есть у меня время»[247].
Общий духовный контекст романа показывает, что Гончаров, приводя разговор о преумножении капиталов, имеет в виду и святоотеческое учение о стяжании «даров Святого Духа». Нужно учесть и то, что закопавший свой талант раб в евангельской притче назван не только лукавым, но и ленивым, не пожелавшим потрудиться над преумножением духовных дарований. В этом и кроется духовный смысл романа «Обломов».
В то же время Гончаров с большой симпатией относится к своему герою. Он оставляет для Ильи Ильича надежду на спасение души. При внимательном чтении романа обнаруживается, что Гончаров подробно показывает, какие именно духовные дары и таланты «закопал» Обломов. И выясняется, что не все дары он «закопал в землю». Автор, несомненно, намекал на заповеди блаженства, когда упоминал в романе устами других героев «чистое сердце» Ильи Ильича. Ибо среди евангельских блаженств упоминается и это: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 8).
Герой Гончарова действительно чист сердцем в житейском смысле слова. «В основании натуры Обломова лежало чистое, светлое и доброе начало, исполненное глубокой симпатии ко всему, что хорошо и что только отверзалось и откликалось на зов этого простого, нехитрого, вечно доверчивого сердца. Кто только случайно или умышленно заглядывал в эту светлую, детскую душу — будь он мрачен, зол, — он уже не мог отказать ему во взаимности, или если обстоятельства мешали сближению, то хоть в доброй и прочной памяти» (Ч. 2, гл. II). Не случайно говорит романист о «детской» душе Обломова, вызывая у читателя евангельскую ассоциацию: «Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном» (Мф. 18, 2–4).
Рисуя Штольцу идиллическую картину предполагаемой жизни в Обломовке, Илья Ильич мечтает: «Всё по душе! Что в глазах, в словах, то и на сердце!» О сердце своего друга неоднократно говорит в романе Штольц: «Какой ты добрый, Илья! — сказал он. — Сердце твое стоило ее! Я ей всё перескажу… Недаром она забыть не может тебя. Нет, ты стоил ее: у тебя сердце, как колодезь, глубоко!» (Ч. 3, гл. V–VI). «В нем дороже всякого ума: честное, верное сердце! Это его природное золото; он невредимо пронес его сквозь жизнь. Он падал от толчков, охлаждался, заснул наконец убитый, разочарованный, потеряв силу жить, но не потерял честности и верности. Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало к нему грязи. Не обольстит его никакая нарядная ложь, и ничто не совлечет на фальшивый путь; пусть волнуется около него целый океан дряни, зла, пусть весь мир отравится ядом и пойдет навыворот — никогда Обломов не поклонится идолу лжи, в душе его всегда будет чисто, светло, честно… Это хрустальная, прозрачная душа; таких людей мало; они редки; это перлы в толпе! Его сердца не подкупишь ничем; на него всюду и везде можно положиться. Вот чему ты осталась верна и почему забота о нем никогда не будет тяжела мне. Многих людей я знал с высокими качествами, но никогда не встречал сердца чище, светлее и проще; многих любил я, но никого так прочно и горячо, как Обломова. Узнав раз, его разлюбить нельзя» (Ч. 3. гл. VIII).
Может быть, стоит обратить внимание на то, что Обломов не только чист сердцем, но и кроток. В романе постоянно подчеркивается, что Илья Ильич говорит кроток. Эта кротость, признанная Ольгой, на самом деле замечательна. Ибо в ней — сердцевина характера Ильи Обломова, обозначенная в Евангелии от Матфея словами Иисуса Христа: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11, 29). Пропустив многое, многому не сумев научиться, Илья выполняет один завет Господа: научился у Него кротости и смирению сердца. Любопытно, что Гончаров подчеркивает именно библейское происхождение этого образа «кротости», ибо Ольга прибавляет: «Ты нежен… как голубь; ты прячешь голову под крыло — и ничего не хочешь больше; ты готов всю жизнь проворковать под кровлей» (Ч. 4, гл. II). И это прямо возводит к библейскому: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф. 10, 16). Даже на одре смерти Обломов покоится «кротко» (Ч. 4, гл. X). И здесь вспоминается еще одно евангельское блаженство: «Блажени кротции, яко тии наследят землю» (Мф. 5, 5).
В самые патетические минуты своей жизни Илья Ильич плачет. И это не случайно у Гончарова, помнящего о Нагорной проповеди Христа: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Мф. 5, 4). Слезы Обломова, заметим, это не злые слезы эгоизма или оскорбленного самолюбия. Гончаров, видимо, не случайно всегда подробно и тщательно выписывает, как именно плачет Илья Ильич, В прощальной сцене с Ольгой, например, это не только слезы об утраченной навсегда любви, но и слезы покаяния. На жестокое слово Ольги («А нежность… где ее нет!») Обломов «в ответ улыбнулся как-то жалко, болезненно-стыдливо, как нищий, которого упрекнули его наготой. Он сидел с этой улыбкой бессилия, ослабевший от волнения и обиды; потухший взгляд его ясно говорил: „Да, я скуден, жалок, нищ… бейте, бейте меня!“» (Ч. 3, гл. XI). Так же многозначительно показаны и слезы Ильи Ильича при воспоминании о матери: «Обломов, увидев давно умершую мать, и во сне затрепетал от радости, от жаркой любви к ней: у него, у сонного, медленно выплыли из-под ресниц и стали неподвижно две теплые слезы» («Сон Обломова»). Слезам Ильи Ильича автор придает евангельский оттенок: «Ему доступны были наслаждения высоких помыслов; он не чужд был всеобщих человеческих скорбей. Он горько в глубине души плакал в иную пору над бедствиями человечества… Сладкие слезы потекут по щекам его» (Ч. 1, гл. VI).
Сцена прощания Ольги с Обломовым — кульминационная точка христианской концепции романа. Здесь Обломов, сделавший было попытку побороть свой грех «обломовщины», окончательно расстается со своей надеждой, впадая в своего рода отчаяние. Концентрированно выражен упрек и претензии Ольги в одной фразе: «Ты прячешь голову под крыло — и ничего не хочешь больше… да я не такая: мне мало этого… Можешь ли ты научить меня, сказать, что это такое, чего мне недостает, дать это все… А нежность… где ее нет!» (Ч. 3, гл. XI). Комментируя это Ольгино высказывание, автор несколько раз говорит о нищете Обломова: «Он в ответ улыбнулся как-то жалко, болезненностыдливо, как нищий». «Да, я жалок, скуден, нищ… бейте, бейте меня!..» В сущности, ведь Ольга упрекнула Обломова в нищете духа. Ибо Ольга горда, мудра мудростью земной. Обломов принимает упрек, но вместе с ним и еще нечто, ибо сказано: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5, 3).
Еще одно евангельское блаженство следует упомянуть, говоря об Илье Обломове. Ведь наш герой покидает свет, становится отшельником не только по причине примитивной лени, но и потому, что не находит правды, смысла ни в службе, ни в обществе. Особенно восстает он на неискренность в отношениях людей: «Тот глуп, этот низок, другой вор, третий смешон…» Говоря это, глядят друг на друга такими же глазами: «вот уйди только за дверь, и тебе то же будет…», «Зачем же они сходятся… Зачем так крепко жмут друг другу руки?» (Ч. 2, гл. IV). Душа Обломова тоскует по искренности и правде. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Мф. 5, 6). Эти запросы в Обломове выражены гораздо сильнее, чем в каком-либо другом герое романа.
Следует, однако, отметить, что ко всем указанным евангельским блаженствам Обломов имеет лишь относительное, условное отношение. Все евангельские достоинства героя заданы в романе… вне Христа. Обладая многими христианскими достоинствами, Обломов оказывается чужд важнейшей заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь» (Мф. 22, 37–38). Дело в том, что Гончаров показывает своего героя теплохладным человеком: «Знаешь ли, Андрей, в жизни моей ведь никогда не загоралось никакого, ни спасительного, ни разрушительного, огня? Она не была похожа на утро, на которое постепенно падают краски, огонь, которое потом превращается в день, как у других, и пылает жарко, и всё кипит, движется в ярком полудне, и потом всё тише и тише, всё бледнее, и всё естественно и постепенно гаснет к вечеру. Нет, жизнь моя началась с погасания. Странно, а это так!» Слова о спасительном или разрушительном огне вызывают ассоциацию со словами Христа: «Знаю твои дела: ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих… будь ревностен и покайся» (Откр. 3, 15–16; 19).
Илья Ильич — типичный русский барин XIX века — весьма далек от выполнения первой заповеди. В одном лишь месте романа высказывается Обломов о Господе Боге, но как! Он говорит Захару: «Ты, может быть, думаешь, глядя, как я иногда покроюсь совсем одеялом с головой, что я лежу, как пень, да сплю; нет, не сплю я, а думаю все крепкую думу, чтоб крестьяне не потерпели ни в чем нужды, чтоб не позавидовали чужим, чтоб не плакались на меня Господу Богу на Страшном Суде, а молились бы да поминали меня добром. Неблагодарные! — заключил с горьким упреком Обломов» (Ч. 1, гл. VIII).
Гончаров — прежде всего писатель. Свою задачу он видел не в следовании святым отцам Церкви в трактовке Евангелия, а в приложении Евангелия к практической жизни многих людей, в том числе и не слишком воцерковленных, но вполне нравственных и стремящихся к высоким нравственным идеалам. Так, например, «чистота сердца» святыми отцами понимается совсем иначе. Св. Григорий Нисский говорит: «Человек, очистивший душу свою от всяких страстных побуждений, отобразит своей внутренней красотой подобие образа Божественного… Доброй жизнью смывай грязь, прилипнувшую к сердцу твоему, и тогда воссияет боговидная красота ТВОЯ» («О блаженствах…» Слово 6). То есть «Бога узрит» лишь очистивший сердце от страстей.
Полное очищение сердца от страстей возможно лишь в монашестве. Гончаров же прилагает евангельские блаженства к мирскому человеку. Он вообще считает, что Евангелие дает образец поведения для всех людей. А потому и говорит о «чистом сердце» Обломова, человека, далеко не свободного от «всяких страстных побуждений». В этом смысле евангельские блаженства, свойственные Обломову, лишь параллельны евангельским блаженствам в трактовке святых отцов, но совершенно им не адекватны. То же и со всеми иными блаженствами Ильи Ильича. Однако надо понять, что даже если жизнь Обломова не посвящена поиску Христа, все-таки Христос ищет Обломова и не оставляет его. В этом своеобразие духовного мышления Гончарова, в этом глубина его восприятия Евангелия, в этом и суть его религиозности.
Впрочем, нельзя не сказать, что в ранних редакциях романа Обломов представлен как человек не чуждый религиозности. Вставая с постели, он думает об утренней молитве: «Ну, теперь можно и встать: умыться и помолиться» (А. V. 11). «Ах, Боже мой! — с ужасом сказал Ил<ья> Ил<ьич>. — [Уж] 10 часов, а я еще не умылся и лоб не перекрестил до сих пор… 11 часов! А я еще не встал, не умывался, не молился… Я еще не умылся, Богу не помолился…» (А. V. 19–31). Характеризуя высокие помыслы Обломова («Он горько в глубине души плакал иногда над бедствиями человечества…»), Гончаров акцентирует именно духовный, религиозный смысл жизни героя: «…Вдруг сердце его наполнится радостью и потекут сладкие восторженные слезы, [плачет от] [любовью к ближнему…] когда он подумает о вселенной, [о высоких, святых] о святом предназначении человека, об обещанных благах за гробом… и сладкие бдагор<од>ные слезы потекут по щекам его…» (А. V. 118–119). Терзания Ильи Ильича, его ужас перед тем, что он не выполняет свое предназначение перед Богом, закапывает, словно раб ленивый и лукавый, Божии дары, «таланты», в ранней редакции романа выливаются в ночных молитвах: «Иногда даже совсем потеряется, дойдет до отчаяния: тогда он сползет с постели и, став на колена, начнет молиться жарко и усердно» (А. V. 120).
Правда, кончается у Обломова все это новым успокоением: «Потом, сдав попечение о своей участи небесам, делается покоен и равнодушен ко всему на свете» (А. V. 120). Обломов не хочет духовно трудиться над собой. В этом Гончаров усматривает и некоторый недостаток славянской природы, ибо апеллирует к словарю В. И. Даля, который в своей прозе несколько раз возвращался к повествованию о «трех супостатах» русского человека: «…B этих примирительных и успокоительных словах „авось“, „может быть“ и „как-нибудь“ Обломов находил всегда целый ковчег надежд и утешений, как в ковчеге завета отцов наших» (A. V. 163).
В вариантах к 1-й части романа есть строки, свидетельствующие о том, что Гончаров интересовался историей Церкви: «Например, он, выучивая историю Шрека, никак не мог объяснить себе, отчего история — наставница людей? — слова, которые беспрестанно повторял ему учитель» (А. V. 104). Совершенно очевидно, что перед нами — автобиографический эпизод, отражающий прежде всего тот период жизни писателя, когда он учился в Коммерческом училище. Гончаров в письме 1867 года к брату упоминал об учителе Гольтекове, который заставлял «наизусть долбить историю Шрека» и ни разу не потрудился «живым словом поговорить с учеником о том, что там написано». Иоганн Матиас Шрек (1733–1808) — немецкий историк, автор многотомных трудов по истории Христианской Церкви. Скорее всего романист читал труды Шрека на немецком языке[248].
В окончательной редакции «Обломова» все религиозные акценты сняты или, вернее сказать, скрыты. Если бы все евангельские дары Обломова были освящены в романе именем Христовым, то перед нами был бы совсем иной образ, очевидно, напоминающий князя Мышкина из романа Достоевского «Идиот». Не случайно, работая над образом князя Мышкина, Достоевский записал: «Обломов — Христос». Таким образом, даже в «обытовленном» образе Обломова окончательной редакции романа Достоевский сумел разглядеть евангельскую личность.
Таким образом, Гончаров создает роман трагической силы — о спасении человеческой души, о попытке покаяния и духовной гибели. Но трагедия духа сокрыта за драмой души и судьбы. Совершенно явно показывая в Обломове евангельские блаженства, Гончаров тем не менее не называет их. Метод номинации ему противопоказан. Оттого-то добрые качества Ильи Ильича существуют в романе как бы вне духа, вне Христа, но как душевные, природно данные добродетели героя. Гончаров как бы на миг отдернул занавес, показал глубину происходящего — и снова задернул его.
Даже затрагивая главную религиозную тему, тему спасения души, романист не выходит за рамки светской лексики: «Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. Как страшно стало ему, когда вдруг в душе его возникло живое и ясное представление о человеческой судьбе и назначении…» (Ч. 1, гл. VIII). В черновой редакции: «Обломов вскакивал иногда с постели и ночью (как В. А. Яз<ыков>), метался в тоске, что он ничто, что он не исполнил своего назначения» (А. V. 6).
Однако время от времени религиозные понятия, лежащие в основании понятий житейских, прорываются у Гончарова более явственно: «Какой-то тайный враг наложил на него тяжелую руку в начале пути и далеко отбросил от прямого человеческого назначения… Горько становилось ему от этой тайной исповеди перед самим собою» (Ч. 1, гл. VIII). Здесь Гончаров показывает себя как начитанный в христианской литературе человек. Слово «тайный враг» означает в данном случае врага рода человеческого, дьявола, главная задача которого и заключается в том, чтобы разлучить человека с Богом, отвести человека от его «прямого человеческого назначения». В Евангелии от Матфея находим те слова, на которые проецируется данная реплика автора: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел…» (Мф. 13, 24–25). Как видим, именно к спящему, пребывающему в духовном сне (каков и есть Илья Обломов) человеку приходит враг рода человеческого и посреди пшеницы (добрых начал человека) сеет плевелы (пороки, немощи).
Более того, в речах Обломова порою звучат рассуждения, как будто взятые из «Добротолюбия»[249]: «Да, нельзя жить, как хочется, — это ясно… впадешь в хаос противоречий, которых не распутает один человеческий ум, как он ни глубок, как ни дерзок! Вчера пожелал, сегодня достигаешь желаемого страстно, до изнеможения, а послезавтра краснеешь, что пожелал, потом клянешь жизнь, зачем исполнилось, — ведь вот что выходит от самостоятельного и дерзкого шагания в жизни, от своевольного хочу. Надо идти ощупью, на многое закрывать глаза и не бредить счастьем, не сметь роптать… Кто выдумал, что она — счастье, наслаждение? Безумцы!» (4. 2, гл. X).
Драматизм и напряженность действия в романе «Обломов» предопределены попыткой героя покаяться и исправить свою жизнь. Илья Ильич много раз начинает разговор о том, что его жизнь проходит не так, как нужно. Он постоянно готов каяться, но не исправляться. Тихая смерть Обломова не есть смерть блаженного. Вся четвертая часть романа есть описание духовной смерти героя до его физической кончины. Это тот случай, о котором Господь сказал: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (Мф. 8, 22).
В одну из последних встреч с Обломовым Штольц не случайно говорит: «Ты в самом деле умер, погиб!» (Ч. 4, гл. II). Создавая образ Обломова как человека, не способного к духовной жертве, к покаянию, автор развивает мотивы, прозвучавшие в Апокалипсисе: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй… Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя» (Откр. 3, 1–3). Этот род смерти описывают святые отцы. Так, например, преп. Симеон Новый Богослов пишет: «Бывает смерть (душевная) прежде смерти физической…»[250].
В романе жизнь Обломова как человека кающегося ясно делится на три основных этапа. Первый этап показан в первой главе: это духовный итог более чем тридцатилетней жизни. Показано детство героя, его «генетическая» предрасположенность к бездеятельной жизни, обрядоверие вместо истинной религиозности и духовной жизни в семье. Показано и настоящее положение Обломова: герой погружен в сон души. Лишь время от времени этот сон нарушается недолгими вспышками покаяния, лишенного полноты и воли к исправлению. Илья Ильич сознает свое бедственное духовное положение, в горести взывает к Богу (в черновой редакции — даже становясь на ночную молитву), но ничего поделать не может. Вторая и третья части — развитие романа с Ольгой Ильинской и одновременно — попытка стряхнуть с себя чары духовного сна, попытка изменить свою жизнь. К сожалению, герою не удалось воскреснуть. Не хватило воли. Главный мотив этих двух частей — духовное поражение Обломова, которое выглядит как погружение в новый, теперь уже окончательный «смертный сон». Перед нами уже живой мертвец, который не хочет думать о том, что ждет его завтра (недаром сказано: «Он предчувствовал близкую смерть и боялся ее»), а лишь доволен тем, что сейчас еще имеет возможность не тревожиться об окончательном итоге своей жизни, о необходимости покаяния. Ключевыми словами четвертой части являются: «покой», «тишина», «безнадежность», «беспечность», «сон», «лень», «убаюкивание». Это состояние духовного уныния и отчаяния, «немого равнодушия» (Ч. 4, глЛ). Герой отказывается от попыток спасти себя. Ему хочется только одного — покоя: «Лег бы и заснул… навсегда» (4. 4, гл. II).
Для героя в четвертой части характерны два неравноценно представленных состояния. Первое — это недолгие вспышки раскаяния, являющиеся «все реже». Однако это раскаяние не деятельное, как в романе с Ольгой Ильинской, а созерцательное и потому унылое, отчаянное. Обломов тогда «плачет холодными слезами безнадежности» (Ч. 4, гл. IX). Второе состояние тревожно названо Гончаровым: «внутреннее торжество». Это полный отказ от всякого покаяния, полное самооправдание и успокоение в грехе. Гончаров пишет о своем герое, что он «вкусит временных благ и успокоится» (Ч. 4, гл. IX), что «каяться — нечего» (Ч. 4, гл. IX).
Самооправдание же заключается в том, что под свой грех, под свое греховное состояние Илья Ильич подводит философский базис: «Наконец решит, что жизнь его не только сложилась, но и создана, даже предназначена была так просто, немудрено, чтоб выразить возможность идеально покойной стороны человеческого бытия. Другим, думал он, выпадало на долю выражать ее тревожные стороны, двигать создающими и разрушающими силами: у всякого свое назначение!» (Ч. 4, гл. IX).
Итог жизни Обломова — весьма неушительный. Он подводится в разговоре со Штольцем уже при окончательном прощании: «Мне давно совестно жить на свете! Но не могу идти с тобой твоей дорогой, если б даже захотел…» И слова Штольца выглядят как окончательный приговор: «Погиб ты, Илья…» (Ч. 4, гл. IX).
Вообще 9-я глава четвертой части — самая трагическая в романе. Не случайно постоянно повторяются слова «смерть», «погиб»: «Попробуй оторвать — будет смерть», «…он протянул к Андрею обе руки, и они обнялись молча, крепко, как обнимаются перед боем, перед смертью».
Вскоре за духовной смертью закономерно приходит и смерть физическая. Однако роман явно проникнут духом евангельской надежды. Даже окончательная духовная гибель героя еще оставляет надежду на милосердие Бога. На это милосердие надеется автор, когда лишь в намеке дает образ ангела, охраняющего могилу Обломова: «Кажется, сам ангел тишины охраняет сон его» (Ч. 4, гл. X). Надежда проглядывает и в том, как сохранился Илья Ильич в памяти людей. Еженедельно молится о нем в церкви вдова Агафья Матвеевна Пшеницына. Добрым словом вспоминает о нем Захар: «Этакого барина отнял Господь! На радость людям жил… Не нажить такого барина… помяни, Господи, его душеньку во Царствии Своем!» (Ч. 4, гл. XI).
Обломов погиб для мира, для людей, погиб и духовно. Он гибнет сознательно, с отчаянием и унынием. Тем не менее чистое сердце и кротость, доброта героя успели принести свои плоды. Не все столь безнадежно в романе. Илья Ильич едва ли не единственный герой романа, который все же возвращает Богу «плод брошенного Им зерна». Отщетив свою душу, он все же оживляет других, благодаря своим добрым евангельским начаткам пробуждает их к жизни. С точки зрения христианской, ему были поданы Богом такие дары, как чистое сердце, кротость, нищета духа, плач и пр.
Для многих в романе — он истинный свет. Таким светом озарил он жизнь Ольги, а затем осветил жизнь Агафьи Матвеевны Пшеницыной. «Она поняла, что проиграла и просияла ее жизнь, что Бог вложил в ее жизнь душу и вынул опять; что засветилось в ней солнце и померкло навсегда… Навсегда, правда; но зато навсегда осмыслилась и жизнь ее: теперь уж она знала, зачем она жила и что жила не напрасно…» (Ч. 4, гл. X), Обломов сумел внести осмысленность в жизнь Агафьи Матвеевны. Его жизнь лишь с виду, с первого взгляда не имеет никаких результатов. На самом деле он совершил едва ли не более всех других героев. Штольц и Ольга вдвоем не смогли разбудить Обломова, так как глубоко в их натуре был скрыт эгоизм. Илья Обломов благотворно действует на всех, с кем ему приходится столкнуться. Илья Ильич лишь внешне никак не проявляется в конкретных делах, Он воздействует на окружающую жизнь уже самим фактом своего существования, своим «золотым сердцем», кротостью, душевностью. После смерти Обломова Штольца, Ольгу и Агафью Матвеевну «связывала одна общая симпатия, одна память о чистой, как хрусталь, душе покойника» (4. 4, гл. Х). Следует обратить внимание и на другое: Штольц и Ольга не показаны в полном семейном кругу, среди своих детей, о которых содержится лишь очень глухое упоминание, в то время как Обломов изображается автором в окружении детей Агафьи Матвеевны. Весьма закономерно, что Штольцы воспитывают ребенка Обломова. Илья Ильич оставляет на земле полноценное потомство. Он не бесплоден, хотя не во всем прав. Сына Обломова зовут Андрей, Очевидно, что воспитан он будет по-штольцевски, но все же продолжать жизнь будет обломовский род. Все это дает дополнительные смысловые акцентировки и показывает, что Обломов небесплодно прожил свою жизнь, и драма его жизни состоит в том, что все-таки он мог бы прожить ее более сознательно, трезво, бодро. Мог принести плод «сторицею». Если он и не погиб окончательно, если что-то доброе все-таки сделал в жизни, то благодаря своим природным добрым задаткам.
В то же время сказать, что он совершенно лишен доброй воли и только «плывет по течению», нельзя. Он проявляется волею своего выбора (уход от суеты), проявляется в своем целомудренном понимании любви. Обломов с участием относился к другим людям: в первой части романа он выслушивает всех, хотя никто не хочет выслушать его «два несчастья» (письмо от старосты и переезд на другую квартиру). Обломов заступается за честь женщины и дает пощечину негодяю Тарантьеву. Обломов добр, «нежен», как говорит Ольга Ильинская.
Все эти нравственно значимые поступки Ильи Ильича — плод его волевых устремлений, только они направлены не в социум и не во внешнюю сторону жизни, а в ее внутреннюю, нравственную основу. Вот почему хотя Обломов не смог преодолеть волей к покаянию и раскаянию — «сна смертного», «уныния» духовного (в этом смысле он как бы напрасно растратил бесценные дары, отпущенные ему Богом), — автор не выносит ему приговор, но выдвигает на первый план как окончательный итог возможность Божьего милосердия. Разгадка судьбы Ильи Обломова — в том же 16-м стихе 10-й главы Евангелия от Матфея, где говорится о «голубиных» качествах апостолов: «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии и просты, как голуби». Несомненно, Илья «прост, как голубь», но совсем не проявляет качеств «мудрой змеи». Он вполне последовательно воплощает образ «овцы среди волков».
Если Обломов выражает одну сторону христианства (кротость, смирение, нищета духа), то Андрей Штольц и Ольга — другую. Причем Гончаров пытается и здесь «идеально сконструировать» образ обломовского оппонента Штольца. Христианские представления Штольца о жизни акцентированы автором. То, чего не удостоился Обломов, сказано в романе о Штольце: «Веру он исповедовал православную» (Ч. 2, гл. I). Для Гончарова это обязывающее определение в контексте романа. Крупным планом христианство Штольца показано в аспекте двух проблем: отношения к труду и к браку.
Любопытно отметить, что Штольц с восьми лет «разбирал по складам… библейские стихи и… с матерью читал священную историю» (Ч. 2, гл. I). В полном соответствии с требованиями христианского учения о воспитании Штольц вырос и развивался в обстановке душевной и телесной бодрости и свежести, целомудрия (См. беседу Иоанна Златоуста «О целомудрии юношей»). Гончаров даже развивает тему, намеченную в святоотеческой литературе. Он обращает внимание на неусыпное внутреннее внимание юноши к своей душевной жизни («Так же тонко и осторожно, как за воображением, следил он за сердцем») (Ч. 2, гл. II), на волевые усилия («Кажется, и печалями, и радостями он управлял…» (4. 2, гл. П), а главное, на боязнь «ночной культуры» (Г. Флоровский), воображения («Больше всего он боялся воображения»); и наконец, Гончаров акцентирует в Штольце способность к анализу душевной жизни и тонкому поиску меры, «тонкой черты, отделяющей мир чувства от мира лжи и сентиментальности…» (4. 2, гл. II).
Особенно подробно описывает Гончаров рассуждения Штольца о браке. Автор «Обломова» исходит из представления о главенствующей роли мужчины в душевно-духовной жизни женщины, согласно сказанному в Ветхом Завете: «К мужу твоему обращение твое, и той тобою обладати будет» (Быт. 3, 16) и апостолу Павлу; «Муж глава есть жены», «должна жена повиноваться мужу» (Еф. 5, 22–23), Ольга отвергла Обломова, в частности, и потому, что он оказался не способен руководить ее душевно-духовной сферой, но, напротив, требовал ее руководства. Иоанн же Златоуст, комментируя послание апостола Павла, говорит, что в духовной сфере «необходимо превосходство» мужчины[251].
Этот момент оказывается весьма значащим как для Ольги, так и для Штольца. Штольц ведет себя в отношении внутренней жизни Ольги, как подобает христианину, взявшему ответственность за духовную жизнь жены.
«Сначала долго приходилось ему бороться с живостью ее натуры… укладывать порывы в определенные размеры… там надо было успокаивать раздраженное воображение, унимать или будить самолюбие. Задумывалась она над явлением — он спешил вручить ей ключ к нему». «Ольга довоспитывалась уже до строгого понимания жизни» (Ч. 4, гл. VIII). Работа Штольца над духовной жизнью Ольги вполне отвечает святоотеческим наставлениям: «Исправь ее добротою и кротостию, как и Христос — Церковь… Если будет в ней какой-нибудь порок… истребляй этот порок… за жену… предстоит нам великая награда за то, что мы учим, руководим ее»[252].
Главное требование к христианской семейной жизни — это «мир»[253]. Гончаров заменяет это понятие тремя иными, «гуманистическими», говоря о «гармонии, тишине» и «покое» (Ч. 4, гл. VIII). Но, кроме того, Гончаров постоянно перефразирует на современный манер Св. Писание. Так, известное изречение «И будут два одна плоть» (Быт. 2, 24) романист излагает следующим образом: «Два существования, ее и Андрея, слились в одно русло» (Ч. 4, гл. VIII). Апостол Павел говорит не один раз о любви мужа к жене: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь» (Еф. 5, 25). Гончаров подробно раскрывает тезис о любви мужа и жены как о бесконечном совместном духовном развитии: «Их будило вечное движение мысли, вечное раздражение души и потребность думать вдвоем, чувствовать, говорить!..» (Ч. 4, гл. VIII). Казалось бы, такое понимание любви противоречит строгой формуле: «как и Христос возлюбил Церковь». Но еще Иоанн Златоуст говорил о таком тонком предмете, как сочувствие душ в семейной жизни, об «удовольствии в беседе с женою»[254].
Когда Ольга дает советы Штольцу («Ее замечание, совет, одобрение или неодобрение стали для него неизбежною поверкою: он увидел, что она… соображает, рассуждает не хуже его…»), кажется, что перед нами веяние XIX века и плоды эмансипации. Но и у Иоанна Златоуста читаем: «Убеждаю вас, жены: считайте это обязанностию и давайте мужьям надлежащие советы»[255].
Подобных соответствий со святоотеческим учением можно отыскать в четвертой части романа немало, но главным доказательством того, что Гончаров описывает именно христианскую модель семейных отношений, является широкоизвестный эпизод, в котором высказывается неудовлетворенность Ольги своей жизнью, несмотря на ее видимую полноту. Обычно это место трактуют в том духе, что Ольга выявляет глубоко спрятанную, но присущую Штольцу «обломовщину». Ответы Штольца Ольге обычно трактуются как беспомощные, неожиданно для этого героя «смиренные» («Мы не Титаны с тобой, мы не пойдем с Манфредами и Фаустами на дерзкую борьбу с мятежными вопросами…»). На самом деле как недовольство Ольги, так и ответы, и поведение Штольца указывают на иное. Туманно и поэтически, но Штольц именно в христианском духе объясняет Ольге ее неожиданную грусть. Штольц акцентирует именно запредельное, лежащее за гранью земного, говорит о совершенно естественных порывах человеческой души к Богу, о естественной неудовлетворенности только и исключительно земным. Ольга нашла идеал земной, но тоскует о небесном. «Поиски живого, раздраженного ума, — говорит ей муж, — порываются иногда за житейские грани… Это грусть души, вопрошающей жизнь о ее тайне» (Ч. 4, гл. VIII).
Правда, как и в случае с Ильей Обломовым, неакцентированное и как бы сокрытое христианство Ольги и Штольца также недостаточно при строгом подходе к вопросу о религиозности героев. Речь идет не только о подчеркнутой на всем протяжении романа гордости героев (стоит упомянуть, что фамилия Штольц избрана Гончаровым неслучайно: Штольц означает «гордый»), об их выпирающем самолюбии, об излишней погруженности в мирскую суету, о самоцельности проповедуемого Штольцем труда (вне первой заповеди, как и у Обломова),
Речь идет прежде всего о том, что гончаровские герои живут вообще не в атмосфере религиозности явной и открытой, где все вопросы, как у Достоевского, начинаются с Бога и заканчиваются Им. Они живут не в религиозной, а скорее в культурной, гуманистической сфере. Религиозность Гончарова преломляется всегда через вопросы цивилизации, культуры, социума. Над последними автор «Обломова» не «воспаряет», а пытается осмыслить религию через вопросы цивилизации и культуры.
Такова религиозность самого Гончарова, такова же религиозность его героев. Главная его задача как художника — осмыслить поведение вполне современных и цивилизованных людей в свете Евангелия. Романист убежден, что Евангелие дано человечеству на все случаи жизни, для всех исторических эпох, а потому и задачей писателя является осмысление жизни через Евангелие, Герои Гончарова говорят о различных вопросах жизни, не упоминая Бога, Церковь и т. д., но проявляются и оцениваются автором они строго в рамках евангельской этики.
Особо следует сказать об одной героине, оставшейся в тени, но концентрирующей в своем образе наиболее высокие точки религиозной атмосферы романа «Обломов». Это Агафья Матвеевна Пшеницына. Именно она создает столь необходимый фон, выявляющий недостаточность, «теплохладность», излишнюю индифферентность христианской душевной жизни остальных героев, включая и Илью Обломова. Пшеницына выступает в романе как образец бескорыстной любви к Богу и к своему ближнему. Именно она выполняет первую и вторую заповедь Христа. А ведь об этих заповедях Сам Христос сказал исчерпывающе ясно: «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22, 40).
При всей приземленности внешней образ Агафьи Матвеевны весь окутан атмосферой евангельской любви. Ее вера и любовь подчеркнуто просты: «Она как будто перешла в другую веру и стала исповедовать ее, не рассуждая, что это за вера, какие догматы в ней, а слепо повинуясь ее законам… полюбила Обломова просто, как будто простудилась… Она молча приняла обязанности…» (Ч. 4, гл. I).
В ее образе нарочито и подчеркнуто заданы как отсутствие рефлексии и рассуждения, так и избыток непосредственной и самой ей необъяснимой любви: «Она сама и не подозревала ничего: если б ей это сказать, то это было бы для нее новостью — она бы усмехнулась и застыдилась» (Ч. 4, гл. I).
Только эта героиня любит истинно христианской любовью в романе: «Чувство Пшеницыной… оставалось тайною для Обломова, для окружающих ее и для нее самой. Оно было в самом деле бескорыстно, потому что она ставила свечку в церкви, поминала Обломова за здравие затем только, чтоб он выздоровел, и он никогда не узнал об этом» (Ч. 4, гл. I). И еще: «Когда Обломов сделался болен, она никого не впускала к нему в комнату, устлала ее войлоками pi коврами, завесила окна и приходила в ярость — она, такая добрая и кроткая, если Ваня или Маша чуть вскрикнут или громко засмеются, она просиживала у его постели, не спуская с него глаз, до ранней обедни, а потом… написав крупными буквами на бумажке „Илья“, бежала в церковь, подавала бумажку в алтарь, помянув за здравие, потом отходила в угол, бросалась на колени и долго лежала, припав головой к полу… Все ее хозяйство, толченье, глаженье, просевание и т. п. — все это получило новый, живой смысл: покой и удобство Ильи Ильича» (Ч. 4, гл. I).
Из главных героев только Агафья Матвеевна важнейшие акты своей жизни переживает в церкви. И только она любит, а не рассуждает и не рефлектирует о любви. Только она в романе «себя, детей своих и весь дом предавала на волю Божью» (Ч. 4, гл. IX). Это очень многозначительное замечание автора, свидетельствующего о том, что лишь Агафья Пшеницына в романе «ходит под Богом».
Только о ней в романе сказано, что она «жила не напрасно», — именно потому, что «она так полно и много любила» (Ч. 4, гл. X). Образ Агафьи Пшеницыной оттеняет все остальные, дает всю полноту гончаровского Православия. Любовь к Богу и ближним, по заповеди Христовой, исповедует во всей полноте только эта героиня. Все остальные герои любят себя более, чем что бы то ни было. Сам Гончаров в своей духовной жизни ориентировался именно на такой тип религиозности и сознавал как недостаток отклонения от «младенческой веры»[256].
Вопрос о смысле жизни, как всегда у Гончарова, без нажимов и акцентов разрешен в образе Агафьи Пшеницыной. Как христианин Гончаров полагает смысл жизни прежде всего в любви. Однако романист не выносит сурового приговора остальным героям, героям не столько любящим, сколько рассуждающим о любви. Он с сочувствием относится к их мучительной рефлексии, отчасти указывая и на невозможность для них — в силу многих причин — духовного пути Агафьи Пшеницыной и указывая на исключительность последней. Романист пытается обозначить в изображаемом им культурном пространстве пространство христианское, христианские ориентиры. Он мучительно пытается соединить строгое, с детства усвоенное им православное воззрение на жизнь (в образе Агафьи Пшеницыной он изображал и свою мать) — с культурными напластованиями своей жизни, со своим либерализмом и западничеством.
«Обломов» — роман автобиографический[257]. Проекция, которую делает Гончаров с «Обломова» на свою жизнь, в основе своей христианская. В письме к С. А. Никитенко от 8 июня 1860 года он отмечает: «Пресыщение, обломовщина, небрежение данных дарований и человеческого назначения и печальные последствия…» (VIII. 331–332). Здесь снова притча о закопанных в землю талантах, о неисполнении высшего человеческого назначения — «вернуть Богу плод брошенного Им зерна».
«Обрыв»
«Обрыв» — последний роман И. А. Гончарова (1869), завершающий его романную трилогию. Он увидел свет в 1869 году на страницах журнала «Вестник Европы», где печатался с января по май в каждом номере. Когда писался «Обрыв», Гончарову было уже за 50 лет. А когда закончил его — уже 56. В последнем романе — необыкновенная высота замыслов, необычная даже для Гончарова широта проблематики. Романист торопился выплеснуть в романе все, что пережил и передумал за свою жизнь. «Обрыв» должен был стать его главным романом. Гончаров, очевидно, искренне полагал, что из-под его пера должен выйти сейчас его лучший роман, который должен будет поставить его на пьедестал первого в России романиста. Хотя лучший по художественному исполнению роман «Обломов» был уже позади.
Замысел романа возник еще в конце 1840-х годов в родном Симбирске. «Тут, — сообщал он в статье „Лучше поздно, чем никогда“, — толпой хлынули на меня старые знакомые лица, я увидел еще не оживший тогда патриархальный быт и вместе новые побеги, смесь молодого со старым. Сады, Волга, обрывы Поволжья, родной воздух, воспоминания детства — все это залегло мне в голову и почти мешало кончать „Обломова“… Я унес новый роман, возил его вокруг света и в программе, небрежно написанной на клочках» (VIII. 71–72).
По словам Гончарова, он вложил в «Обрыв» все свои «идеи, понятия и чувства добра, чести, честности, нравственности, веры — всего, что должно составлять нравственную природу человека». Как и прежде, автора волновали «общие, мировые, спорные вопросы». В предисловии к «Обрыву» он сам сказал: «Вопросы о религии, о семейном союзе, о новом устройстве социальных начал, об эмансипации женщины и т. д. — не суть частные, подлежащие решению той или другой эпохи, той или другой нации, того или другого поколения вопросы. Это общие, мировые, спорные вопросы, идущие параллельно с общим развитием человечества, над решением которых трудились и трудится всякая эпоха, все нации… И ни одна эпоха, ни одна нация не может похвастаться окончательным одолением ни одного из них…» (VIII. 154–155).
Именно то, что «Обрыв» задумывался вскоре после написания «Обыкновенной истории» и практически одновременно с опубликованием «Сна Обломова», свидетельствует о глубинном единстве романной трилогии Гончарова, а также о том, что единство это касается прежде всего религиозной основы гончаровских романов. Отсюда явная закономерность в наименовании главных героев: от Адуева, через Обломова, к Райскому. Автобиографический герой Гончарова ищет правильное отношение к жизни, Богу, людям. Движение идет от ада к Раю.
Эта эволюция связана с изменением отношения к проблеме «возвращения Богу плода от брошенного Им зерна», к проблеме «долга» и «человеческого назначения». Оговоримся сразу, что абсолютного идеала Гончаров так и не нарисует. Да у него и не будет попытки создать своего «идиота», как это сделал Ф. Достоевский. Гончаров мыслит духовно идеального героя в пределах возможного земного и притом принципиально мирского. Его герой принципиально несовершенен. Он — грешник среди грешников. Но он наделяется духовными порывами и устремлениями. Заметим, что «грешниками» являются, за редким исключением, и все остальные главные фигуры романа: Вера, бабушка. Все они, проходя через свой «обрыв», приходят к покаянию и «воскресению». Так мыслит Гончаров-христианин вообще человеческую жизнь, попытки человека в мирской жизни стяжать Царство Небесное.
Роман «Обрыв» задуман более широко и емко, нежели предшествующие «Обыкновенная история» и «Обломов». Достаточно сказать, что роман кончается словом «Россия». Автор открыто декларирует, что говорит не только о судьбе героя, но и о грядущих исторических судьбах России. В этом обнаружилась значительная разница с прежними романами.
Принцип простой и ясной в своей структуре «художественной монографии» здесь заменен иными эстетическими установками: по своей природе роман симфоничен. Роман отличается относительным «многолюдством» и многотемностыо, сложным и динамичным развитием сюжета, в котором активность и спады настроений героев своеобразно «пульсируют».
Расширилось и художественное пространство гончаровского романа. В центре его оказались, кроме столичного Петербурга, Волга, уездный город, Малиновка, прибрежный сад и приволжский обрыв. Роман весь пронизан символикой. Гончаров здесь чаще, чем раньше, обращается к образам искусства, более широко вводит в поэтику произведения звуковые и световые образы.
Христианская тема романа вылилась в русло поиска «нормы» человеческой любви. Ищет эту норму сам Борис Райский. Сюжетным стержнем произведения, собственно, и стал поиск Райским женской «нормы» («бедная Наташа», Софья Беловодова, провинциальные кузины Марфенька и Вера). Ищут эту норму по-своему и бабушка, и Марк Волохов, и Тушин. Ищет и Вера, которая благодаря «инстинктам самосознания, самобытности, самодеятельности» (VIII. 77) упорно стремится к истине, обретая ее в падениях и драматической борьбе. Есть и исключения из правила, «норма», данная не в драматических изломах судьбы, а в простосердечном следовании традиции (Марфенька и Викентьев). Правда, эта норма, не добытая в душевной борьбе, не пробуждает человека к сознательной духовной жизни. «Там (в доме Пахотиных. — В. М.), — говорит Райский, — широкая картина холодной дремоты в мраморных саркофагах, с золотыми, шитыми на бархате, гербами на гробах; здесь — картина теплого летнего сна, на зелени, среди цветов, под чистым небом, но все сна, непробудного сна» (Ч. 2, гл. IV).
Тема любви и «художественных» исканий Райского, на первый взгляд, кажется самоценной, занимающей все пространство романа. Но поиск «нормы» ведется Гончаровым с христианских позиций, что особенно заметно на судьбах главных героев: Райского, Веры, Волохова, бабушки. Эта норма есть «любовь-долг», невозможная для автора вне христианского отношения к жизни.
Таким образом, в сравнении с предшествующими «Обыкновенной историей» и «Обломовым» значительно расширяется творческий диапазон романиста, идейный охват и многообразие художественных приемов. Не случайно некоторые исследователи говорят о том, что последний роман Гончарова прокладывает пути романистике XX века[258].
В то же время впервые в художественной практике Гончарова замысел произведения не нашел органичного адекватного художественного воплощения. Исследователи отмечают некоторую незавершенность архитектоники романа, стилистическую неоднородность, некоторую размытость образа Райского, психологическую недостоверность в образе Веры и т. п.[259]
Название романа многозначно. Автор ведет речь и о том, что в бурные 60-е гг. XIX века обнаружился «обрыв» связи времен, «обрыв» связи поколений (проблема «отцов и детей») и «обрыв» в женской судьбе («падение» женщины как плоды «эмансипации»), Гончаров напряженно, как и в прежних романах, размышляет об «обрывах» между чувством и рассудком, верой и наукой, цивилизацией и природой и т. д.
Наука и вера
«Обрыв» проявил глубокую религиозность Гончарова как никогда открыто и явно, И это понятно: роман писался в условиях, когда Гончаров вместе со всем либеральным крылом русского общества должен был почувствовать, какой плод принес либерализм за десятилетия своего существования в России, В романе Гончаров выступает скрытно и явно против современного ему позитивного мировоззрения, откровенного атеизма, вульгарного материализма, Всему этому и противопоставлена в «Обрыве» религия (и любовь как ее основополагающее проявление в человеческой натуре),
Гончаров по-прежнему выступает за «прогресс» в человеческих понятиях, но подчеркивает недопустимость разрыва новых идей с традициями и вечными идеалами человечества, прежде всего с религией.
Эта концепция художественно воплощена в особенности в истории любви Веры и нигилиста Марка Волохова. Последний, отличающийся известной прямотой и честностью, жаждой ясности и правды, ищет новых идеалов, резко обрывая все связи с традициями и общечеловеческим опытом.
Судя по всему, Гончаров вычленил для себя в позитивизме как «новом учении» две основные тенденции. Первая заключалась в попытках научного объяснения мира с опорой на развитие естественных наук. Вторая — в попытках «заменить» знанием, наукой, разумом — религию, философию («метафизику»), чувство. Признавая первую тенденцию, которая не противопоставляется религиозному миросозерцанию, а лишь подтверждает его, автор «Обрыва» резко не принял второй, ибо это было уже покушением на искомое им равновесие «ума» (науки) и «сердца» (религии). Скажем об этом более подробно.
Попытки научного объяснения мира, широкая опора на естествознание — все это в позитивной философии было привлекательно для художника. Состав библиотеки Гончарова, ныне известный лишь в своей малой части, свидетельствует о том, что писатель на протяжении многих лет внимательно следил за развитием естественных наук. В его библиотеке оказалось много научно-популярных изданий. В частности, он был знаком со статьями известного английского физика Д. Тиндаля[260], с книгой «Конфликт науки и религии» американского естествоиспытателя Д. Дрепера[261], издавшего в свое время работу «История умственного развития Европы», которая пользовалась популярностью в России в середине 1860-х гг., с трудами французского химика, автора работ по истории науки Л. Фигье[262], с несколькими книгами известного французского астронома К. Фламмариона[263] и т. д. Естественно, это лишь малая часть книг, отражающая интерес Гончарова к указанной теме.
Характерно, что писатель сумел объективно оценить значение того действительно важного, что сделал Ч. Дарвин. В статье «О пользе истории» он писал: «Новая… наука в лице Дарвина и других[264] создала закон о наследственности, который и прежде чувствовали и признавали все мыслящие люди… Тот же духовный закон наследственности проходит по всей истории»[265]. Весьма характерно, что в параллель с «материальной» наследственностью, открытой английским ученым, Гончаров говорит о «духовном законе наследственности».
Писатель серьезно следил за развитием науки. В предисловии к «Обрыву» он заметил: «Нельзя жертвовать серьезными практическими науками малодушным опасениям незначительной части вреда, какая может произойти от свободы и широты ученой деятельности. Пусть между молодыми учеными нашлись бы такие, которых изучение естественных или точных наук привело бы к выводам крайнего материализма, отрицания и т. п. Убеждения их останутся их личным уделом, а учеными усилиями их обогатится наука» (VIII. 156).
В связи с вопросом об отношении Гончарова к «новой науке» любопытно его письмо к философу В. С. Соловьеву. Письмо является кратким отзывом на книгу Соловьева «Чтения о богочеловечестве» (1881) и написано, вероятно, в конце 1881-го — начале 1882 г. В своей книге философ подчеркивает, что центральный момент современной духовной жизни — это «стремление организовать человечество вне безусловной религиозной сферы».
Данная тема для автора «Обрыва» чрезвычайно важна. Соловьев писал, что «этим стремлением характеризуется вся современная цивилизация»[266]. Логика книги подсказывала, что укрепить в обществе расшатанные основы традиционного религиозного мышления уже невозможно, если действовать лишь методом огульного и прямолинейного отрицания успехов естественных наук и позитивизма. «Чтения о богочеловечестве» представляли собою попытку синтезировать религию и научный эмпиризм во имя осуществления на земле христианского идеала. Причем именно религия выступала в этом синтезе на первый план, хотя и была «научно» оснащена[267].
Гончаров, судя по его письму-рецензии, согласен, во всяком случае, с тем, что религия и наука не должны противостоять друг другу. Он утверждает: «Вера не смущается никакими „не знаю“ — и добывает себе в безбрежном океане все, что ей нужно. У ней есть одно единственное и всесильное для верующего орудие — чувство.
У разума (человеческого) ничего нет, кроме первых, необходимых для домашнего, земного обихода, знаний, т. е. азбуки всеведения.
В перспективе, весьма туманной, неверной и далекой — у дерзких пионеров науки есть надежда дойти когда-нибудь до тайн мироздания надежным путем науки.
Настоящая (т. е. современная. — В. М.) наука мерцает таким слабым светом, что пока дает только понятие о глубине бездны неведения. Она, как аэростат, едва взлетает над земной поверхностью и в бессилии опускается назад[268].
В первом чтении Вы превосходно определили заслугу новейшей цивилизации, бессознательно оказанную последнею религии. Да, нельзя жить человеческому обществу этими добытыми результатами позитивизма… надо обратиться к религии, говорите Вы (и все мы с Вами тоже)… надо обратиться к другому авторитету, от которого убежали горделивые умы, к авторитету миро державному. Но как? Чувства младенческой веры не воротишь взрослому обществу: основания некоторых библейских сказаний с мифологическими сказаниями греческой и других мифологий (не говоря уже о новейшей науке) подорвали веру в чудеса — и развившееся человеческое общество откинуло все так называемое метафизическое, мистическое, сверхъестественное.
Осталось обратиться к другому пути, к которому обращались многие и к которому обращаетесь так блистательно и Вы, т. е. почти к тому же самому пути, к какому обращается наука — для достижения противоположной цели.
Казалось бы, совокупная сила чувства и философского мышления должны бы были нанести решительный и безвозвратный удар мнимому знанию, подверженному непрестанным, как будто барометрическим колебаниям.
И вот эта опора науки легла в незыблемое основание религии и повела бы человечество надежным путем к обетованному Откровением бытию.
Но между тем остаются вопросы („1“, „2“, „3“), потому что стараются объяснить необъяснимые тайны мироздания, строятся гипотезы и не анализируют самую веру: от чего она помогает!»[269].
Как видим, писатель соглашается с тем, что время «младенческой веры» уже прошло безвозвратно. В предисловии к роману «Обрыв» Гончаров сформулировал свое понимание проблемы соотношения науки и религии: «…И тот и другой пути параллельны и бесконечны!» (VIII. 157). В данном случае писатель формулирует позицию Церкви, которая никогда не противопоставляла веру и науку. В то же время он понимает всю тщетность попыток положить в основание веры… науку: «Строятся гипотезы и не анализируют самую веру: от чего она помогает!»
Книга Соловьева верно оценена писателем, принята им за очередную гипотезу. Сам же романист настаивает на вере как таковой: «Вера не смущается никакими „не знаю“ — и добывает себе в безбрежном океане все, что ей нужно».
Не мудрствуя, не вдаваясь в модные теории, Гончаров всегда оставался традиционным православным человеком и умел отстоять свои принципы в любом «научном» споре.
Гончаров ни в коем случае не отрицает науку. Первый герой «позитивист» в русской литературе Петр Адуев изображается им с определенной симпатией, хотя адуевские сравнения человека с машиной, а психических процессов с механическими могут шокировать. Так, герой говорит, что любовь — это «действие электричества; влюбленные — все равно что две лейденские банки: оба сильно заряжены; поцелуями электричество разрешается, и когда разрешится совсем — прости, любовь, следует охлаждение» (Ч. 1, гл. III). Петр Адуев объясняет своему племяннику, что разум — это «клапан», который природа дала человеку для управления чувством. Он часто обращается к Александру со словами: «закрой клапан», «выпусти пар».
Любопытно, что такое приравнивание психических процессов к механическим не слишком смущает самого автора. Во всяком случае, в письме к Е. А. и С. А. Никитенко от 16 августа 1860 г. он буквально и без всякой иронии воспроизводит весь «позитивистский» дух речей своего героя: «Припадки жизненной лихорадки… это своего рода пар, который требует не того, чтоб выбрасывали его беспорядочно или задыхались от него, а чтоб применяли его к делу, к рельсам и колесам, пользовались им и садились читать, писать или делали что кому назначено»[270].
Деятельная направленность психической жизни человека — вот чего ищет Гончаров и вот что находит родственного и здорового в позитивизме. Приведенное выше сравнение человека с паровозом обнаруживает, что писатель (в отличие, например, от Достоевского) признает за позитивизмом определенные права — в рамках цивилизаторской философии «преобразующей деятельности». Научный дух познания, направленного на преобразующую деятельность человека и человечества, оказывается тем здоровым зерном в позитивистской философии, которую автор «Обрыва» приемлет.
Но Гончаров всегда и во всем ставит вопрос о мере вещей. Позитивизм хорош для него лишь до той границы, за которой начинается разрушение равновесия между «умом» и «чувством», «наукой» и «религией». А начинается для него эта граница там, где философию позитивизма берут на вооружение не созидатели-цивилизаторы, а «разрушители-нигилисты».
Позитивизм был течением весьма широким, захватывавшим в сферу своего воздействия разнородные силы. Основоположником этого учения, определившегося в 30-е гг. XIX в., считается Огюст Конт. Главные представители его — Дж. С. Милль, Г. Спенсер, Г. Бокль, Э. Литтре, Э. Ж. Ренан, а в России — В. Н. Лесевич, М. М. Троицкий, В. Н. Ивановский, П. Л. Лавров, К. К. Михайловский и др.[271] Влияние позитивистских идей испытали Т. Н. Грановский, И. М. Сеченов, А. М. Бутлеров, Д. И. Менделеев[272], М. А. Бакунин[273] и др.
Признавая роль позитивизма в развитии естествознания, науки, Гончаров активно протестовал против попыток позитивистов привнести естественнонаучные методы в учение о нравственности, в понимание человеческой природы и природы общественной жизни. Особенно его возмущало отрицание самой категории «идеального», понятия «души», что действительно было присуще позитивизму и вульгарному материализму[274]. Позитивизм предполагал отрицание философии как обобщающей науки в той же мере, как и отрицание религии. В работе вульгарного материалиста Л. Бюхнера «Сила и материя», во многом соприкасавшейся с методологическими установками позитивизма, об этом сказано: «Надо поставить науку на место религии, веру в естественный и ненарушимый миропорядок на место веры в духов и призраки, естественную мораль на место искусственной и догматической»[275].
Гончаров прекрасно видел опасность, которая грозила русскому обществу из-за резкого разрыва в сознании «передовых» людей между Евангелием и наукой. «В эти годы некоторые церковные публицисты с сожалением отмечали, что наука и религия нигде так не отчуждены, как в России».[276] Против «разрушительных» тенденций позитивизма выступал, разумеется, не только Гончаров. С позитивистской «научной» этикой спорили и Ф. М. Достоевский, и Л. Н. Толстой[277]. Сведение человеческой природы к чистой «биологии» и «физиологии» вызывало возражения Достоевского: «Вспомните о нынешних теориях Дарвина и других о происхождении человека от обезьяны. Не вдаваясь ни в какие теории, Христос прямо объявляет о том, что в человеке, кроме мира животного, есть и духовный. Ну и что же — пусть откуда угодно произошел человек (в Библии вовсе не объяснено, как Бог лепил его из глины, взял из камня), но зато Бог вдунул в него дыхание жизни…»[278].
Гончаров весьма неплохо ориентировался в новом учении. Являясь цензором журнала «Русское слово», в задачи которого входило популяризировать идеи позитивистов в России, он, несомненно, глубоко вник в сущность и даже генезис этого учения[279].
В учении позитивистов о нравственности, о природе человека Гончаров активно не принял три взаимосвязанных принципа:
1) вульгарное, химико-физиологическое понимание человека;
2) отсутствие в позитивистской модели человека «свободной воли»;
3) утилитаристское (по И. Бентаму) понимание морали.
Все эти принципы естественно вытекают из позитивистского отрицания «идеального», собственно «духовного» в человеке и, наоборот, признания исключительно «материального» в нем. Природа человека явно упрощалась позитивистами и сводилась к чисто «биологическому» началу.
Спор Гончарова с этикой позитивизма развивается на страницах его последнего романа. Именно в 1860-е гг. писатель различил в позитивизме не только «созидательно-буржуазную», ной «разрушительно-нигилистическую» основу.
Против утилитарной, биологической модели человека и выступает он в «Обрыве».
Позже, в «Необыкновенной истории», он сформулирует свои претензии к позитивистской этике следующим образом: «Все добрые или дурные проявления психологической деятельности подводятся под законы, подчиненные нервным рефлексам и т. д,»[280]. Добро и зло как производное «нервных рефлексов» — эта антипозитивистская тема сближает Гончарова с автором «Братьев Карамазовых». В романе Достоевского Митя и Алеша обсуждают эту позитивистскую теорию человека: «Вообрази себе, это там в нервах, в голове, то есть там в мозгу эти нервы… есть такие этакие хвостики, у нервов у этих хвостики, ну и как только они там задрожат… то есть я посмотрю на что-нибудь глазами, вот так, и они задрожат, хвостики-то, а как задрожат, то и является образ… вот почему я и созерцаю, а потом мыслю, потому что хвостики, а вовсе не потому, что у меня душа…»[281].
Воинствующим позитивистом в «Обрыве» является Марк Волохов, который искренне считает, что именно в физиологии и заключается разгадка человека. Он обращается к Вере со словами: «А вы — не животное? дух, ангел — бессмертное создание?» В этом вопросе Марка слышен отзвук того определения человека, которое было характерно для позитивистов. Так, в 1860 году П. Л. Лавров формулировал: «Человек (homo) есть зоологический род в разряде млекопитающих… позвоночное животное…»[282]. Сходные взгляды развивал и М. А. Бакунин. В. Ф. Пустарнаков пишет, что, согласно Бакунину, человек есть животное, «но такое животное, которое благодаря более высокому развитию своего организма, в особенности мозга, обладает способностью мыслить и выражать свои мысли словами. В этом и состоит все различие, отделяющее человека от других животных»[283].
Разумеется, Гончаров не мог согласиться с таким пониманием человеческой природы. По его мнению, Волохов «развенчал человека в один животный организм, отнявши у него другую, не животную сторону» (Ч. 5, гл. VI). Полемика Гончарова с позитивистами в этом вопросе обусловила нехарактерное для более ранних гончаровских произведений обилие анималистических образов.
В человеческой природе он видит равновесие «животного» и «духовного» начал. Взгляды, выражаемые «новыми учеными», это равновесие нарушают. Романист и сам видит в человеке еще очень много «звериного», но в отличие от позитивистов дает всему соответствующую оценку, надеется на «очеловечение» человека и возвращение его к Христу.
Уже в «Письмах столичного друга к провинциальному жениху» ясно проглядывает эта концепция постепенного восхождения от «зверя» к истинному «человеку»: «франт», «лев», «человек хорошего тона» и, наконец, «порядочный человек». В очерке 1842 года под названием «Иван Савич Поджабрин» герой у Гончарова носит «зоологическую» фамилию: он еще не дорос нравственно до человека, он все еще «зверек», самый настоящий «франт».
Не случаен определенный «зоологизм» и в «Обыкновенной истории». Разочаровавшийся в людях Александр Адуев горестно восклицает: «За кого ни хватишься, так какой-нибудь зверь из басен Крылова и есть…» (Ч. 2, гл. I). О Хазаровых он говорит: «Целая семья животных». О Лунине: «Он точно осел…» О его жене: «А она такой доброй лисицей смотрит». О Волчкове (говорящая фамилия): «Ничтожное и еще вдобавок злое животное».
Разумеется, нельзя, говоря о «зоологизме» гончаровских образов этого времени, не учитывать мощной традиции, проявившейся в искусстве 30–40-х гг., изображать человека в органичном сравнении с тем или иным животным — для обозначения нравственного типа, для указания наиболее характерных черт его натуры. Однако «Письма столичного друга к провинциальному жениху» показали, что «зоологизм» уже в это время был для Гончарова не просто модой, не только способом «нравоописания», но прежде всего философией жизни. Нравоописателя интересует при сравнении человека с животным вид этого животного, его конкретная «порода» (лиса, волк и т. д.), ибо в своем герое он подчеркивает признаки конкретного вида: человек-лиса, человек-волк, человек-лев и т. д. Таким методом пользуется, например, Ф. В. Булгарин в очерке «Лев и шакал».
Для Гончарова важна другая оппозиция: зверь или человек. По форме сближаясь с поисками литературы 30–40-х гг. XIX века, Гончаров как большой, философски мыслящий писатель далеко перешагивает ее рамки. Его интересуют не нравы, а нравственность.
Это прямо предвосхищает проблематику «Обрыва». Учение, которого придерживается Волохов, как бы накладывает отпечаток на его облик, на поведение. В нем постоянно проглядывает зверь, животное. Самая его фамилия, как уже было замечено исследователями, наводит на мысль о волке. «Прямой вы волк», — говорит о нем Вера. Во время кульминационного разговора с ней Марк тряс головой, «как косматый зверь», «шел… непокорным зверем, уходящим от добычи», «как зверь, помчался в беседку, унося добычу».
У Волохова в этом плане много общего с тургеневским Базаровым. Автор «Отцов и детей» пишет, что Одинцова «задумывалась и краснела, вспоминая почти зверское лицо Базарова, когда он бросился к ней…»[284]. Животный эгоцентризм в Волохове выражен даже в большей степени, чем в Базарове. Одинцова, руководствуясь идеей любви-долга, обращается к Базарову со словами: «По-моему, или все, или ничего. Жизнь за жизнь. Взял мою, отдай свою, и тогда уж без сомнения и возврата. А то лучше и не надо… вы бы сумели отдаться?» На это Базаров отвечает: «Не знаю, хвастаться не хочу…» Слово «хвастаться» говорит о том, что умение «отдать жизнь за жизнь» тургеневский герой ценит, считает его нравственным достоинством. Вообще при всей его последовательности в нем в отличие от Волохова еще сильны нравственные потребности в традиционном понимании — потому и стало возможным в финале духовное «возрождение» героя, невозможное для озлобленного Волохова. В аналогичном разговоре с Верой, которая почти буквально повторяет слова Одинцовой («Честно взять жизнь у другого и заплатить ему своею: это правило!»), гончаровский нигилист ведет себя иначе, чем Базаров: «Вы отдаете все и за победу над вами требуете всего же, А я всего отдать не могу» (Ч. 4, гл. XII).
В статье «Талантливая бесталанность» Н. В. Шелгунов подчеркнул «анималистичность» образа Марка Волохова: «Автор нашел, что лучше и пристойнее всего сравнивать Марка с собакой, несмотря на то, что грива, большой лоб и смелые серые глаза давали ему некоторые и, как кажется, немалые права на сходство с львом…»[285]. В пылу полемики критик оставил без внимания принципиально важный факт: в «Обрыве» не только Марк Волохов, но и многие другие герои даны в анималистической подсветке.
В «Малиновской» части «Обрыва» изобилуют анималистические образы — в противоположность «петербургской» части романа, где господствует не стихия «страстей» и «животного» отклонения от нормы нравственности, а, напротив, мертвящий «механицизм» — как другая крайность.
В Малиновке же страсти буквально бьют через край, часто переходя за «черту» и превращая человека в животное. Вспомним разговор, состоявшийся между Райским и Верой:
«— Все вы звери, — прибавила потом со вздохом, — он волк. Тушин медведь.
— А кто я? — вдруг, немного развеселясь, спросил Райский.
— Вы лиса…» (Ч. 4, гл. VIII).
Вера говорит все это в состоянии озлобления, ее терзает страсть, в ней самой в это время много от хищного животного — что подчеркнуто автором. Она только что узнала, что «страсть, как тигр, сначала даст сесть на себя, а потом рычит и скалит зубы…». Гончаров неоднократно сравнивает героиню с хищной птицей. Вера держит руку на плече Райского, «по временам сжимая сильно, как птица когти, свои тонкие пальцы».
Анималистическая тенденция в «Обрыве» слишком очевидна. Леонтий Козлов наделен даже говорящей фамилией. Жена Козлова Ульяна смотрит на Райского «русалочьим взглядом». В другом месте Гончаров пишет, что она, «распустив волосы, как русалка, мочила их, нагнувшись с берега». Сам Райский сравнивает ее с «простодушной нимфой». Да и в самой Вере автор не раз подчеркнет «русалочье» начало. Тушин напоминает сказочного медведя. «Когда у вас загремит гроза, Вера Васильевна, — говорит он, — спасайтесь за Волгу, в лес: там живет медведь, который вам послужит… как в сказках сказывают» (Ч. 3, гл. XIII). В свое счастье Тушин готов «вцепиться своими медвежьими когтями» (Ч. 5, гл. XX). Вспышка ревности будит в Тушине, этом, по выражению Веры, «человеке с головы до ног», зверя: «То же будет и с ним, — прорычал он, нагибаясь к ее лицу, трясясь и ощетинясь, как зверь, готовый скакнуть на врага» (Ч. 5, гл. V).
Да и в Райском — не только «лиса». В свое оправдание за причиненную боль он говорит Вере: «Это был не я, не человек: зверь сделал преступление» (Ч. 5, гл. III). Буря страсти и ревности «заглушала все человеческое в нем» (Ч. 4, гл. XIV). Марина, жена Савелия, сравнивается в романе с кошкой. Даже о Марфеньке говорится, что она любит летний зной, «как ящерица». Более того, по словам автора, она получила в доме Татьяны Марковны «простое, почти животное, воспитание». Соловей, поющий в роще, — это образ, как бы закрепленный за тем романом, который разворачивается между Марфенькой и Викентьевым.
В статье «Лучше поздно, чем никогда» Гончаров продолжит систему анималистических параллелей, принятую в романе, сказав, что любовь Марфеньки и Викентьева — это «любовь птиц». Наташа же, сказано в статье, это «райская птица… без хищных когтей» (VIII. 103). Страсть Савелия к Марине, по определению автора романа, страсть «чисто животная». Наконец, размышления Райского дают определенное обобщение звучащего в романе мотива: «Но дела у нас, русских, нет… рабочий люд, как рабочий скот, делает все из-под палки и норовит только отбыть свою работу, чтобы скорее дорваться до животного покоя. Никто не чувствует себя человеком».
Гончаров полемизирует не только с позитивистским пониманием человека как животного без «души», без стремления к идеальному, но и с утилитаристской этикой, естественно вытекающей из этого понимания человека. «Позвоночное животное» живет только «телом», и его этика неизбежно эгоистична.
Вера, разбираясь в учении Марка Волохова, размышляет: «Да если это так… тогда не стоит работать над собой, чтобы к концу жизни стать лучше, чище, правдивее, добрее. Зачем? Для обихода на несколько десятков лет? Для этого надо запастись, как муравью зернами на зиму, обиходным уменьем жить… Какие же идеалы для муравьев? Нужны муравьиные добродетели…» (Ч. 5, гл. VI).
Известно, что в 1860-е гг. «в связи с публикацией в России сочинений последователя Бентама — Дж. С. Милля… споры об утилитарной этике вспыхнули в печати с новой силой…»[286]. Слова «мне надо» получают смысловую акцентировку в речах Марка Волохова. С этой же утилитарной меркой подходит он и к «любви» как к проявлению квинтэссенции духовного, идеального в романе: «Мне надо любви, счастья» (Ч. 4, гл. I). Утилитарная, эгоцентричная этика исключает понятие нравственного долга, а вместе с ним и все другие моральные категории, заменив все это одним, но «универсальным» понятием «пользы».
В разговоре с Райским Волохов с предельной откровенностью проясняет свои этические установки: «Что такое честность, по-вашему?.. Это ни честно, ни нечестно, а полезно для меня» (Ч. 3, гл. IX). Из этого же принципа личной пользы и независимости от общечеловеческих нравственных понятий исходит Марк, когда предлагает Райскому взять перед губернатором вину на себя за распространение запрещенной литературы и угрожает при этом тем, что в противном случае укажет на ничего не подозревающего Козлова как на виновника. Сами приемы рассуждения Волохова, его логика сближают его, в частности, с Лужиным из «Преступления и наказания» Достоевского. Лужин, нахватавшийся позитивистских идей, оправдывающих эгоизм, самодовольно рассуждает: «Что такое „благородство“? Я не понимаю таких выражений в смысле определения человеческой деятельности. „Благородное“, „великодушное“ — все это вздор, нелепости, старые предрассудочные слова, которые я отрицаю! Все, что полезно человечеству, то и благородно!»[287].
Наконец, Гончаров показывает, что в поведении Марка Волохова проявляется и третий принцип этики позитивистов, который романист в «Необыкновенной истории» обозначил как «отсутствие свободной воли». В философии позитивизма «разум и его функции оказываются чистой механикой, в которой даже отсутствует свободная воля! Человек не повинен, стало быть, ни в добре, ни в зле: он есть продукт и жертва законов необходимости… Вот… что докладывает новейший век, в лице своих новейших мыслителей, старому веку»[288].
Вульгарный материализм и позитивизм действительно отстаивали идею жесточайшего детерминизма и даже «исторического фатализма». Л. Бюхнер, например, прямо писал, что человек полностью зависит от «естественного ненарушимого миропорядка»[289]. Можно в этой связи напомнить и тезис М. А. Бакунина о том, что «в огромном большинстве случаев человек является всецело продуктом социальных условий»[290].
В позитивистской концепции человека отсутствует требование волеизъявления, а также понятие о внутренней свободе человека. Видимая внешняя активность Волохова (Райский думает о нем: «Бродит, не примиряется с судьбой») совершенно не противоречит его обреченности обстоятельствам. Вот что он говорит Вере: «Свобода с обеих сторон — и затем — что выпадет кому из нас на долю: радость ли обоим, наслаждение, счастье, или одному радость, покой, другому мука и тревоги — это уже не наше дело. Это указала бы сама жизнь, а мы исполнили бы слепо ее назначение, подчинились бы ее законам» (Ч. 4, гл. I). Если человек низведен позитивной философией до «физиолого-химических процессов»[291], то, разумеется, такая постановка вопроса о свободе воли, какая проявилась в приведенных словах Марка, вполне естественна и закономерна. Это свобода не человека, а «организма», свобода действия законов биологии, определяемая «организмами, темпераментами, обстоятельствами» (Ч. 4, гл. I), но не волей и духом человека. Вера же — при всех ее порывах и сомнениях — руководствуется в конечном итоге традиционной христианской моралью и христианским же пониманием свободы, выразившейся в пословице: «Вольному воля, спасенному — Рай».
Есть и другое понятие, которому постоянно апеллирует Марк, — это понятие «природы». Но в том-то и дело, что на это понятие опираются все участники конфликта в «Обрыве»: каждый трактует «природу» по-своему. Напомним, что в статье «Лучше поздно, чем никогда» Гончаров намекнул на эту особенность своего романа: «У всех, самых противоположных лагерей всегда есть общие точки соприкосновения, все ратуют во имя разума, свободы и правды, все приводят это на словах, но все разумеют слова по-своему и оттого употребляют различные, часто неверные пути» (VIII. 93). Гончаров прямо пишет, что Волохов «заблуждается в значении этих понятий». Когда Вера отвергает предложение Марка о «минутном счастье» и напоминает, что «потом явится новое увлечение», герой лишь «пожимает плечами» и отвечает вполне в духе позитивистского «фатализма»: «Не мы виноваты в этом, а природа… природу не переделаешь…»(Ч. 4, гл. XII).
Природа для Волохова — это чистая физиология, биология, химия, законы которых представляют своего рода «фатум» для человека: возможность корректировки природы им исключается. Для самого же Гончарова природа содержит и идеальный, духовный момент (человеческая душа, воля), который взаимодействует с упомянутыми законами и корректирует их. Между прочим, Гончаров здесь вскрывает крайнюю противоречивость позиции Марка Волохова, который, с одной стороны, настаивает на переделке, даже ломке общества и истории, на перескакивании через «обрывы», а с другой — утверждает, что природу не переделаешь. Крайности сходятся. Обосновывая право человека на «бунт», М. А. Бакунин вынужден был решать для себя противоречие, подмеченное Гончаровым. Хотя он считает, что человек «не способен изменить никакой закон природы»[292], он все-таки может бунтовать «против природы, непосредственно окружающей»[293].
Не только Гончаров, разумеется, видел это противоречие позитивистов, не только он заметил, что понятие природы (или, по выражению Л. Бюхнера, «естественная мораль») имеет в их учении примитивный «физиологический» смысл, исключающий духовную свободу и волю человека. Достоевский устами своего героя объяснял эту философию жесткого детерминизма: «Природа вас не спрашивает: ей дела нет до ваших желаний и до того, нравятся ли вам ее законы или не нравятся. Вы обязаны принимать ее так, как она есть, а следовательно, и все ее результаты. Стена»[294].
Любовь и воля
Позитивистскому пониманию человека как «позвоночного животного» Гончаров противопоставил в «Обрыве» христианское начало. Идее жесткой детерминированности человека законами природы он противопоставил идею «любви» и «воли» — как проявлений «души», отрицаемой в человеке позитивистами. Категория «воли» играет весьма важную роль в этической концепции романа «Обрыв». Гончаров размышлял о понятии воли давно — ив несколько ином ключе. Ведь гончаровский роман, начиная с «Обыкновенной истории», — это роман прежде всего о безвольном человеке.
Были попытки объяснить столь значительную роль категории «воли» у Гончарова влиянием на него философии Шопенгауэра. В. Сечкарев писал по этому поводу: «Мы не имеем оснований утверждать, что Гончаров был знаком с трудами Шопенгауэра, но такая возможность не исключена»[295]. Возможно, писатель и был знаком с трудами немецкого философа. При его широком знании философии и социальных учений от античности до современности в этом не было бы ничего удивительного. Кстати сказать, впервые категория «воли» стала играть столь значительную роль в этике Аристотеля. Ф. Х. Кессиди пишет: «В противоположность Сократу, отождествлявшему добродетель и знание, Аристотель (впервые в истории этической мысли) связывает этическую добродетель главным образом с желанием, хотением, волей, считая, что, хотя нравственность и зависит от знаний, тем не менее она коренится в доброй воле: ведь одно дело знать, что хорошо и что плохо, а другое — хотеть следовать хорошему»[296].
В данном случае Аристотель предвосхитил христианских мыслителей, выдвигавших на первый план в этике именно «добрую волю».
Если в «Обрыве» понятие «воли» имеет прежде всего моральный (у Гончарова — христианский) смысл, то в двух предшествующих романах понятие «воли» имеет, на наш взгляд, еще и просветительскую основу и обозначает не только нравственно-духовное «самостоянье» личности, но и способность личности к преобразующей деятельности, к «героическому энтузиазму» — в духе идеалов Шефтсбери, Гельвеция, Бруно. Можно сказать иначе: если в «Обрыве» воля есть выражение «сердца», то в «Обыкновенной истории» и «Обломове» она связана с «рацио». В плане этическом все это выражается в умении владеть собой. Давая портрет Петра Ивановича, автор подчеркивает: «В лице замечалась… сдержанность, то есть умение владеть собою…» Петр Иванович делает замечание своему племяннику: «Велика фигура— человек с сильными чувствами, с огромными страстями! Мало ли какие есть темпераменты? Восторги, экзальтация: тут человек всего менее похож на человека, и хвастаться нечем. Надо спросить, умеет ли он управлять чувствами, если умеет, то и человек…» (Ч. 1, гл. III). Со временем и Александр «начал учиться владеть собою».
Собственно человеческое Петр Адуев видит в умении «обработать», «окультурить» природно присущее, а это возможно только при наличии воли. Иное дело Александр, о котором романист замечает: «Все такие натуры, какова была его, любят отдавать свою волю в распоряжение другого» (Ч. 2, гл. I).
Такой герой склонен абсолютизировать природный фактор, он «фаталист». Так, Илья Обломов — личность того же ряда, что и Александр Адуев, — говорит Штольцу: «Ты как-то иначе устроен». Характерен ответ Штольца, с которым, несомненно, согласен и сам автор: «Человек создан сам устроивать себя и даже менять свою природу, а он отрастил брюхо да и думает, что природа послала ему эту ношу!» (Ч. 4, гл. II). О позиции автора можно судить с полной уверенностью потому, что она подтверждена автобиографическим признанием в письме к И. И. Льховскому от двадцатых чисел июля 1853 года: «Если б Вы знали, сквозь какую грязь, сквозь какой разврат, мелочь, грубость понятий, ума, сердечных движений души проходил я от пелен и чего стоило бедной моей натуре пройти сквозь фалангу всякой нравственной и материальной грязи и заблуждений… Я должен был с неимоверными трудами создавать себе сам собственными руками то, что в других сажает природа или окружающие: у меня не было даже естественных материалов, из которых я мог бы построить что-нибудь…» (VIII. 258).
В «Обрыве» тема «воли» разрабатывается многосторонне. В этом романе все герои так или иначе соотнесены автором с проблемой «воли». Здесь масса людей без собственной воли. Таков, например, Аянов, который «тонко угадывал мысль начальника, разделял его взгляд на дело и ловко излагал на бумаге разные проекты. Менялся начальник, а с ним и взгляд, и проект» (Ч. 1, гл. I). Таков же старик Пахотин, все общественное значение которого заключается в том, что он «имеет важный чин, две звезды и томительно ожидает третьей» (Ч. 1, гл. II). Такова и Софья Беловодова, живущая под надзором и по советам своих теток и не смеющая отстоять зародившееся чувство к Ельнину. Райский, очевидно, прав, когда говорит ей: «Над вами совершено систематически утонченное умерщвление свободы духа, свободы ума, свободы сердца!» (Ч. 1, гл. XIV). Марфенька и Викентьев также живут не своей волей, не своим умом, они с удовольствием подчиняются опеке бабушки.
В статье «Лучше поздно, чем никогда» Гончаров прямо сформулировал это: «Марфенька и Викентьев, эта чета не дает бабушке ни горя, ни тревог. Последняя знает, что ни тот, ни другой из послушания ее не выйдут и будут жить, как она укажет» (VIII, 97). Не отличается волей и самостоятельностью и Леонтий Козлов, живущий готовыми образцами, выработанными в древности. Леонтий говорит Райскому: «Вся программа, и общественной и единичной жизни, у нас позади: все образцы даны нам» (Ч. 2, гл. VIII).
Все это разные виды безволия или, иначе говоря, «обломовщины». Всем указанным героям не хочется решать все новые и новые жизненные задачи. Они хотели бы остановиться на одном застывшем идеале. В них действует огромная сила инерции. Бабушка — не только «волевая», но и «деспотичная» женщина. В ее образе автор пытается передать не только, а может быть, и не столько особенности национального русского характера, сколько особенности российского государственного менталитета. С одной стороны, деспотизм сам обречен на определенное «безволие»: бабушка «говорит языком преданий, сыплет пословицы, готовые сентенции старой мудрости… весь наружный обряд жизни отправляется у ней по затверженным правилам» (Ч. 2, гл. X). С другой стороны, Гончаров, как и в массе своей все русские либеральные консерваторы того времени, склонен верить в здоровые начала русской государственности. Отсюда замечание: «В тех случаях, которые не могли почему-либо подойти под готовые правила, у бабушки вдруг выступали собственные силы, и она действовала своеобразно» (Ч. 2, гл. X).
У бабушки есть «собственные идеи, взгляды и понятия».
Наконец, в романе есть целая группа героев, обладающих нравственной самостоятельностью и даже пытающихся соединить «волю» как силу моральную (вера в «любовь», идеалы, в человеческую «душу») и волю как способность к преобразующей деятельности. Гончаров видит идеал в соединении воли «сердца» и воли «ума».
Райский — герой наиболее близкий автору в понимании «воли» как моральной силы: он чистый идеалист. Человеческая душа это не только то, что Райский признает, но и то, что поставлено им во главу угла в деле любого прогресса, любого преобразования. Он лишь порывается к деятельности, но дальше первых шагов не идет. На протяжении всего романа Райский говорит о свободе, воле, самостоятельности личности. Он призывает Софью Беловодову к познанию «свободного побуждения, собственного шага, каприза, шалости, хоть глупости» (Ч. 1, гл. IV).
Герой пытается заключить «договор» со своей деспотичной бабушкой: «Предоставим полную свободу друг другу… дадим друг другу волю…» (Ч. 2, гл. IX). Райский обращается к Татьяне Марковне со словами: «Хорошо, бабушка, я уступаю вам Марфеньку, но не трогайте Веру… Не стесняйте только ее, дайте ей волю. Одни птицы родились для клетки, а другие для свободы… Она сумеет управить своей судьбой…» (Ч. 3, гл. X).
Между Марком Волоховым и Райским немало общего при всей принципиальной разнице. У Марка своя «тема» в романе, он вообще стоит здесь несколько особняком, отдельно от других героев. В то же время в его образе автор сознательно показывает сходство с Райским, основанное на склонности к утопическим мечтаниям, актерству и чувственности. При всем его «материализме» Волохов тоже «романтик» и «дилетант», как и Райский. В романе оба они заняты одним делом: пытаются пробудить от духовной спячки окружающих их людей. У обоих есть нечто от грибоедовского Чацкого, остро чувствующего всякую ложь и фальшь отжившего, омертвевшего жизненного порядка.
Оба они чувствуют в русском обществе кризис «старой правды». Оба зорче других видят вокруг себя признаки разложения и смерти.
Райский видит эти признаки в светской жизни Петербурга, в доме Пахотиных, где вазы напоминают собою «надгробные урны». Не случайна фраза Райского: «Нет, кузина, над вами совершено… умерщвление…» (Ч. 1,гл. ХIII). Воспоминания о доме Пахотиных вызывают у Райского ассоциации с «мраморными саркофагами, с золотыми, шитыми на бархате, гербами на гробах». О приволжском уездном городке Райский тоже думает: «Это не город, а кладбище» (Ч. 2, гл. IV). Он обращается к Леонтию Козлову с предложением «превращать эти обширные кладбища в жилые места» (Ч. 2, гл. VIII). Обострен взгляд на окружающее всеобщее тление и у Марка Волохова, который при встрече с Верой верно подмечает: «Вы живая, а не мертвая…» (Ч. 3, гл. XXIII).
Разговоры, которые ведет Райский с Софьей Беловодовой, в несколько ином виде, но фактически воспроизводятся в диалогах Волохова и Веры. Оба они учат «свободе чувства», оба — глашатаи нравственной свободы. И оба же больше говорят, чем делают, оба дилетанты: один — в искусстве, другой — в переделке истории. В разговоре с Райским Волохов замечает: «Говорите, что вздумаете, и мне не мешайте отвечать, как вздумаю» (Ч. 2, гл. XV). В этих его словах зеркально отражается просьба Райского к бабушке: «Вы делайте, как хотите, и я буду делать, что и как вздумаю» (Ч. 2, гл. IX), Недаром Райский говорит о Волохове: «Вот что-то похожее: бродит, не примиряется с судьбой.,» (Ч. 2, гл. XIV).
По-новому подходит в «Обрыве» писатель к категории «воли» в ее просветительском значении — как умению «управлять собой». Если в первых двух романах он показал героев, пытавшихся буквально по теории известного просветителя Ф. Р. Вейса овладеть наукой «переделки» человеческой природы, наукой «управлять собой»[297], то теперь Гончаров выдвигает на первый план понятие «природно данного».
Гончаров в «Обрыве» продолжает искать пути нравственной переделки человека. Однако теперь он гораздо трезвее и осторожнее. Если можно так выразиться, он стал более доверять Богу, более верить в Божий Промысл о человеке. Писатель уверен, что каждый человек наделен от Бога определенными дарами, что «бездарных» людей просто нет на свете. Иное дело, что человек сам отвергается этих даров, отходит от Бога. В этом смысле романист уже не ставит задачу резкой переделки личности. Вопрос стоит иначе: как человеку не растерять Божиих даров, как принести «достойный плод», правильно «торговать» — и приумножить данные Богом «таланты». Для этого потребна воля не в смысле просветительского «героического энтузиазма», а в смысле христианском, моральном. Природу нужно не переделывать, а развивать заложенные в ней возможности — вот к какой мысли приходит в «Обрыве» романист.
Для этого тоже нужна воля, но иная. В «Обломове» просветитель Штольц утверждал, что человек создан «менять свою природу». Совсем иное дело — Тушин: «А Тушин держится на своей высоте[298] и не сходит с нее. Данный ему талант — быть человеком — он не закапывает, а пускает в оборот, не теряя, а только выигрывая от того, что создан природою, а не сам сделал себя таким, каким он есть» (Ч. 5, гл. XVIII). В рассуждениях писателя начинают мелькать незнакомые нам по первым романам мысли о действительных границах в возможностях самопеределки человека: «Сознательное достижение этой высоты — путем мук, жертв, страшного труда всей жизни над собой — безусловно, без помощи посторонних, выгодных обстоятельств[299], дается так немногим, что — можно сказать — почти никому не дается, а между тем как многие, утомись, отчаявшись или наскучив битвами жизни, останавливаются на полдороге, сворачивают в сторону и, наконец, совсем теряют из виду задачу нравственного развития и перестают верить в нее» (Ч. 5, гл. XVIII). Это высказывание было невозможно ни в «Обыкновенной истории», ни в «Обломове». В сущности, Гончаров впервые ставит вопрос о действии Благодати в человеческой душе, хотя и не называет в романе этого слова.
В «Обрыве» отразился жизненный и религиозный опыт автора. Гончаров явно не доверяет «самоломанному», говоря словами Базарова, Штольцу и ему подобным. Если Штольц «ломал» себя с целью жизненного успеха (и это было полбеды!), то позднейшие герои русской жизни «ломали» себя в связи с задачами революционными. Гончаров начинает опасаться людей, легко трогающихся с места, отходящих от природно заданных ориентиров и устойчивых традиций нации и общества.
Поэтому в «Обрыве» заметно гораздо большее доверие автора к «природному» в человеке, чем ранее. Здесь как никогда много героев, отличающихся природной гармонией, а не гармонией, приобретенной в ходе самопеределки. Кроме Тушина, следует назвать, например, и Татьяну Марковну, о которой Райский размышляет: «Я бьюсь… чтобы быть гуманным и добрым: бабушка не подумала об этом никогда, а гуманна и добра… у бабушки принцип весь… в ее натуре!» (Ч. 2, гл. X). В провинции, изображаемой Гончаровым, вообще «не было ни в ком претензии казаться чем-нибудь другим, лучше, выше, умнее, нравственнее; а между тем на самом деле оно было выше, нравственнее, нежели казалось, и едва ли не умнее. Там, в куче людей с развитыми понятиями, бьются из того, чтобы быть проще, и не умеют, — здесь, не думая о том, все просты, никто не лез из кожи подделаться под простоту» (Ч. 2, гл. X).
Любопытно, что теперь некоторой переоценке подвергается и классификация, принятая Гончаровым в «Письмах столичного друга к провинциальному жениху», в которых «человек хорошего тона» оценивался все-таки весьма положительно. Ведь он обладает «тактом в деле общественных приличий» — а это уже немало, ибо включает в себя «многие нравственные качества уменья жить»[300].
Теперь же, с позиций осознания превосходства «голубиной простоты» над «змеиной мудростью», романист ставит под сомнение ценность «такта в деле общественных приличий»: «Послушать, так нужная степень нравственного развития у всех уже есть, как будто каждый уже достиг его и носит у себя в кармане, как табакерку, что это „само собой разумеется“, что об этом и толковать нечего… И все ложь… В большинстве нет даже и почина нравственного развития, не исключая иногда и высокоразвитые умы, а есть несколько захваченных, как будто на дорогу в обрез денег — правил (а не принципов) и внешних приличий…» (Ч. 5, гл. XVIII).
Вот когда Гончаров ощутил недостатки своей этики, разработанной в «Письмах столичного друга к провинциальному жениху»! Теперь все «головное», «форсированное», все «опосредующие» звенья (в данном случае — «правила»), стоящие между человеком и Богом-совестью, человеком и традицией, — трактуются как недостаток. Необходимы не «правила», коими руководствуется «человек хорошего тона» в общении между людьми, а именно «принципы», основанные на традиции, на глубокой внутренней потребности в добродетели. В «Обрыве» Гончаров, несомненно, ближе всего подходит к позициям христианской этики.
Нельзя не упомянуть и образ Марфеньки, которая тоже по-своему поставлена в романе на высокий нравственный пьедестал. Как и Тушин (только в женском варианте), она обладает природной гармонией. Правда, гармония эта весьма специфическая, автор не склонен считать ее образцовой. Но он считает, что «переделывать» что-либо в Марфеньке не нужно: этим можно лишь нарушить установившееся в ее натуре равновесие.
Недаром ее зовут Марфа: ее жизненный путь проходит под покровом этой евангельской святой. Марфа в Евангелии хотя и противопоставлена Марии, но не отвергнута, не отвергнут ее путь спасения: служения ближним[301]. Чуткий Райский правильно понял, что попытки переделки, предпринятые даже из благих побуждений, разрушат эту хрупкую гармонию. Он поступает единственно правильно, когда отступается от Марфеньки, задав ей вопрос: «А другою тебе не хочется быть?», — и получив в ответ: «Зачем?., я здешняя, я вся вот из этого песочку, из этой травки! не хочу никуда…» (Ч. 2, гл. XIII).
Гончаров, таким образом, не только осознал, но и подчеркнул, что Бог создает многообразие человеческой природы, и на каждом пути можно угодить Богу. Для Райского путь спасения кроется в евангельских словах: «Толцытеся и отверзнется вам». Для Марфеньки — это совсем иной путь, путь счастливой и тихой семейной гармонии среди множества детей. Лишь немногие натуры (как правило, они следуют «головным» путем самопеределки, как, например, Марк Волохов) выпадают из «нормы» и нуждаются в корректировке.
Заметим, что, создавая образ Марфеньки как героини со счастливой натурой, художник уже имел опыт подобного рода. Это образ Агафьи Матвеевны Пшеницыной из романа «Обломов». То, что проявляется в характерах этих героинь, у других могло бы выглядеть как уродство (отсутствие серьезных духовных запросов). Но у них счастливая духовная организация — писатель специально, как и в случае с Тушиным, подчеркивает этот момент: «Лицо ее (Пшеницыной. — В. М.) постоянно высказывало одно и то же счастье, полное, удовлетворенное и без желаний, следовательно, редкое и при всякой другой натуре невозможное» (Ч. 4, гл. IX). Уже в «Обломове» у Гончарова впервые появляется вполне наделенный Благодатью герой.
Если в «Обломове» счастливая природная гармония мелькнула лишь в образе Агафьи Матвеевны как редкое исключение, то в «Обрыве» (на фоне полемики с позитивизмом) такие натуры уже нередки и в своей совокупности наводят на мысль об определенной авторской концепции. К числу таких натур принадлежит и Леонтий Козлов. Университетские товарищи «старались расшевелить его самолюбие, говорили о творческой, производительной деятельности и о профессорской кафедре», т. е. пытались побудить его к «переделке» собственной натуры. На это Козлов отвечал: «Я потеряюсь, куда мне! нет, буду учителем в провинции!» (Ч. 2, гл. V).
В «Обломове» такая позиция героя, не доверяющего своим собственным силам, не желающего переделывать себя, опираясь на волю и самолюбие, приводит к драме. В «Обрыве» все иначе: «Все более или менее обманулись в мечтах. Кто хотел воевать, истреблять род людской, не успел вернуться в деревню, как развел кучу подобных себе и осовел на месте, погрузясь в толки о долгах в опекунский совет, в карты, в обеды. Другой мечтал добиться высокого поста в службе, на котором можно свободно действовать на широкой арене, и добился места члена в клубе, которому и посвятил свои досуги… Один Леонтий достиг заданной себе цели…» (Ч. 2, гл. IV). Естественность, «природность» Леонтия Козлова сказывается во всем и, конечно же, в характере его любви к жене: «Он любил жену свою, как любят воздух и тепло» (Ч. 2, гл. VI).
На протяжении действия, происходящего в Малиновке, Райский значительно меняет свои представления о «природно данном» в человеке. Первая мысль, которая появляется у него по приезде к бабушке: «Нет, это все надо переделать» (Ч. 2, гл. II). Но в конце концов он вынужден признать более значительную силу, чем упорное самовоспитание, которое лишь редких людей приводит к вершинам нравственного развития, — силу счастливой натуры: «Бабушка! Татьяна Марковна! Вы стоите на вершинах развития, умственного, нравственного и социального! Вы совсем готовый, выработанный человек! И как это вам далось даром, когда мы хлопочем, хлопочем!., вы велики!., я отказываюсь перевоспитывать вас…» (Ч. 3, гл. X).
Нужно иметь в виду, что религиозные идеи Гончарова выражены в его произведениях принципиально светским языком. В этом была доля «трезвения» для писателя. Насколько позволяли Гончарову рамки его романа, он раскрыл понятие «благодати» косвенным образом. «Природа», о которой в данном случае говорит Гончаров, это совсем не та «природа», которую имеет в виду, например, Волохов. Она не постигается методами естественных наук. Это природа духовная, предполагающая возможность не столько «переделки», сколько развития и сохранения заложенных Богом в человека благодатных свойств.
Такая природа предполагает не фатализм, а, напротив, постоянное усилие воли для того, чтобы остаться на нравственной высоте. Гончаров поясняет это на примере Тушина: «Заслуги мучительного труда над обработкой данного ему, почти готового материала — у него не было и нет, это правда. Он не был сам творцом своего пути, своей судьбы; ему, как планете, очерчена орбита, по которой она должна вращаться; природа снабдила ее потребным количеством тепла и света, дала нужные свойства для этого течения — и она идет неуклонно по начертанному пути. Так. Но ведь не планета же он в самом деле — и мог бы уклониться далеко в сторону. Стройно действующий механизм природных сил мог бы расстроиться — и от внешних притоков разных противных ветров, толчков, остановок, и от дурной, избалованной воли» (Ч. 5, гл. XVIII).
Любопытна сама природа этого сравнения. В романе «Обломов» Гончаров уже использовал параллель между духовными изменениями в человеке и превращениями «нашей планеты: там потихоньку осыпается гора, здесь целые века море наносит ил или отступает от берега и образует приращение почвы» (Ч. 4, гл. I). В «Обрыве» подобная же параллель сопровождается характерной оговоркой: «Но ведь не планета же он в самом деле» (Ч. 5, гл. XVIII). В этой оговорке заключен выпад писателя против позитивистских попыток поставить знак равенства между духовной и физической природой человека, между законами духовной жизни («воля», «любовь») и закономерностями движения мертвой материи.
Переход от изображения представителей «героического энтузиазма» к изображению «счастливых натур» в творчестве Гончарова обусловлен желанием художника показать не только силу «ума» (путем которого к гармонии могут прийти лишь исключительные, сильные герои-преобразователи), но и силу «сердца», силу господствующего в мире закона «любви». В свое время Е. А. Ляцкий так определил смысл этого перехода: «Его „старая правда“ покоилась на глубокой религиозности, не той, которая зовет человека на подвиг самоотречения и самопожертвования и является уделом немногих натур с высоким строем души и сильной волей, но иной, доступной самым обыкновенным людям, которые почерпают в вере спокойствие совести и душевный мир и живут больше чувством, чем умом»[302]. Много десятилетий размышляя о путях совершенствования человеческой души в своих романах, сам пройдя путь противоречий и сомнений, писатель все же приходит к простому выводу: если антично-просветительские добродетели «ума» (рассудительность, «героический энтузиазм») под силу не каждому, то христианские добродетели «сердца» («любовь») требуют лишь доброй воли. В «Обрыве» основополагающим этическим принципом становится евангельский принцип «любви».
Любовь и ранее играла большую роль в произведениях Гончарова, который, в числе других художников-реалистов второй половины XIX века, наследовал пушкинский принцип проверки своего героя прежде всего любовью. Не выдерживает этого испытания Александр Адуев, не оказываются на высоте нравственных требований Петр Адуев, Обломов, даже Штольц. В «Обыкновенной истории» мы не находим нормы любви, хотя автор много размышляет именно об этом. Эта норма не далась даже Елизавете Александровне — героине, наиболее близко к этой норме подошедшей. В «Обломове» норма любви «разделилась» между любовью евангельски цельной, но простодушной Агафьи Матвеевны и ищущей, культурной, но эгоистичной любовью Ольги Ильинской.
В «Обрыве» любовь — это уже не только средство испытания, моральной проверки героев, но и орудие нравственного совершенствования человека и преобразования мира. Понятие любви в романе оказывается в постоянном смысловом соприкосновении с понятиями долга и воли, На этих «трех китах» (любовь, долг и воля) и держится предлагаемая автором нравственная концепция.
Такое универсальное понимание любви у Гончарова не было только и сугубо религиозным: скорее можно говорить о религиозно-философской трактовке любви как одного из ведущих принципов его этики позднего периода творчества, В такой трактовке он оказывался близок не только непосредственно принципам христианской религии, но и тому пониманию любви, которое формировалось в недрах идеалистических философских систем, а затем в философии Л. Фейербаха, утверждавшего, что совершенный человек обладает силой мышления, силой воли и силой любви (чувства). Принципы античной и просветительской (буржуазной) этики отнюдь не отвергались Гончаровым даже в «Обрыве», однако доминируют принципы «любви» собственно евангельской.
Равновесие «ума» и «сердца» было нарушено позитивистами, отрицавшими идеальные («сердечные») нравственные ценности, В «Необыкновенной истории» об этом сказано так: «Анализ века внес реализм в духовную, моральную, интеллектуальную жизнь., и силою ума и науки хочет восторжествовать над природой. Все подводится под неумолимый анализ: самые заветные чувства, лучшие высокие стремления, драгоценные тайны и таинства человеческой души — вся деятельность духовной природы, с добродетелями, страстями, мечтами, поэзией, — ко всему прикоснулся грубый анализ науки и опыта»[303].
Любовь, «сердце» в «Обрыве» уравниваются в правах с «умом», имеющим в светской жизни безусловный перевес. Гончаров рассуждает об этом в романе: «А пока люди стыдятся этой силы, дорожа „змеиной мудростью“ и краснея „голубиной простоты“, отсылая последнюю к наивным натурам, пока умственную высоту будут предпочитать нравственной, до тех пор и достижение этой высоты немыслимо, следовательно, немыслим и истинный, прочный, человеческий прогресс»(Ч. 5, гл. XVIII). Писатель призывает человека «иметь сердце и дорожить этой силой, если не выше силы ума, то хоть наравне с нею» (Ч. 5, гл. XVIII).
Все сказанное объясняет, почему принцип «любви» в «Обрыве» следует понимать широко. Уже Штольц в «Обломове», глядя вокруг себя, «выработал себе убеждение, что любовь с силою Архимедова рычага движет миром; что в ней лежит столько всеобщей, неопровержимой истины и блага, сколько лжи и безобразия в ее непонимании и злоупотреблении» (Ч. 4, гл. VIII). Здесь как бы уже в общем виде набрасывается программа романа «Обрыв», в котором каждый из героев ищет правильного понимания любви, а самая любовь представлена в целом спектре нюансов и значений: от сугубо религиозного до обыденно-бытового. «Грех» бабушки, «обрыв» гордой, самостоятельной Веры, ставящей в основание любви «долг», «птичья любовь» Марфеньки и Викентьева, поиск красоты, смешанный с себялюбием и эгоизмом у Райского, трогательная и беззащитная любовь Леонтия Козлова к своей жене, мрачная и упорная страсть Савелия, бесчисленные «кошачьи» увлечения Марины, «ангельская» любовь Наташи, напоминающая любовь «бедной Лизы» Карамзина, олимпийская спокойная величавость Софьи Беловодовой — все это не только «картина страстей». Перед нами художественно-философское исследование «самовозвратной силы природы» (Н. В. Станкевич), «Архимедова рычага», движущего миром и человеком[304]. Любовь, представленная в «Обрыве», это и ведущий принцип христианской этики, и воплощение «красоты». В том и в другом случае это «бездна, отделившая человека от всех не человеческих организмов» (4. 4, гл. IV).
Художник
По первоначальному замыслу роман должен был называться «Художник». Принято считать, что в это название Гончаров вложил свою мысль об артистическом характере Райского — и только. Об этом достаточно много написано, и это стало уже общим местом.
Однако название «Художник» — в контексте религиозной мысли Гончарова — было также многозначным и притом слишком пафосным. Гончаров на него не решился. Художник — это ведь не только и не столько Райский, сколько Сам Творец, Бог, И роман Гончарова — о том, как Творец шаг за шагом создает и готовит для Царства Небесного человеческую личность, а также о том, что каждый человек есть прежде всего творец (художник) своей духовной жизни.
Акцентирование духовно-религиозного начала в романе может показаться, на первый взгляд, спорным. Мы слишком привыкли к исключительно «эстетическому» и психологическому восприятию романа и его героев. Мы забываем о том, что слово «художество» в святоотеческой литературе означает совсем иное, чем в светском словаре: мастерство молитвы, высшее мастерство, доступное человеку, — «самосотворение» в области духа. Гончаров, как всегда, избегает метода прямой номинации, выдвигая и защищая свои христианские идеалы. Кажется, что Райский не более чем художник-дилетант. Гончаров действительно вложил в его образ свои размышления об искусстве, о назначении художника. Соответственным сделал и психологический портрет героя: «Он живет нервами, управляемый фантазией, и страдает и блаженствует под влиянием приятных или неприятных ощущений, которым покоряются и его ум и чувства: оттуда такая подвижность и изменчивость в его натуре» (VIII. 214),
В то же время в Райском-художнике Гончарову важен более всего Райский-человек, Райский-христианин. Исследователи никогда не обращали внимание на главное творческое дело, которое делает художник Райский. Его «художественный статус» сводится литературоведами, как правило, лишь к чисто эстетическим проблемам. Однако за внешним эстетическим конфликтом романа кроется конфликт религиозный — конфликт веры и безверия. Образ Райского трактуется недостаточно масштабно: явно не в духе глобального замысла Гончарова, от которого у самого автора захватывало дыхание: «У меня мечты, желания и молитвы Райского кончаются, как торжественным аккордом в музыке, апофеозом женщин, потом родины России, наконец, Божества и любви… Я… боюсь, что маленькое перо мое не выдержит, не поднимется на высоту моих идеалов и художественно-религиозных настроений» (VIII. 338).
Значение образа Бориса Райского раскрывается лишь при взгляде на проблематику романа как христианскую. Ведь, по сути дела, главное, что делает в романе Райский, это то, что он «выделывает» свою душу, пытается творить нового человека в себе. Как же можно не заметить доминанту внутренней работы Райского? Это духовная, евангельская работа: «Он свои художнические требования переносил в жизнь, мешая их с общечеловеческими, и писал последнюю с натуры, и тут же, невольно и бессознательно, приводил в исполнение древнее мудрое правило, „познавал самого себя“, с ужасом вглядывался и вслушивался в дикие порывы животной, слепой натуры, сам писал ей казнь и чертил новые законы, разрушал в себе „ветхого человека“ и создавал нового» (Ч. 4, гл. 5). Эти авторские указания трудно переоценить! Вот какую колоссальную «художническую» работу проделывает в романе Райский, герой, который носит явно говорящую фамилию!
Иное дело, что при этом Гончаров, как всегда, пытается свести воедино идею религиозную и идею эстетическую— Именно поэтому он и хотел назвать Творца — Художником (что, собственно, не противоречит святоотеческой традиции). Из всех ипостасей Бога, заданных в катехизисе (Беспредельный, Всеведущий, Вездесущий, Всемогущий, Всеблагой и пр.), Гончарову особенно близка ипостась творческая — то, что Бог является Творцом вселенной и человека.
Высказывания Гончарова на богословские темы (в частности, в переписке с Великим князем Константином Константиновичем Романовым) убеждают, что он был человеком богословски просвещенным. Вероятно, романист был достаточно хорошо начитан в святоотеческой литературе. Во всяком случае, роман «Обрыв» показывает очень многое в этом плане. В частности, изображая самоанализ Райского, Гончаров пытается переложить святоотеческие представления о действии Святого Духа в человеке на язык художественного и психологического анализа: «Он, с биением сердца и трепетом чистых слез, подслушивал, среди грязи и шума страстей, подземную тихую работу в своем человеческом существе, какого-то таинственного духа, затихавшего иногда в треске и дыме нечистого огня, но не умиравшего и просыпавшегося опять, зовущего его, сначала тихо, потом громче и громче, к трудной и нескончаемой работе над собой, над своей собственной статуей, над идеалом человека.
Радостно трепетал он, вспоминая, что не жизненные приманки, не малодушные страхи звали его к этой работе, а бескорыстное влечение искать и создавать красоту в себе самом. Дух манил его за собой, в светлую, таинственную даль, как человека и как художника, к идеалу чистой человеческой красоты.
С тайным, захватывающим дыхание ужасом счастья видел он, что работа чистого гения не рушится от пожара страстей, а только останавливается, и когда минует пожар, она идет вперед, медленно и туго, но все идет — и что в душе человека, независимо от художественного, таится другое творчество, присутствует другая живая жажда, кроме животной, другая сила, кроме силы мышц.
Пробегая мысленно всю нить своей жизни, он припоминал, какие нечеловеческие боли терзали его, когда он падал, как медленно вставал опять, как тихо чистый дух будил его, звал вновь на нескончаемый труд, помогая встать, ободряя, утешая, возвращая ему веру в красоту правды и добра и силу — подняться, идти дальше, выше…
Он благоговейно ужасался, чувствуя, как приходят в равновесие его силы и как лучшие движения мысли и воли уходят туда, в это здание, как ему легче и свободнее, когда он слышит эту тайную работу и когда сам сделает усилие, движение, подаст камень, огня и воды.
От этого сознания творческой работы внутри себя и теперь пропадала у него из памяти страстная, язвительная Вера, а если приходила, то затем только, чтоб он с мольбой звал ее туда же, на эту работу тайного духа, показать ей священный огонь внутри себя и пробудить его в ней, и умолять беречь, лелеять, питать его в себе самой» (Ч. 4, гл. V).
Конечно, Райский — «практикующий христианин». Язык Гончарова в приведенном отрывке близок к сакральному. Здесь романист говорит о главном в поисках Райского: о «другом творчестве», «независимом от художественного», о «тайной работе» Духа в человеке. Да, как и всякий человек, Райский слаб и грешен. В нем показано постоянное борение добра и зла. В окончательный вариант текста не вошла характерная фраза Райского: «Что же я такое?., как я растолкую „им“, отчего сегодня я счастлив, пою и ликую, [а завтра вселится в меня семь бесов…]»[305]. Работа души по самоочищению в Райском идет тяжело (и это как раз весьма натурально!). Порою человек в нем отступает и просыпается зверь. Речь даже не о таких эпизодах, как падение с женой Козлова. Гораздо более печальны в нем отступления «доброго духа» в таких сценах, как подкидывание померанцевых цветов Вере: «Но пока еще обида и долго переносимая пытка заглушали все человеческое в нем. Он злобно душил голос жалости. И „добрый дух“ печально молчал в нем. Не слышно его голоса; тихая работа его остановилась. Бесы вторглись и рвали его внутренность… какой-то новый бес бросился в него» (Ч. 4, гл. XIV — ч. 5, гл. III). Он оступается и падает (как и другие герои романа, как Вера, как бабушка), но все идет вперед, стремится к чистоте «образа Божьего» в себе (или, как сказано в романе, к «идеалу чистой человеческой красоты»). В отличие от Художника-Творца Райский — художник-дилетант, художник несовершенный, как, впрочем, и все земные художники. Ибо, по слову св. евангелиста Иоанна, «без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15, 5). Но в данном случае дело не в результате, а в стремлении. Несовершенство прощается. Отсутствие стремления к совершенству — нет.
Райский в религиозной основе своей задуман Гончаровым как личность, несомненно, превосходящая и Александра Адуева, и Илью Обломова. К 1849 году писатель уже опубликовал «Обыкновенную историю» и «Сон Обломова» и задумал во время своей поездки в Симбирск «Обрыв». Все три романа сосуществовали в сознании писателя еще в 1840-е годы и не могли не корректировать общий замысел. А замысел этот был: выстроить глобальный по значению христианский идеал человека в современных условиях, показать пути духовного роста личности, различные варианты «спасения» и «борьбы с миром». Это был замысел, в наибольшей степени приближающийся в русской литературе к религиозным устремлениям Гоголя. Автор «Мертвых душ» и «Переписки с друзьями» также направил все усилия души своей не к частным проблемам человеческой жизни и общества, а к разработке главной проблемы: религиозного преображения во Христе современного русского человека.
Разница между Гоголем и Гончаровым заключалась, однако, в том, что последний был намерен, с одной стороны, решительно снять гоголевский морализм, а с другой — отказаться от сатирического и комического изображения человека. В одном из писем он пишет о Гоголе: «Иногда я верю ему, а иногда думаю, что он не умел смириться в своих замыслах, захотел, как Александр Македонский, покорить луну, то есть не удовольствовался одною, выпавшею ему на долю ролью — разрушителя старого, гнилого здания, захотел быть творцом, создателем нового, но не сладил, не одолел, увидал, что создать не может, не знает, что надо создать, что это дело других, — и умер! Следовательно… это дело спорное» (VIII. 337–338).
Таким образом, Гончаров признал за Гоголем исполнение лишь первой части христианского писательского подвига: «разрушителя старого» (сатира и комизм Гоголя). Очевидно, христианский морализм писателя, попытка создать образ «положительно прекрасного человека» признаются Гончаровым как неудачные: «это дело других». Но кто эти другие? В первую очередь автор «Обрыва» мыслил в этой роли себя — и не без оснований. В его трилогии последовательно осуществлялся именно положительный, созидательный замысел: создание образа современного христианина в его борениях, неудачах, но неуклонном шествовании вперед — к Христу. Гончаров как художник-реалист не претендовал на создание образа «идиота», как, например, Достоевский. Его герой должен был остаться типичным современным человеком. И в то же время он должен был нести в себе неистребимое зерно христианства в его современных проявлениях.
От этого Райский — образ не абсолютно положительный, не надуманный, не исключительный. Он не Гамлет, не Дон-Кихот, не «положительно прекрасный человек», вообще не борец и не идеальная личость. Не его дело — менять жизнь. Много-много, что он сделает, — это попытается художнически обнять ее своею мыслью и фантазией. Но, насколько позволяют ему его силы, он борется за переделку жизни. Он повлиял в романе на многих. Именно он разбудил бабушку, которая до этого всю жизнь мирилась с Тычковым и ему подобными. Его роль в романе Волохова и Веры — не только комическая и страдательная. Вера невольно использует аргументацию Райского в своем духовном поединке с Волоховым. В отличие от Александра Адуева и Обломова Райский является тем человеком, который не только не хочет, но уже и не может уступить свои высокие идеалы.
Зерно христианской мысли в этом образе заключается не в том, что Райский достиг «Рая», а в том, что во всех обстоятельствах жизни, всегда, везде, при любых своих несовершенствах и падениях, не унывая и отчаиваясь, стремится к воплощению христианского идеала. В этом и вся реально возможная задача для современного человека-мирянина — так считает Гончаров. Да, Райский столь же слаб, как и герои двух первых романов, но в нем есть стремление к «творчеству» над собственной личностью — по сути, он более религиозен. Вот почему Гончаров называет его Райским: он, несмотря на все неудачи и падения, не оставляет своего стремления в Рай, активно проповедует добро, несмотря на собственное несовершенство. Недаром между Аяновым и Райским состоялся такой разговор:
«— И чем ты сегодня не являлся перед кузиной! Она тебя Чацким назвала… А ты был и Дон-Жуан, и Дон-Кихот вместе. Вот умудрился! Я не удивлюсь, если ты наденешь рясу и начнешь вдруг проповедовать…
— И я не удивлюсь, — сказал Райский, — хоть рясы и не надену, а проповедовать могу — и искренно, всюду, где замечу ложь, притворство, злость — словом, отсутствие красоты, нужды нет, что сам бываю безобразен…» (Ч. 1, гл. V).
Вот в чем, а не в красивых разговорах об искусстве, следует искать существенно важные положительные черты Райского, Райский как эстет и дилетант-художник выписан не менее подробно, но стержневой момент его характера — духовность и нравственность — более, чем собственно эстетика. Вернее сказать, в той «красоте», которую проповедует герой, главное место занимает духовность. Понятно, что гончаровский герой не всегда находится на высоте своих духовно-эстетических идеалов. Каждый раз он раскаивается в своих ошибках, но не отчаивается, а снова начинает движение вперед. В полном соответствии с учением святых отцов Церкви. Такой шаг вперед к идеальному герою оказался для романиста возможен именно потому, что он стал мыслить более церковно, более догматически.
Таким образом, Гончаров, несомненно, примыкает к той линии развития русской литературы, которую мы называем «религиозной»[306]. Здесь он невольно отклоняется от Пушкина и приближается к Гоголю и Достоевскому. Однако пытается скорректировать их духовно-художнический опыт Пушкиным: уклоняется как от разоблачительного пафоса Гоголя[307], так и от идеализации и акцентирования религиозной проблематики Достоевского. Он по-прежнему более всего доверяет чувству соразмерности Пушкина. Как христианин Гончаров отталкивается прежде всего от Евангелия. В основе его собственной христианской жизни — полное отсутствие фальши, показного актерства, нажимов и акцентировки. В этом он следует Пушкину. То же он ценит и в своих героях. Татьяна Ларина, несомненно, один из самых глубоких христианских образов в русской классической литературе. Но она не ведет никаких идейных религиозных разговоров, далека от теоретических богословских вопросов — в отличие, например, от героев Достоевского («Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы»), Она просто поступает по-христиански, когда говорит: «Но я другому отдана; я буду век ему верна»[308]. Таковы-то герои Гончарова. Это герои христианского поступка, а не горячих речей и теоретических вопросов.
Кроме того, Гончаров считает неестественным для мирянина рядиться в монашеское одеяние, уходить от мира, «педалировать» христианство в мирской деятельности, в том числе в искусстве. Поэтому рядом с дилетантом Райским он помещает еще одного «художника» — Кирилова. Кирилову мало быть просто христианином. В статье «Намерения, задачи и идеи романа „Обрыв“» Гончаров так раскрывает замысел этого образа: «В противоположность таким дилетантам-артистам у меня в первой части является силуэт художника-аскета, Кирилова, который хотел уйти от жизни и впал в другую крайность, отдался монашеству, ушел в артистическую келью и проповедовал сухое и строгое поклонение искусству — словом, культ. Такие художники улетают на высоты, на небо, забывая землю и людей, а земля и люди забывают их. Таких художников нет теперь. Таков отчасти был наш знаменитый Иванов, который истощился в бесплодных усилиях нарисовать то, чего нельзя нарисовать, — встречу мира языческого с миром христианским, и который нарисовал так мало. Он удалился от прямой цели пластического искусства — изображать — и впал в догматизм» (VIII. 216),
«Апостол лжи». «Демон» М. Ю. Лермонтова
По сравнению с «Обыкновенной историей» (1847) и «Обломовым» (1859) «Обрыв» (1869) — произведение более напряженное и драматичное. Герои уже не погружаются медленно в засасывающий пошлый быт, но совершают явные крупные жизненные ошибки, терпят нравственные крушения. В романе обсуждаются такие значимые темы, как Россия, вера, любовь…
Не забудем, что в 1860-е годы сам Гончаров переживает глубокий мировоззренческий кризис. Не порывая окончательно с либерально-западническими настроениями, он рассматривает проблему России и русского деятеля уже в рамках Православия, видя в последнем единственно надежное средство против общественного распада, наблюдаемого в стране и в человеческой личности. Отсюда символическое имя главной героини романа — Вера, отсюда фамилия героя — Райский, отсюда абсолютная пронизанность текста «Обрыва» библейскими, в особенности евангельскими реминисценциями и символикой.
Главный сюжет романа группируется вокруг фигур Веры и Марка. В «Обрыве» изображается открытая (как никогда у Гончарова) духовная борьба. Это борьба за душу Веры и за будущее России. Открытость этого противостояния такова, что Гончаров, не выходя за рамки реализма, впервые готов ввести в произведение «демонов» и «ангелов» в их борьбе за человеческую душу. Впервые в творчестве Гончарова на сцену почти открыто выходят потусторонние силы. Гончаров не только не отрицает мистическое, но и пытается средствами реалистического искусства воспроизвести его. Разумеется, романист не стал фантазировать и, подобно Гоголю (например, в «Вечерах на хуторе близ Диканьки»), изображать беса, но прибегнул к другому средству: к явственной параллели с тем литературным произведением, которое является образцом такого «фантастического» противоборства ангелов и демонов. Это поэма М. Ю. Лермонтова «Демон». В сцене соблазнения Райского Ульяной Козловой последняя цитирует лермонтовского «Демона»: «Оставь угрозы, свою Тамару не брани…» Цитата кажется тем более случайной, что приведенные слова в поэме Лермонтова обращены к отцу Тамары и не имеют никакого непосредственного отношения к теме «соблазнения». Между тем анализ гончаровского романа показывает, что цитата из Лермонтова далеко не случайна. Стержневой психологический сюжет «Обрыва» постоянно репродуцирует идейно-психологические ситуации лермонтовского «Демона».
Прежде всего ассоциации с «Демоном» вызывает идейно-психологический конфликт по линии: Марк Волохов — Вера. Слабее эта параллель намечена в отношениях Райского и Софьи Беловодовой.
Лермонтовский Демон является культурным наследником мировой демонологии в литературе и носителем таких общих всем подобным персонажам черт, как крайняя гордость, презрение к миру людей, стремление к познанию и свободе, желание облечь зло в красоту, хотя исследователи и отмечают некоторую утрату глубины в лермонтовском образе по сравнению с мировой традицией[309]. Все эти черты находим мы и в гончаровском нигилисте Марке Волохове.
В центре внимания романиста столкновение новой, атеистически-материалистической «правды» Марка Волохова, «нового апостола», и правды бабушкиной, правды традиционно-православного мировосприятия воцерковленного человека. Такой сюжет и такой конфликт не мог не вызывать определенных ассоциаций с лермонтовским «Демоном», так как и там на крайних полюсах конфликта, с одной стороны, «царь познанья и свободы… враг небес», а с другой — «церковь на крутой вершине», прямо напоминающая ту «часовню», в которой перед иконой Спасителя Вера черпает свои силы в идейном столкновении с Марком.
Марк несет на себе явный отпечаток не только демонизма вообще, но и, конкретно, отпечаток образа лермонтовского Демона. Оба героя являются соблазнителями, несут в своем характере сходные черты и приводят сходную аргументацию. Предлагая Тамаре «оставить прежние желанья», Демон обещает: «Пучину гордого познанья // Взамен открою я тебе».
Лермонтов использует здесь принципиально важный для характеристики Демона мотив, ставший общим местом в литературе, мотив «гордого познанья», Хотя именно лермонтовский Демон в данном случае скорее декларативен, Не случайно знакомый Гончарова по кружку «Вестника Европы» В. Д. Спасович отметил, что лермонтовский Демон «едва ли не напрасно провозглашает себя царем познания и свободы: он ничем не доказал своей мощи в области мышления…»[310]. Однако это не меняет сути дела: основная черта демонизма как такового — именно «гордость познанья» того, чего не дано знать другим, «толпе».
Демоническая гордость, основанная на убеждении в овладении истиной, неизвестной другим, является отличительной чертой и Марка Волохова: «После всех пришел Марк — и внес новый взгляд во все то, что она читала, слышала, что знала, взгляд полного и дерзкого отрицания…» (Ч. 5, гл. VI). Вспомним, между прочим, сцену знакомства Марка и Веры. Эта сцена выстроена как библейская мифологема, в которой уже содержится указание на демоническую роль Волохова. Волохов предлагает Вере… яблоко. И при этом говорит: «Вы, верно, не читали Прудона… Что Прудон говорит, не знаете?.. Эта божественная истина обходит весь мир. Хотите, принесу Прудона? Он у меня есть» (4.3, гл. XXIII). Так яблоко, предлагаемое Вере, незаметно превратилось в «яблоко познания». С первой же встречи Марк, как и всякий соблазняющий демон, намекает на обладание неким знанием — и соблазняет или пытается соблазнять именно намеками на «пучину познанья». Вера, в свою очередь, тоже уже затронута «светом просвещенья»: читала «Историю цивилизации» Гизо, знает имя Маколея и т. д.
Как и лермонтовский Демон, гончаровский «бес нигилизма» является своего рода «царем свободы». Свободы от религиозной морали, на которой основана жизнь общества. У Лермонтова Демон, дабы унизить в глазах Тамары эту религиозную мораль, указывает на ничтожество людей, ее носителей:
Без сожаленья, без участья Смотреть на землю станешь ты, Где нет ни истинного счастья, Ни долговечной красоты, Где преступленья лишь да казни, Где страсти мелкой только жить; Где не умеют без боязни Ни ненавидеть, ни любить…Демон патетически восклицает:
А стоят ли трудов моих Одни глупцы да лицемеры?.. Что люди? что их жизнь и труд?Все это весьма напоминает речи гетевского беса, разговоры булгаковского Воланда, размышления Печорина. С такой же демонической высоты пытается взирать и Марк Волохов на жизнь, окружающую Веру, на «бабушку, губернских франтов, офицеров и тупоумных помещиков» (Ч. 4, гл. I), па «седого мечтателя» Райского (Ч. 4, гл. XII), на «глупость… бабушкиных убеждений», «авторитеты, заученные понятия» (Ч. 4, гл. XII) и т. д. Он и Вере доказывает, что она «не умеет без боязни… любить», а потому и не способна к «истинному счастью».
Как и лермонтовский Демон, Марк обещает Вере «иных восторгов глубину», прежде всего «правду» природы, а не «ложь заученных правил», носителей которых называет он «мертвецами» (Ч. 4, гл. XII). Изображая своего «демона», Гончаров наследует устоявшуюся литературную традицию, диалектически «смешивая карты добра и зла»[311]. Его герой отнюдь не написан одной черной краской.
В статье «Лучше поздно, чем никогда» он отметил: «Я взял не авантюриста, бросающегося в омут для выгоды ловить рыбу в мутной воде, а — с его точки зрения — честного, то есть искреннего человека, не глупого, с некоторой силой характера. И в этом условие успеха. Не умышленная ложь, а его собственное искреннее заблуждение только и могли вводить в заблуждение Веру и других. Плута все узнали бы разом и отвернулись бы от него»[312]. Это диалектическое смешение добра и зла, холодной жестокости демона и искреннего заблуждения человека мы видим и у Лермонтова. Демон сам искренне верит в свои слова, когда, обращаясь к Тамаре, говорит:
Меня добру и небесам Ты возвратить могла бы словом.По-своему Демон честен перед Тамарой, как и Марк перед Верой. В кульминационной сцене перед «падением» Веры Марк недаром говорит о своей честности: «Если б хотел обмануть, то обманул бы давно — стало быть, не могу…» (Ч. 4, гл. XII). Весьма характерно и окончательное оформление психологического портрета Демона у Лермонтова. Герой поэмы хотя и желал искренно иного для себя жребия, тем не менее природы своей изменить не может, остается духом лжи, лукавства, жестокости и злобы. Финальная часть поэмы включает в себя разговор Демона и Ангела. Ангел уносит душу Тамары в Рай, но снова «взвился из бездны адский дух». Нечто подобное мы видим и в «Обрыве». Гончаров буквально следует схеме, начертанной Лермонтовым. Падение Веры уже искуплено исповедью и слезами бабушки, благородством Тушина, покаянием Райского, как и душа Тамары омывается слезами Ангела:
И душу грешную от мира Он нес в объятиях своих. И сладкой речью упованья Ее сомненья разгонял, И след проступка и страданья С нее слезами он смывал. Издалека уж звуки Рая К ним доносились…Вера уже начала уповать на перемену своей судьбы, начала отрезвляться. Именно в этот момент «взвился из бездны (читай: из „обрыва“. — В. М.) адский дух»: Марк присылает письмо Вере. «Пред нею снова он стоял», И у Гончарова в размышлениях Веры тот же ужас: «Боже мой! Он еще там, в беседке!.. грозит прийти…» (Ч. 5, гл. XII)).
Дальнейшие события определяются участием уже не двоих, а троих героев. У Лермонтова это Демон, Тамара и Ангел. У Гончарова: Марк Волохов, Вера и Тушин, готовый, как Ангел в лермонтовской поэме, загладить «проступок и страданье» Веры. В обоих произведениях следует спор-диалог двух оппонентов, спор за душу падшей женщины— Подобно тому, как Демон говорит «гордо в дерзости безумной: „Она моя!“», Марк Волохов тоже заявляет на Веру свои права: «Вы видите, что она меня любит, она вам сказала…» (Ч. 5, гл. XVI). В поэме Тамара «к груди хранительной прижалась, // Молитвой ужас заглуша», слушая такую речь. После получения письма от Волохова Вера также ищет, к чьей «хранительной груди» прижаться. Она находит защиту в Тушине, отчасти в бабушке и Райском: «Она на груди этих трех людей нашла защиту от своего отчаяния» (Ч. 5, гл. ХП). Именно Тушин избран ею на роль Ангела Хранителя для встречи с Марком. Он должен защитить ее от «злого колдуна». Хотя Тушин при встрече с Марком немногословен и не выходит за рамки отведенной ему роли, в сущности, он говорит все то же, что сказал Ангел в лермонтовской поэме Демону:
Исчезни, мрачный дух сомненья! Довольно ты торжествовал; Но час суда теперь настал И благо Божие решенье!«Исчезни» — к этому сводится и вся речь Тушина. Более того, Лермонтов говорит, что Ангел «строгими очами // На искусителя взглянул». Гончаров использует и эту, собственно лермонтовскую, деталь; Тушин также смотрит на Марка «строго»: «Тушин поглядел на него с минуту серьезно», у него в этом разговоре «пристальный, точно железный взгляд» (Ч. 5, гл. хлч).
Пока Демон боролся за душу Тамары, в нем еще была некоторая искренность, желание перемениться. Когда же борьба была проиграна, он явился в собственном своем виде — как воплощенное зло. Маска скинута — перед нами бес. Последнее появление на сцене лермонтовского Демона отмечено его злобой:
Но, Боже! — кто б его узнал? Каким смотрел он злобным взглядом, Как полон был смертельным ядом Вражды…В разговоре с Тушиным на поверхность выходит и злоба Марка, Гончаров говорит о «злой досаде», «злой иронии», «раздражении», «злобе», «злобных выходках». Есть и «смертельный яд»: «В него тихо проникло ядовитое сознание, что Вера страдает действительно не от страсти к нему» (Ч. 5, гл. XVI).
Весьма литературный Демон Лермонтова в общем виде предвосхищает всю «любовную идеологию» Марка Волохова. В уже упоминавшейся статье В. Д. Спасович отметил, что Демон — «существо, действующее голосом страсти…»[313]. Это принципиально важное наблюдение, особенно в плане проводимого сравнения. По мнению Марка, страсть оправдывает все и все побеждает, он даже считает, что теперь, после всего случившегося, «страсть сломает Веру» (Ч. 5, гл. XVI). В романе вообще много говорится о страсти. Но сама картина просыпающейся страсти Веры и ее падения — это не только картина развивающейся любви. Очевидно, Гончаров всегда помнит духовный смысл слова «страсть»: грех. Преп. Иоанн (сподвижник преп. Варсонофия Великого) говорит, что «страсти суть демоны»[314]. Н. Е. Пестов пишет: «Страсти есть болезни, язвы души демонического происхождения, которые при сильном развитии их ведут душу к духовной смерти. В состоянии страсти человек находится как бы в состоянии душевного опьянения. Св. отцы называют 8 главных страстей…»[315]. У Веры это страсти гордости и блуда, которые, по учению св. отцов, тесно между собой связаны. История ее отношений с Марком — это история поэтапного развития «страстей», не раз описанная в святоотеческой литературе: от помысла и соглашения с ним — к его приятию и затем к «пленению» души страстью. Когда Марк Волохов говорит, что «страсть сломает Веру», он (как демон) выражает уверенность, что человек находится уже в полном плену страсти — и не сможет освободиться от нее, а если попытается, то это чревато разрушением личности. Все это говорит о том, что Гончаров производит не только психологический, но и собственно духовный анализ человеческой души.
Лермонтовская ситуация в «Обрыве» несомненна. Она и диктует образные параллели. Не только Марк Волохов в чем-то принципиально важном сходен с лермонтовским Демоном. Такое же сходство можно обнаружить и между Тамарой и Верой. Психологические мотивировки в поэме Лермонтова по многим причинам не имеют однозначности и точно очерченного рисунка. Поэтому в Тамаре лишь конспективно намечено то, что разворачивается со всей силой и подробностью гончаровского психологического анализа в Вере. Отметим, во-первых, как главную черту, гордость обеих героинь. Соблазнение не могло бы состояться, если бы не гордость Тамары, отозвавшейся на гордый же призыв Демона и его лукавую жалобу:
Меня добру и небесам Ты возвратить могла бы снова. Твоей любви святым покровом Одетый, я предстал бы там…Тамаре как женщине это польстило. Она почувствовала свою значительность. Уже при первой встрече с Ангелом Демон говорит сам о гордости Тамары:
На сердце, полное гордыни, Я наложил печать мою…Проблема женской гордости давно интересовала Гончарова. Вспомним хотя бы Ольгу Ильинскую, которая мечтает своими силами полностью изменить жизнь Ильи Обломова, его душу: «И все это чудо сделает она, такая робкая, молчаливая, которой до сих пор никто не слушался, которая еще не начала жить! Она — виновница такого превращения!.. Возвратить человека к жизни — сколько славы доктору… А спасти нравственно погибающий ум, душу?.. Она даже вздрагивала от гордого, радостного трепета…» (Ч. 2, гл. VI). О Вере бабушка говорит: «Ты горда, Вера! Не Бог вложил в тебя эту гордость» (Ч. 3, гл. ХVIII). О гордости Веры много говорят в романе и герои, и автор. Говорит и она сама, сближаясь с Ольгой Ильинской: «Я думала победить вас другой силой… Я говорила себе часто: сделаю, что он будет дорожить жизнью» (Ч. 4, гл. XII). В черновом наброске к роману характерен диалог Веры и бабушки:
«— Кто нам застилал глаза?
— Лукавый!., мне мешал угадать твое горе, отвести тебя. А тебя ослеплял гордостью! И кому попалась ты, бедная!.. Взял свое враг рода человеческого!»[316].
Как видим, в этом эпизоде связь с лермонтовской поэмой обнажена.
Именно из-за своей гордости Тамара слаба и не может перестать слушать «духа лукавого»; поневоле звук его речей действует на нее:
Душа рвала свои оковы Но мысль ее он возмутил Мечтой пророческой и странной.Может быть, не случайно и сюжетно-композиционное совпадение в двух анализируемых произведениях. Сначала Тамара пытается справиться с «неотразимою мечтой» сама, затем, когда понимает, что все же гибнет, просит отца отдать себя в монастырь:
Я гибну, сжалься надо мной! Отдай в священную обитель Дочь безрассудную твою; Там защитит меня Спаситель…Итак, Тамара решила стать «невестой Христовой». Образ Спасителя здесь очень важен, так как он много раз появится и в «Обрыве». Но обращение к Спасителю — лишь последнее усилие в уже проигранной борьбе:
Но и в монашеской одежде, Как под узорною парчой, Все беззаконною мечтой В ней сердце билося, как прежде. Святым захочет ли молиться — А сердце молится ему (то есть демону. — В. М.)…Затем закономерно следует «падение» Тамары. Такова же схема поведения Веры в «Обрыве». Вера обращается к образу Спасителя в часовне впервые лишь в пятнадцатой главе третьей части романа. Интенсивность духовно-религиозной жизни нарастает у нее по мере приближения развязки в отношениях с Марком. Чем ближе к «падению», тем чаще можно видеть Веру перед образом Спасителя. Она вопрошает Христа о том, как ей поступить. Она «во взгляде Христа искала силы, участия, опоры, опять призыва» (Ч. 4, гл. X). Но гордыня Веры не дает ей чистой, очищающей молитвы, исход борьбы практически уже предрешен: «Райский не прочел на ее лице ни молитвы, не желания» (Ч. 4, гл. X). Несколько раз в романе Вера говорит: «Не могу молиться». Более того, Гончаров прямо воспроизводит в черновой редакции смысл стиха: «А сердце молится ему». После прозрения Вера обращается к бабушке: «Пойдем прежде в часовню, туда, где я напрасно молилась, потому что… молилась и идолу вместе. Пойдем, пойдем! Я могу теперь плакать и молиться!»[317]. Окончательная редакция «Обрыва» была освобождена Гончаровым от прямых, бьющих в глаза ассоциаций с лермонтовским «Демоном».
Один из первых исследователей иконы, кн. Е. Н. Трубецкой, писал, что «расстояние — это то первое впечатление, которое мы испытываем, когда осматриваем древние храмы. В этих строгих ликах есть что-то, что влечет к себе и в то же время отталкивает. Их сложенные и благословляющие персты зовут нас и в то же время преграждают нам путь; чтобы последовать их призыву, нужно отказаться от целой большой линии жизни, от той самой, что фактически господствует в мире… Благословляющие персты требуют от нас, чтобы мы оставили за порогом всякую пошлость житейскую, потому что „житейские попечения“, которые требуется отложить, утверждают господство сытой плоти.
Пока мы не освободились от ее чар, икона не заговорит с нами»[318]. В отношении к Вере ситуация, отмеченная Е. Н. Трубецким, конкретизирована через самонадеянность гончаровской героини. Дело в том, что Вера, еще не вкусившая горечи поражения, по-прежнему все еще остается гордой, надеется на свои силы прежде всего. Вот почему Гончаров, вдумчиво разбиравшийся в духовном состоянии своих героев, подчеркивает, что взгляд Спасителя «как всегда, задумчиво-покойно, как будто безучастно смотрел на ее борьбу, не помогая ей, не удерживая ее» (Ч. 4. гл. X). Не сразу смирилась она и после своего «падения». И потому снова тот же результат: «Образ глядел на нее задумчиво, полуоткрытыми глазами, но как будто не видел ее, перста были сложены в благословении, но не благословляли ее. Она жадно смотрела в эти глаза, ждала какого-то знамения — знамения не было. Она уходила, как убитая, в отчаянии» (Ч. 5, гл. VI).
Спаситель не спасает ни Тамару, ни Веру, так как они по гордости своей уже дали место в своей душе демону лжи и греха. Короткая реплика Тамары в X главе поэмы («Оставь меня, о дух лукавый!») показывает, сколь коротка ее борьба с Демоном. Говоря: «Молчи, не верю…», — она тут же обращается к нему: «Скажи, зачем меня ты любишь!» Этот вопрос окончательно губит ее, так как выдает в ней гордыню и желание слушать «духа лукавого», а также страсть.
Борьба Веры намного сознательнее, упорнее. Она не только равный соперник Волохову, но постоянно ощущает над собою покров «бабушкиной морали», как бы над ней ни иронизировал Марк. Как и Тамара, она начинает с сочувствия Волохову-демону, слушает его в надежде действительно «воротить его на дорогу уже испытанного добра и правды» (Ч. 5, гл. VI). Между тем ее «падение» было предрешено и духовно подготовлено, хотя и выглядит в романе внешне как случайность.
Вообще «падение» совершилось как факт духовный, как неизбежный результат излишней самонадеянности. Гончаров перебирает те же намеченные Лермонтовым мотивы: сочувствия, гордыни, женской страсти. Но в отличие от автора «Демона» подробно разрабатывает всю картину развития отношений: от гордого желания спасти другого до покаянного и мучительного поиска собственного спасения. Интересно, что в романе «Обломов» мотив женской гордости развивался иначе. Обломов совершенно не обладает демоническим комплексом, ни в коем случае не является обольстителем Ольги, скорее Ольга горда сама по себе, при этом она ничем в отличие от Тамары и Веры не жертвует.
Последнее упоминание в романе о Волохове возвращает и к «Демону», и к ассоциациям с лермонтовской темой вообще. После разговора с Тушиным Волохов чувствует себя неловко, страдает его гордость. Это не сожаление о Вере, а чувство униженной гордости, чувство уязвленного самолюбия и… поражения. «Он злился, что уходит неловко, неблаговидно… его будто выпроваживают, как врага, притом слабого…» (Ч. 5, гл. XVII). Ясно, что Марк при этом не изменился, остался все тем же «гордым царем познанья и свободы», только потерпевшим поражение. Мысль и настроение семнадцатой главы последней части романа как бы заключены в лермонтовских строках:
И проклял Демон побежденный Мечты безумные свои, И вновь остался он, надменный, Один, как прежде, во вселенной Без упованья и любви…Заканчивается глава выразительным сообщением о том, что Волохов «намерен проситься… в юнкера с переводом на Кавказ». Возникший здесь Кавказ снова отсылает нас к Лермонтову и его «Демону»[319].
Между прочим, этот отзыв свидетельствует, что Гончаров различает и разделяет духовную и эстетическую реальность образа Демона у Лермонтова, акцентируя мысль о некоей относительной условности и мифологичности всего сюжета. Несколько меняются его представления и акценты ко времени написания романа «Обрыв». Связано это, несомненно, с тем, что в 1860-е годы происходит заметный перелом в духовной жизни писателя, все более серьезно и глубоко утверждающегося в Православии.
В последнем своем романе Гончаров уже склонен воспринимать понятия, относящиеся к православной догматике, не в условно-эстетическом только их виде, но и в буквальном.
Психологический анализ удивляет своей близостью к принципам анализа человеческой психологии в Православии— Понятия «греха», «зла», «демонизма» и даже «Святого Духа» (который хотя прямо и не назван в тексте, но является предметом анализа) и т-д. проявляются в «Обрыве» как реальность не только эстетическая, но и духовная. Отсюда своеобразие развития идеи и религиозно значимых образов в романе.
Один из самых ярких примеров видимого присутствия «демона» в романе, от описания которого не удержался Гончаров, содержится в реплике Волохова в XIII главе последней части «Обрыва»: «Это логично! — сказал он почти вслух — и вдруг будто около него поднялся из земли смрад и чад».[320] Этот как бы невзначай запечатленный Гончаровым фантастический образ «смрадного испарения», поднимающегося из земли, наводит на размышления. Природа этого образа — не художническая фантазия. Образ явно заимствован Гончаровым из святоотеческой литературы, которую он ко времени написания «Обрыва» уже начинает, очевидно, осваивать, хотя и не упоминает об этом нигде.
В «Лавсаике» епископа Еленопольского Палладия содержится повествование о древнем подвижнике по имени Нафанаил. Здесь рассказывается о том, как блаженный Нафанаил сумел избежать сетей дьявола, явившегося к нему в образе десятилетнего отрока, погоняющего осла. Когда Нафанаил разгадал уловку демона, тот, «посрамленный и сим поражением своим, обратился в вихрь и исчез с шумом, подобным тому, какой производят дикие ослы, когда бегут»[321]. Конечно, смысл гончаровского образа обратный: демон не исчез «вихрем», а наоборот, проявил свое появление.
Между прочим, «Лавсаик» был одной из самых читаемых православными христианами книг в XIX веке. Вероятнее всего, и автор «Обрыва» был с нею знаком, хотя генезис анализируемого образа может восходить и к другому источнику. Именно знакомством со святоотеческой литературой следует объяснять то, что в последнем романе проявились непривычные для Гончарова попытки осмысления многих христианских догм.
Здесь встает важный вопрос об отношении Гончарова не только к греху, но и буквально — к бесам. Для эпохи разложения церковного сознания — вопрос не праздный. Известно, например, что Ф. Достоевский хотя и изобразил черта в «Братьях Карамазовых», однако не верил в непосредственное воплощение нечистой силы, предпочитая уповать на милосердие Божие и снимая вопрос о наказании и справедливости. В. Малягин пишет по этому поводу следующее: в романе «Братья Карамазовы» автор «как бы стыдится исповедовать реальное существование бесов. „Черт“, приходящий к Ивану Карамазову, является плодом его болезненного воображения. Опять все объясняется психологией…»[322].
Возвращаясь к словам Волохова «Это логично!», скажем, что вообще все реплики о логике и логичности в романе окрашены в «демонологические» тона, что естественно, если учесть, что в Православии именно неодухотворенный рационализм и логика считаются одним из главных орудий беса. Встает вопрос: что побудило Гончарова подчеркнуть присутствие демона в словах Волохова? Бес в «Обрыве» воздействует на героиню прежде всего через познание и логику. Именно этим возбуждает Марк у Веры чувство гордости и собственной избранности. Указанный эпизод закрепляет в романе образ Марка как беса, соблазняющего Веру яблоком «познания» (в данном случае — новомодная теория Прудона) и почти буквально указывающего на свое бесовство: «Легион, пущенный в стадо» (Ч. 2, гл. XV).
В отличие от Лермонтова, давшего вольное и широкое, литературно-условное изображение Демона в русле мировой традиции, Гончаров гораздо ближе в этом плане к Достоевскому с его «бесами». Он более конкретен, чем Лермонтов, и показывает, как «демонизм» проявляется в конкретных личностях, причем делает это, постоянно сверяясь с Евангелием. Упомянутый Райским и «принятый» на себя в идеологической «игре» Волоховым «легион» также имеет своим источником Евангелие: «Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: „легион“, потому что много бесов вошло в него, и они спросили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им» (Лк. 8, 30–32).
Вообще демоническая тема — в ее проекции на современного человека — интересовала Гончарова давно, начиная еще с «Обыкновенной истории». Своего дядю Александр Адуев в письме к своему другу Поспелову характеризует так: «Я иногда вижу в нем как будто пушкинского демона… Не верит он любви и проч., говорит, что счастья нет, что его никто не обещал, а что есть просто жизнь…» (Ч. 1, гл. II). Здесь имеется в виду пушкинское стихотворение «Демон». К этому стихотворению Гончаров возвращается неоднократно. По верному замечанию В. Д. Спасовича, пушкинский демон — «хладный насмешник»[323]. Упоминание этого стихотворения призвано выявить социально-психологическую доминанту образа Петра Адуева, это «охлаждение» и «насмешка» над высокими идеальными порывами.
Характер включения пушкинского стихотворения в «Обыкновенную историю» любопытно интерпретирует Ю. Лощиц: «Ссылка Адуева-младшего на пушкинский текст решительно включает содержание „Демона“ в атмосферу житейских и идейных конфликтов романа. Гончаров сознательно проецирует ситуацию искушения на главные события „Обыкновенной истории“… Мифологическая подоплека романа разворачивается на наших глазах в целую картину типичного, так сказать „классического искушения“…»[324] Иначе говоря, Ю. Лощиц интерпретирует конфликт Петра и Александра Адуевых не просто как столкновение прагматика и романтика, но как сюжет «искушения», в котором Петр — «искуситель», а Александр — «искушаемый».
Несомненно, Ю. Лощиц прав: не только роман «Обыкновенная история», но и все романы Гончарова в конечном итоге воспроизводят конфликты вечные, восходящие к библейской мифологии. Вспомним, что мотив «искушения» есть и в отношениях Штольца и Обломова, Марка Волохова и Веры. Как и лирический герой пушкинского «Демона», младший Адуев переживает время, когда ему «новы все впечатленья бытия — и взоры дев, и шум дубровы, и ночью пенье соловья». Ему также волнуют кровь «свобода, слава и любовь». Дядя же его, как и пушкинский демон, «вливает в душу хладный яд», «зовет прекрасное мечтою», «не верит… любви, свободе», «на жизнь насмешливо глядит»…[325]
Другой искуситель послан Илье Обломову в лице его друга Андрея Штольца. Хотя Штольц и владеет всеми четырьмя главными христианскими добродетелями («мужество, благоразумие, целомудрие и правда»; что отражено отчасти и в его имени (Андрей — по-гречески «мужественный»), он все-таки в отношении к Илье Обломову является его «демоном», его «бесом-искусителем», причем бесом мефистофелевского плана. Роль Гретхен, своеобразно интерпретированную, играет в «Обломове» Ольга Ильинская. Как и Мефистофель, Штольц ведет Илью Обломова «на улицу», «в высший свет», в «петербургскую жизнь», в конце концов «дарит» ему на время Ольгу, подготавливая затем окончательное «падение» героя, после которого ему уже не встать.
Учитывая этот интерес Гончарова к теме, можно ожидать, что если «демон» в романе «Обрыв» один, то черты «демонизма», естественно, рассеяны во многих его героях. Прелюдией к «соблазнению» Веры Волоховым является ведь попытка Райского нашептать Софье Беловодовой о «свободе», необходимости «своей воли», «страстей». И он, подобно Волохову, похож на библейского змия, когда внушает Софье: «Над вами совершенно систематически утонченное умерщвление свободы духа, свободы ума, свободы сердца!.. Страсть не исказит вас, а только поднимет высоко. Вы черпнете познания добра и зла…» (Ч. 1, гл. XIV).
«Демоническое» начало проникает и в Веру — накануне ее «падения». Гончаров подчеркивает это, описывая Верины «тонкие пальцы как когти хищной птицы» и непривычный для Веры «сдержанный смех» (Ч. 4, гл. VIII). Напротив, Марфенька сравнивается в романе только с ангелами и херувимами[326].
В «Обрыве» мы находим понятия, играющие центральную роль в христианской этике: «кротость», «великодушие», «милосердие», «Промысел», «гордость», «искупление», «страсти», «помрачение ума», «самооправдание», «забвение», «уклонение от путей Господних», «ложь», «любовь», «долг», «Рай», «покаяние», «сон», «мерзость запустения», «смирение», «покаянные слезы», «наследственный грех», «исповедь», «скорби», «обет» и т. д. Многие из этих понятий не названы прямо, но воспроизведены в романе в своей содержательной сущности и в контексте православного мировидения автора. В этом смысле последний роман Гончарова задуман прямо как апологетическое христианское произведение.
В то же время Гончаров — прежде всего художник, а не богослов. Тяготея к относительной строгости употребления слов и понятий, к строго правильному «выверению», казалось бы, бытовых, жизненных ситуаций высокими и неизменными критериями и принципами православной религии, он вольно или невольно занят творческим построением и своего, локального и самостоятельного, религиозно-художественного «мифа».
Отсюда многомерность создаваемых образов. Например, Марк Волохов — не только «демон». Он и реальный носитель позитивных идей, «развенчивающих человека в один лишь животный организм»[327], и «ложный апостол» (в этом он очень сходен с Райским), ведущий свою «проповедь». Образ лермонтовского «демона», таким образом, формирует в романе лишь часть духовной составляющей Марка Волохова.
По определению того же В. Д. Спасовича, Демон у Лермонтова — это существо «жестокое»[328]. Сюжет и духовное напряжение в романе «Обрыв» потребовали уже не пушкинского, а лермонтовского «демона». Конечно, обращаясь к лермонтовскому персонажу, Гончаров верен лишь общей схеме этого образа, внося в него существенные коррективы. Если Лермонтов создает классический образ демона как такового — в традициях мировой литературы, — то Гончаров показывает, как демон действует в человеке. Некоторые поправки даны и в общей схеме. Так, Гончаров не верит, очевидно, желанию лермонтовского Демона вернуться в ангельское состояние, не верит, что хотя бы на короткое время он «вновь постигнул… святыню Любви, добра и красоты!»[329]. Но это не означает неверие Гончарова в покаяние. Покаяние (бабушки, Веры) — одна из центральных тем «Обрыва». Он не верит, очевидно, в покаяние Волохова.
«Демон»-Волохов в его романе прямо объявляет своей возлюбленной, что между ними происходит борьба двух воль и двух сил. Весь вопрос: чья воля сильнее. В «Обыкновенной истории» и «Обломове» вопрос ставился иначе: искушение происходило не на основе мужской и женской страсти, не через обольщение гордости, а на основе «покупки-продажи» души через обольщение комфортом, благами века и мира сего. Этот «мефистофелевский» вариант искушения восходил уже не к Лермонтову, а к Пушкину с его: «Не дорого ценю я громкие права…»
Вера
Вера постепенно вытесняет в романе Райского, занимая центральное место в его идейно-психологической коллизии. Райский переживает за Веру, готов оказать ей всяческую поддержку, подсказать, но действует в романе и противостоит безверию именно и прежде всего она. Именно она пройдет классический христианский путь: грех — покаяние — воскресение. Гончарову гораздо важнее драматический разрыв в образе Веры, нежели «праведность», свойственная героиням, например, Некрасова (декабристки в поэме «Русские женщины», Дарья в поэме «Мороз, Красный нос» и др.). Не о праведности размышляет автор «Обрыва», не ее ставит своей целью при создании женских образов, включая и Веру. Речь идет о более глубоких вещах: о поиске путей к преодолению «обрывов» в современной жизни и современной личности. Гончаров целеустремленно выстраивает образы героев, проводя их от падения до покаяния и воскресения. Другого, более простого и более величественного пути у христианина нет и не будет. В «Обрыве» писатель достигает вершины христианского художественного мышления.
Вера переживает характерную для современного человека драму. Весь вопрос состоит в том, устоит ли она в своей вере. Вера — личность, а значит, она должна проверить на собственном опыте и лишь после этого сознательно принять основополагающие принципы бабушки. Ее самостоятельность во всем заметна с детских лет: «Верочка плачет редко и потихоньку, и если огорчат ее чем-нибудь, она делается молчалива и не скоро приходит в себя, не любит, чтоб ее заставляли просить прощенья. Она молчит, молчит, потом вдруг неожиданно придет в себя и станет опять бегать вприпрыжку и тихонько срывать смородину, а еще чаще вороняшки, черную, приторно-сладкую ягоду, растущую в канавах и строго запрещенную бабушкой…» (Ч. 1, гл. X). Здесь вместе с самостоятельностью естественно присутствует и своеволие.
Гончаров не боится тех сомнений, которые испытывает Вера. Все эти «сомнения», собственно, таковыми и не являются. Известен эпизод, внушающий мысль о разладе Веры с Богом: «Нельзя жить, нельзя! — шептала она и шла в свою часовню, в ужасе смотрела на образ, стоя на коленях. Только вздохи боли показывали, что это стоит не статуя, а живая женщина. Образ глядел на нее задумчиво, полуоткрытыми глазами, но как будто не видел ее, персты были сложены в благословение, но не благословляли ее. Она жадно смотрела в эти глаза, ждала какого-то знамения — знамения не было. Она уходила, как убитая, в отчаянии» (Ч. 5, гл. VI). Здесь видно стремление Веры к познанию Божией воли. Однако она не может понять эту волю, так как проявляет в этот момент своеволие. Ведь она просит устроить все так, как хочет она сама, она не готова полностью положиться на Бога, не готова к возможному отказу — отсюда и отчаяние.
Чего же она просит? Чего хочет Вера? Ведь она считает, что женщина создана «для семьи… прежде всего» (Ч. 4, гл. XII). Девушка не сомневается в истине христианства ни на минуту. Это не сомнения, а самонадеянная, как у Тамары в лермонтовском «Демоне», попытка примирить Марка Волохова с Богом — через свою любовь. Вглядываясь в неординарную фигуру Волохова, полюбив его, Вера ни на минуту не усомнилась в Боге. Она только принесла ошибочную жертву — самое себя, — надеясь на духовное и нравственное перерождение своего героя.
В сцене «падения» Веры ясно видно желание Веры сделать шаг навстречу Волохову (если он не признает «обряда», а только самое «любовь») — в ожидании ответного шага. Вера как бы надеется, что если честный, прямой, искренний Марк, который настаивает именно на искренности отношений, берет на себя ответственность за нее, то теперь неизбежен и его ответный шаг. Это была роковая ошибка, основанная на женской гордости и попытке все решать «своим умом», не слишком доверяя опыту и наставлениям бабушки.
Веру не обольстило новое учение, которое принес с собою Волохов. Ее притягивали не идеи Марка, а его личность, столь не похожая на других. Ее поразило преломление этих идей в личности Марка, который ведь метко и верно поражал недостатки «ветхого» общества, в котором жила Вера. Недостатки, которые она замечала и сама. Вериного опыта, однако, не хватало, чтобы понять: от верной критики до верной положительной программы — огромная дистанция.
Сами же новые идеи не способны были отвести ее от веры в Бога, от понимания нравственных принципов. Нужно обратить внимание на то, что впервые об учении материалистов и социалистов она узнает не от Марка Волохова, а от… уважаемого ею священника Николая Ивановича. В девятой главе четвертой части состоялся очень важный диалог Райского и Веры, который ясно определяет, что героиня религиозно в основе своей сложилась задолго до встречи с Волоховым и вряд ли сможет отойти от Бога:
«— Я читала одна или со священником, мужем Наташи…
— Какие же книги ты читала с священником?
— Теперь я не помню… Святых отцов, например. Он нам с Наташей объяснял, и я многим ему обязана… Спинозу читали с ним… Вольтера…
Райский засмеялся.
— Чему вы смеетесь? — спросила она.
— Какой переход от святых отцов к Спинозе и Вольтеру! Там в библиотеке все энциклопедисты есть. Ужели ты их читала?
— Нет, куда же всех! Николай Иванович читал кое-что и передавал нам с Наташей…
— Как это вы до Фейербаха с братией не дошли… до социалистов и материалистов!..
— Дошли! — с слабой улыбкой сказала она, — опять-таки не мы с Наташей, а муж ее. Он просил нас выписывать места, отмечал карандашом…
— Зачем?
— Хотел, кажется, возражать и напечатать в журнале, не знаю…
— В библиотеке моего отца нет этих новых книг, где же вы взяли их? — с живостью спросил Райский и навострил ухо.
Она молчала.
— Уж не у того ли изгнанника, находящегося под присмотром полиции, которому ты помогала? Помнишь, ты писала о нем?..
Она, не слушая его, шла и молчала задумчиво.
— Вера, ты не слушаешь?
— А? нет, я слышу… — очнувшись, сказала она, — где я брала книги? Тут… в городе, то у того, то у другого…
— Волохов раздавал эти же книги… — заметил он.
— Может быть, и он… Я у учителей брала…
„Не учитель ли какой-нибудь, вроде m-r Шарля?“ — сверкнуло у него в уме.
— Что же Николай Иванович говорит о Спинозе и об этих всех авторах?
— Много, всего не припомнишь…
— Например? — добивался Райский.
— Он говорит, что это „попытки гордых умов уйти в сторону от истины“, вот как эти дорожки бегут в сторону от большой дороги и опять сливаются с ней же…
— Еще что?
— Еще? — что еще? Теперь забыла. Говорит, что все эти „попытки служат истине, очищают ее, как огнем, что это неизбежная борьба, без которой победа и царство истины не было бы прочно…“. И мало ли что он еще говорил!..
— А где „истина“? Он не отвечал на этот Пилатов вопрос?
— Вон там, — сказала она, указывая назад на церковь, — где мы сейчас были!.. Я это до него знала…
— Ты думаешь, что он прав?.. — спросил он, стараясь хоть мельком заглянуть ей в душу.
— Я не думаю, а верю, что он прав, А вы? — повернувшись к нему, спросила она с живостью.
Он утвердительно наклонил голову.
— Зачем же меня спрашиваете?
— Есть неверующие, я хотел знать твое мнение…
— Я в этом, кажется, не скрывалась от вас, вы часто видите мою молитву…
— Да, но я желал бы слышать ее. Скажи, о чем ты молишься, Вера?
— О неверующих… — тихо сказала она» (Ч. 4, гл. IX).
В этом диалоге выразилась вся сущность Веры, все ее духовное состояние.
Сомневаясь и проверяя, Вера выказывает себя нравственно здоровой личностью, которая неизбежно должна вернуться к традиции, хотя и может на какое-то время потерять почву под ногами. Это нравственное здоровье в романе связаны с ее верой в Бога. В Боге для Веры — «вечная правда», к которой она мечтала привести нигилиста Марка Волохова: «А где „истина“? Он не отвечал на этот Пилатов вопрос?
— Вон там, — сказала она, указывая назад на церковь, — где мы сейчас были!.. Я это до него знала…» (Ч. 4, гл. IX).
Образ Веры, прошедшей через демоническое искушение, оказался в творчестве Гончарова настоящей художественной победой. По психологической убедительности и реалистической достоверности он занял место сразу после Ильи Обломова, несколько уступая ему в пластичности и степени обобщенности, но зато превосходя его в романтичности и идеальной устремленности. Нужно сказать, что далеко не все современники Гончарова уяснили природу этого образа и правильно поняли художественный замысел Гончарова — показать истинно «эмансипированную» женщину, прошедшую через искушение и покаяние.
Критик Л. Н. Антропов не смог принять кающуюся Веру: «Если б Вера ушла за Марком к его телеге, если б она убила себя, пошла в монастырь или затворилась в себе, терпя в гордом одиночестве свое тайное горе, все это можно было бы понять, но Веры плачущей, молящейся, кающейся чуть ли не перед всеми, раскаивающейся в своем грехе, просящей прощения и обещающей исправиться мы понять отказываемся…»[330]. Критик совершенно не воспринял самой сердцевины романа Гончарова, не понял его задачи и замысла. Психологическая достоверность понимается им в рамках светской и нигилистической логики. Автор же «Обрыва» анализирует в романе психологию веры, включающую в себя как доминирующий элемент момент покаяния и внутреннего преображения человека, освящения его через «Фаворский свет». Интересно, что должен был бы сказать Л. Н. Антропов о поэме Лермонтова «Демон»? Ведь и в «Демоне», и в «Обрыве» женщина совершает падение, пытаясь «спасти» падшего ангела (человека). Иное дело, что драма состоит в самонадеянности и гордости героини. Но пройдя через искушение гордостью, преодолев это искушение, героиня становится чище неискушенных. Об этом прямо говорит бабушка в молитве к Богу: «Пощади это дитя, милосердствуй… она очищенная, раскаявшаяся, по слову Твоему, лучше многих праведниц теперь…»[331]. Ответ Гончарова звучит в словах бабушки, обращенных к Вере: «Я скажу тебе о пощечине, не обесчестившей чистого человека, — и о падении, не помешавшем девушке остаться честной женщиной на всю жизнь. Люди злы и слепы, Бог мудр и милосерд — они не разбирают, а Он знает и строго весит наши дела и судит Своим судом. Где люди засудили бы, там Бог освобождает»[332].
В «Обрыве» суд Божий противопоставлен суду человеческому, а психология духовная — психологии светской. Не понявшие этого внутреннего «механизма» романа, неизбежно впадали в ложный светский пафос — не только в оценке Веры, но и бабушки. Так, А. В. Никитенко в своем дневнике пишет о Татьяне Марковне: «Да простит нам высокодаровитый писатель, но этот характер… в заключении является психологической фальшью и клеветою на русскую женщину»[333]. Между тем Вера бесконечно выше многих «праведниц» в русской литературе того времени, в том числе и гончаровской Ольги из романа «Обломов». В Вере есть борьба со страстями, есть покаяние — а это важнейшие составляющие истинной духовной жизни человека. В Ольге этого нет. Образ Веры по своему символическому содержанию приближается к первообразу кающейся Магдалины. Не пропал втуне совет художника Кириллина Райскому: «Нет, — горячо и почти грубо напал он на Райского, — бросьте эти конфекты и подите в монахи, как вы сами удачно выразились, и отдайте искусству все, молитесь и поститесь, будьте мудры и, вместе, просты, как змеи и голуби, и что бы ни делалось около вас, куда бы ни увлекала жизнь, в какую бы яму ни падали, помните и исповедуйте одно учение, чувствуйте одно чувство, испытывайте одну страсть — к искусству! Пусть вас клянут, презирают во имя его — идите: тогда только призвание и служение совершатся, и тогда будет „многа ваша мзда“, то есть бессмертие. А вам недостает мужества, силы нет, и недостает еще бедности… Закройте эту бесстыдницу или переделайте ее в блудницу у ног Христа» (Ч. 1, гл. XVII).
Вера действительно изображена как раскаявшаяся грешница, впавшая сначала в заблуждения духовные, в гордость, а затем и в плотский грех. Это действительно «блудница у ног Христа». Образ Ольги Ильинской меркнет рядом с этим евангельским образом. Лишь очертив живую фигуру христианки, которая не только рассуждает о своем долге, но и пытается его практически исполнить (хотя и не без ошибок), мог Гончаров вложить в уста Райского пафосные слова о человеке и в особенности о женщине как «орудии Бога»: «Мы не равны: вы выше нас, вы — сила, мы — ваше орудие… Мы — внешние деятели. Вы — созидательницы и воспитательницы людей, вы — прямое, лучшее орудие Бога» (VIII.99).
Евангельская логика «Обрыва»
В «Обрыве», несомненно, господствует евангельская логика. Причем Гончаров позволяет себе гораздо более заметные авторские акцентировки, чем в предшествующих романах, и даже прямые отсылки к Библии. Более того, упоминает Гончаров в романе «Обрыв» и о святых отцах Церкви. Вот Леонтий Козлов приглашает Райского навестить родное имение и, между прочим, взглянуть на библиотеку. В библиотеке же Райских был богословский отдел с писаниями св. отцов: «Слушай и бей меня: творения св. отцов целы, весь богословский отдел остался неприкосновенным…» Святых отцов читает и Вера, их труды объясняет ей священник, отец Николай, муж ее подруги (Ч. 4, гл. IX).
Недаром также последний роман насыщен библейскими реминисценциями. Райский напоминает Софье Беловодовой библейский завет «плодиться, множиться и населять землю». Упоминаются в романе такие ветхозаветные персонажи, как Иаков, Иона, Иоаким, Самсон и др. Гончаров использует Ветхий Завет и Евангелие прежде всего для разработки «притчевых» ситуаций. Так, Марк искушает («мудрый, как змей», представитель умственного прогресса) при первом знакомстве Веру яблоками. Но, отталкиваясь от ветхозаветного сюжета, писатель придает ему современный смысл: яблоки эти из Вериного же сада, и предлагает их Марк ей, предварительно «поделившись» с нею же по теории Прудона (его имя звучит в этом разговоре).
То, что Марк входит не в дверь, а в окно, тоже имеет свой мифологический подтекст. В Евангелии от Иоанна Иисус обращается к своим слушателям: «Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их…» (Ин. 10, 1–3). Тем самым Гончаров дает понять, что учение Марка ложно, и «овцы» не пойдут за ним, ибо далее у Иоанна Христос говорит: «Все, сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не послушали их» (Ин. 10, 8).
Неслучайно позитивистскую теорию Волохова автор называет «новой религией», а его самого «апостолом». В черновой рукописи «Обрыва» Вера обращается к Марку: «Ищете роли героя, передового человека, мученика…» Самое его имя содержит намек на евангельское происхождение. Важно знать, что среди других евангелистов— апостолов Марк выделялся тем, что его Евангелие было адресовано римской молодежи, Марк Волохов распространяет свое учение именно среди молодежи приволжского городка[334]. Однако ясно, что перед нами лжеапостол. Поэтому было бы логично предположить, что и фамилия героя также носит «евангельский» характер, Возможно, евангельский «прототип» Волохова — волхв, который в «Деяниях святых апостолов» зовется «лжепророком» (Гл. 13). Волхв Елима старался «отвратить… от веры» (Гл. 13, ст. 8). Апостол Павел обращается к волхву: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын диавола, враг всякой правды! перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» (Гл. 13, ст. 10). Как «совратитель с прямых путей» изображается в «Обрыве» Марк Волохов. «Не любит прямой дороги!» — говорит о нем Райский (Ч. 2, гл. XVI).
Опираясь на Евангелие, автор романа создает еще одну «притчевую» ситуацию. Несмотря на предупреждение Волохова о том, что он не собирается отдавать деньги, взятые взаймы, Райский все-таки одалживает его, т. е. отдает ему деньги без отдачи, поступая в соответствии с евангельскими заветами. В Евангелии от Луки сказано: «И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего…» (Лк. 6, 34–35).
Вспоминает Гончаров и сюжет об искушении Иисуса Христа дьяволом в пустыне: «Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему» (Мф. 4, 8–11). Именно этот эпизод ассоциируется со словами Райского к женщинам в «Посвящении» к его роману: «Рядом с красотой — видел ваши заблуждения, страсти, падения, падал сам, увлекаясь вами, и вставал опять и все звал вас, на высокую гору, искушая — не дьявольской заманкой, не царством суеты, звал именем другой силы на путь совершенствования самих себя, а с собой и нас: детей, отцов, братьев, мужей и… друзей ваших!» (Ч. 5, гл. XXIII).
Без уяснения этого библейско-евангельского фона в «Обрыве» невозможно правильно понять многие вопросы, связанные как с содержанием, так и с поэтикой романа. В частности, ясно, что против позитивистов Гончаров выступает, опираясь на евангельские моральные догмы.
Герои последнего гончаровского романа представляют собою широкую гамму характеров. В то же время они довольно явственно тяготеют к двум различным полюсам: веры и безверия. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить диалог Райского и Марфеньки в третьей главе 2-й части:
«— А если он картежник, или пьяница, или дома никогда не сидит, или безбожник какой-нибудь, вон как Марк Иваныч… почем я знаю? А бабушка все узнает…
— А Марк Иваньгч безбожник?
— Никогда в церковь не ходит.
— Ну, а если этот безбожник или картежник понравится тебе?..
— Все равно я не выйду за него!
— А если полюбишь ты?..
— Картежника или такого, который смеется над религией, вон как Марк Иваныч: будто это можно? Я с ним и не заговорю никогда; как же полюблю?
— Так что бабушка скажет, так тому и быть?
— Да, она лучше меня знает».
На полюсе веры крайне правую позицию занимает, конечно, бабушка Татьяна Марковна Бережкова, которая потому и носит фамилию, ассоциирующуюся со словом «берег» (а также со словами «беречь», «бережёт»). Марфенька твердо стоит на этом берегу, она никогда не ослушается бабушки. Но мыслящая Вера должна пройти через сомнения и опыт. Психологический стержень романа как раз и сокрыт в духовных метаниях Веры между традиционной моралью бабушки и «новой религией» Марка Волохова. Имя Веры подчеркивает, вокруг чего вспыхивают важнейшие споры в романе. С верой, с Православием связывает теперь Гончаров дальнейшие исторические судьбы России. Куда пойдет Вера — от этого очень многое зависит.
Сюжетные линии в романе «Обрыв» очень напряженны, и это не случайно. Каждая ситуация, каждый сюжетный ход, каждый характер, имя героя и т. д. — все это носит в романе символический характер, во всем этом сокрыто крайнее желание автора обобщить главные проблемы современности. Это и придало роману перегруженность и тяжеловесность, Узловая же проблема в романе — духовная. Она связана уже не только с судьбой героя (как это было в «Обыкновенной истории» и в «Обломове»), но и с судьбой России. В этом плане у романа обнаруживается некоторое сходство с «Идиотом» Достоевского и «Накануне» Тургенева. В этих романах складывается схожая сюжетная ситуация: выбор женщины между несколькими мужчинами символически решает вопрос о грядущих судьбах России.
Крайнее духовное напряжение заставило Гончарова вносить изменения в выработанную поэтику романа. Вот лишь один пример. Один из поэтически прекрасных приемов Гончарова в романе — сравнение Веры и Марфеньки с библейскими Марией и Марфой, Татьяной и Ольгой Лариными из пушкинского «Евгения Онегина», Но особенный колорит вносит в роман сравнение Веры с ночью, а Марфеньки — с солнцем: «Какая противоположность с сестрой: та луч, тепло и свет; эта вся — мерцание и тайна, как ночь — полная мглы и искр, прелести и чудес!» (Ч. 2, гл. XVI). Это сравнение «ночи» и «дня» не только поэтично. Оно и духовно. Марфенька проста, чиста, понятна. Глядя на нее, вспоминается евангельское: «Будьте, как дети…» Марфеньке Царство Небесное дается как бы без труда и особенных искушений. Таков удел «простых» людей. Райский, однажды чуть не решившийся соблазнить Марфеньку, сам вдруг почувствовал неестественность своих желаний: настолько простодушно отнеслась к его братским ласкам девушка. Осознав ее детскую чистоту, он говорит: «Ты вся — солнечный луч!., и пусть будет проклят, кто захочет бросить нечистое зерно в твою душу!» (Ч. 2, гл. ХIII).
Образ солнечного света, солнечного луча оказался в романе символом девственной чистоты, немыслимости женского и духовного падения. В отличие от Веры, полной «прелести» (не только женской, но и духовной, ибо Вера поддается на какое-то время обману «волхва-колдуна» Волохова), Марфенька не может пасть. Солнечный свет и невозможность падения соединены в 30-м слове «Лествицы» преп. Иоанна Лествичника, который пишет: «Вера подобна лучу, надежда — свету, а любовь — кругу солнца. Все же они составляют одно сияние и одну светлость… Первая все может творить и созидать; вторую милость Божия ограждает и делает непостыдною; а третья никогда не падает»[335]. Все эти свойства «дневные», «солнечные» присущи Марфеньке.
Если Марфенька — только солнечный свет, то Вера дана писателем в светотени. Она более рельефна, но и более «разорванна», истерзанна сомнениями и борениями с собой и Марком, в конечном итоге она менее цельна. Ее образ драматичен, ибо связан с покаянием. Марфенька не ошибается, и ей каяться не в чем, Вера же — образ драматически покаянный, более живой и реальный. Отсюда снова характерно всплывает ассоциация с библейским святым Иовом.
Опираясь на ветхозаветный рассказ о страданиях праведного Иова и о том, как отнеслись к нему ближайшие друзья, видя его как бы оставленного Богом, Гончаров ставит в «Обрыве» важный вопрос о том, что один суд — у людей, а другой — у Бога. Он пишет о всеми оставленной «грешной» Вере: «Она — нищая в родном кругу. Ближние видели ее падшую, пришли и, отворачиваясь, накрыли одеждой из жалости, гордо думая про себя: „Ты не встанешь никогда, бедная, и не станешь с нами рядом, приими Христа ради наше прощение“».
Эти слова свидетельствуют о том, что романист глубоко вдумывался в судьбу библейского персонажа и делал из нее жизненно важные выводы. Тема страдания соединена у него с темой человеческого падения и столь различного отношения к грешнику людей и Бога. Ветхозаветная тема трансформировалась здесь в тему евангельскую, пронизанную любовью Бога к своему творению.
Название романа «Обрыв» несет в себе и такой смысл: нравственное падение или, иначе говоря, грех. Этот же смысл в святоотеческой литературе имеет и слово «страсть», столь часто повторяемое в романе Райским и Верой. Тема греха столь открыто никогда не рассматривалась Гончаровым.
В христианстве человеческая жизнь делится на три главных периода: грех — покаяние — Воскресение во Христе (прощение). Эту модель мы находим во всех крупных произведениях русской классики (вспомним хотя бы «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского!). Воспроизводится она и в «Обрыве». Причем связана тема прежде всего с судьбой Веры.
Впервые в гончаровском романе показаны не только грех, но и покаяние и воскресение человеческой души. Задумав нового героя, Гончаров хотел вначале лишь видоизменить старого. Ведь Райский — прямой духовный наследник Александра Адуева и Обломова. Однако столь резкая метаморфоза героя выглядела бы не слишком убедительно. Гончаров смещает акцент возрождения христианской души на судьбу женщины. Только так смог он включиться в духовно насыщенную, духовно акцентированную традицию русского романа (прежде всего Ф. М. Достоевского). Это был большой идейный прорыв в его творчестве.
«Обрыв» завершает романную трилогию, в которой характеры главных персонажей не только родственны, отчасти схожи друг с другом, но и развиваются от романа к роману по восходящей линии: от Адуева к Райскому.
Для самого Гончарова, настаивавшего на некоем единстве трех романов, объединяющей доминантой была религиозная идея спасения человека во Христе. Герой «Обыкновенной истории», в сущности, предает свои юношеские мечты, свои идеалы. Илья Обломов уже не поступается своими гуманными идеалами, но еще и не воплощает их в жизнь. Райский же постоянно пытается практически воплотить свои идеалы в реальную жизнь. И хотя это ему не удается, он хорош уже своим стремлением к этому. Гончаров показал, что в Райском как представителе уходящего класса русской жизни исчерпаны нравственные возможности дворянства. В «Обрыве» дворянский герой дошел до возможных нравственных высот — далее ему идти было некуда. Теперь духовные устремления писателя выразились уже в драматически изображаемом женском образе.
В этом сыграла роль не актуальная для того времени проблема эмансипации и не все более активное участие женщин в жизни общества: все-таки не женщины определяли судьбы русской общественной жизни. Дело было в другом: Гончаров должен был полноценно показать не только падение (обрыв-грех), не только покаяние, но и «воскресение» своего героя. При изображении общественно активного героя-мужчины, «работника» в русском обществе Гончаров неизбежно должен был уйти в утопию (ср. роман Ф. М. Достоевского «Идиот»). Он этого не хотел.
Поэтому он переводит центр тяжести романа в нравственную плоскость, несколько ослабляя историческую привязанность к моменту. Падение женщины — история, связанная не только с «новейшими учениями», это история вечная. Вот отчего Вера занимает в романе центральное место.
Райский является в романе духовным «наставником» Веры: «От этого сознания творческой работы внутри себя и теперь пропадала у него из памяти страстная, язвительная Вера, а если приходила, то затем только, чтоб он с мольбой звал ее туда же, на эту работу тайного духа, показать ей священный огонь внутри себя и пробудить его в ней, и умолять беречь, лелеять, питать его в себе самой» (4. 4, гл. V). Вера и признает в Райском эту учительную роль, говоря, что если пересилит свою страсть, то за духовной помощью придет к нему первому.
Хотя Райский прежде всего созерцатель и с его образом не связана идея драматического воскресения души, то, что он успевает сделать в романе, — уже немало. Отчасти это уже кающийся герой: приезжает он из Петербурга в Малиновку уверенный в своей правоте и цивилизованности, но быстро понимает, что не все так просто. Наблюдая жизнь вокруг себя, герой начинает корректировать свое поведение (а это и есть «исправление» своей жизни, возвращение на прямые ее пути, то есть покаяние). Обломов пробуждал вокруг себя женщин (Агафью Матвеевну, Ольгу Ильинскую) своей голубиной чистотой, своим отстранением от всего грязного, нецеломудренного. Райский же активен и пробуждает вокруг себя многих — своею проповедью. Причем по ходу действия его собственные воззрения претерпевают некоторые изменения.
В его фамилии ассоциированы представления не только о Райском саде (Эдем-Малиновка), но и о Райских вратах, ибо его искреннее желание переделать жизнь вызывает в памяти евангельское выражение: «Толцытеся — и отверзется вам» (в Райские врата). Нельзя сказать, что Райскому до конца удалось совлечь с себя «ветхого человека». Но такую задачу он перед собой поставил и пытался ее выполнить, как умел. В этом смысле он не только сын Александра Адуева и Ильи Обломова, но и герой, которому удалось преодолеть в себе некую инерцию, выйти на активную, хотя и не завершенную, борьбу с грехом.
В «Обрыве» главное ожидание — ожидание милосердия Творца. Его ждут все герои, которые связывают свою жизнь с Богом: ждет бабушка, желающая искупить свой грех, но не знающая — как и чем. Ждет Вера, претерпевшая жизненную катастрофу. Ждет Райский, не дорастающий до святости, но без конца падающий и восстающий от греха. Становится ясно, что герои Гончарова разделяются в романе на тех, кто выражает желание быть с Богом, и на тех, кто сознательно от него отходит. Первые отнюдь не святы. Но ведь Бог, как говорит пословица, «и за намерение целует». Бабушка, Вера, Райский хотят быть с Богом, устраивают свою жизнь под Его водительством. Они совсем не застрахованы от ошибок и падений, но главное не в этом, не в безгрешности, а в том, что их сознание и воля направлены к Нему, а не наоборот. Таким образом, Гончаров не требует от своих героев собственно святости. Их спасение не в безгрешности, а в направленности их воли к Богу. Дело их спасения должно завершить Божие милосердие. Все в рамках учения св. отцов Церкви.
Если сравнивать художественное произведение с молитвой, то роман «Обрыв» — это молитва: «Господи, помилуй!», взывающая к Божиему милосердию.
Слуги
Слуг романист всегда изображал не только в бытовом, но и в религиозном «интерьере». Вернее сказать, религия, в ее бытовом преломлении, всегда интересовала Гончарова при изображении слуг. Не является исключением и роман «Обрыв». Часто эти описания окрашены мягким юмором.
Так, например, Василиса во время нравственных страданий Татьяны Марковны, переходящих в тяжкую болезнь, обещала совершить паломничество в Киев, если барыня выздоровеет: «Люди были в ужасе. Василиса с Яковом почти не выходили из церкви, стоя на коленях. Первая обещалась сходить пешком к киевским чудотворцам, если барыня оправится, а Яков — поставить толстую с позолотой свечу к местной иконе» (Ч. 5, гл. VII). Когда все утихло, Василиса вспомнила об обете: «Как я пойду, силы нет, — говорила она, щупая себя. У меня и костей почти нет, все одни мякоти! Не дойду — Господи помилуй!
И точно у ней одни мякоти. Она насидела их у себя в своей комнате, сидя тридцать лет на стуле у окна, между бутылями с наливкой, не выходя на воздух, двигаясь тихо, только около барыни да в кладовые. Питалась она одним кофе да чаем, хлебом, картофелем и огурцами, иногда рыбою, даже в мясоед.
Она пошла к отцу Василию, прося решить ее сомнения. Она слыхала, что добрые „батюшки“ даже разрешают от обета совсем, по немощи, или заменяют его другим. „Каким?“ — спрашивала она себя на случай, если отец Василий допустит замен.
Она сказала, по какому случаю обещалась, и спросила: „Идти ли ей?“
— Коли обещалась, как же нейти? — сказал отец Василий. — Надо идти!
— Да я с испуга обещалась, думала, барыня помрет. А она через три дня встала. Так за что ж я этакую даль пойду?
— Да, это не ближний путь, в Киев! Вот то-то, обещать, а потом и назад! — журил он, — нехорошо. Не надо было обещать, коли охоты нет…
— Есть, батюшка, да сил нет, мякоти одолели, до церкви дойду — одышка мучает. Мне седьмой десяток! Другое дело, кабы барыня маялась в постели месяца три, да причастили ее и особоровали бы маслом, а Бог, по моей грешной молитве, поднял бы ее на ноги, так я бы хоть ползком поползла. А то она и недели не хворала!
Отец Василий улыбнулся.
— Как же быть? — сказал он.
— Я бы другое что обещала. Нельзя ли переменить?
— На что же другое?
Василиса задумалась.
— Я пост на себя наложила бы; мяса всю жизнь в рот не стану брать, так и умру.
— А ты любишь его?
— Нет, и смотреть-то тошно! Отвыкла от него…
Отец Василий опять улыбнулся.
— Как же так, — сказал он, — ведь надо заменить трудное одинаково трудным или труднейшим, а ты полегче выбрала!
Василиса вздохнула.
— Нет ли чего-нибудь такого, чего бы тебе не хотелось исполнить — подумай!
Василиса подумала и сказала, что нет.
— Ну, так надо в Киев идти! — решил он.
— Если б не мякоти, с радостью бы пошла, вот перед Богом!
Отец Василий задумался.
— Как бы облегчить тебя? — думал он вслух. — Ты что любишь, какую пищу употребляешь?
— Чай, кофий — да похлебку с грибами и картофелем…
— Кофе любишь?
— Охотница.
— Ну так — воздержись от кофе, не пей!
Она вздохнула.
„Да, — подумалось ей, — и правду тяжело: это почти все равно что в Киев идти!“
— Чем же мне питаться, батюшка? — спросила она.
— Мясом.
Она взглянула на него, не смеется ли он.
Он точно смеялся, глядя на нее.
— Ведь ты не любишь его, ну, и принеси жертву.
— Какая же польза: оно скоромное, батюшка.
— Ты в скоромные дни и питайся им! А польза та, что мякотей меньше будет. Вот тебе полгода срок: выдержи — и обет исполнишь.
Она ушла, очень озабоченная, и с другого дня послушно начала исполнять новое обещание, со вздохом отворачивая нос от кипящего кофейника, который носила по утрам барыне» (4. 5, гл. XI).
Несостоявшийся священник
В романах И. А. Гончарова собрано множество второстепенных персонажей, психологических бытовых типов, каждый из которых представляет собою законченное создание, вызывающее неподдельный интерес. Некоторые из них несколько неожиданны. Например, образ несостоявшегося священника, горемычного Опенкина, в романе «Обрыв».
Опенкин — не совсем обычный тип для русской литературы. «Это был скромный и тихий человек из семинаристов, отвлеченный от духовного звания женитьбой по любви на дочери какого-то асессора, не желавшей быть ни дьяконицей, ни даже попадьей» (Ч. 2, гл. XIX), Неисполнение своего долга перед Богом, уход от духовного призвания, служения церкви привел героя к жизненной драме. Его семейная жизнь не сложилась, и он стал выпивать, стараясь как можно больше времени проводить вне дома. «Он ли пьянством сначала вывел ее из терпения, она ли характером довела его до пьянства? Но дело в том, что он дома был как чужой человек, приходивший туда только ночевать, а иногда пропадавший по нескольку дней» (Ч. 2, гл, XIX).
Самая яркая характерная черта Опенкина — его речь, наполненная церковно-славянской лексикой. Эта речь по-своему торжественна, даже высокопарна, как и речь пьяницы Мармеладова в «Преступлении и наказании» Ф. М. Достоевского. Между героями обнаруживается некоторое сходство: Мармеладов, витийствуя в трактире, силится «восстановить лицо» и как бы призывает окружающих не забывать, что и горький пьяница имеет «лик Божий» и является все-таки человеком, Божиим созданием. Витийствуя, он поднимает главный вопрос — и своей, и всякой человеческой жизни: вопрос о спасении, вопрос об отношениях человека и Бога, вопрос о Божием милосердии к человеку: «…A пожалеет нас Тот, Кто всех пожалел и Кто всех и вся понимал, Он единый, Он и судия. Приидет в тот день и спросит: „А где дщерь, что мачехе злой и чахоточной, что детям чужим и малолетним себя предала? Где дщерь, что отца своего земного, пьяницу непотребного, не ужасаясь зверства его, пожалела?“ И скажет: „Прииди! Я уже простил тебя раз… Простил тебя раз… Прощаются же и теперь грехи твои мнози, за то, что возлюбила много…“ И простит мою Соню, простит, я уж знаю, что простит… И всех рассудит и простит, и добрых и злых, и премудрых и смирных… Иногда уже кончит над всеми, тогда возглаголет и нам: „Выходите, скажет, и вы! Выходите пьяненькие, выходите слабенькие, выходите соромники!“ И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: „Свиньи вы! образа звериного и печати его; но приидите и вы!“ И возглаголят премудрые, возглаголят разумные: „Господи! почто сих приемлеши?“ И скажет: „Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего…“ И прострет к нам руце Свои, и мы припадем… и заплачем… и все поймем!.. Господи, да приидет Царствие Твое!» (Ч. 1, гл. II).
Обращение к библейским сюжетам, церковнославянская лексика — характернейшая принадлежность и господина Опенкина в «Обрыве». Самые простые житейские ситуации он «обрамляет» в библейский контекст, проводит параллель с библейскими персонажами и т. п. К Марфеньке он обращается со словами: «Марфа Васильевна! Рахиль прекрасная, ручку, ручку…» О подделках дорогих вин Ватрухиным он говорит: «Теперь война, например, с врагами: все двери в отечестве на запор. Ни человек не пройдет, ни птица не пролетит, ни амура никакого не получишь, ни кургузого одеяния, ни марго, ни бургонь — заговейся! А в сем богоспасаемом граде источник мадеры не иссякнет у Ватрухина! Да здравствует Ватрухин!» (Ч.2, гл. XIX), Слугу Якова он встречает словами: «А! богобоязненный Иаков!.. приими на лоно свое недостойного Иоакима и поднеси из благочестивых рук своих рюмочку ямайского» (Ч. 2, гл. ХIХ).
Как и Мармеладов, Опенкин — человек кроткий и беззлобный. Сам о себе он говорит: «Кабак! кабак! Кто говорит кабак? Это храм мудрости и добродетели. Я честный человек, матушка: да или нет? Ты только изреки — честный я или нет? Обманул я, уязвил, налгал, наклеветал, насплетничал на ближнего? изрыгал хулу, злобу? Николи! — гордо произнес он, стараясь выпрямиться. — Нарушил ли присягу в верности царю и отечеству? Производил поборы, извращал смысл закона, посягал на интерес казны? Николи! Мухи не обидел, матушка: безвреден, яко червь пресмыкающийся…» (Ч. 2, гл. XIX).
Мармеладов опустился на самое дно жизни. Но главный штрих его личности — не пьянство, а покаяние, сознание своего ничтожества. Он обращается к Евангелию — и тем самым свою упавшую в грязь городского дна жизнь старается «приподнять», осмыслить в евангельском свете. Он понимает, что обращение к Священному Писанию для него, падшего, возможно лишь через личное покаяние и для покаяния. Мотивы покаяния, самоуничижения у Опенкина звучат иначе: всех, кроме себя самого, он «приподнимает» до положительных библейских героев, себя же определяет как героя, негативно определенного в Ветхом Завете. Так, Марфенька названа им прекрасной Рахилью. Ведь именно в это время Викентьев сватается к Марфеньке, подобно тому, как Иаков сватался к Рахили, дочери Лавана. Она была добродетельна и притом столь прекрасна, что Иакову не жалко было отдать семь лет своей жизни Лавану, работая на него за то, чтобы Рахиль была отдана ему в жены (Быт. 29, 1–28). Слугу Якова Опенкин называет «богобоязненным Иаковом» — и тоже не случайно: Яков религиозен и очень любит слушать рассказы из Священного Писания.
Не лишена комизма сцена, в которой Опенкин повествует о пророке Ионе: «Яков тупо и углубленно слушал эпизоды из Священной Истории; даже достал в людской и принес бутылку пива, чтобы заохотить собеседника к рассказу. Наконец Опенкин, кончив пиво, стал поминутно терять нить истории и перепутал до того, что Самсон у него проглотил кита и носил его три дня во чреве.
— Как… позвольте, — задумчиво остановил его Яков, — кто кого проглотил?
— Человек, тебе говорят: Самсон, то бишь — Иона!
— Да ведь кит большущая рыба: сказывают, в Волге не уляжется…
— А чудо-то на что?
— Не другую ли какую рыбу проглотил человек? — изъявил Яков сомнение.
Но Опенкин успел захрапеть.
— Проглотил, ей-богу, право, проглотил! — бормотал он несвязно впросонье.
— Да кто кого: фу, ты, Боже мой, — скажете ли вы? — допытывался Яков.
— Поднеси из благочестивых рук… — чуть внятно говорил Опенкин, засыпая.
— Ну, теперь ничего не добьешься!» (Ч. 2, гл. XIX).
В каждом человеке Опенкин видит положительное («святое») начало. Лишь себя он сравнивает с «недостойным Иоакимом». Царь Иоаким известен тем, что не послушал слов Бога, сказанных через пророка Иеремию: «Когда Иегудий прочитывал три или четыре столбца, царь отрезывал их писцовым ножичком и бросал на огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. И не убоялись и не разодрали одежд своих ни царь, ни все слуги его…» (Иер. 36, 23–24). Таким образом, называя себя недостойным Иоакимом, Опенкин признает свой грех непослушания Богу (уход от священнического сана).
Нет оснований говорить о том, что Гончаров, создавая своего Опенкина, испытал влияние Достоевского. У Достоевского практически нет второстепенных героев. В его романах даже второстепенные герои несут в своем образе некую идею и отнюдь не являются некими бытовыми зарисовками. Мармеладов здесь не исключение. Опенкин же ничего не решает в архитектонике «Обрыва». Он просто «попался под руку» Гончарову (как и Райскому). Религиозно-философские идеи автор «Обрыва» выстраивает через главных героев, в то время как второстепенные персонажи интересны сами по себе как типажи. Так, Опенкин — это «местная достопримечательность», провинциальный тип чиновника-пьяницы, который несчастлив в семье, бродит по знакомым и к которому притерпелся весь город: так что умри Опенкин — и как будто чего-то не будет хватать. Художественный принцип, которым руководствуется Гончаров, создавая подобных героев, выражен им в одном из писем к П. А. Валуеву: «Я принадлежу к числу небольших, но посредственных художников, которые, как пруд в саду, отражают верно только то, что художник видит, знает, переживает, т. е. то, что глядится в этот пруд, будь то деревья, ближайший холм, клочок неба и т. п. и что потом перерабатывается в его фантазии»[336].
Речь Опенкина, переполненная библейскими реминисценциями, показывает, что Гончаров прекрасно помнит не только Евангелие, которое он цитирует постоянно — и в художественных произведениях, и в письмах, — но и Ветхий Завет. В отличие от речи Мармеладова, звучащей искренно, напряженно, патетически, речь Опенкина производит впечатление некоего комизма, источник которого — сочетание высокого церковно-славянского слога, с одной стороны, и подчеркнуто бытовых (и даже порицаемых с точки зрения Священного Писания) ситуаций и реалий (пьянство и связанное с ним поведение). Речевой опыт такого комического сочетания высокого и низкого у Гончарова уже был. Еще более характерны два письма к Н. П. Боткину. Первое письмо, от 15 февраля 1862 г., написано в духе челобитной, торжественного и велеречивого обращения с просьбой купить в Москве табаку у немецкого торговца Тринка. В «битье челом» выражается, в традициях средневековой письменности, возвеличивание адресата, с одной стороны, и самоуничижение с другой. Понятно, что в переписке людей XIX века, состоящих в приятельских отношениях, челобитная — только шуточный стилевой прием. Вот это письмо:
«Премилосердный государь мой Николай Петрович!
Известился я через Надворного советника, Михайлу Александровича Языкова, что якобы Вы, государь мой, вкупе с братцем и наиот-меннейшим Сергеем Михайловичем (Третьяковым. — В. М.) нашу столицу посетить умышляете и через то нам великую радость сотворить хотите, того ради я, от великого моего к Вам усердия и веселия, за здравие Ваше просвирку заказал.
А просьбицу к Вам, милостивец мой, имею такую: приобвык я зело табачным зельем заниматься и хотя ведаю, что тем грешным делом много душевного спасения теряю, однако, по немощи своей, сей тленной утехи одолеть бессилен и еле лишь о том помыслю, ощущаю под ложкой тяготу и сосание великое. А по Москве у Вас поселился сам пущающий нас на грех лукавый в виде немца Тринка: он изготавливает зело изрядныя и соблазнительный для христианской глотки папирусы… Наказывал я тому Надворному советнику Языкову оных мне потребное количество искупить и привезти, однако он, по беспутству и пьянству великому, запамятовал и того не исполнил…»[337]. Если в письме к Н. П. Боткину Гончаров шутливо обыгрывает язык подьячих XVI века, то в речи Опенкина — это чистый церковно-славянский язык, подчеркивающий и комизм, и драматизм жизненной ситуации. Опенкин сроднился с этим языком в духовной семинарии — и должен был употреблять его совершенно серьезно в своем церковном служении. Не послушавшись Божиих глаголов (как «недостойный Иоаким»), он всю жизнь расплачивается за свою ошибку, профанируя высокий церковный язык в ситуации жизненного несчастья и в то же время держась за этот язык как за нить, связующую его с Богом. Драматизм и комизм здесь срослись в нечто неразложимое.
Новый путь
Роман «Обрыв» приоткрыл завесу над внутренней работой христианской души Гончарова. Он открыл здесь для обозрения других многое из того, что ранее скрывал и таил. Это был новый этап в его духовной жизни. Открытость эта все-таки относительна (по сравнению с такими писателями, как, например, Гоголь или Достоевский). Гончаров так и не станет писателем-пророком, художником типа Кирилова. Автор «Обрыва» чужд абсолютным устремлениям, он не пророчествует, не заглядывает в бездны человеческого духа, не ищет путей ко всеобщему спасению в лоне Царства Божьего и т. д. Он вообще не абсолютизирует ни один принцип, ни одну идею, на все смотрит трезво, спокойно, без характерных для русской общественной мысли апокалиптических настроений, предчувствий, порывов в далекое будущее.
Но сдвиг в последнем романе все-таки заметен: Гончаров никогда более не вернется к условно-эстетической манере обсуждения религиозной проблематики, манере, господствовавшей в его творчестве до романа «Обрыв».
«В борьбе сил духа и плоти…»
Обращают на себя внимание в религиозном плане и статьи Гончарова 1870-х гг. Речь идет прежде всего о статьях: «Мильон терзаний» (1872), «Христос в пустыне». Картина г. Крамского (ок. 1874), «Опять „Гамлет“ на русской сцене» (1875). Указанные статьи не были единственными, написанными романистом в эти годы. Одновременно пишутся статьи, объясняющие замысел последнего гончаровского романа («Лучше поздно, чем никогда», «Предисловие к роману „Обрыв“», «Намерения, задачи и идеи романа „Обрыв“»), статьи «Заметки о личности Белинского», «Нарушение воли» и др. Более того, все указанные статьи написаны «по поводу». Так, статья «Мильон терзаний» родилась из импровизированной речи писателя после спектакля «Горе от ума» на сцене Александрийского театра. «После спектакля, — вспоминал М. М. Стасюлевич, — Гончаров в кругу близких ему людей долго и много говорил о самой комедии Грибоедова и говорил так, что один из присутствовавших, увлеченный его прекрасной речью, заметил ему: „А вы бы, Иван Александрович, набросали все это на бумагу — ведь это все очень интересно“ (VIII. 504). Статья „Христос в пустыне“ отразила впечатления Гончарова от посещения третьей „передвижной“ выставки в 1874 г. Статья о постановке шекспировского „Гамлета“ написана по поводу выступления актера А. А. Нильского в роли Гамлета.
Тем не менее все три статьи, хотя и были написаны по поводу конкретных событий, явились результатом долгих раздумий писателя о той проблеме, которая волновала его всю жизнь. Именно внутренняя готовность к обсуждению важной для него проблемы, завершенность размышлений над темой позволили Гончарову выступать „по поводу“ (чего он обычно избегал). Что же это за проблема?
Она прямо возвращает нас к проблеме гончаровской уже не трилогии, а тетралогии. Ранее мы видели, что „Обыкновенная история“, „Обломов“ и „Обрыв“ построены по принципу духовного возрастания (от Адуевых к Райскому). Однако все три гончаровских персонажа (Александр Адуев — Обломов — Райский), хотя от романа к роману заметен их духовный рост, не являются в полном смысле героями — в смысле подвижничества. Идеал же Гончарова-христианина, несомненно, подвижник. Подвижничество же — удел избранных личностей. Здесь Гончаров вплотную приблизился к художественной задаче Ф. М. Достоевского, изображающего личность атипичную. Художественный дар Гончарова зиждется как раз на изображении типического — и перешагнуть этот барьер Гончаров не может. Во всяком случае — в художественном произведении. Как известно, Гончаров задумывал четвертый роман, но отказался от мысли написать его. Замысел, стало быть, уже был. Как раз этот замысел, вполне соответствующий поступательному развитию его романной трилогии, на наш взгляд, и воплотился в статьях 1870-х гг. Все три указанные статьи объединены мыслью о герое-подвижнике, о герое, способном приносить себя в жертву и противостоять пошлой толпе. Этим пафосом проникнуты статьи о Христе в пустыне, о Чацком и Гамлете.
Напомним, что в письме к М. М. Стасюлевичу от 7 июня 1868 года Гончаров лишь намекнул на подлинный масштабный замысел последнего романа: „Я буду бояться прочесть и Вам, чтоб Вы не засмеялись моей смелости… Я боюсь… что маленькое перо мое не выдержит, не поднимется на высоту моих идеалов — и художественно-религиозных настроений…“ (VIII, 338). Перо Гончарова действительно „не выдержало“. Многое в романе осталось в намеке, в схеме. Главное же, ему так и не удалось воплотить свой трагический и мученический идеал человека, который, подобно Христу, идет за свои идеалы на смерть, ведущую за собой воскресение. Этот идеал, не покинувший его и после „Обрыва“, идеал, так и не проявившийся в его творчестве в цельном и полном виде (а лишь заданный в отдельных намеках), преследовал его при написании статьи „Христос в пустыне“. Картина г. Крамского» (1874).
Напомним, что 1874 год — это время наиболее интенсивного общения Гончарова с художником И. Н. Крамским. В марте-апреле этого года по заказу мецената П. М. Третьякова художник пишет портрет Гончарова. 21 января 1874 года в залах Академии открылась 3-я Передвижная выставка. Закрылась она в середине марта. Гончаров посещает выставку и высказывает свое мнение о работе Крамского. Христос Крамского для писателя — прежде всего подвижник, вышедший на главное дело жизни и сейчас готовящийся к нему (речь идет о сорокадневном посте Христа в пустыне): «Художник глубоко уводит вас в свою творческую бездну, где вы постепенно разгадываете, что он сам думал, когда писал это лицо, измученное постом, многотрудной молитвой, выстрадавшее, омывшее слезами и муками грехи мира — но добывшее себе силу на подвиг.
Вся фигура как будто немного уменьшилась против натуральной величины, сжалась— не от голода, жажды и непогоды, а от внутренней, нечеловеческой работы над своей мыслью и волей — в борьбе сил духа и плоти — и, наконец, в добытом и готовом одолении. Здесь нет праздничного, геройского, победительного величия — будущая судьба мира и всего живущего кроются в этом убогом маленьком существе, в нищем виде, под рубищем — в смиренной простоте, неразлучной с истинным величием и силой.
Если б зритель не на картине, а в действительности неожиданно, в прогулке, набрел на этот уголок и на это явление, кто бы он ни был — он без истории, без предания, без евангелия — поразился бы страхом перед этим измученным лицом и задумчиво сильным, решительным и неодолимым взглядом. Вот впечатление, которое произвело на нас это творческое изображение Христа в его смиренном, убогом виде, в уголке пустыни, на голых камнях Палестины. Никакой обстановки, никакой выдумки и никого кругом — вдали в тумане едва виден смешанный пейзаж долины, в полутоне ночи Христос наедине с собой — с сжатыми друг в друга на колени руками и сильно опирающимися о землю ногами.
Думу, чувство высказывает и острый, болящий взор, и осунувшиеся черты, и эти сжатые руки и ноги. Вглядитесь в окрестность, как красноречива эта темнота и все и в Христе и кругом. Здесь, кажется, вопиют и самые камни!» (VIII. 194–195).
Героя-подвижника (несостоявшегося героя своего четвертого романа) писатель увидел и в грибоедовском Чацком. Именно этот герой интересует Гончарова более всего: «У всех сложилось более или менее согласное понятие о всех лицах, кроме одного — Чацкого. Так все они начертаны верно и строго и так примелькались всем. Только о Чацком многие недоумевают: что он такое? Он как будто пятьдесят третья какая-то загадочная карта в колоде. Если было мало разногласия в понимании других лиц, то о Чацком, напротив, разноречия не кончились до сих пор и, может быть, не кончатся еще долго» (VIII. 8).
«Главная роль, конечно, — роль Чацкого, без которой не было бы комедии, а была бы, пожалуй, картина нравов».
В интерпретации Гончарова Чацкий приближен к идеалу человека, какой он начертал когда-то еще в «Письмах столичного друга к провинциальному жениху»: «Чацкий не только умнее всех прочих лиц, но и положительно умен… У него есть и сердце, и притом он безукоризненно честен» (VIII. 13). Очевидно, что Чацкий, как и Христос Крамского, — подвижник, настоящий герой: «Он искренний и горячий деятель» (VIII. 13), И не только деятель, но и, главное, подвижник, «пылкий и отважный боец» (VIII. 8). Характеристика Чацкого еще более выигрывает у Гончарова на фоне Онегина и Печорина — безусловных «героев времени»: «Ни Онегин, ни Печорин не поступили бы так неумно вообще, а в деле любви и сватовства особенно. Но зато они уже побледнели и обратились для нас в каменные статуи, а Чацкий остается и останется в живых за эту свою „глупость“» (VIII. 14),
Весьма важна для Гончарова обязательная жертвенность героя: то, чего так мало было в любимых персонажах его трилогии. Христос Крамского, Гамлет и Чацкий — фигуры трагические, они приносят себя в жертву ради других. О Чацком романист говорит: «Чацкого роль — роль страдательная: оно иначе и быть не может. Такова роль всех Чацких, хотя она в то же время и всегда победительная. Но они не знают о своей победе, они сеют только, а пожинают другие — ив этом их главное страдание, то есть в безнадежности успеха» (VIII. 28). Гончаров и сам указывает на родственность Чацкого с Гамлетом: «Вот отчего не состарелся и едва ли состареется когда-нибудь Грибоедовский Чацкий, а с ним и вся комедия. И литература не выбьется из магического круга, начертанного Грибоедовым, как только художник коснется борьбы понятий, смены поколений. Он или даст тип крайних, несозревших передовых личностей, едва намекающих на будущее, и потому недолговечных, каких мы уже пережили немало в жизни и в искусстве, или создаст видоизмененный образ Чацкого, как после сервантесовского Дон-Кихота и шекспировского Гамлета являлись и являются бесконечные их подобия» (VIII. 32–33).
В статье «Опять „Гамлет“ на русской сцене» романист снова возвращается к своей любимой фигуре трагического героя. Характеристика этого героя христианская по духу. Иногда создается впечатление, что Гончаров все еще пишет о Христе Крамского: «Царство зла должно пасть— он это знает, но он предчувствует, что падет и он сам, что организм не устоит под такими ударами, какие обрушились на него. От этого сомнения — падение духа. Он слабеет, мечется, впадает в тоску и отчаяние. Но все идет вперед и дойдет: такие натуры не падают вконец и не сворачивают в сторону… Он дойдет до цели — и сам падет там: он это знает» (VIII. 204). Фигура трагического героя в сознании Гончарова очевидно соотносится с фигурой Христа. Писатель начал с Адуева, который пошел «обыкновенной» дорогой, то есть дорогой, ведущей в ад, изобразил Илью Обломова, в котором уже Ф. М. Достоевский уловил черты Христа (в материалах к роману «Идиот» есть запись: «Обломов — Христос»), наконец закончил фигурой Райского, весь «героизм» которого исчерпывается его постоянными попытками начать жизнь сначала («стучите, и отворят вам»). Но Райский еще не представитель «Рая». Он лишь стремится туда. А Гончарову хотелось бы изобразить человека, идущего узкими вратами, то есть страдающего, приносящего себя в жертву, человека «на кресте». Однако для этого нужен был иного рода талант. Гончаров не написал четвертый роман. Любимую свою идею и любимого героя он написал в своих статьях о Христе, Чацком, Гамлете.
Икона и реализм
Статья «„Христос в пустыне“. Картина г. Крамского» заслуживает пристального внимания еще по одной причине. Речь идет о позиции Гончарова в принципиально важном вопросе о внеиконописном изображении Господа Иисуса Христа. Статья показывает, что Гончаров, прекрасно знавший западноевропейскую живопись, выстраивает целый исторический сюжет. Решая вопрос о картинах Н. Н. Ге, И. Н. Крамского, взявшихся за «реалистическое» изображение
Христа, он приводит в пример многих художников Возрождения. Это Леонардо да Винчи с его картиной «Тайная вечеря», Рафаэль, Паоло Веронезе и др. Главный вопрос, который волнует Гончарова, это вопрос соотнесенности веры художника с его верностью искусству.
Мысль Гончарова понятна. Во-первых, он не видит ничего плохого в том, что существует вне-иконописная традиция изображения Христа. Иконопись основана на условно-символическом изображении Божества. Но и живопись, исторический сюжет также имеют право на существование: «Мы со своей стороны склоняемся видеть в новых опытах изображений из Священного Писания г. Ге и других — желание приложить к этим изображениям начала художественной разумной критики, уйти из-под ферулы условных приемов исторической школы и внести в последние свою долю реализма… Где же тут ужасное преступление в атеистических покушениях на чувство и разум веры? Художественная правда есть прямая цель искусства… Религиозное, не формальное благоговение от художественной правды не смутится» (VIII. 184).
Однако правда правде рознь. Гончаров понимает, что правда художественная не только не противоречит вере, но и во многом зависит от нее, тем паче когда речь идет о религиозных сюжетах. Поэтому, во-вторых, Гончаров проводит разграничение между живописцами верующими и неверующими. Романист настаивает на том, что без веры невозможно изображение Христа, Божией Матери, святых. Он пишет: «В искусстве предмет является не сам собой, а в отражении фантазии, которая и придает ему тот образ, краски и тон, какой установил исторический взгляд и какой осветила фантазия. Художник и пишет не с самого предмета, которого уже нет, а с этого отражения. Потому он и обязан подчиниться этому взгляду, если хочет быть верен, а если не подчинится, то он изменит исторической правде, то есть своему же реализму, давая свою собственную, выдуманную правду. От этого и выходит, что верующие в божественность Христа художники были ближе к настоящей правде, нежели неверующие. К сожалению — не у всех было столько силы таланта, как у Рафаэля, Рубенса, Тициана и Рембрандта. Современным реалистам остается придерживаться одной исторической правды и ее одну освещать своею художественною фантазиею, что они и делают, без примеси чувства веры — и от этого образы их будут, может быть, верны, выражая событие, но сухи и холодны, без тех лучей и тепла, которые дает чувство. От этого им лучше бы воздержаться от изображений священных сюжетов, которые у них всегда выйдут нереальны, то есть неверны» (VIII. 196–197).
В качестве примера Гончаров останавливается на картине «Сикстинская Мадонна» Рафаэля. «Здесь не было никакой лжи, никакой бездны между чувством человека и творца художника, никакого сомнения. Рафаэль верил, что эта чистая Дева родила Младенца Бога, — и воплотил Ее образ в искусстве, как он виделся ему в живом творческом сне. Ее непорочность, смирение и таинственный трепет великого счастья — вся душа необыкновенной Девы, рассказанная Евангелием, говорит Ее лицом, в Ее глазах, в смиренной, обожательной позе, в какой Она держит Младенца. Но зритель не вдруг увидит все эти черты — прежде всего при первом взгляде его поражает эта живая, как бы выступающая из рамки женщина, с такими теплыми, чистыми, нежными, девственными чертами лица, так ясно, но телесно глядящая на вас — что как будто робеешь ее взгляда. Потом уже зритель вглядывается и вдумывается в душу и помыслы этого лица — и тогда найдет, что Рафаэль инстинктом художника угадал и воплотил евангельский идеал Девы Марии — все же не божество, а идеал женщины, под наитием чистой думы, с кроткими лучами высокого блаженства в глазах» (VIII. 190).
Приводя этот пример, Гончаров как бы указывает, что русские передвижники лишь логически завершают давно заложенную традицию — увидеть человеческое в Божестве и изобразить его средствами искусства живописи. «Улыбка, взгляд — объятие, поза ее, поза младенца, поза каждого пальца обнимающей руки или взгляд ее и его взгляд, когда он не у ней на руках, — вся эта самая тонкая, самая грациозная и нежнейшая идеализация лучшего из человеческих чувств. Какою гармонией линий, красок и поз в фигурах и гармониею смысла или лучей их лиц выражена таинственная и неразрывная связь этих двух существ между собою. Красота матери отражается на ребенке и красота ребенка на ней! Никакая профанация не способна отыскать другую красоту в этих, уже иногда созревших, женских полных формах плеч, бюста и рук матери. Той общей красоты, в том смысле, как мы требуем ее от женщин, у рафаэлевских мадонн нет нигде, как нигде и не бывает ее в матерях над колыбелью, даже полураздетых, с обнаженной питающей грудью… И вот в чем заслуга Рафаэля — это в воплощении в Божией Матери и в Младенце Иисусе не Божества, а нежнейшей и тончайшей красоты матери, высказанной в любви к младенцу и в грации и непорочности вечной детской красоты!» (VIII. 191).
По сути, вся статья Гончарова является оправданием (через «историю вопроса») попытки передвижников внести реалистические начала искусства в изображение Божества. Лишь в конце статьи он, формально примиряясь с официальным мнением, уделил один абзац размышлению о том, что современным художникам-маловерам «лучше бы воздержаться от изображения Священных сюжетов», так как без веры их писания, «может быть, верны… но сухи и холодны» (VIII. 196).
Здесь Гончаров лишь формально не вступал в противоречие с мнением святых отцов, например, со своим гениальным современником святителем Игнатием Брянчаниновым[338]. Как человек искусства он пытался подчеркнуть возможности искусства, хотя прекрасно понимал принципиальную разницу между иконой и исторической картиной. Оправданием последней в его статье служит вся история изображения Христа в живописи начиная с эпохи Возрождения. Статья создает впечатление незаконченной и проникнутой некоторым противоречием. Мысль Гончарова, кажется, им не додумана.
Сам не пытаясь в своей художественной практике изображать Христа, порицая Ренана, Гончаров тем не менее пытается осмыслить границы искусства в изображении Божества. Нужно сказать, что в статье «Христос в пустыне» Гончаров показал себя прежде всего человеком искусства. Даже будучи духовно умудренным пожилым человеком, он не может поколебаться в оценке искусства, считая его безусловной ценностью. Верность характера, верность реалистического изображения им ценятся безусловно. Не допуская преувеличений или неточностей в своей художественной практике, Гончаров-критик, к сожалению, допускает некоторые отступления от той высокой духовности, которая незыблемо лежит в основании его романов.
Очень характерен здесь случай с его оценкой романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». Осмысливая тип Иудушки Головлева и возможность его духовного воскресения, он в письме к Салтыкову-Щедрину от 30 декабря 1876 года замечает: «И в Вашего Иудушку упадет молния, попалит в нем все, но на спаленной почве ничего нового, кроме прежнего же, если бы он ожил, взойти не может. Поэтому он и не удавится никогда, как Вы это сами увидите, когда подойдете к концу. Он может видоизмениться во что хотите, то есть делаться все хуже и хуже… но внутренне восстать — нет, нет и нет!.. В такой натуре— ни силы на это не хватит, ни материалу этого вовсе нет!.. Так я разумею его натуру! Буду ждать с нетерпением появления его [Иудушки] особой книгой».
Митрополит Вениамин (Федченков) комментирует это письмо Гончарова: «Гончаров, несмотря на исключительно ровный характер его и даже доброту, ошибся… Совсем ошибся… Иудушка, смотря на лик Христа, мучимого и распятого, сознал свою преступность и, готовясь к причащению, побежал на кладбище ночью „с маменькой проститься“ пред этим. И „в нескольких шагах от дороги“, близ „погоста“ закоченел… Ни неожиданного самоубийства, ни пьянства, — как думал Гончаров, — не случилось. А было истинное покаяние, пред „образом Искупителя в терновом венце“; „наконец он решился“ каяться, начав просить прощения у маменьки. И пошел на кладбище… На пути скончался. Может быть, от разрыва сердца… Но шел на покаяние пред Христом. То есть Салтыков-Щедрин завершает историю Иудушки Головлева с позиции верующего человека, не по Гончарову»[339].
Но не только преувеличение возможностей искусства стало причиной некоторой неточности духовной оценки религиозной живописи передвижников со стороны Гончарова. Недодуманность статьи «Христос в пустыне» происходит, не в последнюю очередь, из того, что Гончаров находится в состоянии творческого волнения. Ведь он не просто пишет о передвижниках, но и пытается понять своего собственного героя, прошедшего уже в романной трилогии путь от Адуева до Райского. Перед Гончаровым впервые встал вопрос о возможностях его собственного реализма при изображении героя-подвижника, героя идеального (в религиозном понимании — святого). Эта задача, как он правильно понял, была не в духе его таланта. Так, вместо четвертого романа появляются глубокие и в то же время страстные статьи-размышления о безукоризненном герое-подвижнике, борце-одиночке, трагической личности, вышедшей на бой с миром и погибающей для победы[340].
Великие князья Романовы
Религиозная жизнь Гончарова, обычно надежно скрытая от лица окружающих людей, несколько приоткрывается для нашего взора в его отношениях с Великими князьями: Константином Константиновичем и Сергеем Александровичем.
Среди преподавателей Великих князей всегда были выдающиеся люди России. В их число входил и писатель И. А. Гончаров. Сближение известного романиста, автора «Обломова», с царской семьей началось довольно рано, после его кругосветного путешествия на фрегате «Паллада». В 1858 году писатель начал преподавать русский язык и словесность вскоре почившему цесаревичу Николаю Александровичу. Правда, преподавал Гончаров недолго[341]. Поэт Аполлон Майков, сам в свое время прошедший через учительство Гончарова и дававший царской семье рекомендацию, весьма переживал по поводу отказа Гончарова продолжать преподавание.
В дальнейшем романист преподавал эти же предметы Великому князю Константину Константиновичу, отец которого, Великий князь Константин Николаевич, в свое время содействовал публикации книги очерков «Фрегат „Паллада“» на страницах «Морского сборника» (Великий князь являлся генералом-адмиралом русского флота, с 1855 года управлял флотом и морским ведомством на правах министра). В ноябре 1855 года Великий князь высказал свои похвалы писателю за его «прекрасные статьи о Японии»[342]. Через месяц Константин Николаевич представил Гончарова к награде «вне правил чином статского советника за особые заслуги его по званию секретаря при генерал-адъютанте графе Путятине»[343]. Но и этим не ограничились проявления симпатии Великого князя к Гончарову. В мае 1858 года он пожаловал писателя драгоценным перстнем[344]. В июне того же года Гончаров передает через министра Императорского двора графа В. Ф. Адлерберга экземпляр отдельного издания «Фрегата „Паллада“» для поднесения Александру II[345], за что вскоре был пожалован подарком и бриллиантовым перстнем с рубином[346].
Великому князю Константину Константиновичу Романову повезло с преподавателем русской словесности. Хотя долгие годы тонкая, глубокая, проникновенная лирика августейшего поэта намеренно замалчивалась литературной наукой, сегодня стихи автора, скрывавшего свое имя под псевдонимом К. Р., становятся известными широкой публике.
Своим литературным успехом Великий князь в немалой степени обязан Гончарову. Их отношения раскрываются в переписке 1884–1888 гг. К. Р. высоко ценил личное общение с писателем, часто приглашал его к себе во дворец, сообщал новости своей жизни и пр. Великий князь признавал серьезное влияние писателя на свое мировоззрение. Насколько он ценил свои отношения с Гончаровым, показывает его запись в дневнике от 8 ноября 1891 г.: «Дома вечером засел читать письма покойного Ив<ана> Алекс<андровича> Гончарова. После его смерти его душеприказчики возвратили мне все мои письма к нему, кроме тех, которые покойный сам принес мне года 2 назад, боясь, что кто-нибудь ими завладеет». И тут же: «Когда-нибудь, не скоро, в печати эта переписка представит очень приятное чтение. Но исполню волю покойного, я, пока жив, не напечатаю ее»[347]. Надо сказать, что Гончаров не злоупотреблял августейшим вниманием и почти всегда старался избежать появления во дворце Великого князя, отговариваясь нездоровьем, старостью и пр. В то же время они встречались все-таки довольно часто, иногда и в присутствии Великих князей Сергея Александровича и Павла Александровича.
Стихи К. Р. начал писать в 1879 году. В январе 1884 года Константин Константинович просит Гончарова дать свой авторитетный отзыв на первый рукописный сборник стихов. К. Р., несомненно, обладал замечательным поэтическим, и не только поэтическим, дарованием, верным и тонким художественным вкусом. Он был признанным знатоком живописи, театра, музыки, являлся талантливым композитором и пианистом. В его лирике, камерной по духу, проявляются искренность чувств, литературное мастерство, свежесть поэтического мировосприятия. Очень многие его стихи раскрывают религиозные переживания поэта. Таково, например, стихотворение «Молитва»:
Научи меня, Боже, любить Всем умом Тебя, всем помышленьем, Чтоб и душу Тебе посвятить И всю жизнь с каждым сердца биеньем. Научи Ты меня соблюдать Лишь Твою милосердную волю, Научи никогда не роптать На свою многотрудную долю. Всех, которых пришел искупить Ты своею Пречистою Кровью — Бескорыстной, глубокой любовью Научи меня, Боже, любить!В первом же своем письме Гончаров отметил в стихах Великого князя «искры дарования». Впрочем, не желая кривить душой, романист отнюдь не захваливает молодого поэта. Вся их переписка показывает, что Гончаров строго и внимательно вглядывался в талант бывшего ученика, заставляя его взглянуть на свое творчество трезвым взглядом. В силу своего высокородного положения К. Р. рисковал быть встреченным слишком восторженными оценками. И действительно, такие оценки прозвучали. Достаточно сказать, что выдающийся русский лирик Афанасий Фет, на поэзию которого во многом и ориентировался К. Р., оценил поэзию Константина Константиновича чрезвычайно высоко. В одном из последних писем он даже сравнивает музу К. Р. с музой Пушкина. Фет посвятил К. Р. стихотворение, в котором как бы избирает его своим поэтическим преемником:
Трепетный факел, с вечерним мерцаньем Сна непробудного чуя истому, Немощен силой, но горд упованьем Вестнику света сдаю молодому.Великий князь необычайно высоко ставил Фета как лирика, многому у него учился, но, к чести его, с гораздо большим вниманием всегда прислушивается к строгим и объективным оценкам Гончарова. Романист же в одном из писем обращался к К. Р.: «Я указал Вам на графа Голенищева<Кутузова>, как на подходящего Вам более товарища по лире»[348]. Константин Константинович был вполне честен перед самим собой, когда записывал в дневнике: «Невольно задаю я себе вопрос: что же выражают мои стихи, какую мысль? И я принужден сам себе ответить, что в них гораздо больше чувства, чем мысли. Ничего нового я в них не высказал, глубоких мыслей в них не найти, и вряд ли скажу я когда-нибудь что-либо более значительное. Сам я себя считаю даровитым и многого жду от себя, но, кажется, это только самолюбие, и я сойду в могилу заурядным стихотворцем. Ради своего рождения и положения я пользуюсь известностью, вниманием, даже расположением к моей Музе». Как мог Гончаров старался наставить своего ученика на правильный путь в литературе. В письме от 1 апреля 1887 года он обращается к К. Р.: «Из глубокой симпатии к Вам, мне, как старшему, старому, выжившему из лет педагогу и литературному инвалиду, вместе с горячими рукоплесканиями Вашей музе, хотелось бы предостеречь Вас от шатких или неверных шагов — и я был бы счастлив, если б немногие из моих замечаний помогли Вам стать твердой ногой на настоящей путь поэзии»[349].
Как поэту К. Р., кроме Фета, были по духу близки такие лирики, как А. К. Толстой, А. Н. Майков, А. А. Голенищев-Кутузов. Это была «надмирная» поэзия красоты и высокого чувства. Но главным мотивом его поэзии, несомненно, является мотив любви к Богу. Как будто чувствуя, что мученичество не обойдет его стороной (сыновья Константина Константиновича — Константин, Игорь и Иоанн — мученически погибли от рук большевиков в Алапаевске вместе с преподобномученицей Елисаветой Федоровной), Великий князь постоянно возвращается к теме страданий Христа и страданий за Христа. Кроме стихотворной лирики, эти мотивы выразились в его драме «Царь Иудейский» и в поэме «Севастиан-мученик».
Чрезвычайно любопытны в переписке Гончарова и Великого князя как раз те моменты, которые соотносятся с религиозными мотивами поэзии К. Р. Как христианин Гончаров осмысливал и свою личную, и вообще литературную деятельность как таковую. Для него большой проблемой является, например, вопрос о возможности изображения Иисуса Христа в искусстве.
В письме к К. Р. от 3 ноября 1886 года по поводу его драмы «Царь Иудейский» он размышляет: «Теперь прошу позволение перейти к последней беседе в прошлый понедельник. Возвращаясь по набережной пешком домой, я много думал о замышляемом Вашим Высочеством грандиозном плане мистерии-поэмы, о которой Вы изволили сообщить мне несколько мыслей.
Если, думалось мне, план зреет в душе поэта, развивается, манит и увлекает в даль и в глубь беспредельно вечного сюжета — значит — надо следовать влечению и — творить. Но как и что творить? (думалось далее). Творчеству в истории Спасителя почти нет простора. Все его действия, слова, каждый взгляд и шаг начертаны и сжаты в строгих пределах Евангелия, и прибавить к этому, оставаясь в строгих границах христианского учения, нечего, если только не идти по следам Renan: т. е. отнять от И<исуса> Х<риста> Его божественность и описывать Его как „charmant docteur, entonre de disciples, servi par des femmes“[350], „проповедующего Свое учение среди кроткой природы, на берегах прелестных озер“, и т. д., словом, писать о Нем роман, как и сделал Renan в своей книге „La vie de Jesus C<hrist>e“[351]… Всем этим я хочу только сказать, какие трудности ожидают Ваше высочество в исполнении предпринятого Вами высокого замысла. Но как Вы проникнуты глубокою верою, убеждением, а искренность чувства дана Вам природою, то тем более славы Вам, когда Вы, силою этой веры и поэтического ясновидения — дадите новые и сильные образы чувства и картины — и только это, ибо ни психологу, ни мыслителю-художнику тут делать нечего… Сам я, лично, побоялся бы религиозного сюжета, но кого сильно влечет в эту бездонную глубину — тому надо писать»[352].
Этот главный вопрос — об изображении Спасителя в художественном произведении — Гончаров, видимо, помог решить для себя Великому князю. К. Р. очень деликатно подошел к этой проблеме. В его драме, изображающей последние дни земной жизни Иисуса Христа, о Нем лишь говорят персонажи пьесы, но Его Самого мы не видим.
Опытный художник, Гончаров предусмотрительно предупреждает своего литературного ученика о возможности серьезных ошибок при обращении к религиозным сюжетам. Ведь с этой точки зрения его не всегда устраивала даже поэзия Пушкина и Лермонтова. В одном из писем он замечает: «Почти все наши поэты касались высоких граней духа, религиозного настроения, между прочим, величайшие из них: Пушкин и Лермонтов; тогда их лиры звучали „святою верою“… но ненадолго, „Тьма опять поглощала свет, т. е. земная жизнь брала свое. Это натурально, так было и будет всегда: желательно только, чтоб и в нашей земной жизни нас поглощала не тьма ее, а ее же свет, заимствованный от света… неземного“»[353]. С этих позиций обсуждает он с Великим князем и его поэмы («Севастиан-мученик», «Возрожденный Манфред»), и лирику.
Поэма «Севастиан-мученик» была завершена Константином Константиновичем 22 августа 1887 года. Она является поэтическим переложением жития св, Севастиана, хотя и с некоторыми отступлениями. Трудно сказать, чем именно поразило житие св, Севастиана Великого князя. Возможно, тем, что переложение позволяло Константину Романову развить в поэме автобиографические мотивы. В «Севаетиане-мученике» выявились те же мотивы, которые легли в основание поэмы А. К. Толстого «Иоанн Дамаскин»: желание творческой свободы, невозможной в условиях жизни высшего света.
Дневники Великого князя дают представление о том, что он чувствовал себя в царском окружении не всегда уютно. Его внутренняя жизнь характеризуется некоторой нравственной оппозицией к власти. Он каким-то образом пытается отгородиться от державных интересов семьи Романовых. Его душа тяготеет к семье, к искусству, к общению с людьми литературного и артистического круга, к религии. В своем дневнике он записывает: «Меня в высших сферах считают либералом, мечтателем, фантазером и выставляют таким перед Государем.
И он, думается мне, сам приблизительно такого обо мне мнения»[354]. В этом была и доля правды. В стихах и дневниках Константина Константиновича (как, например, при описании событий 1896 года на Ходынском поле) слышны демократические мотивы. Иногда он даже начинает подражать Некрасову:
Умер бедняга! В больнице военной Долго, родимый, лежал; Эту солдатскую жизнь постепенно Тяжкий недуг доконал… Рано его от семьи оторвали: Горько заплакала мать, — Всю глубину материнской печали Трудно пером описать! («Умер»)Несоответствие своего положения и своей внутренней жизни князь, очевидно, считал своего рода «мученичеством». Во всяком случае, в поэме «Севастиан-мученик» проявляется не только религиозность князя, но и его скрытная «родственная» оппозиционность «высшим сферам». Именно о себе пишет К. Р., говоря о св. Севастиане:
Что людьми зовется верхом счастья, То считал тяжелым игом он. Но, увы, непрошенною властью Слишком рано был он облечен!В письме к Великому князю от 6 марта 1885 года Гончаров выражает свое мнение о другой капитальной вещи Константина
Константиновича — поэме «Возрожденный Манфред», явившейся своеобразным поэтическим продолжением романтической драмы Байрона «Манфред». Если произведение Байрона завершается смертью героя, то К. Р. изображает загробные переживания Манфреда, его надежды, его стремление к Богу. Гончаров совершенно не согласен с авторским замыслом Великого князя. И притом не согласен как христианин, как церковный человек. К. Р. дарует своему герою Манфреду спасение. Бог прощает его грешную душу. Тема поэмы — Божие милосердие. Однако Гончаров призывает своего подопечного «трезвиться» и вспомнить, что Бог не только милостив, но и справедлив: «Я прочел возвращаемую при этом рукопись „Возрожденный Манфред“ и поспешаю благодарить Ваше Высочество за доставленное мне удовольствие и за доверие к моему мнению.
Вам угодно, чтобы я отнесся к новому Вашему произведению „сочувственно и строго“: отнестись не сочувственно — нельзя, а строго — можно и должно бы, по значительной степени развившегося Вашего дарования, но не следует, как по причине избранного Вами сюжета, так и потому, что Вам приходилось копировать Ваш этюд с колоссальных образцов — „Манфреда“ Байрона и „Фауста“ Гете. Немудрено, что внушённый ими сколок вышел относительно бледен.
Извините, если скажу, что этот этюд — есть плод более ума, нежели сердца и фантазии, хотя в нем и звучит (отчасти) искренность и та наивность, какую видишь на лицах молящихся фигур Перуджино. Но если есть искренность и наивность, то нет жара, страстности, экстаза, какие обыкновенно теплятся в уме и сердце горячо верующих, оттого и кажется, что это, как я сейчас сказал, есть более плод ума, пожалуй, созерцательного, но не увлечения и чувства. По этой причине — мало силы, исключая двух-трех монологов, один Аббата и другой — Астарты. Если бы, кажется мне, посжать, посократить, иные диалоги свести в одно — от этого исчезли бы повторения, и этюд выиграл бы в силе. Теперь он кажется — не свободно, без задней мысли начертанной широкой картиной художника, а скорее правильно, холодно исполненной задачей на тему о тщете земной науки и о могуществе веры в вечное начало и т. д.
Но тема эта, хотя и не новая, но прекрасная, благодарная и для мыслителя, и для поэта. У Вас она отлично расположена: душа, сбросившая тело, внезапно очутилась над трупом его; над ним горячо молится монах; бессмертная, „другая“ жизнь уже началась: какой ужас должен охватить эту душу, вдруг познавшую тщету земной мудрости и ложь его отрицаний вечности, Божества и проч.! И какое поле для фантазии художника, если он проникнет всю глубину и безотрадность отчаяния мнимого мудреца, все отрицавшего и прозревшего — поздно. Раскаяние по ту сторону гроба — по учению веры — не действительно: он, перешагнув за этот порог, должен постигнуть это, — т. е. что нет возврата, что он damnatus est[355].
Вот это отчаяние одно, по своему ужасу и безвыходности — могло бы быть достойною задачею художника! Образцом этого отчаяния и должна бы закончиться картина! Пусть он погибает! Он так гордо и мудро шел навстречу вечности, не верил вечной силе и наказан: что же нам, православным, спасать его! Если же всепрощающее Божество и спасет, простит его — то это может совершиться такими путями и способами, о каких нам, земным мудрецам и поэтам, и не грезится! Может быть, в небесном милосердии найдут место и Каин, и Иуда, и другие.
А у нас, между людьми, как-то легко укладываются понятия о спасении таких героев, как Манфред, Дон-Жуан и подобные им. Один умствовал, концентрировал в себе весь сок земной мудрости, плевал в небо и знать ничего не хотел, не признавая никакой другой силы и мудрости, кроме своей, т. е., пожалуй, общечеловеческой, — и думал, что он— бог. Другой беспутствовал всю жизнь, теша свою извращённую фантазию и угождая плотским похотям, — потом бац! Один под конец жизни немного помолится, попостится, а другой, умерев, начнет каяться — и, смотришь, с неба явится какой-нибудь ангел, часто дама (и в „Возрожденном Манфреде“ тоже Астарта) — и Окаянный Отверженный уже прощен, возносится к небу, сам Бог говорит с ним милостиво и т. д.! Дешево же достается этим господам так называемое спасение и всепрощение!
За что же другим так трудно достигать его? Где же вечное Правосудие? Бог вечно милосерд, это правда, но не слепо, иначе бы Он был пристрастен!
При том же „Возрожденный Манфред“ и в небо, в вечность, стремится через даму и ради нее и там надеется, после земного безверия, блаженствовать с нею и через нее, все-таки презирая мир. Но ведь он мудрец, должен знать, что в земной любви к женщине, даже так называемой возвышенной любви, глубоко скрыты и замаскированы чувственные радости. Зачем же искать продолжения этого в небе, где не „женятся, не посягают“ и где, по словам Евангелия, живут как Ангелы. Она, хотя возражает ему, что надо любить не ее одну, а все живущее, однако же уверяет потом, что она будет с ним вдвоем неразлучна. Эгоисты оба!»[356].
В этом отзыве Гончаров предстает как богословски подготовленный, догматически мыслящий христианин, знакомый с учением Церкви не только в общих чертах, но и по учению святых отцов[357]. Романист напоминает о том, что примирение человека с Богом не сводится к тому, что человек «немного помолится, попостится». Гончаров как бы напоминает Великому князю, что в основе такого примирения и прощения грехов лежит покаяние, которое выражается не столько в словах раскаяния или даже молитве, посте, но в серьезном, драматическом для человека исправлении своей жизни. Именно эту серьезность и должна контрастно подчеркнуть та «опереточная» стилистика, к которой обращается Гончаров: «Один под конец жизни немного помолится, попостится, а другой, умерев, начнет каяться — и, смотришь, с неба явится какой-нибудь ангел, часто дама» и пр. Настоящее покаяние необычайно трудно. Преп. Марк Подвижник говорит по этому поводу: «Если мы и до смерти будем подвизаться в покаянии, то и таким образом еще не исполним должного, ибо ничего достойного Царствия Небесного не сделали»[358]. Гончаров никогда не ссылался на святых отцов, никогда не обнаруживал перед кем-нибудь свою начитанность в богословской литературе, но, несомненно, был знаком с писаниями святых отцов, что так ярко обнаружилось в данном случае. Совершенно справедливо и второе его замечание: о том, что «раскаяние по ту сторону гроба — по учению веры — не действительно».
Касаясь свойств таланта К. Р. и объясняя его поэзию ему самому, Гончаров в письме от 13 сентября 1886 года отмечает прежде всего такое качество, как искренность. Причем снова заводит речь об искренности религиозной, как бы лежащей в основе искренности поэтической. Именно религиозная искренность, считает романист, может превратить «Эолову арфу» литературного ученика в «Давидовы гусли» оригинального поэта:
«Теперь позвольте обратиться к присланному Вами изящному томику Ваших стихотворений.
Ваше Высочество сделали мне дорогой подарок — и книгою, и ласковыми словами от Себя и от Великой Княгини. Вы точно живой водой вспрыснули меня: это действительнее всякой хины, микстур и пилюль действует на здоровье! Книгу Вашу, вместе с письмом, прижимаю пока к благодарному сердцу, а потом, когда отдохну, окрепну и оправлюсь, позволю себе уже головой ценить и разбирать достоинства и недостатки — и высказать при свидании откровенно свои впечатления и мнения. Теперь еще не могу: сил нет — ни физических, ни моральных.
Однако я успел перелистовать книгу и кое-что заметить. Прохожу молчанием „Манфреда“ и несколько библейских сказаний („Манфред“ мне знаком — я или слышал его в чтении от Вас самих, или он уже был напечатан — не помню). Этот „Манфред“, потом переложение библейских сказаний и даже перевод „Мессинской невесты“ — между прочим, и изучение древних классиков — есть не что иное, как подготовка к самостоятельному творчеству, воспитание, школа. Эту школу необходимо проходить молодому таланту, как необходимо живописцу копировать с античных статуй и бюстов, чтоб усвоить приемы и вообще технику великих образцов, прежде нежели он начнет создавать сам. Затем в книге собрано много чисто субъективных лирических излияний молодой музы, слышатся нежные, грустные, томные, как в Эоловой арфе, звуки. Такая Эолова арфа есть у всех молодых поэтов: она еще неясно, неопределенно высказывает впечатления, мысли, мечты, желания молодой неокрепшей в жизненном устое души. Потом, когда устоится и окрепнет сам поэт, Эолова арфа превратится в Давыдовы гусли — и будет, может быть, как у Пушкина, Лермонтова „глаголом жечь сердца людей“.
Об особенностях Ваших лирических излияний, если изволите припомнить, я когда-то писал в письме к Вам — и отнес это к счастливым признакам таланта. Это — искренность.
Она не часто встречается. Пишущих стихи — масса. Большая часть пишут подражательно с чужого голоса; в них действует „пленной мысли раздражение“, по выражению Лермонтова. Они не из себя добывают содержание для своей Эоловой арфы, а с ветра, лишь бы вышли стихи.
У Вашего высочества — наоборот. Вы сами — источник Ваших излияний — и оттого они нежны, трогательны, задушевны, хотя порой незрелы, но искренни… В каждом Вашем стихотворении присутствуете Вы сами. Поэтому я и признал эту искренность, вместе с страстью Вашей к поэзии, вообще к искусству, к литературе, одним из значительных признаков таланта.
Есть еще у нас (да и везде — кажется — во всех литературах) целая фаланга стихотворцев, борзых, юрких, самоуверенных, иногда прекрасно владеющих выработанным, красивым стихом и пишущих обо всем, о чем угодно, что потребуется, что им закажут. Это — разные Вейнберги, Фруги, Надсоны, Минские, Мережковские[359] и прочие. Они — космополиты-жиды, может быть, и крещеные, но все-таки по плоти и крови остающиеся жидами. Откуда им взять этого драгоценного качества — искренности, задушевности? У их отцов и дедов не было отечества, и они не могли завещать детям и внукам любви к нему. В религии они раздвоились; оставили далеко за собою одряхлевшее иудейство, а воспринять душою христианство не могли. Отцы и деды-евреи не могли воспитать своих детей и внуков в преданиях Христовой веры, которая унаследуется сначала в семейном быту, от родителей, и потом развивается и укрепляется учением, проповедью наставников и, наконец, всем строем жизни христианского общества[360].
Оттого эти поэты пишут стихи обо всем, но пишут равнодушно, хотя часто и с блеском, следовательно, неискренно. Вон один из них написал даже какую-то поэму о Христе, о Голгофе, о страданиях Спасителя. Вышло мрачно, картинно, эффектно, но бездушно, не искренно. Как бы они блестяще ни писали, никогда не удастся им даже подойти близко pi подделаться к таким искренним задушевным поэтам, как, например, Полонский, Майков, Фет, или из новых русских поэтов — граф Кутузов»[361].
Нет сомнения, что подобные замечания помогали Великому князю не только как поэту… Очевидно, что не только литература связывала автора «Обломова» и Константина Константиновича. Оттого-то такой симпатией к стареющему писателю дышат письма Великого князя: «Я боюсь, что мне никогда не удастся убедить Вас, что каждая строка из-под Вашего пера, не говоря уже про личные посещения, приносят и жене и мне только самое большое удовольствие и неподдельную радость. Никакие сильные мира сего не могут помешать нам встречать Вас всегда и неизменно с распростертыми объятиями, как милого и дорогого человека». Суть отношений Великого князя и Гончарова выражена в стихотворении Константина Константиновича «И. А. Гончарову»:
Венчанный славою нетленной, Бессмертных образов творец! К тебе приблизиться смиренно Дерзал неопытный певец. Ты на него взглянул без гнева, Своим величьем не гордясь, И звукам робкого напева Внимал задумчиво не раз. Когда ж бывали песни спеты, Его ты кротко поучал; Ему художества заветы И тайны вечные вещал. И об одном лишь в умиленье Он нынче просит у тебя: Прими его благодаренье, Благословляя и любя!Если о Великом князе Константине Константиновиче существуют исследования, рассматривающие его связи с известными писателями, то нельзя этого сказать о Великом князе Сергее Александровиче. Исключения редки[362].
Каковы же были взаимоотношения Великого князя и писателя? Еще в 1871 году Гончарова намеревалась представить Великому князю Сергею Александровичу графиня А. А. Толстая, фрейлина Императрицы, находившаяся с романистом в дружественных отношениях. Очевидно, это представление состоялось несколько позже. Во всяком случае, достоверно известно, что уже в 1879 году Гончаров лично читает Сергею Александровичу рукопись очерка «Литературный вечер», в котором дается как бы раскладка идейных сил в современном русском обществе. Об этом упоминается в недавно опубликованном письме Гончарова к графине А. А. Толстой от 1 января 1880 года: «Конечно, я не решился бы на все это, если бы Велик<ий> Кн<язь> Сергий Александрович не заинтересовался лично прослушанной им от меня первой половины очерка и не выразил мне лестного для меня желания, чтобы весь очерк был обработан до конца и напечатан, так как я писал его только с целию прочитать в интимном кругу, а не печатать»[363].
К этому времени отношения писателя с Великим князем Сергеем Александровичем приобретают более предметный характер. Известно, что с 1880-го по 1887 г. воспитанница Гончарова Саня Трейгут обучалась в Ивановском девичьем училище при Коломенской гимназии за счет Великих князей Сергея Александровича и Павла Александровича[364]. В феврале 1889 года Великие князья Сергей и Павел Александровичи подносят по просьбе писателя Императору
Александру III последний, только что вышедший девятый том Полного собрания сочинений Гончарова. Первые восемь томов уже были в библиотеке Императора.
Имена Великих князей Сергея Александровича, Дмитрия Константиновича и Павла Александровича то и дело мелькают в письмах Гончарова к Великому князю Константину Константиновичу. Так, в письме от сентября 1886 года он обращается к К. Р.: «Смею ли просить напомнить, при случае, обо мне их Императорским Высочествам Великим Князьям Сергию и Павлу Александровичам и Дмитрию Константиновичу — и засвидетельствовать перед Ними о чувствах моей к Ним почтительной, глубокой и неизменной симпатии?»[365].
Сохранившаяся переписка К. Р. с Гончаровым свидетельствует о том, что зачастую Великий князь Сергей Александрович являлся слушателем новых произведений Гончарова. Так, летом 1887 года Гончаров пишет очерки «Слуги старого века». В письме от 21 июня он высказывается: «Относительно этих рассказов у меня есть следующая мечта. Когда осенью Ваше Высочество и др. Великие Князья воротятся на зимнее житье в Петербург, я страх как желал бы прочесть очерка два из вновь написанных Вашему Высочеству и Их Высочествам Сергею, Пав лу Александровичам и Дмитрию Константиновичу…»[366]. Это чтение Гончаровым своих произведений состоялось в Мраморном дворце 3 января 1888 года. На следующий день Великий князь Константин
Константинович пишет Гончарову: «Не могу не поблагодарить вас еще письменно за доставленное нам вчера высокое наслаждение. Сегодня утром я встретился на репетиции Крещенского парада с В<еликим> К<нязем> Сергеем Александровичем и слышал от него, что вчерашний вечер оставил ему самое приятное впечатление. Про меня и говорить нечего». Писатель знакомит Великих князей с новостями современной литературы, дает свои оценки, к которым те прислушиваются. Общение с Великим князем Сергием носило такой характер, что Гончаров оформляет для него (и других Великих князей) подписку на журнал «Нива» на 1888 год[367].
В свою очередь проявлял определенную активность в отношениях с писателем и Великий князь Сергий. Устраивая в своем петербургском дворце литературные вечера, он приглашал на них и Гончарова. Однако тот всегда уклонялся от посещения. Племянник писателя М. В. Кирмалов вспоминал: «В последние годы жизни Ивана Александровича его приглашал к себе на вечера Великий князь Сергей Александрович и был с ним очень ласков. Но Иван Александрович уклонялся от посещений, говоря: „Вы ведь здесь все молодые, полные жизни; ну что буду делать среди вас я, кривой старик?..“»[368] Комментарием к словам Гончарова может быть его письмо к графине А. А. Толстой от 14 апреля 1874 года: «Боязнь моя ходить во дворцы относится не к тем или другим личностям, а к толпе, ко всей широкой обстановке, к строгой, условной и — неизбежной, конечно, представительности и обычаям места, к парадности и обрядности.
Моя боязнь — стало быть — есть просто непривычка. Кто родился и прожил до старости в скромной и тесной доле, в темном углу, тот всегда будет неловок, смешон и иногда „глуп“, лишь очутится в толпе, на виду… И слабые глаза, привыкшие к сумеркам, начнут усиленно мигать и плакать, когда к ним вдруг подвинут лампу.
Вот отчего я не старался проникать — не во дворцы, а вообще в большие дома, где есть толпа, где много лакеев, где швейцар и парадные приемы… Скромность, простота и незначительность собственной своей особы и написанной мне на роду роли — вот внешние причины моего удаления от так называемого света».
Гончаров постоянно преподносит свои новые произведения Великим князьям. В июне 1879 г. он пишет письмо K. IL Победоносцеву, в котором речь идет об отдельном оттиске его статьи «Лучше поздно, чем никогда», опубликованной в журнале «Русская речь»: «Великим князьям Сергию и Павлу Александровичам… я решусь представить брошюру и надеюсь, что они как всегда благосклонно примут мое скромное приношение»[369].
Таким образом, отношения Великого князя Сергия и писателя Гончарова не были отмечены печатью какой-либо особенной близости. Но это были ровные, доброжелательные с обеих сторон и многолетние отношения, отражающие определенный культурный спектр жизни Великого князя. Их отношения продолжались до самой смерти Гончарова в 1891 году.
Нельзя не сказать о том, что начиная с 1860-х гг. Гончаров все более уходит от либерализма и западничества, все более тяготеет в своих личностно-нравственных ориентациях к монархизму и Православию. Обороняясь от насевших со всех сторон «друзей-либералов» и уйдя в себя, прослыв даже человеком с «навязчивыми идеями», Гончаров пишет в «Необыкновенной истории» о своем религиозном состоянии в 70–80-е годы: «За мной стали усиленно наблюдать, добиваться, что я такое? Либерал? Демократ? Консерватор? В самом ли деле я религиозен или хожу в церковь так, чтоб показать… Что? Кому?
Теперь, при религиозном индифферентизме, светские выгоды, напротив, требуют почти, чтоб скрывать религиозность, которую вся передовая часть общества считает за тупоумие. Следовательно, перед кем же мне играть роль? Перед властью? Но и та, пользуясь способностями и услугами разных деятелей, теперь не следит за тем, религиозны ли они, ходят ли в церковь, говеют ли? И хорошо делает, потому что в деле религии свобода нужнее, нежели где-нибудь. Искать я ничего не искал: напротив, все прятался со страхом и трепетом».
Закончил Гончаров свою жизнь истинным христианином. Писатель осознал, насколько губительно сказался на исторических путях России разрыв между различными слоями общества и Церковью.
«Слуги старого века» в свете христианской проблематики
В 1888 году в журнале «Нива» появились очерки Гончарова под названием «Слуги». Писал эти очерки Гончаров на основе своих личных воспоминаний, в том числе и весьма стародавних. Любопытно, что очерки косвенно подтверждают, что писатель всегда, в том числе и в 1830–1840-е годы, оставался воцерковленным человеком.
«Слуги старого века» состоят из четырех очерков: «Валентин», «Антон», «Степан с семьей» и «Матвей». Каждый из этих очерков содержит свою религиозную тему. В «Валентине» эта тема обозначена словами: «Простые люди не любят простоты»[370]. Валентин читает с большим удовольствием романс В. А. Жуковского. Но удовольствие он получает именно потому, что не понимает, о чем читает. Это удовольствие от соприкосновения с некоей «тайной», с «запредельным». Не случайно в очерке возникает тема Апокалипсиса — как наиболее таинственного из всех известных текстов, в том числе сакральных.
Гончаров приводит один анекдот Валентина, который ему запомнился. Это случай с дьяконом Еремеем:
«— Это у нас в селе был дьякон Еремей… — начал он с передышкой. — Он не Еремей, а отец
Никита, да его прозвали Еремеем. Он тоже хвастался, что понимает Пока липе…
— Апокалипсис! — поправил я.
— Ну, Покалипсис, — нехотя вставил Валентин. — Архиерей объезжал губернию, приехал и в наше село. Наш священник после обедни, за завтраком, и указал на этого самого Никиту: „Вот, говорит, святой владыка: дьякон наш Никита похваляется, что понимает Покалипс…“
— Апокалипсис! — поправил я.
Валентин только сморщился, но не повторил поправки.
— „Дерзновенно!“ — сказал архиерей; так и сказал: „дерзновенно!“ Дьякон не знал, куда деться из-за стола. „Провалился бы, — рассказывал после, — лучше сквозь землю. И кулебяка, говорит, так и заперла мне горло…“ „Анука, дьяконе, скажи… — это архиерей-то говорит дьякону, — скажи, говорит, что значит блудница, о которой повествует святой Иоанн Богослов в Покалипсе…“
— В Апокалипсисе, — поправил я.
— Вы не извольте сбивать меня с толку, — с сердцем заметил Валентин, — а то я перепутаю архиерейскую речь. Я ее наизусть затвердил — и все тогда затвердили у нас. Я буфетчиком был у господ, и меня послали служить за этим самым завтраком: наш повар и готовил. Вот дьякон — сам после сказывал — не разжевавши хорошенько, почесть целиком целую корку кулебяки с семгой проглотил. Чуть не подавился, весь покраснел, как рак. „Ну, говори, коли понимаешь!“ — нудил архиерей. „Блудница… святой владыко… это… это… — мямлил дьякон, — это святой Иоанн Богослов прорекает о заблудшейся западной римской кафолической церкви…“ Мы все слушаем, не дохнем, я за самым стулом архиерейским стоял, все слушал и запомнил до слова… Так дьякон и замолчал. „А далее?“ — говорит архиерей. А у дьякона и дыхание перехватило, молчит. Все молчали, носы уткнули в тарелки. Архиерей посмотрел на него, да и проговорил, так важно проговорил, словно в церкви из алтаря голос подал…
— Что ж он проговорил?
— „Всякий, говорит, Еремей про себя разумей!“ Все и замолчали, так и из-за стола разошлись. Вот с тех пор во всем селе все, даже мужики, дьякона Никиту и прозвали Еремеем, а под сердитую руку и блудницей дразнили. А вы изволите говорить, что и вы тоже понимаете Покалипс… Хи-хи-хи!
— Апокалипсис! — поправил я. — Если дьякон не понимал, это еще не причина, чтобы я не понимал…
— Полноте, грех, сударь! — не на шутку сердился Валентин. — Дьякон или священник всю жизнь церковные книги читают — кому бы и понимать, как не священству? А вот никто не понимает. Один только святой схимник был: он в киевских пещерах спасался, тот понимал. Один! Все допытывались от него, и сам митрополит уговаривал, да никому не открывал. Перед кончиной его вся братия три дня на коленях молила открыть, а он не открыл, так и скончался. А вы — понимаете!»[371].
Гончаров невольно вспоминает свое плавание на фрегате «Паллада» и соединяет в нашем сознании оба примера: «Я тут убедился в том, что наблюдал и прежде: что простой русский человек не всегда любит понимать, что читает. Я видел, как простые люди зачитываются до слез священных книг на славянском языке, ничего не понимая или понимая только „иные слова“, как мой Валентин. Помню, как матросы на корабле слушали такую книгу, не шевелясь по целым часам, глядя в рот чтецу, лишь бы он читал звонко и с чувством. Простые люди не любят простоты»[372].
Очерк «Антон» развивает другую тему: святые праздники Церкви и русское пьянство. В этом очерке писатель вспоминает святого равноапостольного Великого князя Владимира: «О ты, — вздыхал я с грустью про себя, ходя взад и вперед по зале, — о ты, зелено вино! ты иго, горшее крепостного права: кто и когда изведет тебя, матушка Русь, из-под него? Князь Владимир Великий сказал: „Веселие Руси — есть нити!“ — и это слово стало тяжкою вечною заповедью для русского народа! Зачем он не прибавил: „пити, но не упиватися!“…»[373]. Придя на Святой неделе домой, Гончаров не застает своего слуги Антона:
«Я отворил к нему дверь и ахнул.
На столе догорала, вся оплывши, свеча, над нею, в близком расстоянии, висели на протянутой веревке полотенца, платки, какие-то тряпки.
Сам Антон лежал врастяжку на полу диагонально, навзничь, опять с открытым ртом, с закатившимися под лоб зрачками, без чувств.
— „Употребил“! не выдержал! — сказал я с тоской и злостью, потрогивая его за плечи, стараясь поднять его голову. Напрасный труд: он не шевелился, не подавал голоса, не открывал глаз. „Это называется праздник, Святая неделя! Святая! Вот уж, что называется, „святых вон выноси!“, — думал я злобно, даже, кажется, зубы сами невольно скрежетали у меня“»[374]. В сущности, за простой зарисовкой стоит тема большая, нежели пьянство. Соединение пьянства и Святой недели дает повод поставить вопрос о, так сказать, качестве, строгости христианской жизни русского человека из народа. По-своему очерк в своих выводах перекликается со словами Н. С. Лескова, широко поставившего вопрос о соотнесенности язычества и христианства в русской жизни: «Русь освятилась, но не просветилась христианством».
Очерк «Степан с семьей», в сущности, ставит ту же тему, но в несколько ином ракурсе: речь идет о том, что русский человек из народа часто более привержен внешнему обряду, нежели христианскому образу жизни. Жена Степана, Матрена, «была русская, набожная женщина — и заняла киотом со священными предметами не только весь передний угол своей комнаты, но отчасти даже мою гардеробную и комнату с ванной. Долго я слышал стукотню прибиваемых икон и картин религиозного содержания. Это меня несколько успокоивало насчет добропорядочности этой четы»[375]. Однако самая приверженность обряду иногда является лишь предлогом уклонения от жизненного долга: «К вечеру она явилась и, как показалось мне, тоже навеселе. Я уже о муже не спрашивал, где он.
— Где ты была, Матрена? Все разошлись: дом пустой! Как же это можно!
— Нынче Ильинская пятница: я на Пороховых заводах была! — обидчиво отозвалась она. — Нельзя же: все люди, как люди — я точно не человек! На мне, чай, крест есть!
Это случалось очень часто. То Родительская суббота придет, то Троицын, Духов или Успеньев день, то она на Смоленское кладбище пропадет на целый день. Великим постом особенно отсутствия эти были часты.
— Где была? — спросишь, бывало.
— На стоянии Марии Египетской, или ко кресту ходила: нонче Середокрестная неделя!
Отлучалась тоже и в Лазареву субботу, за вербами, и в Лазарево воскресенье, и ко всенощной с двенадцатью евангелиями и т. д.
Все эти праздники служили ей более предлогами к угождению „мамоне“, как я замечал, а не проявлением благочестия. Когда она приходила домой, от нее не святостью пахло»[376].
Тема внешнего благочестия, обрядоверия была постоянным предметом размышлений писателя. Об этом говорят и «Сон Обломова», и письмо к А. Ф. Кони от 1887 г.:
«Воистину воскресе Христос!
Дорогой Анатолий Федорович! Я сейчас получил Ваше милое приветствие — и не умею даже благодарить, т. е. силенки нет.
С белым Борей власами с седою бородой потрясает, к сожалению, не одними „небесами“, но и нами всеми, особенно мной.Он вчера буквально уничтожил меня, так что я „не со страхом и трепетом“, как следует доброму христианину, а со злобой раздражения против этого языческого Борея приступил к Св. Чаше.
И затем целый день все злобствовал… „Бог есть Дух… и должно поклоняться ему в духе и истине“. Давно сказал это И<исус> Х<ристос> самарянской жене, а с тех пор в этот самый день поклоняются Ему в куличе, пасхе, водке и проч. и называют еще день — Светлым… Не правда ли, я в этом письме похожу на какого-то заштатного попа, которого попросили отслужить и сказать проповедь, а он — не умеет?»
Чистка икон к праздникам у Матрены тоже вряд ли говорит об истинной вере и благочестивом образе жизни, ни даже о любви к чистоте внешней: «Последние три дня перед большими праздниками меня почти выгоняли вон. Начиналась возня, чистка, уборка, печенье куличей, крашенье яиц— и особенно чистка икон. Когда, бывало, зимой или осенью, заметишь паутину по углам или сор какой-нибудь и пыль на шкафах, вообще запущенность и неопрятность, и предложишь поубраться, всегда получишь в ответ: „Вот ужо к празднику (иногда месяца за три) станем образа чистить, уберем все, и паутину снимем, и пыль сотрем“.
Я заметил, что никто из моих слуг, ни один, никогда, по своему почину, без положительного и настойчивого моего приказания, не оботрет пыли, например, с мебели, с разных вещей. Пол еще выметут, а затем уже надо, что называется, носом ткнуть, чтоб русский слуга увидел беспорядок, пыль, и убрал»[377]. Так внешнее благочестие скрывает нехристианский, по сути, образ жизни.
Любопытен в этом ряду заключительный очерк «Матвей», Матвей хотя и католик, но истинно религиозный человек, христианин в душе. Очерк о Матвее насыщен религиозными мотивами, так как Матвей живет по-христиански и ходит в церковь: «В воскресенье, часа в четыре дня, он попросился у меня в свою церковь.
— Какая же у вас служба теперь, в эти часы? — спросил я.
— Сегодня у нас „супликация“ будет.
— А кроме супликации еще что бывает?
— А в следующее воскресенье будет „наука“, потом, через неделю, еще „проповедь“.
Кроме этих выходов в церковь, он не отлучался ни шагу, О вине и помину не было. К сожалению, он воздерживался, по-видимому, и от пищи: по крайней мере я не замечал у него ничего съестного, кроме остатка селедки, огурца, редьки, так что я почти принуждал его „употреблять“ остатки моего завтрака, советовал протапливать печь, варить себе какой-нибудь суп, предлагал ему денег купить мяса»[378].
Между Гончаровым и его слугой происходят «религиозные» разговоры: «Жалкое и смешное мешалось в нем так слитно, что и мне приходилось поминутно двоиться в моем взгляде на него. Только что расхохочешься невольно, глядя на его ужимки, прыжки, на эту наивную улыбку с обнаженными деснами, как вдруг сердце сожмется от боли, когда он прервет свою речь тяжелым вздохом и закроет потухшие глаза. На этом, обвисшем в складках, бледно-желтом лице опять прочтешь неизгладимую историю перенесенных им истязаний.
— Ты много страдал, Матвей? — сказал я ему однажды, когда он принес мне поднос с чаем, и с участием глядя на него. — Какие жестокие боли ты вынес, ты просто мученик! Тебя надо в календарь, в святые включить: вон как худ! Преждевременно сколько морщин!
— Нет-с, барин, это что за боли: это ничего! — молодцевато отговаривался он. — Такие ли бывают! Это легко… а те вот страшные!
— Какие же еще есть такие страшные боли? — спросил я.
— Их три, три мученические муки, — сказал он с убеждением. — Наш ксендз, отец Иероним, сказывал: „Нет, говорит, тяжеле этих самых мук: когда, говорит, зубы болят, когда женщина родит и когда человек помирает“.
— А он почему же знает, твой ксендз? Про зубную боль, пожалуй, еще так, если у него болели зубы. А про роды или про смерть как он может знать: ведь он не родил сам и не умирал тоже?
— Ксендзы все знают! — с благоговением произнес Матвей, закрывая глаза. — Все-с. Знают, зачем каждый человек родится на свет, а когда помирает, знают, что с его душой в шестой и девятый день после смерти делается и по каким „мутарствам“ ходит она. Да-с! — со вздохом заключил он»[379].
Матвей и постится аскетично, как «верный в малом»:
«Да ты теперь, до Пасхи-то ешь: пост для католиков не обязателен. Ты можешь есть яйца, молоко… Смотри, на что ты похож!
— Недолго, два дня всего осталось! — отвечал он, обнажая десны»[380]. Эта верность ему дорого обходится — он чуть не умирает от дизентерии. Однако этот смешной, казалось бы, эпизод заключает в себе самый серьезный смысл, «Смешной» Матвей в очерке вовсе не смешон. Гончаров увидел в нем истинного христианина. Признаком этого является то, что Матвей один из всех слуг Гончарова молится о своем хозяине: «В Новый год и Пасху он года три сряду являлся ко мне, во фраке, в белом галстуке, с часами. Боже мой, как он был смешон! Когда я, по старой памяти, вынимал из бумажника ассигнацию и хотел подарить „на красное яичко“ — он, как раненый волк, отскочит и с упреком обращается ко мне:
— Я не затем, барин, не затем. Боже оборони! Я молюсь за вас… и никогда вас не забуду!
„За что!“ — думал я, глядя на него и со смехом и со слезами.
В последний раз он пришел ко мне, услыхав, что меня произвели в чин. Как он вскочил ко мне, как прыгал, какими сияющими глазами смотрел на меня!
— Я вам говорил, барин, говорил: я знал, что будете „винералом“ — я молился! — торопливо и радостно поздравлял он меня, целуя в плечо.
— Графом дай Бог вам быть! — почти с визгом произнес он уходя. — Я помолюсь!»[381].
Весь очерк пронизывает мысль о том, что за смешной стороной Матвея скрывается трогательная, настоящая, идеальная. Гончаров несколько раз говорит в очерке о своих умилительных слезах: «„Нет, он не смешной!“ — думал я, удерживая слезы».
Конечно, «Слуги старого века» не сводимы к религиозной проблематике, но она в очерках присутствует. Их своеобразие и глубина заключаются не только в блестящем описании нравов, но в попытках глубокого проникновения в национальный и религиозный характер русского человека из народа. В слугах Гончарова смешано много хорошего и плохого. Хорошее восходит к природной натуре, к христианским идеалам. Плохое — к непониманию христианства, к обрядности, а по сути — к откровенному язычеству. Отчасти все это перекликается с описанием полуязыческой Обломовки в «Сне Обломова» (1846). Слуги Гончарова 1830–1840-х годов отчасти служили для него «натурой» при изображении жизни в Обломовке.
Последние годы. Предсмертные новеллы
После смерти протоиерея Крылова, первого духовника Гончарова в храме великомученика Пантелеймона, религиозность Гончарова приобретает несколько «старческий» характер: она становится обыденным явлением, чертой его не только внутреннего, но и внешнего облика. Душа его, уже обращенная к небесам, и в земной жизни, в земных предметах все чаще и чаще находила для себя опору в их религиозном наполнении. В обычных бытовых разговорах с симпатичными ему людьми он все чаще открыто говорит о Боге, религии, судьбах Православия, современном духовном и моральном состоянии русского общества. Главное же — о личном спасении. В 1883 году в письме к А. Ф. Кони Гончаров укажет на источник своего душевного спокойствия. «Впрочем, не думайте, чтоб я очень ужасался, — завершает он свои сетования по поводу всерьез расстроенного здоровья, — у меня есть в душе сокровище, которого не отдам, — и — уповаю — оно меня доведет до последнего предела». Этим бесценным сокровищем было для писателя Православие, вера в Бога. Правда, в литературных произведениях такие признания выражались, конечно, менее заметно.
Учитывая духовную эволюцию Гончарова, трудно удивляться тому, что находилось все больше и больше людей, которые замечали и отмечали религиозность писателя. Так, об «искренней и глубокой религиозности» Гончарова свидетельствовала В. М. Спасская, познакомившаяся с писателем во время летнего отдыха на Рижском взморье в 1881 году: «И. А. Гончаров был искренно и глубоко религиозен. Помню, с какой задушевностью передавал он нам содержание своей беседы с священником православной церкви в Дуббельне (своим внешним обликом напоминавшим Николая Чудотворца, как его обыкновенно изображают) на тему одной из его проповедей»[382].
В письмах Гончарова 1880-х гг. свидетельства о его духовно напряженной, поистине наполненной молитвой жизни становятся обыденным явлением. Характерны выражения из одного письма романиста к А. Ф. Кони 1882 года: «Мне ведь уже исполнилось 70 лет, следовательно, и жаловаться непозволительно, а можно лишь пожелать если не совсем „безболезненной“, то, по возможности, не мучительной, притом, конечно, „христианской, мирной и непостыдной кончины!“ Об этом и молю Бога ежедневно»[383].
Почти неизвестны до 1880-х гг, факты поздравления им кого-либо с днем Ангела. Теперь же по-стариковски обстоятельный в религиозных вопросах Гончаров становится внимателен к этой стороне жизни. 23 апреля 1883 года он пишет тому же А. Ф. Кони: «Иван Александрович Гончаров сейчас только по календарю узнал, что 23 числа между святыми угодниками есть имя Анатолия мученика, от всей души поздравляет и желает всевозможных благ и счастия»[384].
* * *
Произведения позднего периода творчества И. А. Гончарова, написанные незадолго до смерти писателя в сентябре 1891 года, новеллы-очерки «Май месяц в Петербурге», «Превратность судьбы» и «Уха» являются практически не изученными в современном литературоведении. Они почти не упоминаются исследователями, пишущими о творчестве Гончарова. И это не случайно. Они совершенно разрушают привычное представление о Гончарове как писателе.
Осмыслить их в контексте творчества романиста представляется довольно трудным делом. Дело в том, что в них настойчиво и непривычно открыто для Гончарова звучит религиозная тема. Жанровые особенности произведения формируются и организовываются, по сути, вокруг религиозной притчи. Незначительный же объем этих произведений, их смысловая нерасшифрованность и тот факт, что написаны они в последние дни жизни писателя, как бы позволяли долгое время фактически игнорировать их при попытках глобальных трактовок гончаровского творчества. Указанные произведения просто замолчаны в нашем литературоведении. Не случайно, что наиболее открытая и ясная в религиозном плане новелла «Превратность судьбы» не была помещена ни в восьмитомном собрании сочинений Гончарова 1952–1955 гг., ни в восьмитомнике, вышедшем в 1978–1980 гг., хотя эта новелла ранее уже входила в собрания сочинений писателя.
В самом деле, для Гончарова все эти произведения были важны, и он настаивал в своем завещании на включение их в посмертное собрание сочинений. Известно, что 22 августа 1891 года романист написал вторую дарственную, которая была опубликована в газете «Новое время»: «Три статьи моего сочинения: 1) „Май месяц в Петербурге“, 2) „Превратность судьбы“ и 3) „Уха“ подарены мною в августе 1891 года девице Елене Карловне Трейгут[385] для напечатания в ее пользу, сначала в каком-нибудь журнале, потом в общем собрании моих сочинений у книгопродавца г<осподина> Глазунова или же у другого издателя. Ив<ан> Гончаров, 22 августа 1891 г.»[386]. Выражая пожелание поместить последние свои произведения в посмертное собрание сочинений, Гончаров, очевидно, не считал их «анекдотами» или «безделками».
На наш взгляд, рассмотрение поэтики «Ухи» и других этого же ряда произведений представляется адекватным лишь с точки зрения религиозных взглядов писателя и их отражения в контексте всего его творчества, природа которого, несмотря на достаточно активные усилия русских и зарубежных ученых в последнее время, во многом остается загадочной. Ведь Гончаров-писатель был укоренен не только в культурно-литературных, но и в духовных традициях, а именно эта сторона его творчества, как правило, ускользает от внимания исследователей.
«Май месяц в Петербурге», «Превратность судьбы» и «Уха» не были опубликованы при жизни писателя. Все три произведения имеют подзаголовок «очерк», при этом трудно судить, был ли он дан самим Гончаровым уже при их написании, или же издатели таким образом объединили их под единой жанровой «шапкой» уже после смерти автора. Вопрос о жанре исследуемых произведений является очень важным для выявления их глубинного смысла.
В. А. Недзвецкий, не учитывая тематического своеобразия последних гончаровских произведений, а также настроя автора на ненавязчивое, но глубокое философское обобщение, говорит о том, что «общие истоки очеркового наследия Гончарова следует искать там же, где и его романа, — в эпохе 40-х годов и художественном мышлении натуральной школы»[387]. Исследователь полагает, что Гончаров не только усвоил многие черты поэтики «физиологов» еще при вступлении на литературное поприще, начиная с «Ивана Савича Поджабрина» (1842), но и активно использовал их на последнем этапе своего творчества.
Однако связь с физиологией 1840-х годов в упомянутых произведениях все-таки условна. Более того, как покажет дальнейший анализ, «Превратность судьбы» по-своему противостоит поэтике «натуральной школы». Уже название новеллы «Превратность судьбы» говорит о том, что ее темой является непостоянство земной доли человека. Судьба то возносит человека в самый верх общества, то опускает его в самые низы.
Сначала Гончаров изображает главного героя новеллы, штабс-ротмистра Леонтия Хабарова, в обстоятельствах рядовых, ничем не примечательных. Перед нами обычный молодой человек, жизнь которого, кажется, настолько устойчива, стабильна, что не может подвергнуться каким-то необычным переменам. А между тем ему предстоит пройти путь библейского Иова, а потому Гончаров наделяет его такими отличительными чертами, как честность и глубокая христианская вера.
Однако сначала эта вера «дремлет» в человеке, существует как данность и не требует от него никаких жертв. Карьерный рост молодого офицера ясно объясним его качествами: честностью, старанием, «исправностью»: «Молодой Хабаров скоро свыкся в полку со своими товарищами, другими офицерами, и производил также на начальство выгодное впечатление. Он был очень исправен по службе: не гулял, не пил, словом, был трезвым и исправным офицером. Годы между тем проходили, он привыкал все более и более к делу, в очередь получил следующий чин» (Д. VII. 384).
Земная судьба благоволит к герою: купив молодую лошадь за сто пятьдесят рублей, он отлично выездил ее и продал в другой полк уже за тысячу рублей. Затем он повторяет столь удачный и выгодный опыт и упрочивает свое материальное положение. «Таким образом, дела его были в хорошем положении. Он всегда был при деньгах, притом любим товарищами и уважаем начальством <…> Он служил усердно, узнал толк в лошадях, выезжал их, сбывал в другие полки и жил почти припеваючи» (Д. VII. 481).
Однако Гончаров показывает, как Бог начинает приближать человека к себе: судьба героя приходит в движение. Казалось бы, земной жребий выносит молодого офицера на самый верх: Великий князь Константин Павлович приказал перевести Хабарова в Варшаву, в его гвардию. Однако Великий князь оказывается лишь орудием Божьего Промысла о судьбе человека. Он желает герою одного, а по Божьему попущению получается совсем иное. «Земные цари» действуют иногда слепо: повышение статуса оказывается губительным для материального положения Хабарова, поскольку условия жизни в Варшаве требовали гораздо больше издержек. Штабс-ротмистру Хабарову пришлось уволиться с военной службы для определения к другим делам, так как у него не было уже средств существовать в Варшаве. Он получает указ об отставке и подписанное самим Великим князем особое «похвальное» свидетельство, подтверждающее, что Леонтий «своей службой и поведением заслуживает полное одобрение и может исполнять все возлагаемые на него дела и поручения» (Д. VII. 482).
Вторая часть новеллы изображает начинающиеся, но духовно необходимые скорби героя, испытания, связанные с его попытками добыть себе хоть какую-нибудь статскую должность в Петербурге. Герой еще не знает, что выпавшие на его долю скорби есть часть «любви Божией», и чуть не доходит до отчаяния. В страданиях, однако, просыпается и заложенное в нем зерно веры, невостребованное в обычной размеренной офицерской жизни. Сюжет напоминает нам о «Мертвых душах» Н. В. Гоголя и об образе капитана Копейкина, оставленного своим начальством на произвол судьбы. Хабаров приезжает в Санкт-Петербург и в трех различных ведомствах просит место городничего, смотрителя казенного заведения, наконец, хотя бы почтмейстера; но свободного места нигде не находит. Везде, видя отличные рекомендательные документы и соответствующий мундир, Хабарова принимают «очень любезно», однако просят подождать и прийти попозже.
Герой, по мере утраты денег, мундира, опускается все ниже и ниже, подвергается постоянным унижениям и непониманию со стороны тех, с кем сталкивает его судьба. Причем страдает он именно из-за своей честности и добросовестности. Таким образом, герой проходит полный круг движения сначала вверх, а затем вниз по социальной лестнице. Ему не на что более надеяться. Именно в момент, когда все земные возможности исчерпаны, наступает время иной помощи. Речь идет о силах Небесных, собственно — о чуде Божественной помощи. Сюжет, казалось бы, совершенно немыслимый для Гончарова. Однако нужно учесть, что новелла о превратностях человеческой судьбы пишется за три недели до смерти писателя. Ему нет более необходимости скрывать свои истинные религиозные взгляды и чувства. Еще в 1880-е годы писатель начал раскрывать тайну своей личности, которую тщательно прятал от других на протяжении всей жизни: свою глубокую религиозность. К концу жизни открылось, что юродство, скрытность во внутренней жизни было основой его поведения в течение многих десятков лет. Из писем и признаний близким друзьям откровенность все более переходила и в его художественные произведения, как это видно на примере «Превратности судьбы».
После всех своих злоключений, отчаявшись найти помощь, герой идет в Казанский собор и молится Божией Матери о помощи. Казанский собор, кстати сказать, появляется в тексте новеллы не случайно. Ведь в нем помещалась чудотворная икона Казанской Божией Матери, видимо, особенно почитаемой в семье Гончаровых. Очевидно, не случайно Казанская Божия Матерь уже упоминалась Гончаровым в романе «Обыкновенная история» и тоже в связи с неотложными прошениями к Ней. В «Обыкновенной истории» Казанской Божией Матери молится мать Александра Адуева, прося защиты и помощи для сына: «Как встала, сейчас затеплила лампадку перед Казанской Божией Матерью: авось, она, милосердная заступница наша, сохранит его от всяких бед и напастей»[388].
Поэтика описания чудесного у Гончарова весьма любопытна. Чудесное совершается не сразу, почти естественным образом. Однако писатель подчеркивает это чудесное тем, что человек действует не сам, а под наитием каких-то иных сил. Не он совершает нечто, но над ним совершается. Внешне все это, конечно, в привычном для Гончарова «бытописательном» стиле: после молитвы к Божией Матери герой «вышел и машинально стал смотреть, как на Екатерининском канале воротом тащили большой камень на пьедестал какого-то монумента».
Эта машинальность — не только результат того, что герой еще не вернулся от молитвы к реальности (хотя и это тоже есть); она уже — начало действия совершаемого над ним чуда. Это подчеркнуто другим словечком: вдруг. Вдруг — то есть против ожидания, неизвестно, по какой видимой причине. И это «вдруг» совершается над героем: «Приказчик в синей сибирке вдруг пригласил его занять пустое место и вместе с другими тянуть канат».
«Вдруг» — это уже обещание чуда. Чудо, конечно, и то, что одно место оказалось у приказчика пустое. Это Божий Промысл действует в герое и явно переводит его в какую-то иную, духовную плоскость бытия. Через испытания герой изымается из привычной «среды обитания» и начинает свое восхождение к Богу. Герой должен пройти путь очищения, духовного труда и смирение.
Дальнейшее описание показывает, что просьба героя к Божией Матери выполняется, однако не сразу вслед за молитвой. Герою как бы еще нужно «потрудиться». Труд этот — физически тяжелый, совсем не для офицера — есть форма смирения героя, который не случайно говорит: «Видно, в самом деле я обносился!., и мой вицмундир не спасает меня от обид!» Хабаров, однако, смиряет себя — и втягивается в совместную работу с чернорабочими, иные из которых — просто пьяницы. Здесь движение «судьбы» героя вниз почти достигает своего апогея.
Характерна и «магия чисел» в этом эпизоде «смирения»: герой ходит к Казанскому собору на работу двенадцать дней — число сакральное в христианстве, обозначающее число апостолов.
По мере приближения к чудесному преображению жизни нарастает и отчаяние героя: он уже начинает задумываться о самоубийстве. Однако вера в Бога не позволяет ему окончательно отчаяться: «Его грызла неотступная мысль, что ему теперь осталось делать? Умереть, наложить на себя руку… Боже сохрани! Он отгонял от себя эту мысль, он был христианин, он веровал, молился…» Таким образом, все яснее проявляется смысловая доминанта создаваемого Гончаровым образа: герой — христианин. И его испытания и искушения есть проверка его как христианина. Хабаров подвергается сильнейшим искушениям и, при всех трудностях, выдерживает их.
Лишь после полного смирения героя происходит наконец чудо. Божия Матерь утешает всеми оставленного отставного офицера в его скорби. Его судьба неожиданно (опять «вдруг») меняется. Движение «судьбы» идет резко вверх — снова на уровень царской семьи.
Гончаров подчеркивает, что его герой не действует самостоятельно, а является только объектом приложения каких-то иных сил. Автор снова подчеркивает «машинальность» действий героя: «Он пошел дальше, погруженный в глубокое раздумье о своей горькой участи. Долго ли, коротко ли он шел, он ничего не помнил. Очнувшись от задумчивости, он шел дальше, оглядывался кругом и опять шел. Он даже времени не считал и не соображал — и не по чем и незачем было — и все шел».
Когда наконец, словно в сказке, он попадает в великолепный сад с дворцом, он по-прежнему пассивен. Судьба сама находит его и буквально «берет за шиворот»: «Вдруг в его грудь уперлась чья-то рука, с красным обшлагом, и вместе с тем раздался строгий голос:
— Кто ты? Зачем здесь? Как сюда зашел?
Хабаров поднял глаза: перед ним сам Император Александр Павлович».
Этот эпизод отчасти перекликается с подобным же эпизодом из «Капитанской дочки» А. С. Пушкина. Но в пушкинской повести героиня, Маша Миронова, ищет встречи с Императрицей, проявляет активность, борется за себя и своего возлюбленного, У Гончарова борьба с судьбой переходит в чисто духовную плоскость: она есть результат молитвы к Божией Матери, результат того, что герой, по выражению автора, «христианин».
Логика гончаровской новеллы именно христианская. Ведь Божия Матерь уготовала герою совсем иное, чем он предполагал: его жизненный путь отныне навсегда окажется связан с Богом. Оказывается, он совсем не там искал утешения, являясь соискателем штатских и военных должностей. Когда Хабаров после чудесной встречи с Императором приезжает к генералу Дибичу, тот говорит ему:
«— Вот что государь велел мне вручить вам. — Он подал ему толстый пакет. — Место почтмейстера, которое назначено было для вас, уже занято, — прибавил он. — Но вы получите, когда выздоровеете совсем, место смотрителя работ при строящемся в Москве храме Спасителя в память изгнания французов. Об этом уже писано в Москву».
Так пролагается в новелле путь от Казанского собора в Петербурге, куда герой заходит в полном отчаянии, до Храма Христа Спасителя в Москве, где он получает утешение. Это сознает и сам герой: «Но перед отъездом он зашел в Казанский собор, долго молился и горячо благодарил за божественную помощь в претерпенных испытаниях и внезапную радость превратности судьбы».
Говоря о «внезапной радости», Гончаров, несомненно, намекает на то, что Божия Матерь помогает человеку так хорошо, как он и не ожидает, «не чает». Эта особенность помощи Божией Матери закреплена в названии иконы: «Нечаянная радость».
Гончаров, судя по всему, пересказал действительный случай — по его выражению, «со слов Углицкого». Из очерка «На родине» мы знаем, что прототипом Углицкого является у Гончарова его бывший начальник и благодетель — симбирский губернатор А. М. Загряжский, Именно ему, неутомимому рассказчику и бывалому человеку, тоже, кстати, добивавшемуся губернаторского места через государя, могла действительно принадлежать подобная история.
Однако сущность этой истории — не в исключительности, а в типичности случая, если на него смотреть с христианской точки зрения. Ибо это история о Божией помощи, которую ежедневно ощущает в своей жизни каждый христианин. Несомненно, Гончаров воспользовался лишь внешней сюжетной фабулой Загряжского, а может быть, и изменил ее, введя от себя чрезвычайно важный и все проясняющий эпизод с Храмом Христа Спасителя. Несомненно, сам писатель придал всей истории характер христианской притчи.
Внутренний стержень рассказанной истории — это обращение героя к Богу, его непоколебимая вера, его упование на Божию Матерь, наконец, терпение, проявленное им при искушениях.
Таким образом, перед нами вполне типичная христианская история, каких много находим в житиях святых, в сборниках христианских притч и рассказов.
Нужно сказать, что настроения написанной уже перед смертью новеллы вполне отвечали настроениям самого автора. Пережив много испытаний (связанных с И. С. Тургеневым и романом «Обрыв»), буквально отравивших ему жизнь и превративших его в больного человека, Гончаров не отчаялся. Он давно уже выделил для себя в библейской мифологии именно образ святого многострадального Иова. Этот святой упомянут во «Фрегате „Паллада“» (глава «До Иркутска») и в романе «Обрыв».
Еще одно произведение, написанное в духе открытой религиозности, столь несвойственной Гончарову, это новелла под названием «Уха». Новелла написана совершенно не в гончаровской традиционной манере, здесь глубоко психологичная проза писателя уступила место как бы «опрощенному», грубовато дидактическому стилю повествования. В свое время мы пытались подчеркнуть «притчевую» жанровую основу произведения, осложненную признаками новеллы в духе Возрождения[389]. В самом деле, в «Ухе» есть существенно важные моменты, позволяющие прочитать ее именно как новеллу в духе Боккаччо. Простак и недотепа Ерема наказывает трех самоуверенных мужчин, не желающих принять его за «ровню», тем, что прельщает их жен во время пикника. Среди этих мужчин есть, кстати сказать, и дьяк, который, по всей видимости, не очень набожен.
Во всем этом обнаруживается некоторое сходство с особенностями новелл Боккаччо. Вместе с тем есть в «Ухе» один момент, который совершенно меняет смысл произведения и заставляет говорить о близости гончаровской поздней прозы к русской новелле XVII века. Речь не идет, конечно, о каких-либо реминисценциях, заимствованиях. Скорее сходство обнаруживается в самом внутреннем предмете изображения и способе повествования.
«Уха» — очень завершенное произведение, в котором нет ничего лишнего и в котором сюжет крайне строг и рассчитан. Новелла пространственно организована так, что действие внешнее, фабульное, очерчивает строгий, идеальный круг. Действие начинается тем, что «в городе С. из одного дома выехали две телеги», последние же слова произведения: «Обе телеги остановились у дома, из которого выехали утром». Круг дня охватил круг действия. Однако такая законченность и видимая «неподвижность» (все окончилось там, где началось, герои как бы и не уезжали) лишь подчеркивает полный переворот, произошедший во внутренней жизни героев, жизни, которая больше собственно «психологизма».
Сюжет новеллы прост и строится на постоянном, фольклорном по духу обыгрывании трехчленной конструкции: обманутых мужей трое, в действии участвуют три женщины, каждая из которых по часу пребывает в шалаше Еремы, т. е. на «главное действие» уходит три часа. По дороге герои встречают три церкви, главная из которых (здесь начинается и оканчивается действие) называется церковью Пресвятой Троицы.
Исходная точка психологического действия новеллы — характер Еремы, рассматриваемый с точки зрения христианских добродетелей, с одной стороны, и восприятие этого характера остальными героями (не по-христиански) — с другой. В начале новеллы писатель так характеризует своего героя: «Человек набожный и на взгляд смирный». А о том, как воспринимают его окружающие, Гончаров говорит: «Ерема был вхож во все три семейства, и все, и мужчины, и женщины, знали его как смирного простяка и забавного малого, над которым безнаказанно можно посмеяться вдоволь».
Здесь исток всей новеллы, в которой простак посмеялся над мудрыми, безнаказанность заменена наказанием (мужчины стали рогоносцами, а женщины потеряли свою репутацию). Казалось бы, перед нами действительно пошлый анекдот о мужьях-рогоносцах и удали «колченогого» пономаря. Именно так была воспринята гончаровская новелла. Так, П. С. Бейсов писал: «Пономарь Ерема, над которым потешаются приказчик, дьячок, мещанин и их бойкие жены, едущие на рыбную ловлю, оставляет их всех в дураках, чему способствует легкомысленное поведение их жен, соблюдающих только внешнее приличие»[390].
В центре новеллы — явный, действительно «анекдотичный» грех: моральное падение самого смиренного и набожного героя, падение трех женщин, моральное падение остальных участников событий: приказчика, дьячка и мещанина. Перед нашими глазами клубок греха. Христианская мораль восторжествовала, но восторжествовала через падение и грех. Назидание героев также идет не через святость, а через грехопадение.
Возникает мысль, что без понимания древнерусских жанровых корней гончаровской новеллы не обойтись. Именно в русской прозе XVII века постоянно соседствуют грех и праведность. В герое русской новеллы сочетаются противоречивые черты. Такова, например, «Повесть о Карпе Сутулове», в которой анекдотический сюжет, связанный с домогательствами, обнаруживает духовную высоту героини (с обратными акцентами грех и святость сочетаются в «Слове о бражнике, како вниде в Рай»). В жене Карпа Сутулова Татьяне есть положительное — верность мужу — и в то же время сомнительное: жадность. Исследователи верно подметили: «За посрамлением домогателей следует веселый дележ денег между воеводой и „благочестивой“ Татьяной. Этот финал и превращает „Повесть о Карпе Сутулове“ в новеллу». Татьяна, будучи верна мужу, все же, строго говоря, грешит, создавая анекдотическую ситуацию трех спрятанных друг от друга мужчин в доме, Кроме того, она не отказывается от столь «веселых» денег. И в «Слове о бражнике», и в «Повести о Карпе Сутулове», и во многих других произведениях XVII века грех становится «веселым», даже когда торжествует добродетель. Кто не без греха? В новелле XVII века благочестивость уже в каком-то смысле берется в кавычки.
Нечто подобное мы, казалось бы, видим и в «Ухе». Причем христианская мораль, несмотря на более явный и действительно, казалось бы, совершенный грех, здесь оказывается торжествующей даже в большей степени, чем в новеллах XVII века, так как смех там к концу произведения не усиливается, а, напротив, стихает. Сам грех, казалось бы, совершается подчеркнуто тихо, даже безмолвно. Смиренный герой не изменяется после падения, не ухарствует, а кается, как и прежде, при виде церквей: «Пресвятая Троица, помилуй нас, грешных!»
Истина, торжествующая через грехопадение, искус, выполняющий благую роль, — вот чем кажется, на первый взгляд, сердцевина христианской мысли в «Ухе».
Однако автор, заставляя предположить три повторяющихся «боккаччиевских» грехопадения, совершившихся в шалаше пономаря Еремы, ведет нас ложным путем банальных домыслов о чужом грехе. В том-то и дело, что суть новеллы определена от начала до конца господствующим религиозным фоном. Никакого грехопадения в новелле… не показано!
Напротив, автор подчеркивает простую для христианина мысль: как легко осудить ближнего и, ничего не видев, предположить худшее, которое кажется столь очевидным! В новелле Ерема действительно набожен, действительно смиренен. В «Ухе» действует закон обманутого ожидания. На самом деле — перед нами новелла не в духе Боккаччо, но произведение чисто религиозное — о набожности внешней и внутренней, сокрытой.
Мы не знаем, что происходило в шалаше Еремы и почему женщины, пробывшие там по часу каждая, выходили оттуда в задумчивости. Если Ерема глубоко религиозен, под смех и улюлюканье ближних серьезно творит крестные знамения и молится святым, чьим именем названа церковь (Ерема, проезжая мимо церквей, просит святого заступничества Пресвятой Троицы, Пресвятой Богородицы Тихвинской и святого Иоанна Крестителя, за что получает тычки в спину и насмешки от своих спутников), то скорее всего речь может идти совсем не об авантюрном любовном приключении, но о… проповеди. Лишь «испорченное воображение» пошлого читателя заставляет предположить, что в шалаше Еремы женщины изменяют своим мужьям.
Получается, что в новелле, в соответствии с евангельской заповедью, «первые стали последними, а последние первыми», «плачущие воссмеялись» (Лк. 6, 21). В новелле совершилось великое по сути нравственное действо: женщины полностью пересмотрели свое отношение к Ереме, увидели в Ереме человека полноценного («Он тоже человек, как все люди»). Перед нами случай «воздаяния» праведникам за праведность их.
В этом смысле тема «Ухи» может быть однозначно определена как тема христианского смирения и истинной, сокрытой от глаз «умных и разумных» праведности «простецов».
Религиозный смысл сокрыт и в новелле «Май месяц в Петербурге». Причем здесь открыто выражен и религиозный мотив. Дело в том, что Гончаров пишет свои самые откровенные произведения, чувствуя приближающийся конец. В «Мае месяце в Петербурге» писатель приоткрыл то, что не открывал ранее. А именно: свое недовольство официальной религиозностью, вмешательством государства в дела религиозной совести (это недовольство уже прорывалось в «Необыкновенной истории»)[391]. Возможно, что речь идет и о более широком предмете: о поведении государственной власти перед лицом новых надвигающихся на Россию проблем. Очевидно, Гончаров не во всем симпатизировал достаточно жесткой государственной политике Императора Александра III. Недаром в «Необыкновенной истории» можно разглядеть мотивы сочувствия парламентской английской системе и пр.
В новелле Гончаров пишет о своем герое, некоем Юхнове: «Вообще Юхнов был благопристойный чиновник, друг правительства во всем, начиная с религии. Если правительство считало в империи греко-российскую веру господствующей, он признавал то же самое и находил жалкими и смешными католиков и лютеран, которые исповедуют другую веру. Если при нем католики называли нас схизматиками, он отвечал, что православные считают схизматиками их, католиков, ибо греческая религия, дескать, старше католической. Про лютеранское вероисповедание он говорил, что его выдумал Лютер. Наших раскольников он просто называл мужичьем и был во всем на стороне правительства. Про магометан он слыхал, что они есть где-то на Востоке. Личные же сношения с ними он имел только когда покупал халат у татарина. Жидов он терпеть не мог» (VII. 209). Показана в «Мае месяце» и иная крайность религиозного поведения: «К графине то приедет русский архиерей, то прелат… Услышит… что в такой-то церкви православный священник будет говорить красноречивую проповедь, она едет туда, выслушает и умилится искренно. Узнает, что готовится говорить католический прелат, она едет в иноверческий храм и также умиляется… точно так же с восторгом слушает и какого-нибудь апостола из светских проповедников, нужды нет, что он проповедует явный раскол». Главное же заключается в том, что графиня, о которой пишет Гончаров, «к вечеру забудет их всех».
Таким образом, выступая в «Обрыве» с критикой нигилизма и нигилистов типа Марка Волохова, Гончаров и в «Необыкновенной истории», и в «Мае месяце в Петербурге» склонен выразить замечания и в адрес правительства. Писатель хотел бы, очевидно, большей гибкости во многих вопросах, предвидя, что накопленные проблемы приведут к революционному взрыву.
Последние произведения писателя и по смыслу, и по жанровым особенностям резко отличаются от всего того, что мы встречаем в его творчестве. «Май месяц в Петербурге», «Превратность судьбы» и «Уху» совершенно невозможно понять вне религиозного, духовного контекста. В этих очень простых по своим сюжету и композиции произведениях впервые появляются в творчестве Гончарова многие религиозные мотивы (чудесной Божией помощи, скрытого в юродстве праведничества и пр.), что говорит о дальнейшей после «Обрыва» духовной эволюции писателя.
В каком-то смысле слова, поздние очерки Гончарова представляют собой духовное завещание писателя, также всю жизнь «юродствовавшего» и скрывавшего свою глубокую евангельскую веру под маской чиновничьего равнодушия и религиозного индифферентизма.
Его тип писательского утверждения христианства был иным, чем у Гоголя или Достоевского. А. Г. Цейтлин в своей монографии о Гончарове по-своему верно отмечал: «Нет в творчестве Гончарова… того религиозного пафоса, без которого нельзя себе представить Достоевского и Льва Толстого последнего периода его жизни». Но далее следовал совершенно ложный вывод: «Внешнюю набожность, присущую Гончарову, никак нельзя смешивать с религиозным чувством в подлинном смысле. Веры в бога нет и у героев Гончарова…»[392]. Никто не потрудился разобраться, чем же «внешняя набожность» отличается от «веры в Бога». И является ли отсутствие пафоса признаком неверия или «внешней набожности»…
Да, у Гончарова не было пафоса Достоевского и Гоголя, но глубочайшая евангельская вера, несомненно, была. Его путь был «бесиафосным», но от того не менее значительным и духовным, но лишь — более драматичным. Он скрывал свою личную веру, как только мог. Евангельские установки у него не обнажены, но глубоко залегают в смысловых пластах его произведений. Выявить их чрезвычайно сложно. Это был путь не декларирования евангельских истин, а их художественного пластического воплощения, глубокой работы духа.
Однако в предсмертных новеллах, в том числе в последнем своем произведении «Превратность судьбы», которое было закончено 20 августа 1891 года, то есть всего за три недели до смерти писателя, Гончаров — в полном соответствии жанру — впервые «снимает маску» и открыто говорит о том, что являлось содержанием всей его скрытой от людских глаз жизни. Далее ему не было необходимости скрываться от людей.
Монастырь и мир
«Летопись жизни и творчества И. А. Гончарова», составленная А. Д. Алексеевым в советское время, дает весьма мало материала для рассуждений о религиозной жизни писателя, в том числе и в 1860-е годы. Вера Гончарова никогда не была выставлена напоказ. Это была вера скорее «для себя», чем для литературы, для общественного служения. Религиозные идеалы писателя не акцентировались, а органично и спокойно входили в тексты его произведений.
Гончаров — не идеолог религии, он ни с кем не спорит о вере, не полемизирует, не пишет публицистических статей на эту тему. Скорее всего он, как и, например, А. Н. Островский[393], является добропорядочным, благочестивым мирянином. Отчасти он изменит свое поведение после романа «Обрыв», в некоторой степени уже исполненный непривычной для романиста злободневности.
Иное дело — его жизнь и творчество до конца 1860-х годов. Религиозность Гончарова в это время выражалась прежде всего в чтении Евангелия и хождении в храм. Все это делалось им тихо, приватно, без афиширования в обществе своих мнений, что и наводило многих на мысль о равнодушии писателя к религии. Срабатывал определенный стереотип: «Поэт в России больше, чем поэт» и пр. Но далеко не всякий писатель в религиозной жизни должен оставаться «автором», «писателем», «публицистом», публично обсуждающим «святая святых» — свои религиозные взгляды. Таким «частным человеком» всегда оставался и Гончаров.
Его религиозную жизнь приходится изучать более по текстам его произведений, чем по фактам биографии, от всех закрытой и неафиши-рованной. Однако при этом в своем творчестве Гончаров неприметно (прежде всего в изображении религиозного менталитета и бытового поведения своих героев) ставит важнейшие вопросы, относящиеся к Православию, к своеобразию выражения в нем христианской истины и его судьбе в современной России, его соотнесенности с другими христианскими конфессиями.
Путь человека к Богу в произведениях Гончарова лежит через мир, через преобразование мира, через историческое творчество, но с Евангелием в руках. Этот путь — открытое пространство исторического творчества, а не «пещера» аскетично-монашеского спасения. В числе добродетелей человека и христианина у Гончарова числятся не только «золотое сердце» и «младенческая вера», но и «ум и воля», неоднократно упоминаемые в «Обломове» и других романах, и даже «самолюбие» (как основа исторического творчества).
Весьма характерную картину в этом смысле дает переписка Гончарова с С. А. Никитенко.
Эта переписка наряду с письмами к графине А. А. Толстой и Великому князю Константину Константиновичу особенно полно передает суть религиозных принципов романиста. Причем в отличие от упомянутых она более откровенна и касается наиболее сложных и глубоких религиозных вопросов. Софья Александровна Никитенко, судя по письмам Гончарова, отличалась идеализмом, глубокой и жертвенной религиозностью, склонностью к аскезе. По мнению Гончарова, Софья Александровна впадает в некоторые крайности. В письме от 17 июня 1869 года он с долей иронии напоминает своей корреспондентке: «„Излишек вреден во всем, даже в хорошем“, — сказал один древний писатель, кажется, Дюма. Приложите это правило к работе Вашей, потом к воздержанию в пище, и отчасти к воздержанию от добрых дел — и Вы будете немного поздоровее»[394]. Это стремление уйти от крайностей почти «монастырской аскезы» проглядывает и в письме от 4 августа 1869 года: «Вы радуетесь, что будете богаты к декабрю, чтоб выводить своей трудовой копейкой из затруднения других: это благородно и возвышенно — и, конечно, не я буду отвлекать Вас от этого удовлетворения, как Вы называете эту потребность добрых и честных душ.
Я замечу только, что в это удовлетворение должны входить и свои собственные нужды: пренебрегать ими безусловно, без опасения впасть в фанатизм — нельзя. Вон Вам самим нужно отдохнуть, полечиться, покупаться в море летом, а Вы веем этим пожертвуете, чтоб дать полечиться или покупаться или отдохнуть другим… Я не знаю, как бы я сам сделал, но предоставляю Вам это только в виде вопроса. Я знаю очень хорошо, что надо отдать свой обед, и даже ужин, более голодному, но за завтрак можно уже спорить и т. д. Можно лишить себя платья и отдать неимущему, когда их у Вас два, и особенно три и четыре, но за одно платье, и всего более за одну рубашку, — я бьюсь об заклад, что Вы подеретесь. Вот по этому масштабу рассудите и все остальное. Можно в себе выработать (человек способен до бесконечности видоизменяться) идеал — всякой добродетели и всякого порока — до страшного уродства. Выработала же в себе госпожа Andre Leo чувство гордости до сладострастия[395]. Так и добродетель, passer а l'extremite[396] — может дойти до потери здравого смысла и даже опрятности.
Вон некоторые христиане думали, что потеть всю жизнь и не мыться — очень хорошо и угодно Богу, — и доводили себя до того, что с них грязь нельзя было даже отскоблить. „Земля еси и в землю пойдеши!“ — говорили они тем, кто подступал к ним с губкой и мылом, и умирали нельзя сказать „в благоухании святости“. Вам для того идеала, который я люблю в Вас и который многие и все полюбили бы, узнав Вас короче, Вам, говорю я, недостает побольше аппетита (это для наружной красоты и грации) и эгоизма, да, сударыня, эгоизма. Без эгоизма, в его разумных и натуральных границах, нет никаких умных дел, никаких подвигов мысли, сердца, прекрасных движений души — словом, нет жизни. Это один абстракт — жизнь без эгоизма, и длиться не может, как не может человек делать других счастливыми, не испытывая по времени сам того, другого или третьего счастья, а иногда и всех трех, иначе бы он не знал ему цену и не мог бы давать другим. Ведь и помощь разделяется на положительную и отрицательную: одна избавляет от крайних бед, болезней, лишений, а другая, положительная, старается поделиться счастьем, поделиться, а не отдать его. Последнее было бы ненормально, потому что нарушило бы равновесие»[397].
Идеал равновесия и симметрии, идеал внутренней красоты никогда не покидал Гончарова. Им он поверял и духовные вопросы. Идеал равновесия и «золотой середины», или, иначе, «царского пути» является важнейшим и в Православии. Задача человека при этом — угадать именно свою, конкретную духовную меру. В этом смысле религиозность Гончарова была очень здоровой и трезвой.
Очевидно, Гончаров, как и многие из его современников, не воспринял близко аскетическую сторону Православия, напротив, он уповал на Бога как Творца-Преобразователя, наделяющего людей способностью к историческому творчеству, чувством изящества и красоты. В частности, позиция Гончарова явно сближается по этим признакам с позицией А. К. Толстого, также акцентировавшего светлую, жизнерадостную, творческую сторону христианства. Если Гончаров создал лишь отдаленную тень образа «старца-пустынножителя» в Илье Обломове, осудив последнего за грех «невоплощения» Божиих даров, «захоронения» их в могиле погибшей души, то А. К. Толстой более активен в своем неприятии аскезы. Антиаскетический пафос его творчества, в частности, выражен в поэме «Иоанн Дамаскин», где есть слова, к которым Гончаров, думается, мог бы искренно присоединиться:
На то ли жизни благодать Господь послал своим созданьям, Чтоб им бесплодным истязанием Себя казнить и убивать? Он дал природе изобилье, И бег струящимся рекам, Он дал движенье облакам, Земле цветы и птицам крылья…[398]Там, где для А. Толстого важны лишь красота и творчество, у Гончарова еще прибавляется труд как средство творчества исторического. Это творчество воплощено для автора «Фрегата „Паллада“» и «Обрыва» в образе-символе: это образ сада, возникающего на месте пустыни. Это образ, идущий из глубины христианской традиции, причем имеется в виду не только мифологема «Рая», «Райского сада», заключенная в Библии. Гончаров осмысливает земную жизнь и самую землю как сад и работу в нем. Отсюда-то к мысли о Райской красоте у него постоянно прибавляется мысль о труде, о возвращении через труд и преобразующую деятельность Богу его даров (возвращение «долга»: категория «долга» играет чрезвычайно важную роль в произведениях Гончарова). Возвращение Богу «плода» от брошенного «зерна» — эта мысль заключена уже в Библии, например, в книге пророка Исаии: «Как дождь и снег исходит с неба и туда не возвращается, но напоит землю и делает ее способною рождать и произращать… так и слово Мое, которое исходит из Уст Моих, — оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего я послал его» (Ис. 55, 10–11).
Итак, «младенческая вера», по Гончарову, должна быть совмещаема в человеке с активным восприятием жизни, с творческим отношением к истории, которую писатель рассматривает как путь к Богу всего человечества в целом. Возвратить Богу плод брошенного Им зерна — для Гончарова означает не столько отказаться от грешного мира, как это делают спасающиеся в монашестве, сколько устраивать Божий «сад» на земле, строить цивилизацию, одухотворяя ее светом Евангелия. В этом его отличие от таких его современников, как Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой. Действительно, герои Толстого и Достоевского руководствуются в своем поведении и выявляют свою духовную сущность прежде всего на фоне «надмирных» субстанций — в том прежде всего смысле, что высший момент их нравственной жизни — самоанализ, осуществляемый наедине о собой, наедине с «Богом-совестью». Даже тот русский мир, в котором живут Левин, Пьер Безухов, Раскольников, «божественен», ибо он является не столько формой исторического прогресса, сколько метафизической субстанцей «Бога-совести».
Так, Раскольников, стоя на коленях, просит прощения у людей и целует землю-матушку. Но люди, собравшиеся вокруг него, нам (и ему) неизвестны, это принципиально анонимное собрание. Это все тот же «Бог-совесть», оставляющий героя наедине с собою. Герой же Гончарова — человек принципиально общественный, участник (или неучастник) мирового процесса. Герой, тот же Илья Обломов, обращается к своей совести, к Богу, говорит о гибели своей души, имея в виду совершенно иной нравственно-психологический контекст. Решая для себя гамлетовский вопрос «Быть или не быть?», Обломов размышляет о необходимости «знать, что такое посев и умолот, отчего бывает мужик беден и богат; ходить в поле, ездить на выборы, на завод, на мельницы, на пристань… читать газеты, книги, беспокоиться о том, зачем англичане послали корабль на Восток» (Ч. 1, гл. V). То есть чтобы «быть», состояться, «вернуть Богу долг», нужно, по Гончарову, стать участником мирового прогресса, жить его интересами, найти в этом процессе свое место — и только через посредство этого возвратить «плод брошенного Им зерна». У Гончарова Бог — это Бог-цивилизатор, Бог-создатель, Творец.
По-своему Гончаров участвовал в том процессе, о котором пишет историк Русской Церкви Георгий Федотов: «В середине XIX ст. евангельские и гуманитарные тенденции умеряли аскетическую духовность Церкви. Славянофилы, либеральная национальная партия в Церкви, старались восстановить, скорее создать духовность, базирующуюся на социальной этике (курсив наш. — В. М.). Но разрыв между аскетико-мистическим и евангельским элементом внутри Церкви увеличивался, и каждое из этих учений находило себе политическое выражение в период революции. Евангелисты стояли за церковные реформы и соединились с либерально-политическими группами страны. Мистики поддерживали абсолютизм царя как наследника византийской традиции. Реформаторам и литераторам не удалось развить тип духовности, достаточно глубокий для противовеса реакционному, и, таким образом, черное влияние монашества и эта двойственность сыграли фатальную роль в раздвоении моральных сил в дореволюционном русском обществе»[399]. Логично предположить, что Гончаров все-таки внутренне был склонен к желанию реформировать церковную жизнь. Правда, мы не найдем у него рассуждений на эту тему, а как цензор он всегда проявлял полное служебное соответствие в данном вопросе. Исключения крайне редки и безобидны.
Прилагая свое представление о долге христианина, о «царском пути» его жизни, Гончаров постоянно стремится снять крайности, к которым приводит неразумное рвение. У св. Симеона Нового Богослова сказано, что, «отдалив род человеческий от Бога, диавол хлопочет не допустить возвращение к Богу своими кознями», в частности «неразумными подвигами добрых деланий»[400]. В письме к С. А. Никитенко он говорит, например, о главном долге женщины: «Что касается до Вас, то если я иногда и брал на себя смелость про себя судить Вас, то судил только за то, что Вы несколько мечтательны, хотя благородно и умно, деятельно мечтательны, что Вы уклоняетесь от первого, естественного и прекрасного назначения, что Вы — недовольно женщина, то есть пренебрегаете Вашим полом и теми дарами, теми радостями и скорбями, которое оно приносит, а уклоняться от этого Вы не вправе. Мне кажется как-то противоестественным, когда девушка отталкивает от себя надежды и обязанности жены и матери семейства, тем более что они решительно не мешают и другому призванию, даже дают ему больше жизни…» (VIII. 338). Точно в том же духе отзывается Гончаров о долге писателя-христианина, призывая к чувству меры.
Заключение
Гончаров несколько раз в своей жизни общался с людьми, которые впоследствии оказались прославленными Русской Православной Церковью. Таким человеком был блаженный Андрей Ильич Огородников, Симбирский чудотворец, в 1998 году прославленный как местночтимый, а в 2004 году — как общерусский святой. Замечательными оказались описанные во «Фрегате „Паллада“» встречи с будущим святителем Иннокентием, чей бытовой портрет, написанный Гончаровым, является бесценным и очень ярким художественным документом и свидетельством о жизни святителя. Скорее всего Гончарову довелось познакомиться и с будущей преподобномученицей Великой княгиней Елизаветой Федоровной, так как, судя по документам, писатель был лично знаком со многими царственными особами из семьи Романовых. На чтениях его произведений присутствовала, в частности, жена Великого князя Константина Константиновича. Но достоверных документальных свидетельств этому мы пока не имеем. Как мы знаем, никакие встречи не бывают случайными, тем более встречи со святыми людьми.
Может быть, поэтому кончина Гончарова оказалась отмечена высокой надеждой на спасение.
В настоящей работе автор попытался выявить и обозначить «христианскую линию» в биографии и творчестве И. А. Гончарова. В ходе работы, распутывающей довольно сложный клубок явных и скрытых фактов, пришлось прибегать не только к документам и текстам, прямо указывающим на православность Гончарова и его воцерковленность. Ведь писатель употреблял усилия не для обнаружения своих верований и мнений, а скорее, наоборот, для их сокрытия. В этом сразу видна черта практикующего христианина, что представляется наиболее значимым в контексте нашего исследования.
Вера Гончарова менялась и совсем не была тем спокойным созерцанием, о котором писал в свое время Мережковский. Это была выстраданная глубокая вера страдающего, непонятого, одинокого человека. Гончаров не пытался закрепить эту веру «текстуально»: он не писал статей или трактатов, не связывал напрямую христианской идеи с национальной и государственной (на этой почве подвизались Хомяков, Достоевский, Тютчев). Он веровал тихо и глубоко — для себя. Единственной целью своей веры он мог полагать лишь спасение души. По сути, его жизнь — жизнь незаметного и непишущего христианина. Идеалом верующего человека для него не были люди особого духовного поиска, люди, мыслящие и пишущие, а те «сокрушенные духом и раздавленные жизнью старички и старушки, которые… безропотно несут свое иго — и видят жизнь и над жизнью высоко только крест и Евангелие».
В условиях полноценного и почти гениального писательства молчание Гончарова о своей вере — это жизнь-подвиг. Вера Гончарова менялась от десятилетия к десятилетию, от года к году. Поскольку он не афишировал своей веры, своей религиозности, даже близкие знакомые Гончарова не увидели в нем этих перемен. А. Ф. Кони искренне считал, что они произошли лишь в последние дни жизни Гончарова, но Кони говорит о предсмертной болезни писателя и внешних выражениях религиозности Гончарова, но совершенно не замечает глубинных изменений в религиозном облике писателя, произошедших многие десятилетия ранее. Чем ближе к старости, тем более освобождался Гончаров от узких оков общественного мнения, западничества, либерализма и вообще всяких иных общественных взглядов и мнений. Оставалась и все более обнажалась одна христианская задача — личная. Та, что сводится к покаянию и надежде.
Гончарова трудно вписать в привычный ряд имен христианских писателей, открыто и акцентирование выражавших свою веру, свое понимание христианства: Гоголь, Тютчев, Достоевский, Хомяков. Его фигура стоит как бы на обочине большой христианской «дороги» русской литературы. Гончаров выражал свои мнения как художник — лишь пластически, а как христианин — молчанием. Его вера не проходила через «горнило сомнений», как у Ф. Достоевского[401], он не писал «Евангелие от себя», как Л. Толстой, не переходил в католицизм, как П. Чаадаев, и т. д. Он веровал просто — и ходил в православный храм — с детских лет до смерти. Исследовать Гончарова как христианскую личность трудно, почти невозможно. Но задача тех, кто истинно хочет понять его, — вглядеться в пластику его образов, вслушаться в его человеческое молчание.
Приложение
Повесть о крестном сыне[402] (перевод В. И. Мельника)
В лето 6409-е[403] случилось это преславное чудо — в восточной стране, в одном из великих христианских городов под названием Верумея.
Некий юноша, добродетельный и благочестивый, остался от родителей своих сиротою еще в детском возрасте. Рос он в нищете, питаясь подаянием неких христолюбивых людей, кормивших его Христа ради. Когда он достиг совершенного возраста, взял себе в жены такую же сироту, скитающуюся в нищете, но благочестивую и добродетельную. Жили они вместе по закону Божию, по-христиански, в одном убогом доме. Между ними были любовь и согласие. Они питались от своих трудов и тяжкой работы, потому что не были научены никакой хитрости, а имели лишь простой и кроткий нрав. Больше 12 лет у них не было детей, и они очень об этом скорбели, и молились Господу Богу непрестанно, и давали по силе своей милостыню нищим, и помогали церквям Божиим.
Услышал Господь Бог молитву их и дал им чадородие. Когда же пришло время, у них родился мальчик. Бедняки очень скорбели о том, что в их доме не оказалось ни пелен для младенца, ни достаточно пищи. Когда призвали они бабу, чтобы омыть младенца, она принесла с собою и пелены, чтобы спеленать младенца, и пищу, которую просила у соседей этих бедняков. Был призван и священник, чтобы просветить детище святым крещением. Отец ребенка стал искать благочестивого человека, который мог бы стать крестным отцом ребенку: «Просвети и восприми сына моего от святой купели». Звал многих, но никто не откликнулся на его просьбу, пренебрегая им из-за его нищеты и слишком простого нрава.
Он же отошел, пал на землю перед образом Господа нашего Иисуса Христа, плакал горько и говорил: «Господи, Создателю мой, согрешил пред тобою паче всех человек, никто от живущих на земле не сравнится со мною по грехам. И вот я уничижен и скорбен, и от родителей моих остался сиротою, и во все дни живота моего пребываю в нищете и оскорблениях. И вот я хотел себе чада, дабы утешиться в нищете моей, но когда родился у меня младенец, еще более стал я скорбен и оставлен всеми. Не только дом мой беден — я не могу найти сыну своему восприемника, который мог бы принять убогое мое и бессчастное чадо, потому что все мною пренебрегают, Увы мне, увы, Господь мой Создателю. За что столь несчастным сотворил меня, не забрал меня во младенчестве от жития сего тщетного, но остался я злосчастно жить?» И много тому подобного глаголя со слезами, долго плакал горько. Жена же его в хижине своей на одре лежала и плакала горько, подобно мужу своему молясь Богу. И встал бедняк убогий, и пошел по городу, плача и не зная что делать.
И встретил он внезапно весьма благообразного Человека, которого сопровождали прекрасные юноши. Нищий же поклонился Ему до земли. И сказал ему достойной тот Муж: «Брате, что так сетуешь и в чем печаль твоя?» Он же вторично поклонился ему и ответил: «Прости меня, Господин мой, всю жизнь мою я прожил в нищете и хотел ребенка, а когда дал Бог сына, не смог ему найти восприемника, чтобы принял его от святой купели, потому что все отказываются из-за моей нищеты. Потому и плачу. И тогда Муж Тот сказал: „Не скорби, чадо, Бог помилует тебя, введи Меня в дом твой, Я восприиму отрока твоего от святой купели, и будет Мне сыном крестным сын твой“». Он же ужаснулся этим словам и пал Ему в ноги, глаголя: «Помилуй меня, Владыко, помилуй!» И пошел впереди Его в дом со страхом и трепетом.
Великий же тот Муж, идя вслед за ним, подошел к хижине его, и оттуда пошли во святую церковь, и нашли священника, молящегося над купелью святого крещения. Младенца же держала одна лишь баба. Священник начал выказывать свой гнев бедняку и выговаривать за то, что так долго ищут восприемника, И подал он свечу Восприемнику, и, взирая на Него, удивлялся. И хотел спросить Его, но не решился. Совершив же все по обычаю, подал от священной купели отрока Восприемнику. Приняв отрока, Великий
Муж сослался на некое срочное дело и, отдав отрока отцу и матери, при дверях храма дал им сребреники на их нужды. И, благословив их, ушел с юношами своими. Убогий же муж тот, ничего не говоря ему, только кланялся до лица земли и радовался сердцем. И был причащен отрок на святой Литургии Святых Пречистых и Бессмертных Христовых Тайн.
И когда все это совершили, убогий тот муж пришел к жене своей и стал ей рассказывать подробно о милосердии Мужа Того. Она же спросила о Куме (о крестном отце. — В. М.): кто Он такой и как Его зовут. Он же отвечал ей: «По лицу Его видно, что это Достойный Муж, а имени Его я не спросил, и откуда Он и кто таков — этого не знаю». Жена же начала ему за это выговаривать и говорить с гневом, как такого Благодетеля оставил неизвестным. Он же постыдился из-за слов жены своей и отошел в скорби, пообещав ей, что, когда увидит Его, пригласит в дом свой и спросит имя Его. С того времени он всегда искал Его глазами, когда ходил по городу или в других местах, но не мог найти Его — и весьма печалился всегда, тем более принимая упреки от жены своей. Отрок же рос и укреплялся во всяком благом деле и поучении, и был добр телом и смирен нравом, прекрасен душою, уклоняясь от всякой злой вещи и покоряясь во всем родителям своим. И любим был ими, будучи их утешением.
Когда пришел отрок тот в совершенный возраст, лет восемнадцати и больше, и начал приходить в разум, не раз спрашивал у родителей своих, кто есть восприемник его от святой купели. Они же рассказали ему, как все было при рождении его. Он же укорял их, что не беспокоились о нем, и теперь он не знает своего восприемника. Однажды случилось ему быть во святом храме в день Пасхи Христовой, так как обычай есть у христиан по совершении заутрени давать целование ближним и друзьям, даря друг другу яйцо и в радости глаголя: «Христос воскресе!» Другой же отвечает: «Воистину воскресе Христос!» Отрок же тот, видя чадо с отцами целующегося, и со сродниками своими и сродницами ликующего, других же крестных чад с кумовьями своими целующихся и всех вместе благодарящих Бога, подумал, с кем бы он мог сотворить целование о Христе. И хотя имел с собою яйцо по обычаю, родителей его не было в церкви той, а родственников не было у него вовсе. Соседи же пренебрегали им из-за его нищеты, и не с кем ему было целование сотворить.
И огорчился он надолго, и стал плакать и рыдать сильно, говоря в себе: «Увы мне, увы! От таких родителей родился я злосчастный, что не только нет у меня сродников и приятелей, но и отца своего крестного не знаю, кто он есть или как имя его. Если бы знал его жилище, то пошел бы в дом его и поклонился бы ему, и дал бы ему целование о Христе радостно. А если он преставился от века сего, то поминал бы его как своего сродника. О Боже мой, Боже мой,
Создателю мой! Увы мне, увы! Сотворив, милостиво призри на меня и помилуй меня. Ныне бо я очень несчастлив, а что ожидает меня впредь — не знаю. О Господи мой! Не остави меня!» И так он плакал и подобно тому много взывал к Богу с горьким плачем.
И вдруг слышит страшный шум с восточной стороны (отрок же стоял у западной стены церкви уединенно от людей в углу) и видит некоего Достойного Мужа, подобно царю идущего к нему в сопровождении многих прекрасных юношей. Увидев все это, отрок устрашился. И когда подошел к нему тот Великий Муж, сказал ему радостно: «Чадо! Что ты плачешь в день всеобщей радости?» Отрок же со страхом поклонился Ему до земли, не смея что-либо сказать или ответить. Великий же тот Муж взял его за правую руку и стал тихо спрашивать его о причинах его слез. «Сегодня, чадо, не подобает безмерно плакать, ибо небо и земля вкупе сликовствуют ради воскресения Христова, а ты горько плачешь. Что за скорбь нашла на тебя, что так рыдаешь: или кто разграбил твое имение, или кто тебе зло сотворил, или раны нанес, или ныне родители твои умерли. Скажи мне, чадо, отчего плачешь!»
Он же поклонился Ему снова и вытер слезы на глазах, и, видя пред собою Мужа достойного и спокойного, набрался храбрости отвечать ему: «Господин мой милостивый! Как же мне не плакать горько и не рыдать: от несчастных родителей родился злосчастный я и всю жизнь мою провел в нищете и не принят нигде из-за бедности моей и родителей моих. Ни сродников близких, ни приятелей нет у меня. Тем более горько мне, что и отца моего крестного не знаю, и не знаю, как ныне ради светлого праздника дать ему целование о Христе и порадоваться, как и прочие люди!»
И сказал ему тот Великий Муж: «Как ты, чадо, говоришь, что не ведаешь отца твоего крестного? Ведь ты сын такого-то убогого и смиренного мужа и такой-то женщины (и назвал имя его матери и время рождения сказал)?» Юноша же поклонился Ему и сказал: «Да, Господин мой! Так и есть, Ты истину сказал!» Сказал же ему тот Великий Муж: «Так, чадо! Говорю тебе — воистину сын Мой ты! Я тебя от святой купели принял в крещении твоем и являюсь твоим Крестным Отцом. И видел тебя много раз, но специально не являлся тебе и не говорил с тобою, но ныне целуемся с тобою радостно!» И поцеловал его в уста и сказал ему: «Вот, чадо Мое крестное, Христос воскресе!» И дал ему Отец два красивых красных яйца. Отрок же, приняв их, поклонился до земли и, одержимый великим страхом, не смел ничего говорить. Отец же его Крестный сказал ему: «Приходи, чадо, к Божественной Литургии, и там Я тебя увижу». И отошел от него,
Отрок же поблагодарил Бога радостно и, придя в дом свой, по обычаю поцеловал родителей своих и подарил им два яйца от Крестного своего Отца, И рассказал им, как обрел Отца Крестного, и что Тот ему говорил, и что у него красивая борода и лицо, светлое, как солнце. Они же единогласно отвечали: «Воистину, чадо, Он и есть, и похож на Того, Которого видели во время крещения твоего!» И восстав, помолились и благодарили Бога, что сподобил отроку видеть Отца своего Крестного. Сказали же ему родители его: «Чадо, спросил ли ты Его, кто Он есть, и каково имя Его, и где жилище Его?» Он же от страха и радости не смог говорить. Они же наказали ему позвать Его в дом после Святой Литургии, дабы, падше, поклониться Ему. И снова укоряли его с гневом за то, что видел такого Благодетеля и не узнал имени Его и где живет. «Ведь и ты нас за это же упрекал, а сам ныне сделал то же самое». Он же поклонился им и пообещал: «Когда увижу Его, спрошу, что о Нем известно».
Когда раздался благовест к Божественной Литургии, он быстро отправился в церковь, желая увидеть снова Восприемника своего, но, прийдя, не нашел Его, а увидел лишь народ, выходящий из церковных дверей после окончания Святой Божественной Литургии. Отрок же ходил от одних ворот церкви к другим — и нигде не находил Его. И вышел вслед за народом, и, глядя во все стороны, снова начал плакать, уединяясь от всех и глаголя в себе: «Увы мне, увы, как мало утешения я получил и снова огорчен неведением своим, родителей своих упрекал, что не знают Крестившего меня, а теперь и самого родители упрекают, что видел его и не узнал о нем».
И иного много говорил подобного тому со слезами, и вот слышит шум великий во святой церкви. И стал озираться во все стороны, и видит Восприемника своего выходящего из церкви в славе великой со многими благообразными юношами. Отрок же, быстро подойдя к Нему, пал перед Ним. И сказал ему тот Великий Муж; «Что так печалишься?» Он же отвечал Ему; «Потому, Господин мой, что не нашел Тебя». И сказал ему тот Муж; «Пойди за Мною вкусить Моей вечери — и узнаешь, кто Я есть и где пребываю». И отдал его двум юношам, и, воззрев на них, сказал: «Доведите его до палаты Моей, позаботьтесь о нем». Сам же отошел от него с остальными пресветлыми юношами. А два юноши провожали его и друг ко другу говорили: «Это сын нашего Господа, и нам подобает его хорошо охранять и достойно проводить». Отрок же шел со страхом и пребывал в ужасе.
И видит, как прошли они городские торжища и улицы, и остались позади все городские здания. И пришли в место незнакомое, огражденное высокой оградой, сделанной непонятно из чего. Не только врата, но и затворы такие, каких юноша никогда не видел и о каких никогда не слышал. Светлые же те юноши, тихо приникнув ко вратам, сказали: «Откройте врата, вот идет сын нашего Владыки, отведите его к вышним вратам». И вот отверзлись ему врата, и принял его с великою радостью и честью первый град…
Отрок же увидел в граде том многое множество юношей и достойных мужей, ликующих радостно. Они приходили и обнимали его, целуя и говоря друг другу: «Вот Владыки нашего сын пришел!» Юноша же, видя это, удивлялся, видя себя нищим, но почитаемым от столь прекрасных существ. И проводили его до вторых врат. Они были выше и чудеснее первых. И снова возглашали: «Отверзите врата!» И видел там здания, чудеснее первых, и достойных и великих мужей, которые приняли его, радуясь, и проводили с любовью и достойно до врат третьих. И там были здания пречудные и огромные, и снова возглашали: «Отверзите врата, вот Владыки нашего сын идет!» И открылись врата, и увидел там пречудное и предивное, как бы из хрусталя, неописуемое здание, прекрасные увидел лица, и различные и пресладкие мелодии слышались несказанные, и сады, и цветы, и плоды прекрасные, и много различных птиц пело, каждая своим голосом несказанным. Он же, видя все это, хотел от страха и ужаса пасть на землю, но ободряем был теми прекрасными юношами, и утешаем, и почитаем от них. Там разливалось тонкое и несказанное благоухание. Он был принят юношами и приведен к четвертым воротам. И возгласили: «Отверзите врата! Вот Владыки нашего сын идет!» И вскоре врата отверзлись, и приняли его, а другие, приведшие его, остались [за вратами].
И увидел там множество поющих и веселящихся, и здания славные, и лучи чудные, льющиеся от камней сапфира и смарагда, переливающиеся различными цветами. И проводим был по ступеням и лестницам к вратам пением, и не возглашали препровождающие его юноши. Сами отверзлись ему врата, и принят был находящимися там. И увидел еще более невыразимое, и был препровожден достойно по ступеням и лестницам к высоте до шестых врат. И снова не возглашали, но сами отверзлись [врата]. И увидел там чудные и дивные источники текущие, очень сладкие, и ложа чудесные и возлежащих на них достойных мужей, словно князей, — и все почтили его. Красоты же и богатства были таковы, что не постигнуть умом. Лишь про себя удивлялся, видя все это, и говорил: «Не это ли есть, как сказано в Писании, Рай Божий и жилище святых, и что Тот мне является, Кого око мое не видело и ухо не слышало ни от кого на земле?» И препровожден был до седьмых врат, и те отверзлись ему, и принят был находящимися там, весьма красивыми и крылатыми, прекраснее первых. И не возмог ум его постигнуть все красоты и величие [этого места], и препровожден был до восьмых врат по ступеням и лестницам на высоту великую. И когда пришел к вратам, они отверзлись, и вышли светлые мужи, с лицами, сияющими, как солнце. И встретили его, радуясь, и внутрь ввели его. И видит он столы чудные, и скатерти дивные, и манну благовонную, и возлежащих множество, [и на них] венцы царские и одеяния светлые и славные. И взяли его достойно и любезно и пошли по ступеням и лестницам до самых высоких врат девятых по чину девяти чинов, ибо каждый чин пребывает на своем круге. И когда пришли к вратам, они уже были отверсты.
И увидел он там некий дворец, сияющий многоразличными цветами и переливающимся светом, как не может представить ум человеческий. И некие огнеобразные юноши, внушающие трепет, приняли его любезно и повели ко дворцу кротко и тихо. И когда пришли к вратам дворца, со страхом возгласили: «Владыко Господи Боже наш, сын Твой пришел!» И был глас, страшный, как гром: «Да войдет сюда!» И повели его; и когда вошел, видит стены, блистающие, словно золото, и Отца своего Крестного, на престоле царском высоко сидящего, пречудный и славный на главе Его венец царский, многоразлично украшенный, и одеяние царское, чудное и сияющее, и жезл царский в руках Его, и около Него предстоящих светлых огнеобразных юношей. Юноша же, упав ниц, поклонился Царю, ибо Царь сидел светлее солнца сияющего, и лучи от Него исходили. И повелел ему Царь приблизиться к Себе. И когда приблизился, едва не умер [от страха].
И сказал ему Царь: «Хорошо, что пришел, чадо, сюда, да насладишься Моей вечери и всех благодатей Моих, и узришь славу Мою». Он же немного вкусил, ибо сладость была невыразимая. И малую чашу дали ему испить, он же, немного испив, исполнился благовония и радости. Немного времени спустя встал Царь с престола Своего и снял венец с главы Своей и порфиру Свою — и положил близ престола Своего на месте как бы из чистого золота, и жезл Свой тут поставил: «Чадо, подожди Меня недолго здесь, Я же иду спасти душу погибшую, ты же побудь здесь и никого не бойся». И вышел Великий Царь из дворца, и все Его прекрасные юноши вышли с Ним, и скрылись из вида, и умолкли голоса их вдали.
Юноша же остался один во дворце надолго, и любовался чудесными вещами, и предерзостно подошел к ним, желая видеть поближе венец, багряницу и жезл. И взял венец в руки, и, поворачивая его во все стороны, удивлялся, потому что не видел такого в жизни своей на земле. О, дивен Господь и чудны дела Твои, попустил тленному человеческому естеству в забвение прийти! И отошли от него страх и ужас, чтобы, видя свою немощь, не превозносился, но смирился, по Писанию, человек достойный. Он же этого не уразумел и уподобился скотам несмысленным. И взял юноша венец, и возложил на главу свою, также и порфиру Царскую поднял и облачился в нее, и взял жезл в руку свою, и дерзнул взойти по ступеням к высоте, и сел на престоле том высоком и пресветлом, говоря в себе: «Если сяду на престоле этом, каким я стану? А Отец мой Крестный не узнает, что я сделаю».
И когда сел на престоле и посмотрел вниз, открылась ему вся земля от моря и до моря, и от рек до конца вселенной. Видит он царства многие, грады великие и малые, и люди, ходящие и ползающие, словно малые мыши, и все на земле было ему видно. И смотрел прилежно, и видит, что несколько человек подошли к церкви и начали стену подкапывать, желая взять из нее добро. Он же, видя и скорбя о разорении церковном, говорил: «О, злодеи! Что это вы творите, церковь разоряете? Чтобы вас стеною придавило!» И слово его стало делом, и придавило их. Еще видит по морю плывущих разбойников. И вот пришли они к некоей обители, где в пустыне жили иноки. И хотят их пленить, а монастырь разорить, и уже размахивают оружием, хотя еще с корабля не сошли. И сказал юноша: «О, злые люди! Что хотите сотворить? Чтоб вас потопила морская пучина!» И слово его стало делом, и корабли перевернулись, и все утонули.
И еще видит, как к некоему граду христианскому идет войною языческое войско, и хотят пленить весь город. Он же вскричал: «О, злые нечестивцы! Чтоб вы друг друга поубивали!» И стало слово его делом. И между собой устроили сечу, и убили друг друга — лишь немного осталось в живых. И видит еще некоего человека, который хочет своего единородного брата убить. И говорит отрок: «О, злодей, убийца! Да пожрет тебя земля!» И сделалось так. И еще видит, как некий вельможа бьет какого-то неповинного убогого человека. И вскричал отрок: «Да иссохнет рука его!» И стало так. И видит еще, что множество разбойников лежат в дубраве и ждут ночи, чтобы разойтись по дорогам — убивать и грабить. И сказал отрок: «Да возгорится дубрава и пожжет их!» И возгорелась дубрава и пожгла всех. И видел еще отрок, как некий сын бьет мать свою, а она рыдает. И сказал отрок: «Да перестанут ему служить обе руки его». И высохли у него руки. И вот видит сидящих, и едящих и пиющих людей, которые начали играть, и плясать, и скакать, и скверные слова говорить. Посмотрел отрок и сказал: «Да поразит их дух лукавый!» И напал на них дух лукавый, и упали все, как мертвые, а некоторые начали драться, и убивать, и бегать, и прыгать в огонь и воду. Когда их увидели прочие люди, стали их жалеть, и связывать их, и уводить по домам их. И еще видел, что вельможа некий судится с убогим. Отнял он у убогого богатые нивы его и присоединил к землям своим. Сначала судья, праведно судя, признал вельможу виновным, а убогого — правым. И тогда вошел вельможа к судье, судившему праведно, и приступил к нему, и пошептал на ухо, и вложил серебро в руку его, и тогда судия повелел убогого признать виновным и бить его немилосердно за ложь. Убогий же плакал и рыдал. Отрок, видя неправедный суд судии того, судящего по мзде, сказал о неправедном судии: «Да ослепит мзда твои очи». И стало слово делом. Ослеп судия и, не видя ничего, стал спрашивать, как выйти вон, ибо сам не мог.
И еще увидел [отрок] некоего человека, который ложно клялся и клеветал господину на друга своего. И сказал отрок: «Да онемеет язык твой, неправедно лгущий!» И стало слово делом, и стало так. И еще видел некоего человека, который состарился и лежал на одре.
Был он немилостив и сребролюбив, много золота и серебра собрал от неправды и лихоимства. Все свое имение положил он у изголовья своего и повелел некоему сердобольному человеку взять у изголовья, собрать все вместе и повесить перед своими глазами, чтобы смотреть на свое богатство, потому что руки его от дряхлости не служили ему. Увидев это, отрок воскликнул: «О, немилостивый сребролюбец! Подобало бы тебе золото это неимущим раздать, да будет тебе серебро и золото твое в убийство тебе и в погибель!» И слово делом стало. Порвалась [веревка] и упало золото на горло его и удавило дряхлого старика. И умер он без покаяния. Сердоболец же его, прийдя в дом и увидев золото на горле его, то есть на шее, и сняв его, понял, что он мертв, и ужаснулся. Потом забрал золото и убежал. И иного много подобного этому видел, сидя на престоле, и судил всех без милости, забыв, что сам есть никто, но земля и пепел.
С тех пор, как он дерзнул сесть на престол, прошло много часов, и услышал шум и говор великий, словно гром. И быстро вскочил с престола, венец же, и багряницу, и жезл положил — каждую вещь на свое место, сам же встал в трепете там, где ему было велено стоять. Царь же Великий пришел во дворец и взял венец, и багряницу, и жезл — и сел на Своем престоле. И видя всех, погибших по вине юноши, посмотрел на него и сказал ему Царь: «Чадо, что ты сделал? Как дерзнул сесть на престоле Моем? Через венец, багряницу и жезл Мой многих погубил безвременно и без покаяния. Если бы не погибли, многие бы из них покаялись. Ты же показал себя как нетерпеливый и немилосердный!» Юноша же пал на землю в трепете и горько плача. Кланялся и просил прощения своему согрешению.
И сказал ему Царь: «Невозможно тебе, чадо, быть здесь с Нами, но пойди в дом свой к родителям своим. А если захочешь еще здесь быть, можешь, но лишь многими слезами и покаянием, трудами, подвигами, и скорбным житием, и многолетним временем». И повелел Царь дать ему три яблока, благоухающие, большие и очень необычные, а благообразным юношам повелел проводить его тем же путем и поставить у той же церкви, где взят был. И сделали так, проводили его, но он не узнавал путь, потому что шли быстрее, чем летают птицы. И поставили его те светлые юноши туда, где взят был, и невидимо от него отошли. Он же остался один на том месте, и начали звонить к вечерней службе, и он вошел в церковь и встал в углу, в ужасе и трепете размышляя про себя: «Что это было такое? Видение или сон?»
Родители же его весь тот день искали его и плакали, потому что нигде не могли найти его. На вечернюю же службу пришли они в церковь и нашли его стоящим в углу, с лицом необычным и изменившимся. И обрадовались сильно и сказали: «О чадо! Что ты сотворил нам! Весь день мы в скорби и в печали великой! Где ты был и почему лицо твое изменилось?»
Он же ответил: «Молчите, дайте мне прийти в себя».
И когда завершилась вечерняя служба, тогда родители его взяли его и поставили посреди церкви. И подошли к нему все священники, и весь причет церковный, и народа множество, и стали его спрашивать: «Отчего лицо твое так переменилось и где ты был сегодня?» Он же рассказывал им все подробно и долго, со слезами, и показал им данные ему три яблока из Святого Рая. И исполнилась вся церковь благоухания. Народ же, услышав и увидев все это, удивлялся и с ужасом великим взывал: «Господи, помилуй!» Он же с родителями своими пал на землю со словами: «Дивен Ты, Господи, и чудны дела Твои!» Юноша же, взирая на образ Христов, изображающий Его в царском виде, взывал, вопия громко: «Владыко, Господи Боже мой! Воистину Ты крестный отец мой!» И падал со слезами надолго, прося прощения о своих многих и дерзких согрешениях.
Иерей же взял яблоки, данные юноше, разрезал на малые части и раздал народу. И промчалась весть о случившемся чуде через весь тот город, и стали приводить множество болящих. И подавал иерей по частичке от всех яблок, и каждый причастившийся исцелялся. Слепые прозрели, хромые пошли, глухие начали слышать, бесноватые многие исцелились, прокаженные очистились, всякими другими недугами болящие стали здравы. Прибыло в ту церковь народа множество, и разошлись по домам до заутреннего звона, славя Отца и Сына и Святого Духа за таковое чудо.
Родители же взяли отрока в дом свой и испытали великую радость, слыша от него неизреченные и неисповедимые чудеса. Отрок же пожил у родителей еще несколько лет, а затем скрылся от очей их. И принесли его родителям люди много серебра ради того чуда. Они же на месте, где жили и где родился отрок, поставили церковь большую во имя Господа нашего Иисуса Христа, сами же приняли монашество и понемногу устроили здесь обитель, и собралось сюда множество монахов. Сами же они богоугодно пожили и преставились ко Господу в вечный покой. Написано же сие для слушающих пользы их ради. Конец.
Литература к теме «И. А. Гончаров и христианство»
1. Яхонтов А. Памяти И. А. Гончарова // Симбирские епархиальные ведомости. 1912. № 10. С. 350.
2. Ктитарев Я. Н. Вопросы религии и морали в русской художественной литературе. И А. Гончаров//Педагогический сборник. СПб., 1913. № 5. С. 547–560.
3. Ремизов Н. И. А. Гончаров в религиозно-этических и социально-общественных воззрениях в своих произведениях // Вера и разум. Харьков, 1913, № 17. С. 758–789; № 18. С. 55–71 (Отдельное издание: Харьков, 1913).
4. Ляцкий Е. Гончаров. Жизнь, личность, творчество. Критико-биографические очерки. Изд. 3-е. Стохгольм. 1920.
5. Ильин В. И. Продолжение «Мертвых душ» у Гончарова // Возрождение. 1963. № 139.
6. Мармеладов Ю. И. Часть седьмая: Грозы Гончарова и Островского // Мармеладов Ю. И. Тайный код Достоевского: Илья-пророк в русской литературе. СПб., 1992. С. 117–128.
7. Краснощекова Е. А. Национальная ментальность, прогресс и религия («Фрегат „Паллада“» И. А. Гончарова) // Русская литература. СПб., 1993. № 4. С. 66–79.
8. Чернов А. В. Архетип «блудного сына» в русской литературе XIX века // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков: Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Петрозаводск, 1994. С. 151–158.
9. Лебедев Ю. B. Над страницами романа И. А. Гончарова «Обрыв»: Статья вторая // Литература в школе. М., 1995. № 5. С. 2–9.
10. Мельник В. И. И. А. Гончаров как религиозная личность: (биография и творчество) // Studia Slavica Academiae Seientiarum Hungaricae. Budapest, 1995. № 40. C. 23–32.
11. Мельник В. И. О религиозности II. А. Гончарова // Русская литература. СПб., 1995. № 1. С. 203–212.
12. Лебедев Ю. В. Художественный мир романа И. А. Гончарова «Обрыв» // Гончаров И. А. Обрыв. В 2-х томах. Т. 1. М., 1996.
13. Дунаев М. Православие и русская литература. Ч. III. M. 1997. С. 137–283.
14. Аввакум (Честной), архимандрит. Дневник кругосветного плавания на фрегате «Паллада» (1853 год); Письма из Китая (1857–1858 гг.). Тверь, 1998.
15. Дунаев М. М. Обломовщина духовная, душевная и телесная // И. А. Гончаров: Материалы международной конференции, посвященной 185-летию со дня рождения И. А. Гончарова. Ульяновск, 1998. С. 113–124.
16. Мельник В. И. «Обломов» как православный роман //И. А. Гончаров: Материалы международной конференции, посвященной 185-летию со дня рождения И. А. Гончарова. Ульяновск, 1998. С. 143–158.
17. Криволапов В. Н. Икона в творческом восприятии И. А. Гончарова // Текст: этнокультурный аспект. (Материалы конференции). Славянcк-на-Кубани, 1998. С. 32–36.
18. Криволапов В. Н. «Исповедания же был?» (О месте религиозной веры в жизни И. А. Гончарова, его героев и современников) // Уч, заи.: Российское общество. Проблемы и решения. Курск, 1998. Вып, 1. С. 192–222.
19. Криволапов В. Н. Обломов в свете агиографической традиции // Фольклор и мировая культура: Тезисы докладов научной конференции «Юдинские чтения — 98». Курск, 1998. С. 27–30.
20. Старыгина Н. Н. Образы «светских праведниц» в романах И. А. Гончарова и Н. С. Лескова // Новое о Лескове. М.-Йошкар-Ола, 1998. С. 52–63.
21. Шубина С. Н. Библейские образы и мотивы в любовной коллизии в романе И. А. Гончарова «Обломов» // И. А. Гончаров: Материалы международной конференции, посвященной 185-летию со дня рождения И. А. Гончарова. Ульяновск, 1998. С. 173–180.
22. Криволапов В. Н. Вновь о религиозности И. А. Гончарова // Христианство и русская литература. СПб., 1999. Сб. 3-й. С. 263–288.
23. Новикова Е. Г. Сибирское миссионерство и тема миссионерства в литературе о Сибири // Материалы к словарю сюжетов и мотивов русской литературы. Новосибирск, 1999. Вып. 3. С. 140–148.
24. Ермолаева Н. Христианские мотивы и образы в рассказе И. А. Гончарова «Два случая из морской жизни» // Перекресток. Иваново-Шуя, 2000. С. 74–78.
25. Троицкий В. Ю. Словесность в школе. М., 2000.
26. Борзенкова Н. В. И. А. Гончаров и Вл. Соловьев в борьбе за духовность // История Российской духовности: Материалы двадцать второй Всероссийской заочной научной конференции. СПб., 2001. С. 123–126.
27. Беспалова Е. К. И. А. Гончаров и симбирские масоны (К вопросу о реалиях очерка «На родине») // Русская литература. 2002. № 1.
28. Борзенкова Н. В. Эволюция религиозных воззрений И. А. Гончарова // Патриотическое наследие: традиции религиозно-философской и педагогической мысли в России: Сборник научных статей. Орел, 2002. С. 140–145.
29. Кондратьев Л. С. Трагические итоги духовной биографии Обломова (по роману И. А. Гончарова) // И. А. Гончаров: Материалы международной конференции, посвященной 190-летию со дня рождения И. А. Гончарова. Ульяновск, 2003. С. 59–65.
30. Мельник В. И. Евангельские блаженства в романе «Обломов» // Tusculum slavicum. Basler Studien zur Kulturgeschichte Osteuropas. Bd. 14. Zürich. 2005. S. 171–184.
31. Мельник В. И. И. А. Гончаров в Коммерческом училище (к вопросу о духовной составляющей) // Духовшсть особистостк методологш, теоргя i практика. Збгрник наукових праць. Випуск 2 (8). Луганськ. 2005. С. 127–134.
Примечания
1
Ремизов Николай, священник. Иван Александрович Гончаров в религиозно-этических и социально-общественных воззрениях своих произведений. Харьков, 1913. С. 3, 8.
(обратно)2
Толстой Л. Н. Собрание сочинений. В 22-х томах. Т. 15. М., 1983. С. 93.
(обратно)3
Цейтлин А. Т. И. А. Гончаров. М., 1950. С. 325.
(обратно)4
Осмоловский О. Н. Этико-философские взгляды И. А. Гончарова (концепция личности) // Литература и время. Вопросы русского языка и литературы: Межвузовский сборник. Кишинев, 1987. С. 72–73.
(обратно)5
Литературное наследство. Т. 102. М., 2000. С. 619–620.
(обратно)6
Гончаров И. А. и Романов К. К. Неизданная переписка. К. Р. Стихотворения. Драма. Псков, 1993. С. 52.
(обратно)7
Ссылки на полное собрание сочинений и писем И. А. Гончарова в 20-ти т. (СПб., 1997) даются в тексте с литерой «А», указанием тома (римскими цифрами) и страницы. Цитаты из романов Гончарова будут сопровождаться сноской в тексте с указанием части и главы романа, но без указания издания, тома и страницы. Небольшие цитаты из произведений, статей и писем Гончарова могут вовсе не сопровождаться ссылкой.
(обратно)8
Ссылки на собрание сочинений И. А. Гончарова в 8-ми т. (М., 1952–1955) даются в тексте с указанием тома (римскими цифрами) и страницы.
(обратно)9
«В 1900 г. в Симбирской губернии к ним принадлежало соответственно 321 и 287 родов, что составляло 62,8 % всех симбирских дворянских семейств, В этом плане губерния принадлежала к наиболее „дворянским“ территориям империи. Такими цифрами могла похвастаться далеко не каждая губерния России. В близлежащих Пензенской и Нижегородской губерниях эти цифры составляли 25,9 и 18,7 %. Среди этих категорий симбирского дворянства были фамилии Орловых-Давыдовых, Бестужевых, Оболенских, Столыпиных и других, сыгравших крупную роль не только в истории края, но и всей России» (Ульяновская-Симбирская энциклопедия. Т. 1. Ульяновск, 2000. С. 158–159).
(обратно)10
Там же. С. 159.
(обратно)11
Подробнее см. Трофимов Ж. Симбирск литературный: поиски, находки,
(обратно)12
Алексеева Ю. А. Из истории родословной И. А. Гончарова // И. А. Гончаров: Материалы юбилейной гончаровской конференции 1987 года. Ульяновск, 1992. С. 147. Исследования. Ульяновск, 1999.
(обратно)13
Алексеев А. Д. Летопись жизни и творчества И. А. Гончарова. М.-Л., 1960. С. 18.
(обратно)14
Летописец семьи Гончаровых. Ульяновск, 1996. С. 285.
(обратно)15
Там же. С. 286.
(обратно)16
Там же.
(обратно)17
Гончаров И. А. и Романов К. К. Неизданная переписка. Псков, 1993. С. 49.
(обратно)18
Алексеев А. Д. Указ. соч. С. 13.
(обратно)19
Там же. Очевидно, документ потребовался в связи с поступлением Вани Гончарова в Московское коммерческое училище.
(обратно)20
Суперанский М. Ф. Болезнь Гончарова // И. А. Гончаров. Новые материалы и исследования. Литературное наследство. Т. 102. М., 2000. С. 577.
(обратно)21
Цит. по: Симбирские епархиальные ведомости. 1994. № 1. С. 4.
(обратно)22
См. Яхонтов А. Церкви города Симбирска. В память 250-летия города. Церкви под горою. Симбирск, 1898. С. 133–149.
(обратно)23
См. Алексеева Ю. М. О роли симбирских культурных традиций в создании коллекции музея И. А. Гончарова // Традиции в истории культуры. Тезисы научной конференции. Ульяновск, 1999. С. 127. Ю. М. Алексеева, конечно, ошибается, датируя указанное событие XVI веком: святитель Димитрий Ростовский жил и творил в XVIII веке.
(обратно)24
Летописец. С. 374.
(обратно)25
Там же. С. 284.
(обратно)26
Даль В. И. Отрывочные путевые заметки. Цит. По кн. Бессараб М. Владимир Даль. М., 1972. С. 204–206.
(обратно)27
И. А. Гончаров, Новые материалы и исследования. Литературное наследство. Т. 102. М., 2000. С. 273.
(обратно)28
Имеется в виду архиепископ Иннокентий Вениаминов, с которым Гончаров познакомился лично. Прославлен в лике святых.
(обратно)29
Алексеев А. Д.. Летопись жизни и творчества И. А. Гончарова. М.-Л., 1960. С. 153.
(обратно)30
Энциклопедический словарь «Старообрядчество» в статье о Николае I дает следующие сведения: «Российский Император с 1825 г., применивший решительные меры против старообрядчества» (Старообрядчество. Опыт энциклопедического словаря. М., 1996. С. 194).
(обратно)31
Суперанский М. Ф. Указ. соч. С. 580.
(обратно)32
См.: Летописец. С. 358.
(обратно)33
Летописец. С. 339. Однако Гончаров никогда не упоминал о «Летописце». В своих автобиографиях упоминает он о чтении Державина, Радклиф, различных путешествий и многого, многого другого… Может быть, романист умалчивал об этой семейной реликвии по присущей ему скрытности
(обратно)34
В приложении к монографии мы помещаем свой перевод данной повести в ее «гончаровском» варианте.
(обратно)35
И. А. Гончаров. Новые материалы и исследования. Литературное наследство. Т. 102. М., 2000. С. 577.
(обратно)36
Смирнова И. В. Семья Шахториных в Симбирске. К родословной И. А. Гончарова // Традиция в истории культуры. Материалы II Региональной научной конференции. Ульяновск, 2000. С. 238.
(обратно)37
Там же.
(обратно)38
Летописец. С. 356.
(обратно)39
Ляцкий Е. Гончаров. Жизнь, личность, творчество. Критико-биографические очерки. Изд. 3-е. Стохгольм. 1920. С. 68.
(обратно)40
Там же.
(обратно)41
Там же. С. 287.
(обратно)42
Ляцкий Е. Указ. соч. С. 68.
(обратно)43
Русское масонство. 1731–2000. Энциклопедический словарь. М., 2001. С. 807.
(обратно)44
Трофимов Ж. И. А. Гончаров: «…Алаевы встречаются на каждом шагу…» // Ульяновская правда. 2000. 24 октября.
(обратно)45
Ляцкий Е. Указ. соч. С. 276.
(обратно)46
См. Рыбасов А. И. А. Гончаров. М., 1962. С. 7.
(обратно)47
Ляцкий Е. Указ. соч. С. 64.
(обратно)48
И. А. Гончаров в воспоминаниях современников. Л., 1969. С. 28–29. С некоторыми вариациями эти воспоминания Г. Н. Потанина см. ИА. Гончаров. Новые материалы. Ульяновск, 1976. С. 129.
(обратно)49
Симбирские епархиальные ведомости. 1994. № 1.С. 4.
(обратно)50
Там же.
(обратно)51
Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. 2. СПб., б/г. С. 2055.
(обратно)52
Симбирские епархиальные ведомости. 1994. № С. 16–17.
(обратно)53
О чудесах, происходивших от иконы Смоленской Божией Матери в церкви, носившей Ее имя, см. Яхонтов А. Церкви города Симбирска (Историкоархеологическое описание). Вып. 1. Церкви подгорные. Симбирск, 1898. С. 8.
(обратно)54
Града Симбирска чудная похвала и заступление. Ульяновск, 2000. С. 11.
(обратно)55
Представляется, что этот образ вполне мог уложиться в стилистику романа «Обрыв», в котором мелькнула невзначай фигура старика, рассказывающего о пугачевских временах.
(обратно)56
Вестник Европы, т. 12. 1908. С. 424.
(обратно)57
См.: Чудеса при могилке алатырского подвижника схимонаха Вассиана. М., 1996.
(обратно)58
Рыбасов А. И. А. Гончаров. М., 1962. С. 25.
(обратно)59
См. Паламарчук П. Г. Сорок сороков. Т. 1–4. М., 1992–1995.
(обратно)60
Русские писатели в Москве. М., 1987. С. 331.
(обратно)61
Имеется в виду книга К. Ф. Ордина «Попечительный Совет заведений общественного призрения в Санкт-Петербурге. Очерки деятельности за пятьдесят лет: 1828–1878» (СПб., 1878).
(обратно)62
Архив ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Ф. 289. Ед. хр. 22.
(обратно)63
Рыбасов А. Указ. соч. С. 9.
(обратно)64
Егорова НМ. Новые материалы.
(обратно)65
Конференция Коммерческого училища в 1826 г. отмечала, что Иван Гончаров «шалостлив» (Алексеев А. Д.. Летопись жизни и творчества И. А. Гончарова. М.-Л., 1960. С. 16).
(обратно)66
Новое время. 1912. Иллюстрир. приложения. № 13038.
(обратно)67
С-в, Воспоминания о Московском коммерческом училище, 1831–1838 годов // Русский вестник. 1861, Т. 12. С. 721–722.
(обратно)68
Там же.
(обратно)69
Виноградов Н. Московское Коммерческое училище. Сто лет жизни. М., 1904. С. 279.
(обратно)70
Гончаров И. А. и Романов К. К. Неизданная переписка. С. 34.
(обратно)71
Рыбасов А. П. Указ. соч. С. 28.
(обратно)72
Алексеев А. Д., Летопись жизни и творчества И. А. Гончарова. М.-Л., 1960. С. 17.
(обратно)73
Литературное наследство. Т. 102. М., 2000. С. 423.
(обратно)74
Егорова Н. М. Новые материалы об учебе И. А. Гончарова в Москве // Симбирский вестник. Вып. 2. Ульяновск, 1994. С. 55.
(обратно)75
Ярославцева И. П. Митрополит Филарет (Дроздов) и русская религиозная философия // Философия. Наука. Культура. М., 2004. С. 29.
(обратно)76
Там же.
(обратно)77
Соловьев В. С. Сочинения. В 2-х томах. Т 2. М., 1988. С. 233.
(обратно)78
Вестник Европы, 1887, № 4. С. 502–503.
(обратно)79
Гончаров И. А. Критические статьи и письма. Л., 1938. С. 337.
(обратно)80
Рыбасов А. И. А. Гончаров. М., 1962. С. 35.
(обратно)81
Герцен А. И. Былое и думы. Т. 1. М., 1969. С. 101.
(обратно)82
Гончаров И. А. Собрание сочинений. В 8-ми томах. М., 1978–1980. Т. 7. С. 236.
(обратно)83
Выражение, часто встречающееся в текстах Гончарова. Встречается, например, у ап. Павла (2 Кор. 7, 15). Источник — 2-й псалом, стих 11: «Работайте Господеви со страхом и радуйтеся Ему с трепетом».
Во всех цитатах из текстов Гончарова, кроме специально оговоренных случаев, курсив наш.
(обратно)84
Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. Т. 3. М., 1994. С. 18.
(обратно)85
Орлова-Савина П. И. Автобиография. М., 1994. С. 9.
(обратно)86
Храм святой мученицы Татианы при Московском университете будет освящен лишь в 1837 году, через три года после окончания университета Гончаровым.
(обратно)87
Месса, молитва (польск. msza).
(обратно)88
Надеждин Н. И. Европеизм и народность в отношении к русской словесности // В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией. Хрестоматия по истории российской общественной мысли XIX и XX веков. М., 1977.
(обратно)89
Записки Николая Александровича Мотовилова. М., 2005. С. 30.
(обратно)90
Речь идет о князе М. П. Баратаеве.
(обратно)91
Н. А. Мотовилов и Дивеевская обитель. Издание Свято-Троице-Серафимо-Дивеевского женского монастыря. 1999. С. 26–27.
(обратно)92
Михаил Николаевич Мусин-Пушкин с 1829-го по 1845 год был попечителем Казанского учебного округа. В 1841 году выдвинул проект об открытии в Казанском университете «особого Института восточных языков», помог сделаться ректором Казанского университета знаменитому математику Лобачевскому. Влияние его росло год от году. Между прочим, в доме его казанском бывал студентом Л. Н. Толстой. В 1845-м в его карьере — новый виток: он становится попечителем петербургского учебного округа.
(обратно)93
Карл Андреевич Ливен являлся в 1828–1833 гг. министром народного просвещения и, как отмечает в своих воспоминаниях Ф. Ф. Вигель, «самым усердным протестантом».
(обратно)94
Там же. С. 47.
(обратно)95
Об архиепископе Анатолии (Максимовиче) см.: Симбирские епархиальные ведомости. 1994. № 1.С. 5.
(обратно)96
Алексеев А. Д., Летопись жизни и творчества И. А. Гончарова. М.-Л., 1960. С. 119.
(обратно)97
Во всяком случае, в «Необыкновенной истории» он пишет, что Тургенев «в 1855 году… пришел… на квартиру (в доме Кожевникова, на Невском проспекте, близ Владимирской)…» (Гончаров И. А. Собрание сочинений. В 8-ми томах. М., 1978–1980, Т. 7. С. 355).
(обратно)98
См. Кучмаева И. К. Жизнь и подвиг Великой княгини Елизаветы Федоровны. М., 2004. С. 29–31.
(обратно)99
И. А. Гончаров в воспоминаниях современников. Л., 1969. С. 146.
(обратно)100
Там же.
(обратно)101
Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1976 г. Л., на 1978. С. 201.
(обратно)102
Затянувшийся конфликт с Тургеневым вылился в книге «Необыкновенная история». Гончарову потребовались годы для того, чтобы действительно «смириться». Вся «Необыкновенная история» проникнута христианским, евангельским духом. Сам романист рассматривал эту историю как искушение, посланное Богом для очищения души. Книга писалась в середине 1870-х годов. В 1869-м Гончаров еще весь в страстях, что и понятно сразу после окончания «Обрыва» и в период публикации его в «Вестнике Европы». Оттого в письме вопрос о смирении обсуждается достаточно бурно: «„Очень рад, от всей души — но кому простить, перед кем и как смириться — скажите только, отвечал я, — и я первый протяну руки, и во мне не останется ничего злого и недоброго, и дайте мне какую-нибудь гарантию, что ничего подобного не повторится!“ Он (отец Гавриил. — В. М.) на это никакого ответа не давал, и меня окружала прежняя таинственность… Мне кажется, другие больше меня нуждались бы также и в моем прощении, но они о нем не думают и не заботятся, а требуют только от меня. Смирение ведь нужно и для других, меч равно над всеми головами висит — отчего же другие не заботятся о смирении и побуждают к нему меня? Разве они правее меня?., смириться, наконец, успокоиться (на что я, кажется, имею право) можно тогда, когда есть гарантия, что все кончилось, миновалось» (VIII, 411–412).
(обратно)103
См. Мельник В. И. И. А. Гончаров и протоиерей М. Ф. Архангельский // Духовная жизнь провинции. Образы. Символы. Картина мира. Симбирск— Ульяновск, 2003. С. 157–158.
(обратно)104
Имеется в виду: Галахов А. Д. Историческая хрестоматия нового периода русской словесности. В 2-х томах. СПб., 1861–1864.
(обратно)105
И. А. Гончаров в воспоминаниях современников. Л., 1969. С. 147.
(обратно)106
Там же. С. 149.
(обратно)107
Там же. С. 150.
(обратно)108
Там же. С. 156.
(обратно)109
Шпицер С. И. А. Гончаров. Опыт биографии и характеристики. СПб., 1912–1913. С. 31.
(обратно)110
Возможно, такой пропуск в биографии Гончарова — случайность. Странно, но в «Летописи» А. Д. Алексеева не учтена книга С. Шпицера.
(обратно)111
Шпицер С. Указ. соч. С. 31.
(обратно)112
И. А. Гончаров в кругу современников. Псков, 1997. С. 115.
(обратно)113
Русская жизнь. 1891, 17 сентября, № 252.
(обратно)114
Кони А. Ф. Воспоминания о писателях. М., 1989. С. 77.
(обратно)115
Мережковский Д. Акрополь. Избранные литературно-критические статьи. М., 1991. С. 129.
(обратно)116
И. А. Гончаров в неизданных письмах, дневниках и воспоминаниях современников / Публ. и коммент. Н. Г. Розенблюма // Русская литература. Л., 1969. № 1. С. 169.
(обратно)117
Алексей Герасимович Полотебнов (1838–1907) — первый русский дерматолог, профессор Военно-медицинской академии, душеприказчик Гончарова.
(обратно)118
Спасович Владимир Данилович (1829–1906) — юрист, публицист и литературный критик круга «Вестника Европы», общественный деятель.
(обратно)119
Там же.
(обратно)120
И. Е. Репин — Е. Г. Мамонтовой. 21 сентября 1891 года // Репин И. Е. Т. II. М.-Л., 1949. С. 54.
(обратно)121
Литературное наследство. Т. 102. М., 2000. с. 633–634.
(обратно)122
Там же. Ср. мнение Д. Н. Мамина-Сибиряка, выраженное в письме к А. С. Маминой от 22 сентября 1891 г.: «Его хоронили не на Волковом, где покоится русская литература: Добролюбов, Писарев, Салтыков, Шелгунов, Помяловский, Решетников, а в Александро-Невской Лавре, где хоронят только генералов и купцов первой гильдии…»
К сожалению, знаток старообрядчества так и не сумел правильно «прочитать» судьбу, да и романы Гончарова, не сумел увидеть и оценить в нем христианина.
(обратно)123
См.: Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 2. М., 1995. С. 341; Успенский Ф. И. История крестовых походов. М., 2005.
(обратно)124
Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем. В 20-ти томах. Т. 1. СПб., 1997. С. 49.
(обратно)125
См. Алексеев А. Д. Библиография И. А. Гончарова (1832–1964). Л., 1968. С. 9.
(обратно)126
Гончаров И. А. На родине. М., 1987. С. 27.
(обратно)127
Там же.
(обратно)128
Понятия «порядочного человека» и «джентльмена» для Гончарова практически эквивалентны. См. об этом Мельник В. И. О литературном бытовании одного понятия в эпоху В. И. Даля // Далевский сборник. Луганск, 2001. С. 70–73.
(обратно)129
Гончаров И. А. На родине. М., 1987. С. 32. Классификация типов, принятая Гончаровым в «Письмах…», распространяется и на его произведения. Так, «франтами» являются Иван Савич Поджабрин из одноименного очерка, Сурков из «Обыкновенной истории». Есть в гончаровских романах и «львы»: граф Новинский («Обыкновенная история»), Пахотин («Обрыв») и др. Петр Адуев, несомненно, «человек хорошего тона». Вполне под идеал «порядочного человека» подходит, пожалуй, лишь Тушин в «Обрыве».
(обратно)130
Имеются в виду «Правила для новоначальных монахов» преподобного Исайи Отшельника (ум. в 370 году по Рождестве Христовом).
(обратно)131
Арсений (Жадановский), епископ. Духовный дневник. М., 2006. С. 156–157.
(обратно)132
Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». Очерки путешествия в двух томах. Л., 1986. С. 681.
(обратно)133
В XIX веке русское общество попыталось усвоить это понятие и привить его к корням национальной жизни. «Пересадка» понятия шла в различных слоях русского общества, притом, в силу понятных причин, в основном — в западнически-либеральных кругах.
Первые упоминания о «джентльмене» можно встретить уже в пушкинское время (См. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. XL, М., 1949. С. 168).
(обратно)134
Оссовская М. Рыцарь и буржуа. Исследования по истории морали. М., 1987. С. 131.
(обратно)135
На этом фоне легко оценить скудость и узость трактовки слова «джентльмен» в советских толковых словарях. Например, четырехтомный словарь русского языка (1981) дает такое общепринятое понимание слова: «1) В Великобритании: человек, принадлежащий к высшим кругам буржуазно-аристократического общества и строго соблюдающий установленные в нем правила и нормы поведения. 2) О корректном, благовоспитанном человеке; о человеке, отличающемся строгим изяществом манер и костюма».
(обратно)136
Демиховская О. А. И. А. Гончаров в Московском университете // Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена. Т. 210. Л., 1959. С. 10.
(обратно)137
Русская старина. 1899, № 5. С. 266.
(обратно)138
Белинский В. Т. Полное собрание сочинений. Т. 12. М.,1965. С. 352.
(обратно)139
Многие писатели 1830–1840-х гг. обращались к феномену «народного Православия» в провинциалах и отмечали прежде всего «смесь простодушия и лукавства, невежества и ума, суеверия и набожности» (М. Загоскин. Очерк «Ванька»).
(обратно)140
Гончаров И. А. Собрание сочинений. В 8-ми томах. М., 1978–1980. Т. 8. С. 102–107.
(обратно)141
Котельников В. А. Иван Александрович Гончаров. М., 1993. С. 43.
(обратно)142
Уба Е. В. Поэтика имени в романной трилогии И. А. Гончарова («Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв»). Автореферат кандидатской диссертации. Ульяновск, 2005. С. 12.
(обратно)143
Там же. С. 13.
(обратно)144
В статье «Лучше поздно, чем никогда» писатель так определяет Райского: «Что такое Райский! Да все Обломов, то есть прямой, ближайший его сын…» В то же время «это проснувшийся Обломов».
(обратно)145
В «Обыкновенной истории» так и происходит: Антон Иванович не раз ест в доме Адуевых «упитанного тельца», в том числе и по случаю возвращения «блудного сына» из Петербурга.
(обратно)146
Письмо к В. С. Соловьеву // Материалы международной конференции, посвященной 180-летию со дня рождения И. А. Гончарова. Ульяновск, 1994. С. 348–349.
(обратно)147
Письмо к В. С. Соловьеву. Предисловие и публикация В. И. Мельника // Материалы международной конференции, посвященной 180-летию со дня рождения И. А. Гончарова. Ульяновск, 1994. С. 349.
(обратно)148
Кони Л. Ф. Воспоминания о писателях. М., 1989. С. 76.
(обратно)149
В этих словах («на словах, а не на деле») намечена уже проблематика «Обломова» и «Обрыва».
(обратно)150
Линден A. M. Записки // Русская старина. 1905. № 4. С. 135.
(обратно)151
Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». Л., 1986. С. 575.
(обратно)152
См., например: Выскочков Л. Николай I. М., 2003. С. 401–402.
(обратно)153
Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». Л., 1986. С.462.
(обратно)154
Отечественные подвижники благочестия. Октябрь. Введенская Оптина пустынь. 1994. С. 572–573.
(обратно)155
Алексеев А. Д. Летопись жизни и творчества И. А. Гончарова. М.-Л., 1960. С. 37.
(обратно)156
Отечественные подвижники благочестия. Октябрь. Введенская Оптина пустынь. 1994. С. 581.
(обратно)157
Литературное наследство. Т. 102. М., 2000. С. 75.
(обратно)158
Христианское чтение. 1894. № 9.
(обратно)159
Так, 28 октября 1879 г., во время своего пребывания в Санкт-Петербурге, святитель Николай записывает в дневнике: «Из монастыря заехал к Путятину» (Л. Л. Архимандрит Николай в Петербурге и Москве в 1879 году // Из истории Православия к северу и западу от Великого Новгорода. Л., 1989. С. 204.). 15 ноября — новая их встреча: «Когда я шел к Митрополиту, встретил меня человек гр. Путятина, сказавший, что граф и графиня Ольга Евф<имиевна> в Соборе на обедне и зовут меня после обедни в магазин… смотреть иконы… В 4 1/2 ч<аса> отправился обедать к графу…» (Там же).
(обратно)160
Там же. С. 213.
(обратно)161
Там же. С. 220.
(обратно)162
Победоносцев Я. Великая ложь нашего времени. М., 2004. С. 211.
(обратно)163
Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». Л., 1986. С.571.
(обратно)164
Русский архив. 1899. № 1. С. 198–199. Как религиозная личность Путятин с неожиданной стороны предстает в записках исследователя Палестины, действительного тайного советника Василия Николаевича Хитрово, стоявшего у истоков организации Палестинского общества под руководством Великого Князя Сергея Александровича Романова. В силу ряда причин учреждение Общества было под вопросом. Постепенно сторонниками В. Н. Хитрово стали люди, близко стоящие к Великому князю Сергию: его бывший преподаватель Закона Божьего протоиерей Иоанн (Рождественский), несколько позже бывший воспитатель Великих князей — генерал-адъютант Дмитрий Сергеевич Арсеньев. Большую роль сыграли, кроме того, К. П. Победоносцев и в особенности — граф Е. В. Путятин, который стал одним из двигателей организации Палестинского общества. В письме В. Н. Хитрово к архимандриту Леониду по этому поводу сказано: «Как вдруг неожиданно все завертелось, все засуетилось… Этим вихрем оказался, вы даже улыбнетесь, если вы его знаете, и я вам его назову, граф Е. В. Путятин, который тогда только что вернулся из Иерусалима, где провел Пасху прошлого года. Я его если знал раньше, то только по имени, и потому был крайне удивлен его посещением. Дело в том, что в Иерусалиме был он в самый разгар пререканий между консулом и начальником нашей духовной миссии, видел его безотрадное положение и приехал в Питер отстаивать и миссию и еще более архимандрита Антонина, и оказался больше роялистом, чем сам король. Летом виделся он с Императрицею прежде ее отъезда за границу, и ему удалось, по крайней мере, приостановить приведение в действие состоявшегося уже в мае прошлого года Высочайшего повеления о низведении иерусалимской нашей миссии до степени простого настоятельства церкви, состоящей при консульстве, которое предполагалось по этому случаю возвести в генеральное. Смысл слов Путятина, сказанных мне, заключался приблизительно в следующем: мне с лишком 70 лет, я член Государственного Совета, и именно потому я не могу многое сделать из того, что можете сделать вы, а потому соединимся вместе и будем действовать сообща. Иными словами, куда нужно будет поехать, кого попросить, где замолвить слово, это брал граф на себя, писать ли придется, это возлагалось на меня. Вы можете себе представить, как я обрадовался такому союзнику, который, несмотря на свои лета, поражает еще своею энергиею и живостью». Именно Путятину принадлежит заслуга организации Палестинского общества под руководством Великого князя Сергея Александровича: «Графу Е. В. Путятину В. Н. Хитрово был отрекомендован с самой отличной стороны архимандритом Антонином. Близкое знакомство с графом доставило бесспорно громадную пользу для успеха того дела, за которое В. Н. ратовал доселе почти одиноким, изменило взгляды на него высшего петербургского общества…» Понимал и подчеркивал роль Путятина и сам В. Н. Хитрово.
(обратно)165
Русский архив. 1887. Кн. 2. № 5. С. 122.
(обратно)166
Там же. С. 61–63.
(обратно)167
И. А. Гончаров в воспоминаниях современников. Л., 1968. С. 151.
(обратно)168
Отчет Императорского Русского географического общества за 1866 г., составленный секретарем общества бароном Ф. Р. Остен-Сакеном. СПб., 1867. С. 5. Кстати, эта книга была в библиотеке Гончарова.
(обратно)169
Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». Л., 1986. С. 632–633.
(обратно)170
Цитата из «Притчей Соломоновых»: «Бегает нечестивый ни единому же гонящу». То есть: «Бежит нечестивый, когда никто не гонится за ним» (Прит. 28, 1). Ошибочную параллель с библейским текстом (Лев. 26, 17) дают комментаторы к академическому изданию И. А. Гончарова (А. III. 784).
(обратно)171
Аввакум (Честной), архимандрит. Дневник кругосветного плавания на фрегате «Паллада» (1853 год). Письма из Китая (1857–1858 гг.). Тверь, 1998. С. 30.
(обратно)172
Там же. С. 46.
(обратно)173
Там же. С. 52.
(обратно)174
Там же. С. 61–62.
(обратно)175
Там же. С. 69. Урусов Сергей Степанович — князь, гардемарин, затем мичман на «Палладе».
(обратно)176
Там же. С. 29–30.
(обратно)177
Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». Л., 1986. С. 228.
(обратно)178
Аввакум (Честной), архимандрит. Дневник. С. 31–43.
(обратно)179
Там же. С. 56.
(обратно)180
Там же. С. 77.
(обратно)181
Там же. С. 72.
(обратно)182
Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». Л., 1986. С. 341.
(обратно)183
Там же. С. 713.
(обратно)184
Там же. С. 533.
(обратно)185
Описание библиотеки И. А. Гончарова. Каталог. Ульяновск, 1987. С. 15.
(обратно)186
Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». Л., 1986. С. 600.
(обратно)187
Там же. С. 707.
(обратно)188
Лебедев Л., протоиерей. Колумбы росские. М., 2003. С. 160.
(обратно)189
Там же. С. 161.
(обратно)190
Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». Л., 1986. С. 491–498. Факт, отмечаемый Гончаровым, является ошибочным (А. III, 754).
(обратно)191
Там же. С. 533.
(обратно)192
Православная Москва. 1997. № 29–30. С. 1.
(обратно)193
Собственное отношение Гончарова к святителю Филарету пока не удалось выяснить. Пока мы имеем единственное свидетельство о том, что писатель в той или иной степени был знаком с деятельностью московского митрополита.
(обратно)194
Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». Л., 1986. С.606.
(обратно)195
Там же. С. 607.
(обратно)196
Православная Москва. 1997. № 29–30. С. 1.
(обратно)197
Ср. Комарова В. П. Шекспир и Библия. СПб… 1998. С. 149 («Трагедию „Король Лир“ некоторые исследователи сопоставляют с Книгой Иова, вернее, с темой терпения и покорности воле Бога во всех человеческих страданиях. Однако сопоставление сходных мест библейского памятника и трагедии приводит к иному выводу: Шекспиру близки не проповеди друзей Иова, а его упреки Богу; именно „бунтарский“ характер многих суждений и вопросов Иова привлек внимание Шекспира, об этом говорят обращения Лира и старого Глостера к „небесам“ и „богам“, обвиняемым в несправедливом устройстве мира, где господствуют зло и несправедливое распределение жизненных благ»).
(обратно)198
Очерки путешествия Ивана Гончарова. В 2-х томах. Издание А. И. Глазунова. СПб., 1858.
(обратно)199
Дружинин Л. В. Прекрасное и вечное. М., 1988. С.125.
(обратно)200
Писарев Д. И.Сочинения. Т. 1.СП6., 1909. С. 30.
(обратно)201
Энгельгардт Б. М. «Фрегат Паллада» // Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». Л., 1986. С. 722.
(обратно)202
Там же.
(обратно)203
Литературное наследство. М., 1935. Т. 22–24. С. 309.
(обратно)204
См. Цейтлин Л. Г. И. А. Гончаров. М., 1950. С. 149–150. Подробнее см. об этом Горенштейн М. С. К вопросу о роли кругосветного плавания и путевых очерков «Фрегат „Паллада“» в творческой биографии И. А. Гончарова // Материалы юбилейной гончаровской конференции. Ульяновск, 1963. С. 121–123.
(обратно)205
Энгельгардт Б. М. Указ. соч. С. 846.
(обратно)206
Мокеева И. Н. Жанровое своеобразие «Фрегата „Паллада“» И. А. Гончарова // Гончаров И. А. Материалы конференции. Ульяновск, 1992.
(обратно)207
Недзвецкий В. Л. «Фрегат „Паллада“ И. А. Гончарова как „географический роман“» // Материалы международной конференции, посвященной 180-летию со дня рождения И. А. Гончарова. Ульяновск, 1994. С. 125.
(обратно)208
Там же. С. 135–136.
(обратно)209
См. Краснощекова Е. Л. Гончаров. Мир творчества. СПб., 1997. С. 135–136.
(обратно)210
Стасюлевич М. М. Опыт исторического обзора главных систем философии истории. СПб., 1866. С. 200.
(обратно)211
Достоевский Ф. М. Собр. соч. В 30-ти томах. Т. 20. С. 19–20.
(обратно)212
Гончаров И. А., Собрание сочинений. В 8-ми томах. М., 1978–1980. Т. 7. С. 383.
(обратно)213
Там же. С. 105.
(обратно)214
Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 14. С. 290–291.
(обратно)215
Самый образ зерна, посеянного Творцом в человечестве и ожидающего возвращения «плода», многократно повторяется, варьируясь, в Библии.
(обратно)216
Среди этих немногих был издатель знаменитых «Достопамятных сказаний о подвижничестве святых и блаженных отцов», который в своем предисловии к книге в 1845 году писал: «Читателю, еще не довольно опытному в духовной жизни, не излишним представляется сказать здесь несколько слов в руководство при чтении сей книги. Встретит он в сказаниях… много подвигов чрезвычайно высоких, которые покажутся неудобоподражаемыми, доступными только людям, отрешившимся от общественной жизни и всецело посвятившим себя созерцанию, молитве и делам благочестия… По апостолу, никто не принуждается ради последования Иисусу Христу непременно оставлять свое звание, в котором поставлен Промыслом; следовательно, в каждом звании можно более и более преуспевать в духовной жизни, подражая примерам и ревности святых Божиих» (Луг духовный. Творение блаженного Иоанна Мосха. Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. М., 2004. С. 411–412).
(обратно)217
Бердяев Н. А. Царство Божие и царство Кесаря // Путь. Орган русской религиозной мысли. М., 1992, № 1. С. 25. Однако вопрос не может быть прояснен до конца и решен окончательно когда-либо. Поэтому естественно, что и в XX веке у этой точки зрения были оппоненты, порою весьма неожиданные. Так, в своей книге «Закат Европы» О. Шпенглер писал о Христе и его отношении к социальным институтам как бы в пику Н. Бердяеву: «Здесь нет философии. Его изречения — это слова ребенка, окруженного чуждым, дряхлым и больным миром. Никаких социальных размышлений, никаких проблем, никакого умствования. Как тихий остров блаженных, покоится жизнь этих рыбаков и ремесленников с Генисаретского озера среди эпохи великого Тиберия, вдали от всяческой мировой истории, без малейшего представления о… реальности, в то время как вокруг сияют эллинистические города… с утонченным западным обществом… Для верующего весь азарт и успех исторического мира греховен и лишен ценности — он тоже прав… Ни одна вера не могла никогда изменить мир, и ни один факт мира никогда не мог опровергнуть веру. Не существует моста между устремлениями времени и вневременным вечным, между ходом истории и пребыванием божественного миропорядка» (Шпенглер О. Закат Европы // Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991. С. 33–36). Так неожиданно О. Шпенглер, выражая крайнюю и очень ясную точку зрения, сходится со старообрядцами — с их эсхатологическим мировоззрением.
(обратно)218
Установленный порядок (фр.).
(обратно)219
Всерьез (фр.).
(обратно)220
Гончаров И. А. Нимфодора Ивановна. Избранные письма. Псков, 1992. С. 138–139.
(обратно)221
Там же. С. 106.
(обратно)222
Там же. С. 117.
(обратно)223
Там же. С. 102.
(обратно)224
Там же. С. 90.
(обратно)225
Там же. С. 104.
(обратно)226
Существуют и иные версии того, кто явился прототипом Ольги Ильинской. См. Чемена О. М. Создание двух романов. М., 1966, Исследовательница считает, что прототипом Ольги Ильинской является Е. П. Майкова.
(обратно)227
Гончаров И. А. Нимфодора Ивановна. Избранные письма. Псков, 1992. С. 112.
(обратно)228
Добротолюбие. В 12-ти томах. Т. 1. М., 1993. С. 210–212.
(обратно)229
Гончаров И. А.. Нимфодора Ивановна. Избранные письма. Псков, 1992. С. 110–111.
(обратно)230
Там же. С. 126.
(обратно)231
Гончаров И. А. Собрание сочинений. В 8-ми томах. М., 1978–1980. Т. 7. С. 358.
(обратно)232
Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. В 90-та томах. М., 1928–1958. Т. 60. С. 290.
(обратно)233
Соловьев В. С. Сочинения. В 2-х томах. М., 1988. Т. 2. С. 295.
(обратно)234
Отечественные записки. 1859, № 5.
(обратно)235
Мережковский Д. Акрополь. Избранные литературно-критические статьи. М., 1991. С. 129.
(обратно)236
В 1963 г. В. Н. Ильин написал, что «обломовщина» есть духовная болезнь, грех «разленения» (Ильин В. Н. Продолжение «Мертвых душ» у Гончарова // Возрождение. 1963. № 139. С. 52.)
(обратно)237
Упоминание сказки о спящем царстве есть во «Фрегате Паллада». Уже современники заметили в «Обломове» нечто «сказочное» (Русские вести, 1860, т. 25. С. 605). Ю. Лощиц проводит параллель: Илья Обломов — дурак Емеля (Лощиц Ю. Гончаров. М., 1986. С. 187). При всем том, что в «Обломове» встречаются и другие сказочные сюжеты (сонное царство, «спящая царевна»), именно сказка о Емеле-дураке вырастает в романе до значения национальной утопии. К ней примыкают все иные утопические сюжеты. Это закономерно, ибо, как пишет Е. Трубецкой, «крайним выражением апофеоза лени служит сказка о Емеле» (Литературная учеба, 1990. Кн. 2. С.103). Гончаров назвал указанную сказку «сатирой», но, безусловно, чувствовал иную сторону в характере героя. Тот же Е. Трубецкой отмечает свойство его характера, но и духовная мудрость, включающая в себя недоверие к традиционным, обыденным представлениям о добре и зле, смысле жизни, правде: это «запредельная человеку сила и мудрость» (Там же. С. 113). Для Гончарова подобная запредельность оборачивается возвращением к традиционной для него проблеме «ума» и «сердца». Обломов, как Емеля, «герой принципиально „запредельный“, неисторический, живущий в „ином царстве“» (Е. Трубецкой). А живет это царство (независимо от того, языческое оно или христианское) по законам «сердца». Сердечный герой — герой «не от мира сего». В «Обломове» утверждены установки на «запредельные» нравственные ценности, не вмещающие в позитивно определяемую «историю», «культуру», «цивилизацию». Это ценности «конечные», апокалиптичные по духу.
«Мудрость» в сказке олицетворяется двумя женскими образами: «вещей старухой и вещей невестой» (Е. Трубецкой). В романе «Обломов» есть и та (няня, списанная с реальной гончаровской няни), и другая (Агафья Матвеевна Пшеницына). Именно эти две женщины делают жизнь Обломова сказкой, ставят водораздел между сказкой и реальностью, «позволяют» герою жить в «ином царстве». Мудрая жена ограждает его жизнь от «земной логики». Как пишет Е. Трубецкой, «избранник этой магической мудрости обрекается на совершенно пассивную роль: от него только требуется безграничное доверие, покорность и преданность силе, которая его ведет». Напомним, что Агафья Пшеницына «себя, детей своих и весь дом предавала на волю Божью». Ее земной и нарочито приземленный характер не так прост. У нее то же бескорыстие (т. е. по сказке — «дурь»), что и у Обломова (история с жемчугами), то же обращение к другим ценностям. Встретились «дурак» и «дурочка». Ольга же для Обломова слишком умна. Ее духовность двойственна. Е. Трубецкой пишет, что в русской сказке «в числе искателей „иного царства“ есть люди низшего, высшего и среднего духовного уровня» (Там же. С. 102). Низший уровень — «мечта о богатстве», которое «само собою валится в рот человеку без всяких с его стороны усилий». Высший — «уровень несогласия с установившимися законами здравого смысла». С этой точки зрения Обломов представляет оба уровня. Там, где он ищет «покой-праздник», он изображается автором почти сатирически («Нянька с добродушием повествовала сказку о Емеле-дурачке, эту злую и коварную сатиру на… нас самих»). С другой стороны, в его «неделании» заключен мотив искания «иного царства», живущего вековечными законами «сердца». Это, по Трубецкому, «средний» уровень духовности. Но Обломов не дорастает до «высшего» уровня, как герой сказки, жертвующий птице части своего тела ради того, чтобы она вынесла его к свету. Обломов не способен на жертву, как и другие герои романа. Не потому ли в «Обломове» звучит ностальгическая нота о прожитой «не своей» жизни? Вглядываясь в своего героя, Гончаров писал о русском человеке и русском национальном характере как таковом — во всей его драматической неоднозначности. Романист прекрасно видит борьбу в русской душе мечты о «даровом богатстве» и мечты о высшей духовности, недосягаемой в земном пределе. См. об этом Мельник В. М. Народ в творчестве И. А. Гончарова (к постановке проблемы) // Русская литература. Л., 1987. № 2. С. 49–62.
(обратно)238
«Они хранили в жизни мирной // Привычки милой старины; //У них на масленице жирной // Водились русские блины» и т. д. (строфа XXXV второй главы).
(обратно)239
…«дневная культура» была культурой духа и ума… «ночная» культура есть область мечтания и воображения… Болезненность древнерусского развития можно усмотреть прежде всего в том, что «ночное» воображение слишком долго и слишком упорно укрывается и ускользает от «умного» испытания, поверки и очищения… (Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 3).
(обратно)240
Там же. С. 4.
(обратно)241
Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Т. 1. Изд. Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и издательства «Паломник». 1994. С. 5. Далее ссылки даются на это издание.
(обратно)242
Там же. С. 105–106.
(обратно)243
Там же. С. 106.
(обратно)244
Иоанн Златоуст, сет. Избранные творения. М., 1993. Т. II. С. 788.
(обратно)245
Григорьев А. В. К семантике слова «талантъ» // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2002. № 4 (10). С. 76–81.
(обратно)246
Нилус С. Великое в малом. Записки православного. Издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 1992. С. 186–187.
(обратно)247
Слезные моления преподобного отца нашего Ефрема Сирина. М., 2006. С. 58.
(обратно)248
Christliche Kirchengeschichte. Bei. 1–35. Leipzig, 1768–1803.
(обратно)249
Добротолюбие — любовь к прекрасному, возвышенному, доброму. Под этим именем известно собрание духовных писаний выдающихся христианских подвижников.
(обратно)250
Цит. по кн. Пестов Н. Е. Современная практика православного благочестия. Т. 1. СПб., 2002. С.120.
(обратно)251
Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский. Избранные творения. Собр. поучений, т. 1. Изд. Св. — Троицкой Сергиевой Лавры, 1993. С. 367.
(обратно)252
Там же. С. 392.
(обратно)253
Там же. С. 341.
(обратно)254
Там же. С. 396.
(обратно)255
Там же. С. 355.
(обратно)256
В свое время Е. А. Ляцкий так определил это: «Его „старая правда“ покоилась на глубокой религиозности, не той, которая зовет человека на подвиг самоотречения и самопожертвования и является уделом немногих натур с высоким строем души и сильной волей, но иной, доступной самым обыкновенным людям, которые почерпают в вере спокойствие совести и душевный мир и живут больше чувством, чем умом» (Ляцкий Е. Гончаров. Жизнь, личность, творчество. Критико-биографические очерки. Изд. 3-е. Стохгольм. 1920. С. 228).
(обратно)257
См. Ляцкий Е. Указ. соч.
(обратно)258
Zungstad A., Zungstad S. Ivan Goncharov. New York, 1974. P. 164.
(обратно)259
См., например: Кулешов В. И. Нестареющее обаяние «Обрыва» // Кулешов В. Л. Этюды о русских писателях. М., 1982. С. 195, 216.
(обратно)260
Тиндаль Д. Речи и статьи, М., 1875. Характерно, что книги Тиндаля были и в библиотеке Ф. М. Достоевского.
(обратно)261
Dreper J. Les conflits de la science et de la religion. Paris, 1875.
(обратно)262
Figuier L. L'annee scientifique et industrielle. Paris, 1876.
(обратно)263
Flammarion C. Etudes et lectures sur sur Tastronomie. Paris, 1867–1880. 9 vols.
(обратно)264
«Новой наукой» Гончаров именовал естествознание «позитивистского толка». Дарвин, как известно, испытал на себе влияние позитивистских идей. Кроме Дарвина, Гончаров упоминает и «других» ученых того же направления, что свидетельствует о хорошем знании современной науки.
(обратно)265
Гончаров И. А. О пользе истории // Неделя. М., 1965. № 32. Идеи Гончарова отчасти перекликаются с мыслями А. К. Толстого из его стихотворения «Послание к М. Н. Лонгинову о дарвинисме» (1872), в котором поэт не защищает дарвинизм, но говорит о свободном самовыражении науки, о необходимости не противопоставлять веру и науку, а сочетать их в стремлении к истине:
Отчего б не понемногу Введены во бытиё мы? И не хочешь ли уж Богу Ты предписывать приемы? Способ, как творил Создатель, Что считал Он боле кстати, Знать не может председатель Комитета о печати.Толстой не выводит позицию современных нигилистов из учения Дарвина, напротив, противопоставляет их:
От скотов нас Дарвин хочет До людской возвесть средины — Нигилисты же хлопочут, Чтоб мы сделались скотины. (обратно)266
Соловьев В. С. Чтения о богочеловечестве. М., 1881. С. 3.
(обратно)267
Лосев Л. Ф. Вл. Соловьев. М., 1983. С. 186.
(обратно)268
Достоевский сходным образом отзывался о состоянии современной ему науки: «Наука человеческая еще в младенчестве, почти только начинает дело…» (Достоевский Ф. М. Собрание сочинений. В 30-ти томах. Л., 1972–1988. Т. 22. С. 33).
(обратно)269
Письмо к В. С. Соловьеву. Предисловие и публикация В. И. Мельника // Материалы международной конференции, посвященной 180-летию со дня рождения И. А. Гончарова. Ульяновск, 1994. С. 348–349.
(обратно)270
Гончаров И. А. Собрание сочинений. В 8-ми томах. М., 1978–1980. Т. 8. С. 305.
(обратно)271
Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 506; Философский энциклопедический словарь. М., 1997. С. 348–349.
(обратно)272
Белопольский В. Н. Достоевский и позитивизм. Ростов-на-Дону., 1985. С. 11.
(обратно)273
Пустарнаков В. Ф. М. А. Бакунин как философ // Бакунин М. Л. Избранные философские сочинения и письма. М., 1987. С. 27.
(обратно)274
См. Капустин М. П. От какого наследства мы отказываемся? // Октябрь. 1988. № 4.
(обратно)275
Бюхнер Л. Сила и материя. М., 1906. С. 283.
(обратно)276
Уткина Н. Ф. Позитивизм, антропологический материализм и наука в России. М., 1975. С. 53. Автор монографии отмечает, что «начиная с 60-х годов богословы приступили вплотную к теме „церковь и наука“» (С. 53). Гончаров по-своему поучаствовал в общей полемике, выведя, в частности, образ отца Николая в «Обрыве». Этот священник читает книги новейших европейских философов, но не отступает от евангельской истины, а напротив, ведет к ней Марфеньку и, несомненно, других обитателей Малиновки.
(обратно)277
Е. Н. Купреянова заметила, что «одним из существеннейших аспектов социальной конкретизации воззрений Толстого явилась в „Анне Карениной“ полемика с позитивизмом…» (Купреянова Е. Н. Эстетика Л. Н. Толстого. М.-Л., 1966. С. 100). В работе «Религия и наука» Л. Толстой подходит к мысли о единстве научных знаний и нравственности: «Оно в сущности одно и то же» (Полн. собр. соч. В 90-та томах. Т. 39. М., 1956. С. 429).
(обратно)278
Достоевский Ф. М. Письма. В 4 т. М.-Л., 1928–1959. С. 212–213.
(обратно)279
Подробно об отношении Гончарова к позитивизму см. Мельник В. И. Этический идеал И. А. Гончарова. Киев, 1991.
(обратно)280
Гончаров И. А. Собрание сочинений. В 8-ми томах. М., 1978–1980. Т. 7. С. 400.
(обратно)281
Достоевский Ф. М. Собрание сочинений. В 15-и томах. Л. 1988–1996. Т. 10. С. 86.
(обратно)282
Лавров П. Л. Философия и социология: избранные произведения. В 2-х томах. М., 1965. Т. 1. С. 467–468.
(обратно)283
Пустарнаков В. Ф. М. А. Бакунин как философ // Бакунин МЛ. Избранные философские сочинения и письма. М., 1987. С. 41.
(обратно)284
Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем. В 28-ми томах. М.-Л., 1960–1968. Т. 8. С. 300.
(обратно)285
Шелгунов Н. В. Литературная критика. Л., 1974. С.223.
(обратно)286
Достоевский Ф. М. Собрание сочинений. В 30-ти томах. Л., 1972–1988. Т. 7. С. 375.
(обратно)287
Достоевский Ф. М. Собрание сочинений. В 15-ти томах. Л. 1988–1996. Т. 5. С. 350.
(обратно)288
Гончаров И. А. Собрание сочинений. В 8-ми томах. М., 1978–1980. Т. 7. С. 400–401.
(обратно)289
Бюхнер Л. Сила и материя. М., 1906. С. 283.
(обратно)290
Бакунин М. Л. Избранные философские сочинения и письма. М., 1987. С. 332.
(обратно)291
Милль Д. С. Утилитарианизм. О свободе. СПб., 1882.
(обратно)292
Бакунин М. Л. Избранные философские сочинения и письма. М., 1987. С. 382.
(обратно)293
Пустарнаков В. Ф. М. А. Бакунин как философ // Бакунин М. Л. Избранные философские сочинения и письма. М., 1987. С. 43.
(обратно)294
Достоевский Ф. М. Собрание сочинений. В 30-ти томах. Л., 1972–1988. Т. 5. С. 105.
(обратно)295
Setchkarev V. Ivan Goncharov. His life and his works. Würzburg, 1974. P. 151.
(обратно)296
Кессиди Ф. Х. Этические сочинения Аристотеля /j Аристотель. Сочинения. В 4-х томах. М., 1983. Т. 4. С. 22.
(обратно)297
Ф. Р. Вейс в своем известном трактате писал: «Любой мудрец вопреки мнению стоиков вовсе не изъят от влияния страстей; он только умеет ими управлять…» (Вейс Ф. Р. Нравственные основы жизни. В 2-х томах. СПб., 1881. Т. 1. С. 40.)
(обратно)298
Характерно, что о Штольце говорится в тех же выражениях; он «мог держаться на одной высоте» (Ч. 2, гл. II).
(обратно)299
Как показывает письмо к И. И. Льховскому от июля 1853 года, под «выгодными обстоятельствами» писатель имеет в виду либо врожденные качества «натуры», либо воспитание в высоконравственной среде.
(обратно)300
Гончаров И. А. На родине. М., 1987. С. 28.
(обратно)301
Многие святые пытались в истории христианства совместить путь Марии и путь Марфы. Отсюда возникновение Марфо-Мариинских обителей. Такая обитель была устроена, например, преподобномученицей Елизаветой (Романовой).
(обратно)302
Ляцкий Е. Ук. соч. С. 228.
(обратно)303
Гончаров И. А. Собрание сочинений. В 8-ми томах. М., 1978–1980. Т. 7. С. 400.
(обратно)304
См.: Развитие реализма в русской литературе: В 3-х томах. М., 1972–1973. Т. 2, кн. 1. С. 76.
(обратно)305
Литературное наследство. Т. 102. М., 2000. С. 157.
(обратно)306
В. А. Недзвецкий пишет: «Реалистический роман Гончарова можно определить как психологически-бытовую разновидность данного жанра» (История всемирной литературы. М., 1983–1994. Т. 7. С. 56). Очевидно, что подобное определение романа Гончарова сегодня, в условиях выявления духовного потенциала творчества писателя, начинает выказывать свою неполноту.
(обратно)307
Между тем «гоголевская поэтика» многообразно представлена в «Обрыве» и заметна невооруженным глазом. Например, в «поэтическом сне» Марфеньки (Ч. 3, гл. XXI) явственно сквозит мотив гоголевского «Вия». Марфеньке снится, что в заброшенном графском доме ночью «статуи начали шевелиться», плавно двигаться и т. д. Финал сна уже прямо из «Вия»: «Только Геркулес не двигался. Вдруг и он поднял голову, потом начал тихо выпрямляться, плавно подниматься… Он обвел всех глазами, потом взглянул в мой угол… и вдруг задрожал, весь выпрямился, поднял руку; все в один раз взглянули туда же, на меня — на минуту остолбенели, потом все кучей бросились прямо ко мне…» Любопытны метаморфозы. Гоголевский Вий превращается у Гончарова в античного Геркулеса, а бесы — в других мифологических героев (Диана, Марс, Венера и т. д.). «Ужасное» у Гончарова совершенно снято и заменено эстетикой язычества, и все завершается чуть ли не пародийно звучащей репликой Татьяны Марковны: «Надо морковного соку выпить, это кровь очищает…»
Гончаров нарочито вызывает у читателя «гоголевские» ассоциации, но как бы «распыляет» концентрированное, фантастически «ужасное», уводя, с одной стороны, в область античной мифологии, а с другой — в область чистого быта («морковный сок»). Нечто подобное, хотя и иначе, он делает, обращаясь к параллели между Чичиковым и Аяновым — параллели не названной, не подчеркнутой, но тем не менее вполне реальной.
Чичиковская тень мелькает уже в «Обыкновенной истории» и «Обломове», но лишь в «Обрыве», где поднята тема «живых» и «мертвых» душ, параллель приобретает устойчивость. Аянов и Чичиков стремятся не к выработке «нормы жизни», а к «выделке» своей среды «обитания». Они схожи во многих планах. Чичиков «не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок» и т. д. Об Аянове автор пишет: «Он — так себе: ни характер, ни бесхарактерность, ни знание, ни невежество, ни убеждение, ни скептицизм». Однако феномен чичиковщины претерпел во времена Гончарова историческую метаморфозу. Чичиков силится скрыть свои страсти, чтобы быть человеком «без углов», в то время как Аянов действительно бесстрастен, равнодушен. И в этом равнодушии его сила.
О Чичикове сказано: «Приезжий во всем как-то умел найтиться и показать в себе опытного светского человека». Об Аянове: «На лице его можно было прочесть покойную уверенность в себе и понимание других, выглядывавшее из глаз». «Пожил человек, знает жизнь и людей, — скажет о нем наблюдатель…» Если Чичиков, «шла ли речь о лошадином заводе… говорил и о лошадином заводе; говорили ли о хороших собаках, и здесь он сообщал очень дельные замечания» и т. д., то и Аянов — «следил за подробностями войны, если была война, узнавал равнодушно о перемене английского или французского министерства, читал последнюю речь в парламенте… всегда знал о новой пьесе и о том, кого зарезали ночью на Выборгской стороне»… Оба всегда «в курсе» дела, оба обладают ложной «многосторонностью».
Чичиков и Аянов активно общаются с людьми, но основа этого общения — мертва, бездуховна, отдаляет от человеческого, а не приближает к нему. Чичикову «ни одного часа не приходилось… оставаться дома, и в гостиницу приезжал он с тем только, чтобы заснуть». У Аянова «утро уходило… на мыканье по свету, то есть по гостиным, отчасти на дела и службу, — вечер нередко начинал он спектаклем, а кончал всегда картами в английском клубе или у знакомых, а знакомы ему были все».
Кстати о картах. Аянов позаимствовал у Чичикова манеру поведения за карточным столом. Чичиков «спорил, но как-то чрезвычайно искусно, так что все видели, что он спорил, а между тем приятно спорил. Никогда он не говорил: „вы пошли“, но: „вы изволили пойти“, „я имел честь покрыть вашу двойку“ и тому подобное». Карты для гоголевского героя — способ войти в круг малознакомых людей, завоевать их доверие. Для Аянова карты то же, что и служба, с их помощью он надеется «повыситься в тайные советники». Отсюда и «чичиковская» манера игры: «В карты он играл без ошибки и имел репутацию приятного игрока, потому что был снисходителен к ошибкам других, никогда не сердился, а глядел на ошибку с таким же приличием, как на отличный ход». Гончаров не случайно употребляет определения, какими пользовался Гоголь, характеризуя Чичикова: «приятный игрок», «приличие». Отсюда же «умеренные движения, сдержанная речь и безукоризненный костюм» (уж не наваринского ли дыму с пламенем?) Аянова.
Аянов — творческое переосмысление образа Чичикова. Имея те же цели, что и Чичиков («повыситься в тайные советники и бросить якорь в порте, в какой-нибудь нетленной комиссии или комитете, с сохранением окладов, — а там волнуйся себе человеческий океан, меняйся век, лети в пучину судьба народов, царств, — все пролетит мимо его…»), он во главу угла ставит уже не авантюру, не действие вообще, не скрытую страсть как двигатель поступков, но наоборот — полное бездействие и равнодушие. Маска бесстрастности Чичикова у Аянова сменилась истинным бесстрастием, отсутствием «задора». Аянов — представитель пустой формы, лишенной содержания. «Бытовой демонизм» Чичикова, имевшего свою «идею», «тайну», заменяется полной приземленностью: «В душе Ивана Ивановича не было никакого мрака, никаких тайн, ничего загадочного впереди, и сами макбетовские ведьмы затруднились бы обольстить его каким-нибудь более блестящим жребием или отнять у него тот, к которому он шествовал так сознательно и достойно». Чичиков, прикрывая свои цели, вынужден был надевать маску равнодушия, Аянов действительно равнодушен, он еще более «мертв», чем гоголевский герой. Изображая борьбу «живого» и «мертвого» (эти эпитеты буквально пронизывают текст) в «Обрыве», Гончаров творчески использовал художественный опыт Гоголя.
(обратно)308
Существует мнение, что в «Евгении Онегине» Татьяна живет по церковному календарю и что в финале романа она плачет над письмом Онегина в пустом доме — перед исповедью в Страстной Четверг, Но Пушкин не говорит об этом прямо: религиозный подтекст романа лишь аналитически прочитывается (Даниленко Борис, прот. Православное богослужение в русской литературе // Духовный потенциал русской классической литературы. М., 2007. С. 23–24).
(обратно)309
Эйхенбаум Б. Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки. Л., 1924. С. 93.
(обратно)310
Спасович В. Д. Байронизм у Пушкина и Лермонтова // Вестник Европы, 1888, № 4. С. 534.
(обратно)311
Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С.133.
(обратно)312
Гончаров И. А. Собр. соч. В 8-ми томах. Т. 8. М., 1955. С. 94.
(обратно)313
Спасович В. Д. Указ. соч. С. 530.
(обратно)314
Цит. по кн. Пестов Н. Е. Современная практика православного благочестия. В 2-х томах. Т. 1. СПб., 2002. С. 200.
(обратно)315
Там же. С. 201.
(обратно)316
Литературное наследство. Т. 102. М., 2000. С.158.
(обратно)317
Литературное наследство, Т. 102. М., 2000. С.158.
(обратно)318
Трубецкой Е. И. Умозрение в красках. М., 1916. С. 25–26.
(обратно)319
Следует учесть, что Гончаров прекрасно знал лермонтовскую поэму, а кроме того — и всю «демоническую» традицию мировой литературы вообще. В 1859 году Гончаров являлся цензором издаваемого С. С. Дудышкиным собрания сочинений Лермонтова. Как цензор Гончаров содействовал восстановлению ряда ранее исключаемых мест в поэме «Демон». В его отзыве, в частности, говорилось: «Что касается до образов ангелов, демонов, монашеской кельи, послуживших, может быть, поводом тогдашней цензуры к запрещениям, то, не говоря уже о сочинениях Мильтона, Клопштока и других, стоит вспомнить „Ангел и Пери“, поэму Баратынского, „Абадону“, перевод Жуковского, „Чернеца“ Козлова, „Русалку и монаха“ и многие стихотворения
Пушкина, чтобы убедиться, как из чистых представлений и образов поэзии не может произойти никакого соблазна. (В числе запрещенных мест… есть клятва Демона: „Клянусь я первым днем созданья“ и т. д., тут, кроме блестящей версификации, безвредного и эффектного набора слов, решительно ничего нет)» (Цит. по кн.: Материалы юбилейной Гончаровской конференции. Ульяновск, 1963. С. 243).
(обратно)320
В первой публикации «Обрыва» в журнале «Вестник Европы» было несколько иначе: «…и вдруг страшно побледнел. Лицо у него исказилось, как будто около него поднялся из земли смрад и чад» (См.: VI. 454). В собраниях сочинений 1884-го и 1886–1889 гг. текст изменился. Как видим, в первоначальном варианте («страшно побледнел», «лицо у него исказилось») Гончаров подчеркнул внешние признаки встречи человека с реальной нечистой силой, однако впоследствии сделал текст более «спокойным», скрыв или скорее притупив религиозный акцент. Л. С. Гейро, комментируя это место, пишет: «Таков почти лубочный заключительный образ-ассоциация, возводящая страсть и ложь, ею рожденную, к бесовскому наваждению» (Гейро Л. С. «Сообразно времени и обстоятельствам…» (Творческая история романа «Обрыв») // Литературное наследство. Т. 102. М., 2000. С. 158.). Однако Гончаров никогда не был склонен к лубочным картинкам. Ассоциативный ряд в данном случае берет начало в святоотеческой литературе.
(обратно)321
Палладий, епископ Еленополъский. Лавсаик, или повествование о жизни святых и блаженных отцов. М., 2003. С. 55.
(обратно)322
Малягин В. Достоевский и Церковь // Ф. М. Достоевский и Православие. М., 1997. С. 28.
(обратно)323
Спасович В. Д. Указ. соч. С. 530,
(обратно)324
Лощиц Ю. Гончаров. М., 1986. С. 80–81.
(обратно)325
Скурат К. Учитель «умного делания» // Православная беседа. 1996, № 1. С. 8.
(обратно)326
Так, Райский говорит о «херувимском дыхании свежести» в образе Марфеньки (Ч. 2, гл. XVI); ангелом называет ее и Викентьев (Ч. 3, гл. XVI).
(обратно)327
Подробно см. Мельник В. М. И. А. Гончаров в полемике с этикой позитивизма (к постановке вопроса) // Русская литература, 1990, № 1. С. 34–45.
(обратно)328
Спасович В. Д. Указ. соч. С. 530.
(обратно)329
Такое неверие Гончарова в перемену людей, носителей демонического начала, отразилось в письме к М. Е. Салтыкову-Щедрину по поводу образа Иудушки Головлева (см. ниже).
(обратно)330
Антропов Л. H. «Обрыв», роман И. А. Гончарова // Заря, 1869. № 11. С. 119.
(обратно)331
Литературное наследство. Т. 102. С. 143.
(обратно)332
Литературное наследство. Т. 102. С. 142.
(обратно)333
Никитенко А. В. Дневник. В 3-х томах. М., 1955–1956. Т. 3. С. 207.
(обратно)334
Вопрос о том, за кем пойдет молодежь, был предметом горячих обсуждений в обществе. В статье «Новый тип» Писарева Гончаров как цензор, давший на нее свой отзыв, несомненно, выделил для себя следующее место: «Романы потихоньку или открыто читаются неоперившимися птенцами, а эти птенцы составляют самую интересную часть всякого общества, потому что, как ни хмурься Катков, а все-таки им, птенцам, безусловно, по всем правам и законам природы, принадлежит ближайшее будущее» (Писарев Д. М. Литературная критика. В 3-х томах. Л., 1981. Т. 2. С. 404).
(обратно)335
Иоанн Лествичник, преподобный. Лествица. СПб., 1995. С. 247.
(обратно)336
И. А. Гончаров в неизданных письмах к графу П. А. Валуеву. 1877–1882. СПб., 1906. С. 50–51.
(обратно)337
Голос минувшего. 1919. №№ 1–4. С. 236.
(обратно)338
Соединение духовного и художественного начал в слове святитель считает главной задачей человека, называющего себя писателем. В письме к некоему отцу Антонию он замечает: «Несомненно то, что в стихотворениях Ваших встречается то чувство, которого нет ни в одном писателе светском, писавшем о духовных предметах, несмотря на отчетливость стиха их. Они постоянно ниспадают в свое чувственное и святое духовное переделывают в свое чувственное» (Игнатий Брянчанинову святитель. Письма о подвижнической жизни (555 писем). Минск, 2004. С. 44. Далее ссылки на это издание даны в тексте). Конкретный пример — «Аббадона» В. А. Жуковского: «Как прекрасен стих в „Аббадоне“ Жуковского! И как натянуто чувство! Очевидно, в душе писателя не было ни правильного понимания описываемого предмета, ни истинного сочувствия ему. По причине неимения истины он сочинил ее и для ума и для сердца, написал ложную мечту, не могущую найти сочувствия в душе разумного и истинно образованного, тем более благочестивого читателя» (С. 44).
То, что так нравилось Гончарову, категорически отвергается святителем Игнатием, а именно: привнесение человеческого идеала в изображение Божества: «Мир — свидетель истины, плод ее. Мне очень не нравятся сочинения: ода „Бог“, преложения псалмов все, начиная с преложения Симеона Полоцкого, преложения из Иова Ломоносова, все поэтические сочинения, заимствованные из Священного Писания и религии, написанные писателями светскими. Под именем светского разумею не того, кто одет во фрак, но кто водится мудрованием и духом мира. Все эти сочинения написаны из „мнения“, оживлены „кровяным движением“. А о духовных предметах надо писать из „знания“, содействуемого „духовным действием“, т. е. действием Духа. Вот!» (С. 219).
Святитель считает, что люди не духовные больше пользы принесут, изображая близкую и понятную им действительность. Но они не должны касаться религиозных сюжетов (кстати сказать, на практике Гончаров так и вел себя: стоит вспомнить его письма к Великому князю Константину Константиновичу, в которых он говорит о своем нежелании браться за религиозный сюжет): «Оду „Бог“, слыхал я, с восторгом читывал один дюжий барин после обеда, за которым он отлично накушивался и напивался. Бывало, читает, и слюна брызжет на всех и все, как картечь из крупнокалиберного единорога… Приличное чтение после сытного обеда! Верен, превелик восторг, производимый обилием ростбифа и шампанского, поместившихся во чреве! Ода написана от движения крови — и мертвые занимаются украшением мертвецов своих! Не терпит душа моя смрада этих сочинений! По мне уже лучше прочитать, с целью литературною, „Вадима“, „Кавказского пленника“, „Переход через Рейн“: там светские поэты говорят о своем — ив своем роде прекрасно, удовлетворительно. Благовестие же Бога да оставят эти мертвецы! Оно не их дело! Не знают они — какое преступление: преоблачать духовное, искажать его, давая ему смысл вещественный! Послушались бы они веления Божия не воспевать песни Господней на реках Вавилонских. Кто на реках Вавилонских и не отступник от Бога Живаго, на них тот будет плакать» (С. 219–220).
(обратно)339
Вениамин (Федченков), митр. М. Е. Салтыков-Щедрин // Духовный собеседник. Самара. 2001. С. 200.
(обратно)340
М. Б. Юдина в статье «Четвертый роман И. А. Гончарова» выражает мнение, что вместо четвертого романа Гончаров написал «Необыкновенную историю», воспроизводящую его отношения с Тургеневым. Ее мнение основывается на том, что в «Необыкновенной истории» наличествует поэтика художественного текста, а именно: воспроизведение гоголевской поэтики, в частности «Миргорода». Однако неясно, как этот четвертый роман соотносится с тремя первыми гончаровскими же романами, какова логика, так сказать, «продолжения». Этим вопросом автор статьи даже не задается.
(обратно)341
См. Алексеев А. Д., Летопись жизни и творчества И. А. Гончарова. М.-Л., 1960. С. 83.
(обратно)342
Голос минувшего. 1913. № 12. С. 238.
(обратно)343
Адмирал Е. В. Путятин в своем рапорте на имя управляющего Морским министерством великого князя Константина Николаевича отмечал, что «Гончаров, кроме отличного исполнения лежавшей на нем обязанности секретаря при мне во время плавания фрегата „Паллада“, занимался по моему приглашению преподаванием русской словесности бывшим на означенном фрегате гардемаринам и вообще был весьма полезным приобретением для экспедиции» (Алексеев А. Д., Указ. соч. С. 54).
(обратно)344
См. Алексеев А. Д.. Указ, соч, С. 82.
(обратно)345
Там же. С. 83.
(обратно)346
Там же. С. 84.
(обратно)347
К. Р. Дневники. Воспоминания. Стихи. Письма. М., 1988. С. 189.
(обратно)348
Гончаров И. А. и Романов К. К. Неизданная переписка. К. Р. Стихотворения. Драма. Псков, 1993. С. 128.
(обратно)349
Там же. С. 64.
(обратно)350
Милого учителя, окруженного учениками, обслуживаемого женщинами (фр.).
(обратно)351
«Жизнь Иисуса Христа» (фр.).
(обратно)352
Там же. С. 57–58.
(обратно)353
Там же. С. 82.
(обратно)354
К. Р. Дневники. Воспоминания. Стихи, Письма. М., 1998. С. 5.
(обратно)355
Осужден (лат.).
(обратно)356
Гончаров И. А. и Романов К. К. Неизданная переписка. К. Р. Стихотворения. Драма. Псков, 1993. С. 5–47.
(обратно)357
Владимир Малягин в статье «Достоевский и Церковь» отмечает, что автор «Преступления и наказания» был не столь близок к постулатам Церкви в вопросе, который затрагивается Гончаровым. По его мнению, ошибка Достоевского заключалась «в том, что из двух главнейших ипостасей Божия отношения к нам, грешным людям, — милосердия и правосудия, — Достоевский абсолютизирует милосердие, как бы забывая о правосудии Божием, о Божией правде, без которой, как и без милосердия, не может стоять мир… Божия любовь к человеку требовательна — но об этом никогда не говорил Достоевский» (Ф. М. Достоевский и Православие. М., 1997. С. 28).
(обратно)358
Наставления преп. Марка Подвижника о духовной жизни. Гл. 39 // Добротолюбие. В 12-ти томах. Т. 2. М., 1993. С. 500.
(обратно)359
Вейнберг П. И. — поэт, переводчик, сотрудник «Современника», «Русского слова», «Искры»; Фруг С. Г. — поэт, автор сборников «Думы и песни» (1887), «Стихотворения» (1881–1889), «Сиониды и другие стихотворения» (1902), «Песни исхода» (1908) и др.; Надсон С. Я. — поэт, в его поэзии сильна роль рефлексирующей мысли, логических раздумий. Большую роль в его становлении сыграл А. Н. Плещеев. Многие стихи стали популярными песнями и романсами; Минский (Виленкин) Н. М. — поэт-символист и переводчик; Мережковский Д. С. — поэт, романист, драматург, литературный критик, один из зачинателей русского символизма.
(обратно)360
Эти суждения Гончарова весьма напоминают его же размышления о том, как личность усваивает родную речь, родной язык.
(обратно)361
Гончаров И. А. и Романов К. К. Неизданная переписка. К. Р. Стихотворения. Драма. Псков, 1993. С. 51–53.
(обратно)362
См. Кучмаева И. К. Жизнь и подвиг Великой княгини Елизаветы Федоровны. М., 2004. С. 34–45.
(обратно)363
Литературное наследство. Т. 102. М., 2000. С. 427–428.
(обратно)364
Там же. С. 455.
(обратно)365
Там же. С. 55.
(обратно)366
Гончаров И. А. и Романов К. К. Неизданная переписка. К. Р. Стихотворения. Драма. Псков, 1993. С. 70.
(обратно)367
Там же. С. 89.
(обратно)368
Гончаров в воспоминаниях современников. Л., 1969. С 112.
(обратно)369
Литературное наследство, Т. 102. М., 2000. С.560.
(обратно)370
Гончаров И. А. Собрание сочинений. В 8-ми томах. М., 1978–1980. Т. 7. С. 138.
(обратно)371
Там же. С. 135–136.
(обратно)372
Там же. С. 138.
(обратно)373
Там же. С. 150.
(обратно)374
Там же. С. 152.
(обратно)375
Там же. С. 159.
(обратно)376
Там же. С. 164–165.
(обратно)377
Там же. С. 164.
(обратно)378
Там же. С. 174.
(обратно)379
Там же. С. 175–176.
(обратно)380
Там же. С. 184.
(обратно)381
Там же. С. 192.
(обратно)382
И. А. Гончаров в воспоминаниях современников. Л., 1969. С. 207.
(обратно)383
Литературное наследство, Т. 102. М., 2000. С. 478.
(обратно)384
Там же. С. 483.
(обратно)385
Воспитанница писателя, дочь его покойного слуги Карла Трейгута.
(обратно)386
Новое время. СПб., 26 января 1893.
(обратно)387
Гончаров И. А. Собрание сочинений. В 8-ми томах. М., 1978–1980. Т. 7. С. 416.
(обратно)388
Как видим, Гончаров знает, что прежде всего Казанская Божия Матерь является «усердной Заступницей» и в тексте романа использует это слово: «Заступница».
(обратно)389
Мельник В. И. Народ в творчестве И. А. Гончарова (к постановке вопроса) // Русская литература. 1987. № 2. С. 58.
(обратно)390
Там же.
(обратно)391
В книге «Очерки радикализма в России XIX века» (Новосибирск, 1991) Е. А. Кириллова пишет: «К середине прошлого века религиозность общества скорее шла на убыль. Замирание религиозного чувства и религиозной мысли усиливалось по мере того, как росло требование официального благочестия» (С. 19). Это усиление требования официального религиозного благочестия Гончаров воспринимал болезненно. Очевидно, Гончаров всегда чувствовал фальшь и натяжки официоза как нечто болезненное. Характерен его отзыв о будущем редакторе религиозно-патриотического журнала «Москвитянин». Гончаров признает его огромное влияние на развитие и образование студентов, но ему кажется, что в своей религиозности и патриотизме Погодин был не совсем искренен: «У Михаила Петровича… было кое-что напускное и в характере его и в его взгляде на науку… Может быть, казалось мне иногда, он про себя и разделял какой-нибудь отрицательный взгляд Каченовского и его школы на то или другое историческое событие, но отстаивал последнее, если оно льстило патриотическому чувству, национальному самолюбию или касалось какой-нибудь народнорелигиозной святыни» (А. VII. 215).
(обратно)392
Цейтлин А. Г. И. А. Гончаров. М., 1950. С. 325.
(обратно)393
См. Кугелъ А. Р. Русские драматурги. М., 1934. С. 53–56.
(обратно)394
Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1976 год. Л., 1978. С. 207.
(обратно)395
Лео Андре (наст, имя Лео ни Шансе) (1829–1900) — французская общественная деятельница, писательница. Боролась за равноправие женщин, участвовала в боях Парижской коммуны в 1871 г.
(обратно)396
Доходя до крайности (фр.).
(обратно)397
Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1976 год. Л., 1978. С. 215–216.
(обратно)398
Толстой А. Ж. Собр. соч. В 4-х томах. Т. 1., М., 1969. С. 502.
(обратно)399
Fedotoff G. P. А Treasury of Russian spirituality. New York, 1948. P. XV–XVI.
(обратно)400
И дух прав обнови во утробе моей. Сборник святоотеческих изречений и поучений. В 2-х частях. Ч. 2. Мюнхен. 1991. С. 99.
(обратно)401
В письме к Н. Д. Фонвизиной от января-февраля 1854 года он писал: «Я скажу Вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки…» (Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. В 30-ти томах. Т. 28, кн. I. Л., 1985. С. 176.).
(обратно)402
Текст взят из семейного «Летописца» писателя И. А. Гончарова (Летописец семьи Гончаровых. Ульяновск, 1996). Его в 1728–1729 гг. переписал собственноручно дед писателя Иван Иванович Гончаров.
(обратно)403
901 год от Рождества Христова.
(обратно)
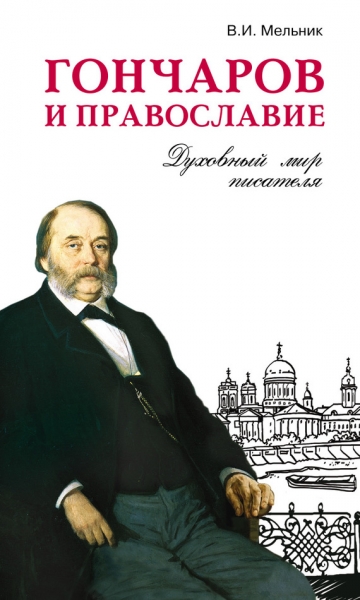




Комментарии к книге «Гончаров и православие. Духовный мир писателя», Владимир Иванович Мельник
Всего 0 комментариев