Павел Дмитриевич Долгоруков Великая разруха. Воспоминания основателя партии кадетов. 1916–1926
Часть первая Великая разруха
Глава 1 Февральская революция. 1917 год
Осенью 1916 года у меня на квартире в Москве заседал пленарный Центральный комитет партии Народной свободы (К.-д.). Настроение тогда было тревожное. Военные неудачи. Значительная часть русской земли была занята неприятелем. Заметно было ослабление власти и ее авторитета. Распутинство, министерская чехарда. Слабость государя чувствовалась всей страной и приводила в отчаяние монархистов. Не только великие князья, но и отдельные дамы-патриотки начали подавать государю петиции и записки об угрожающем для династии положении и подвергались за это высылке. Убийство Распутина не улучшило положения, а только подлило масла. Первоисточник слабости власти и ее растерянности остался: нерешительный характер государя и вмешательство в назначения государыни. Чувствовалась возможность падения власти, и многие патриоты сознавали, что вести войну такая власть не может.
Тем-то и объясняется, что некоторые монархисты и военные, все командование армии, при первой вспышке революции высказались за отречение государя: надеялись оздоровлением верхов спасти военное положение, выправить войну, принесшую миллионы жертв, поднять дух народа и войска.
Оказалось, дела не поправили. Или оно вообще было неисправимо, или, к несчастью русского народа, вследствие несчастных обстоятельств не мог выдвинуться вовремя надлежащий вождь-диктатор. Когда осенью 1917 года появился Корнилов, было уже поздно, власть оказалась в слабых, неумелых руках, способствовавших дальнейшему ее разложению и захвату ее большевиками.
На заседании Центрального комитета К.-д. партии, о котором я говорил, то есть за полгода до революции, вследствие паривших тогда настроений и предчувствий уже поднят был вопрос, как быть, если власть выпадет из рук государя, кого русская общественность сможет выставить ее носителем.
Назвали князя Г.Е. Львова, организатора и главноуполномоченного Земского союза. Русская действительность смогла выставить лишь этого хорошего человека и работника, талантливого организатора.
Я усомнился в пригодности Львова на столь ответственную политическую роль. Я с ним работал в японскую войну, когда я был уполномоченным пяти передовых санитарных отрядов Московского земства, а он был главноуполномоченным объединявшихся тогда земств. С ним, как милым, хорошим человеком и авторитетным, талантливым организатором, было очень приятно вести дело. Но я напомнил о бывших у меня с ним разговорах в китайской фанзе, в которой мы с ним жили под Лаояном, которые затягивались до глубокой ночи и о которых упоминает в своих воспоминаниях Т.И. Полнер. В них Львов обнаружил свою политическую малограмотность и незнание конституционных терминов. Например, путая ответственность министерства перед монархом и перед парламентом, он не разбирался в разнице между парламентским и парламентарным строем. И вообще он мне казался политически малоподготовленным и подходящим человеком. На высказанные мной сомнения меня спросили: «Кого же вы бы наметили на роль главы правительства?» Я никого не мог назвать. Помнится, что и другие никого не назвали. Таким образом, тогда у нас уже наметилась кандидатура Львова.
Не допускаю, чтобы среди полуторастамиллионного населения не нашлось в нужный момент сильного, властного человека, но русская действительность и политический строй, вероятно, не способствовали выдвижению и развитию сильных политических фигур, а хорошего человека, земца и организатора оказалось по моменту недостаточным.
Атмосфера все сильнее наэлектризовывалась, тучи сгущались. В конце февраля 1917 года я был у себя в подмосковной деревне Рузского уезда, где ранее предводительствовал пять трехлетий. Неожиданно я получаю из г. Рузы от моего бывшего секретаря записку, что из Москвы телефон сообщил: в Петербурге переворот, правительство низложено и власть перешла к Государственной думе. Собираюсь тотчас же в Москву, где застаю смятение и неразбериху и противоречащие одно другому известия. Говорят об отречении государя. Еду в Петроград. Поезд пришел в Петроград с опозданием. Говорили, что ночью на какой-то станции за Бологим стоял поезд государя. По дороге на узловых станциях садились офицеры с фронта. Тяжелое впечатление производило отобрание на петроградском вокзале у них револьверов и шашек какими-то молодыми людьми с красными бантами. Смущение и недоумение офицеров. Старый генерал с Георгиевским оружием говорит, что неприятель не мог у него отобрать оружие, которым он заслужил Георгия, почему же он должен отдать его русским, как преступник. Но никакого военного и жандармского начальства нет. Сумрачно офицеры отдают оружие. Кажется, потом им его вернули. Отсылаю багаж в гостиницу «Европейская» и еду прямо в Таврический дворец. Городовых уже нет.
В Таврическом дворце картина толчеи и сумятицы, которая уже часто описывалась. Толпа и улица завладели зданием. В думском зале уже заседают солдатские и рабочие депутаты. Члены Думы ютятся в маленьких комнатах флигеля. В длинном коридоре, ведущем к нему, еле можно протолкнуться в людской массе, идущей взад и вперед. Колонная зала и другие переполнены – солдаты, штатские. Колонны, стены и полы уже загрязнены. В большом кабинете председателя Думы – думская комиссия по приему арестованных. Несколько знакомых членов Думы сидят в ней. Все время представители «народа», рабочие, приводят арестованных городовых, сановников, министров. Всех более важных арестованных направляют в министерский павильон. Некоторые министры идут со сверточками, с необходимыми под арестом вещами. Некоторые сановники приходят и сами просят, чтобы их арестовали, так как они боятся за свою участь. Не помню, кто стоял во главе дела арестов, кажется, Керенский, назначенный министром юстиции. В маленьких комнатах флигеля только что образовалось Временное правительство. Всюду видна крупная фигура Родзянко. Члены правительства постоянно ходят в колонную залу и во двор говорить приветственные речи войскам, в строе приходившим при своих офицерах, засвидетельствовать свою верность Думе и Временному правительству. С гвардейским экипажем пришел и великий князь Кирилл Владимирович, кажется, накануне, во всяком случае, до отречения государя. Красного банта на нем не заметил. Многие члены Временного правительства и Думы охрипли от постоянных речей. Раз я пошел за Милюковым во двор. Он обходил построившуюся перед Думой часть, приветствующую в его лице новое правительство. Меня поразила уверенность и апломб, с которым он здоровался с людьми, обходя фронт, и говорил несколько слов офицерам и солдатам.
Некоторые из членов Думы и правительства в изнеможении лежали в промежутках между речами на диване во флигеле. Родственники и знакомые приносили им закуски. С Керенским случился какой-то припадок, кажется сердечный. Кажется, потом он повторялся. Часть войск проникала в колонную залу. И там члены Думы и правительства говорили речи. Говорили и посторонние. Какой-то беспрерывный митинг.
Меня уже тогда с первого дня поразило, что Дума была вытеснена из своего помещения и члены ее, как и члены правительства, ютились во флигеле. Я поздравил Родзянко с той ролью, как мне казалось спасительной, которую он с Думой сыграли, взяв власть, выпавшую из рук государя, и направив революцию в известное русло сформированием правительства. Но тогда же я ему заметил, что мне кажется, что народное представительство напрасно уступает свое помещение и позволяет себя физически оттереть на второй план. «Что же вы хотите делать, – басит он, – я и хотел настоять на своих правах, да ваш же Милюков и другие не поддержали меня и считают, что Дума не должна вступать в конфликт с солдатскими и рабочими депутатами».
И действительно, Милюков, как я потом выяснил, полагал, что Дума сыграла свою роль и, как выбранная по недемократическому закону, не может быть в такой момент авторитетна. Он настаивал на полноте власти Временного правительства и на его решительных действиях. Я не говорю о депутатах-социалистах или о таком мелкопробном демагоге, как Некрасов. Но и большинство других членов Думы было против решительных мер, недостаточно, как мне казалось, понимая, что Временное правительство должно было опираться на выбранную все-таки Думу, чтобы не повиснуть в воздухе. Родзянко и меньшинство не сумели отстоять своего мнения и уступили.
Некрасов уже много позднее, когда Совет рабочих и солдатских депутатов уже забрал большую силу, все говорил на кадетских собраниях: «Ничего, мы с ними сговоримся». Он отвратительно показал себя еще раньше в Думе, некорректно ведя себя по отношению к Милюкову и всей К.-д. фракции, и на последнем съезде партии в Петрограде я с москвичами старался провалить этого негосударственного человека и демагога при выборах в Центральный комитет партии. Но так как петроградцев и провинциалов было более, то он прошел незначительным числом голосов. Когда я убеждал Милюкова баллотировать против Некрасова, то он ответил, что ему неудобно (!), как будто он сводит личные счеты. Не более государственен был и Винавер, когда я возмущался ответом мне Милюкова: «Милюков умный человек, он понимает, что левое течение должно быть представлено в Центральном комитете». Ответ не очень-то любезный по отношению ко мне. Оказался ли он с Милюковым умным, отстаивая такого «государственного» деятеля, показала вся дальнейшая роль и этика Некрасова, бывшего одним из предателей Корнилова.
Полиция была снята. Извозчики первые дни почему-то исчезли, за исключением очень немногих. Трамваи, кажется, стали. Вскоре появились ухабы. Мне из «Европейской» гостиницы в Таврический дворец было ходить довольно далеко. В те дни часто обращались к незнакомым попутчикам с просьбой подвезти или взять в долю. Как-то я пошел от себя в Думу и лишь у Летнего сада встретил даму, ехавшую на извозчике по тому же направлению, оказалось, на Сергиевскую. Попросил подвезти. Согласилась. «Потому, – говорит, – согласилась вас подвезти, что нет у вас красного банта. И прежде не любила я придворной ливреи, но красный революционный бант мне противен». А в то время многие и из аристократов, и из гвардейских офицеров надели красные банты. Мне тоже это было противно. Как раз в эту поездку на углу Сергиевской и Литейной встретил лейб-гусара князя Л. с красным бантом. Некоторые объясняли это тем, что хотели показать, что признали переворот и новый строй.
Раз пришла в Думу, к ее президиуму, депутация от литераторов, артистов и художников, которые организовались с целью оберегать художественные ценности. Они заявили, что на Императорском фарфоровом заводе начался грабеж и что музею завода грозит опасность. Туда сейчас же было послано войско. Помнится, в составе депутации человек в десять были Шаляпнин, Горький, Добужинский.
Правительство уже сформировалось. На него надеялись и военные, и правые. Как-то я обедал у двоюродного брата графа Орлова-Давыдова на Сергиевской. Обедал и великий князь Николай Михайлович. Он рассказывал, что познакомился с князем Львовым и что он ему очень понравился. «Mais il est très bien»[1], – повторил он несколько раз. Тогда хозяйка дома на него набросилась и заметила: «Да почему же князю Львову не быть хорошим? Как будто это вас удивляет. Я удивляюсь, почему вас может удивлять это». Так как это было сказано в очень резком тоне, то муж ее, указав на прислугу, сказал ей, что он не может допустить у себя в доме такого тона с великим князем. Ввиду переворота и низвержения лиц императорской фамилии с их пьедестала мне понравилось поведение Орлова-Давыдова.
Великий князь Николай Михайлович, не особенно симпатичный мне, строптивого характера, говорят, очень доблестно умер. И в предварилке он все время шутил и подбадривал других заключенных. Когда его вывели на расстрел, он отказался от завязывания глаз, скрестил руки, поднял голову и так вызывающе смотрел солдатам в глаза, что смутил многих из них и не все стреляли. Он внес своими изданиями и исследованиями такой ценный вклад в русскую историю, что справедливо, чтобы в истории была отмечена его доблестная смерть.
Раз утром пришел ко мне молодой К. Нарышкин и говорит, что его мать, мою двоюродную сестру Е.К. Нарышкину, ночью арестовали по обвинению Министерства иностранных дел чуть не в шпионаже и что она теперь находится в думском павильоне министров. Еду в министерство на Дворцовой площади к Милюкову. Министр не принимает. Объясняю, кто я. Пропускают. У Милюкова кто-то сидит. Дожидаюсь и прогуливаюсь в анфиладе обширных зал и гостиных с аляповатою казенною роскошью. В одной из комнат – маленькая фигурка А.С. Милюковой, принесшей мужу в газетной бумаге завтрак. Поговорил с ней. Приехал какой-то посол. Милюков вышел извиниться, но пришлось, разумеется, еще довольно долго ждать. Наконец я удостоился приема. Рассказываю про Нарышкину. Он слышал про ее арест. Говорит, что ее обвиняют в сношениях с противниками, в каких-то переговорах в Швейцарии во время войны. Объясняю ему, что по личным делам и семейным обстоятельствам жизнь ее сложилась так, что она почти всегда живет за границей в своем доме во Флоренции, а летом обыкновенно ездит в Швейцарию. Что дом у нее, как и раньше в Петербурге, был очень светский и у нее и у ее мужа на охоте всегда было много дипломатов, но что я не допускаю никакого шпионажа с ее стороны и что, если нет каких-либо фактических, веских улик, прошу об ее освобождении и беру ее на поруки. Милюков говорит, что дела этого он не знает и не знает, есть ли какие-нибудь доказательства, что дело ее теперь, как арестованной, за министром юстиции и что он сегодня же переговорит с Керенским. Еду в Думу, справляюсь относительно заключенных в министерском павильоне. Оказывается, что Нарышкину перевезли оттуда утром в Петропавловскую крепость, где она и провела ночь. На другой день она была освобождена. Оказывается, Керенский сам ее освободил и сказал, что никаких улик не имеется. Он очаровал Нарышкину своей любезностью.
Почти ежедневно в это время заседал Центральный комитет К.-д. партии, в котором обсуждалось предварительно много вопросов, поставленных жизнью на разрешение Временного правительства, в том числе и вопрос личных кандидатур. Засилье Совета рабочих и солдатских депутатов уже начало нас беспокоить, но, по-моему, недостаточно; левое крыло наше, особенно Некрасов, нас успокаивало. Полным же устранением Думы, кроме меня, кажется, никто не смущался. В начале же марта Центральный комитет решил, что исторические обстоятельства заставляют партию из конституционно-монархической перейти в республиканскую. У нас всегда в партии было много идеологов-республиканцев, лишь тактически стоявших на конституционно-монархической платформе в данный момент. Но раз «монархия себя изжила» и никто не шевельнулся для ее защиты, теперь наступил момент к переходу к республике и т. д. (Последовавший съезд партии согласился с этим.)
Помню, что Милюкова в начале этого заседания ЦК не было и, когда он приехал, вопрос был уже решен. Он ничего не сказал, но, кажется, был удивлен и смущен таким решением вопроса. Кажется, ему казалось такое решение преждевременным.
Часто заседания Центрального комитета происходили у М.М. Винавера, так как его обширная квартира находилась на Захарьевской, близ Думы. Однажды мы там заседали. Входит возбужденный наш сочлен А.А. Свечин, бывший гусар, и приносит нам знаменитый приказ по армии № 1. Свечин горячится, волнуется, говорит, что необходимо принять меры к немедленному аннулированию приказа, иначе армия пропадет, война будет проиграна. Я, бегло прослушав приказ, а может быть, как штатский, не сразу понял всю его разрушительную силу, а лишь когда обсудили и растолковали его. Я даже сначала подсмеивался над горячностью Свечина. Сейчас же решили сделать все, что можно. Так как авторитетом у войск тогда, очевидно, наиболее пользовался Совет рабочих и солдатских депутатов, то послали к нему депутацию из трех человек, в том числе и меня. В Думе – обычная толчея, в зале заседания Совета рабочих и солдатских депутатов обычные митинговые речи, возмутительная безграмотная демагогия, самоуверенность и самовосхваление силы физической. Наконец дождались перерыва, ловим председателя Чхеидзе и объясняем ему в боковой комнате, бывшей нашей фракционной, весь ужас, создаваемый приказом № 1. Чхеидзе охрипшим голосом (от председательствования в таком собрании) говорит, что он понимает и разделяет наши опасения, «но что же вы хотите, я бессилен что-либо сделать, движение пошло через наши головы и зашло слишком далеко». Тогда мы поняли весь трагизм положения, искренне ли или неискренне говорил Чхеидзе. Гучков, военный министр, потом издал какой-то приказ, разъясняющий приказ № 1 и имевший его ослабить. Но последнего ему не удалось, и Свечин оказался прав в своем предчувствии.
В это время государь уже отрекся от престола в пользу великого князя Михаила Александровича. Последний колебался. Большинство министров были против вступления его на трон. Сторонниками его явились Милюков и еще кто-то, кажется Гучков. Министерство поехало к нему. Милюков убежденно уговаривал его принять власть. Я тоже тогда был не согласен с ним. Мне казалось, что раз министерство едет для решения столь важного вопроса, то разнобоя не должно быть, министерство должно быть солидарным, и всякое разногласие в нем, вынесенное наружу, ослабит его авторитет и силу. Потом, вопреки мнению своих товарищей по кабинету, он уговаривал великого князя принять власть. Он мотивировал это тем, что законное титло должно существовать, что Временное правительство должно на него опереться, иначе оно повиснет в воздухе и ему трудно будет довести Россию до Учредительного собрания. Конечно, возможно, что и при Михаиле Александровиче накатившую на Россию волну нельзя было бы удержать и великого князя убили бы, но все-таки было более шансов сохранить государственность до Учредительного собрания, тогда еще казавшегося спасительным. Великий князь Михаил Александрович был соломинкой, за которую хотел Милюков ухватиться, когда Россия начинала тонуть. Я считаю, что Милюков, которого я знаю пятьдесят лет, с детства, человек кабинетный, теоретик, лишенный вообще государственного и национального чутья, в эпоху Временного правительства проявил всего более по сравнению со всей предыдущей своей деятельностью государственный разум, тогда как и более правые его товарищи как в данном случае ошиблись, так и впоследствии проявили менее его твердости и более поддавались соглашательству с товарищами по кабинету – социалистами, а через них и с надвигавшимся большевизмом.
Милюков имел мужество отстаивать кандидатуру великого князя и в колонной зале Государственной думы, рядом с Советом рабочих и солдатских депутатов. Я видел, как он, стоя на стуле среди враждебно настроенной толпы, которая кричала и угрожала ему кулаками, смело приводил свои доводы в пользу Михаила Александровича. Когда он кончил, его еле протащили среди возбужденной толпы. Насколько он был не прав, пренебрегая опорой для Временного правительства преемственной властью Государственной думы, настолько он был прав, цепляясь теперь за авторитет преемственного возглавления государства.
В Москву я уехал в смутном, тревожном настроении. В Москве на расстоянии десяти часов от Петрограда положение казалось еще менее определенным и ясным. Москва бурлила. Я устроил собрание в театральном зале литературно-художественного кружка, вмещавшего 300—400 человек, и сделал доклад о своих петроградских впечатлениях. Зал был переполнен. Был цвет всей интеллигентско-прогрессивной Москвы, «Русские ведомости», «Русское слово», профессура, адвокаты, литераторы, артисты, политические, земские и городские деятели…
После доклада и ответов на многочисленные вопросы выступило несколько ораторов. В заключение собрание единогласно приняло предложенную резолюцию, обращенную к Временному правительству, с требованием проявления твердой власти и недопущения раздвоения власти, которая неминуемо поведет страну к анархии и кровопролитию, с требованием энергичного подавления всякой узурпации власти правительства.
Таким образом, вся интеллигентская Москва высказалась против захвата власти классовым Советом рабочих и солдатских депутатов, против уступчивости и соглашательства – за единую, твердую власть. Не помню, припоминалось ли в резолюции о необходимости сохранения Государственной думы, образовавшей правительство, как авторитета, на который оно могло бы опираться. Резолюция эта была напечатана в московских и, вероятно, в провинциальных газетах и имела целью осветить политическое положение и установить государственную позицию в обществе. Кажется, правительству были посланы резолюции и из других мест, но керенщина (да и львовщина) и, в особенности, некрасовщина не были в состоянии восприять эти элементарные государственные истины; соглашательство и попустительство пышно расцветали.
Между тем с фронта поступали все более и более печальные известия. Приказ № 1 возымел свое разрушающее действие. Поезда уже стали приходить переполненные и облепленные солдатами. Государственная дума стала посылать своих членов, а также членов бывших Дум на фронт для беседы в войсках. Тогда еще надеялись, что речами можно задержать развал армии. Придавая первенствующее значение фронту и благополучному окончанию войны, я решился, как делегат Государственной думы, ехать на фронт.
Глава 2 Поездка на фронт. Апрель 1917 года (Начало разложения армии)
Пасху, кажется раннюю в этом году, я встретил в Москве, в Кремле на Соборной площади. Определив в Петрограде район фронта для объезда и получив от думской комиссии соответствующую делегатскую бумагу, около 10 апреля я выехал на фронт в западные губернии и на Волынь. Не только масса солдат ехала с фронта, но много еще офицеров и солдат ехали и на фронт из отпуска, после лечения. Было слышно, что деревня не особенно-то ласково встречала дезертиров и выпроваживала их вновь на фронт. Вероятно, часть их и возвращалась, предпочитая оседлый спокойный быт с пайком бродяжничеству. Разговоры с офицерами и солдатами начал уже в поезде. У офицеров замечалось уныние и скептицизм. Они с горечью указывали на встречные поезда, переполненные разнузданными солдатами, ехавшими с пением и гиканьем, иногда они с насмешками и площадной бранью встречали ехавших в нашем поезде солдат, настроение которых было сумрачное, неопределенное. И им, вероятно, не ясно было, на что они едут.
Первая часть, которую я посетил, была казачья дивизия под командой генерала Краснова, при которой работала одна из летучек отряда Союза городов, уполномоченным которого я был в 14-м и 15-м годах в Галиции. Генерал Краснов заставил меня принять парад. Дивизия была построена в каре. «Смирно, господа офицеры!» И я в сопровождении генерала обхожу каре, здороваюсь полуповоенному, в ответ на что казаки гаркают: «Здравия желаем!» Потом вся дивизия с генералом во главе дефилирует передо мной. Я каждую сотню благодарю.
Потом я спросил генерала Краснова, зачем этот парад понадобился и почему он меня, штатского человека, поставил в неловкое положение. Он мне сказал, во-первых, чтобы я видел, в каком состоянии дивизия, а главное, чтобы казаки видели, что он и офицеры подчиняются новому правительству.
Затем со специально устроенного помоста я произношу речь. Казаки стройными рядами подходят к помосту и вольно становятся вокруг. Громкое «ура!». Потом говорит генерал Краснов. Он превосходный оратор. Вновь громкое «ура!», казаки подхватывают меня на руки и несут к автомобилю. Я был поражен военной выправкой и духом казаков. От персонала моей летучки я узнал, что действительно дивизия уцелела от разложения и что парадированием в данном случае не втирались очки. Да, как будет видно из дальнейшего, другие начальники частей при всем желании уже были бы не в состоянии представить подобный парад. Я случайно попал с самого начала на наиболее, из всех виденных мною, сохранившуюся часть. Генерал Краснов – выдающийся организатор и военный администратор, как я потом убедился и в Новочеркасске в 1919 году. Он там уже в борьбе с большевиками отлично сорганизовал донское казачество. В политическом отношении я с ним впоследствии в эмиграции разошелся, так как он придерживался партийно-монархической линии, вредной для национального объединения вообще, в частности и казачества.
При моем объезде, при начавшемся развале армии я воочию убедился, какую роль играет личность командира. Помню, в один и тот же день я посетил два полка, стоявшие на противоположных опушках одного леса, верстах в двух один от другого. В одном полку престарелый командир совсем растерялся и даже отсоветовал мне выступать, говоря, что неизвестно, как солдаты меня еще примут. И действительно, когда я с высокого пня начал говорить, то скоро из задних рядов стали слышаться замечания и возражения, мешавшие мне говорить. Вмешался было командир полка, ставший уговаривать выслушать посланца от правительства, но ему уже совсем не дали говорить, кричали, что довольно его слушались, и прочее. Я предложил возражавшим подойти, чтобы я мог каждому в отдельности ответить. Но никто не подошел. (И впоследствии я замечал, что возражавшие и смутьяны обыкновенно становились сзади, скрываемые передней толпой. А вечером, в сумерки, было труднее говорить, потому что оппозиционеры бывали обыкновенно в темноте смелее, чем днем, и дисциплину было труднее поддержать.) Возгласы были обычные, митинговые: «Довольно повоевали, пора мир и по домам!», «Хорошо тебе говорить. Приехал из Питера, да и назад. А каково нам вшей кормить во окопах!», «Чего его слушать, будем сидеть на месте, вперед не пойдем» и т. п. Иногда постоят, погалдят и демонстративно расходятся. Офицеры в таких случаях сумрачно, потупившись, стоят. Жалко смотреть на них.
Другой полк в том же лесу. Командир – лихой кавказец, мусульманин. Команда: «Смирно!» Стоят, не шелохнутся. Я прошу скомандовать: «Вольно!» Обступают автомобиль, с которого я говорю, тесной толпой, плечо к плечу, слушают молча, внимательно. Когда, окончив речь, я предлагаю задать вопросы, то сначала спрашивают командира полка разрешения спросить меня, а потом, когда командир объясняет им, что я уполномочен правительством прямо с ними говорить, они меня забрасывают вопросами: «А как же нам говорят… как же слышно… как же понять, что пишут…», потом следуют искаженные демагогические мысли, обычные в призывах пропагандистов и социалистических газет и листовок. И в этих вопросах слышатся и сомнения, и обида: «Как же это?» И действительно, они служат, воюют, сидят в окопах, их ранят, убивают, а тут, как же это, без них – землю крестьянам делить будут? И тому подобное. Отвечаю, объясняю. Слушают внимательно, как будто понимают, иногда благодарят.
Под конец – краткое мое заключение, громкое «ура!», потом меня и командира несут на руках в штаб полка.
Вот два «митинга» в двух рядом стоящих полках; тот же самый «сермяжный» человеческий материал, но два различных командира и «товар» получился совершенно различный.
Я все мои речи начинал приветствием: «Христос воскресе!» В ответ многосотенное: «Воистину воскресе!» Потом я объяснял, что я москвич, только что из Москвы, что гул кремлевских пасхальных колоколов еще в моих ушах, что я им принес не только привет правительства и Государственной думы, но и привет и чаяния из сердца России. Объясняю, что от них чают и ожидают, значение и трудность положения, предостерегаю от ложных слухов и призывов, например от призыва вести лишь окопную войну, не двигаться вперед и т. д. Потом – беседа, ответы на вопросы. В заключение – краткий патриотический призыв и клики «ура!». Иногда – благодарность командира и «ура» в мою честь и Временного правительства. Не только по беседе, но и по слушанию солдатами моей речи сразу можно было заключить о степени сохраненности или разложения части. Я объяснял и финансовые затруднения, почему Временное правительство не в состоянии, как хотелось бы, удовлетворить все нужды солдата. В заключение моей речи мне иногда приносили фуражки, полные серебряных солдатских Георгиев, среди которых попадались и серебряные рубли для передачи правительству. Таких Георгиевских крестов я привез в Петроград целый мешок. Это был трогательный жест простых, незачумленных еще русских людей. Но не было ли тут и несознательности, недооценки значения такого ордена, как Георгий? Я, лично отнесший в Московский государственный банк в начале войны единственную носильную ценность, которую имел, – золотой портсигар, вряд ли, думается, расстался бы с такой легкостью с Георгиевским крестом.
После речи я беседовал в столовой или в штабе части с офицерами. Нечего говорить, что положение офицера было ужасное. Уже начали повсюду образовываться воинские комитеты, дисциплина заколебалась или уже рухнула, двойственность власти обнаружилась и на фронте. Жадно слушали офицеры на глухих болотистых берегах Стохода или в маленьких еврейско-польских местечках вести из Питера. Здесь все казалось еще более неясным и неопределенным. Разумеется, я им говорил не в духе московской резолюции, где была подчеркнута вся гибельность двоевластия, я старался подбодрить, утешить этих разных людей, несколько лет в ужасных условиях воевавших, большинство раненых по нескольку раз и видевших крушение воинской дисциплины и потерю своего офицерского авторитета. Я старался объяснить им неизбежность временных (!) уродливых явлений при таком государственном потрясении и т. д. Часто я замечал слезы на глазах иногда старых, седых офицеров и генералов. Они трогательно благодарили меня, просили еще посещать и передать Временному правительству, что они исполнят долг свой до конца, как им ни тяжело, но чтоб оно оберегало войско от таких-то и таких-то явлений и поддержало их авторитет. Беседа затягивалась, жаль было их покидать, но, еще раз обнадежив и подбодрив их, я прощался и спешил в другую часть, причем беседа иногда уже происходила в вечерние сумерки или даже в темноте, при свете фонарей, когда дисциплину труднее было поддержать и нарушители порядка и говоруны были смелее.
Когда подбодришь так офицеров или попадешь в не сильно еще тронутую пропагандой часть, чувствуешь, что не все еще пропало, кажется, что полезное дело делаешь. Но после беседы с разваливающейся уже частью, когда к тебе настроены враждебно, недоверчиво, когда натыкаешься на грубые ответы, а иногда и ругань, когда взвесишь всю обстановку, в которой пребывает армия, тогда становилось ясным, что все напрасно. И действительно, командование было уже тогда поставлено в ужасные условия.
Помню, во время моей речи в одном полку приехал тоже из тыла какой-то делегат, вряд ли от Думы, так как там комиссии удавалось не пропускать с поручениями на фронт членов Думы социалистов. Вероятно, это был делегат от Совета рабочих и солдатских депутатов, и несчастные командиры обязаны были допускать и их в свои части. Полк был из средних, хотя солдаты и слушали меня без энтузиазма, без «ура», но не мешали говорить и дали договорить до конца. Беседу вели недоверчиво, но не грубо. После меня начинает говорить приехавший делегат. Слышу: «Вот я, примерно, состоял рабочим на кожевенном заводе Алафузова в Казани. Завод огромнейший, купец богатейший. Целый день-деньской дублю в вони и грязи кожи, получаю за это гроши, а вся прибыль идет Алафузову. И так тысячи рабочих. Мы работаем, и карманы у нас вот какие. (При этом он выворачивает оба пустых кармана.) А Алафузов живет в свою сласть, только похаживает по заводу да на нас покрикивает, а карманы у него во какие! (Он жестом обеих рук показывает, как разбухли его карманы. При каждом таком жесте смех и гоготанье солдат.) Так не правильно ли я говорю, пусть все одинаковую прибыль получают, что Алафузов, что я?» – «Правильно, правильно!» – «Не должон ли я, работник, получать столько же, сколько и хозяин, на которого я работаю в поте и труде? Почему неработающий хозяин получит более? Весь барыш должен быть разделен между хозяином и работниками поровну! Правильно ли я говорю, товарищи?» – «Правильно, верно!» – «Теперь настала свобода и уравнение для всех правов, земель и имущества, все делить поровну…» и так далее в том же духе. В заключение, так как он был, вероятно, тоже послан для укрепления фронта, сказал, что для получения всего этого и закрепления революции не надо «пущать» немцев далее в Россию, а надо поддерживать солдатскую и рабочую власть. Она немцев не пустит. Его речь на демагогических выкриках и обращениях к товарищам все время прерывалась одобрением, смехом, гоготаньем и имела несравненно более успеха, чем моя речь. Последний призыв – не «пущать» немцев, – я думаю, запечатлелся у слушателей слабо, а вот что настало время все делить – это запало глубоко, попало на восприимчивую почву. После такого наглядного опыта и слухов о все усиливающейся пропаганде надежда на благополучный исход войны и вера в целесообразность моей миссии у меня подрывалась.
Свою речь и беседу я видоизменял сообразно обстоятельствам и состоянию частей. В штабе дивизии или корпуса я старался предварительно узнать, где и в чем выразилось разложение, и старался попасть в наихудшие в этом отношении части, чтобы помочь по возможности командованию. Командиры охотно и с благодарностью принимали мое предложение, иногда ухватывались за меня и указывали на слабейшие части вверенного им войска.
Так, например, один старый корпусной командир просил меня переговорить с Елецким полком. Он не знает, что с ним делать. Полк прогнал своего командира, который уже неделю здесь у него проживает и не может вернуться в полк, избравший себе молодого командира из ротных командиров. Он познакомил меня с изгнанным командиром, которого аттестовал как заслуженного боевого офицера и образцового требовательного командира полка. Последний, серьезный, симпатичный полковник, говорит мне, что понимает, что после происшедшего он не может командовать полком, но по настоянию начальства должен явиться в полк и принять командование хоть на несколько дней, чтобы в это время можно было вызвать в корпус самозваного командира и назначить командиром полка подходящего человека. Командир корпуса подтвердил мне это и сказал, что старому командиру он даст или другой полк, или бригаду.
Еду не без волнения в Елецкий полк с горячим желанием помочь разрешению конфликта. Подъезжаю к штабу полка, вызываю командира. Отсутствует. Объясняю адъютанту, что необходимо собрать офицеров, и, когда они подходят, предлагаю собрать полк через два часа, а пока я предупредил по телефону соседнюю часть, что приеду на беседу. Офицеры как-то мнутся, говорят между собой: «Как же без командира? Полк разбросан». Вызываю старшего по чину, полковника, объясняю цель моей поездки – объезд фронта по поручению Государственной думы и Временного правительства, что, кроме беседы, никаких исполнительных прав и поручений не имею и именем правительства и с согласия корпусного командира предписываю ему, за отсутствием командира полка, собрать офицеров и солдат полка. «Слушаюсь». (Полк был отведен в резерв.) Поговорив часа полтора с какой-то командой телеграфистов или телефонистов, сильно распропагандированной, возвращаюсь к ельцам. Собралось человек 350—400, очевидно, далеко не весь полк. Потом подошло еще человек 100. Начинаю беседу обычным христосованием. Рассказываю про посещение других частей, про дисциплину казаков, про себя, что я бывший член Думы, что теперь никакой должности и власти не имею, о необходимости додержаться до Учредительного собрания, не нарушая воинский устав и дисциплины, что равносильно предательству, и т. п. Прямо о конфликте с командиром не говорил, и они не касались этой темы, задавая обычные вопросы. Впечатление – среднее, неопределенное. Солдаты как будто остались довольны речью и беседой, под конец держались непринужденно. Перед беседой я поручил офицеру, сопровождавшему меня из корпуса, узнать, где находится выбранный командир полка. Он доложил, что он тут же в домике на опушке леса. Прощаясь с полком, я спросил: «Могу ли я рассказать в Москве и доложить правительству в Питер, что вы не будете слушать вздорных людей, не нарушите свой долг и воинскую дисциплину, что ельцы не сдадут фронт немцам и стойко постоите за Россию и свою свободу?» – «Вестимо постоим, к чему сдаваться», и даже несколько «благодарим покорно». Потом обращаюсь к старшему полковнику: «Потрудитесь провести меня к капитану…» Называю фамилию вновь избранного командира. Заминка. «Не знаю, где он в настоящее время находится». – «А вот в этом доме, – указываю ему, – проведите меня и скажите, что я хочу с ним поговорить». Идем. Входим. Пропускаю полковника. Потом тот выходит, вхожу в комнату я. Трое офицеров пьют чай. «Я хотел бы переговорить с капитаном… наедине». Двое не торопясь, нехотя уходят. Остающийся, совсем молодой человек, стоит, избегает все время смотреть мне в глаза, тупо молчит или неохотно, кратко отвечает. Прошу чаю, с утра ничего не ел. Прямо приступаю к делу, объясняю, что я штатский, без всякой власти над ним, являюсь добровольцем-посредником и обращаюсь к нему как русский человек к русскому и советую ему явиться к командиру корпуса, обещаю исходатайствовать перевод его в другую часть (по чрезвычайности обстоятельств, а не предание суду), а то полк может быть расформирован, он строго ответит, и сотни людей из-за него пострадают. «Ведь я же выбран солдатами, не сам себя поставил», – повторяет он тупо. «Не мне, штатскому, объяснять вам, что вы в корне подрываете дисциплину». – «Если кто и может поддержать в полку дисциплину, так только я, они мне доверяют». – «Но ведь даже приказ № 1 не дает права отстранять и выбирать командиров. Нарушение такое грубое дисциплины немыслимо в армии; это перекинется на другие части, да и в вашем же полку это послужит началом разложения и вас скоро заменит какой-нибудь демагог писарь или простой солдат». – «Но старого командира полк не пожелает вновь принять». – «Может быть, и сам он не пожелает после всего остаться в полку. Дело не в старом командире, я не знаю и не уполномочен вмешиваться, кто будет назначен, дело в вас, чтобы вы явились с повинной и чтобы старый ли, новый ли командир был назначен законной властью, а не беззаконно и самочинно». Молчит. «Такое отношение к службе равносильно, – говорю я, – измене и переходу на сторону противника». – «Но вы уже чересчур…» – «Не чересчур, а такая явная измена менее была бы губительна для русского фронта, чем ваши действия» и т. п. Упорно молчит или тупо твердит свое: «Не я захотел, меня выбрали». – «Почему вы не явились, когда я предложил всем чинам полка явиться на беседу?» – «Я не обязан». – «Так, значит, вы не признаете Временное правительство и Государственную думу?» – «Признаю». – «Ведь их именем и с разрешения командира корпуса я действовал». – «Я не знал» и т. д. Посоветовав ему еще раз явиться в штаб корпуса поскорее, что в его же интересах, пока я оттуда не уеду, я вышел. Около автомобиля толпились офицеры и солдаты. Я прощаюсь с солдатами. «Здравия желаем, ваше превосходительство!» Подаю руку старшему полковнику: «За отсутствием командира полка полковника… обращаюсь к вам как к старшему офицеру полка с пожеланием, чтобы вам и всем офицерам удалось поддержать славу, дисциплину и служение родине Елецкого полка». Он низко кланяется и благодарит. С офицерами отдельно я нарочно не беседовал. По отрывочным фразам отдельных офицеров, когда я только что приехал, я убедился, что между ними разлад и что они кем-то запуганы, вероятно солдатами, как мне казалось по некоторым взглядам и оглядываниям, когда говорили со мной.
Когда мы отъехали, шофер-солдат сказал, что он опасался за мою жизнь, так как солдаты вообразили, что я приехал арестовать их командира, и некоторые имели при себе ручные бомбы во время беседы на этот случай.
На другой день я беседовал с другим полком того же корпуса и уехал от командира корпуса лишь после обеда, так и не узнав, чем все это кончилось. Из Елецкого полка никто не приезжал. Потом уже я где-то слышал, но не поручусь за достоверность, что все-таки выбранного командира как-то удалось устранить, чуть ли не арестовав его.
Нарочно так подробно остановился на этом эпизоде, как характерном, чтобы выявить всю трудность, подчас трагизм положения командования всего через полтора месяца после Февральского переворота.
Посетил я и Гвардейский кавалерийский корпус. Командовал тогда им молодой, бравый генерал Арсеньев. К моему удивлению, я узнал, что это сын К. К. Арсеньева, одного из редакторов «Вестника Европы», с которым приходилось встречаться на общественном поприще. Разложение коснулось уже и гвардии. Из осмотренных мной частей наиболее стойкими оказались казаки, потом кавалерия, потом пехота. Первым из гвардейских полков я посетил Конногвардейский. Я подъезжал к местоположению полка с ехавшим из тыла генералом Гартманом, который уже, неугодный полку, должен был сдать командование им, для чего и приехал. На станции никто из полка его не встретил. Не знаю истории его устранения и не помню, кто его тогда заменил. Беседа моя с чинами полка не представляла ничего особенного, и аудитория была немногочисленна вследствие растяжения линии расположения. Вся кавалерия несла пешую окопную службу, лошади были в обозе. Потом посетил остальные полки. Из петроградских знакомых офицеров встретил немногих, все более была незнакомая уже мне молодежь, а старшие получили или командное назначение в других частях, или были перебиты. Лейб-гвардии Гусарский и Уланский полки были растянуты длинной линией на передовых позициях по реке Стоход, а потому в окопах и в перелесках приходилось беседовать с небольшими группами офицеров и солдат. Никаких эксцессов и резкостей в этих частях не замечалось, но полковые и другие комитеты уже начали формироваться, и потом, по слухам, разложение быстро пошло и в гвардейских частях.
Война была в этом месте чисто позиционная, перестрелка вялая. Раз только, когда я беседовал под вечер в котловинке с группой улан, нас, вероятно, заметили, несколько снарядов перелетело, а когда они стали ложиться ближе, эскадронный командир просил прекратить беседу, пока не стемнеет.
Много времени отнимали переезды, приходилось ездить и в товарных вагонах и по временной дековильке[2]. Поезда были переполнены. К месторасположению частей ездил обыкновенно на автомобиле, иногда в экипаже, раз верхом. Перед Луцком, где я прожил три дня, выезжая оттуда на фронт, я получил в свое распоряжение маленький ветхий служебный вагон первого класса с двумя-тремя купе, в котором я и жил в Луцке. При переездах этот вагон прицеплялся к пассажирским и товарным поездам. В Луцке, в развалинах старого крепостного замка, мне пришлось выступить на вновь образованном комитете одной из армий, где я встретил московских знакомых.
Полковые и другие комитеты уже повсюду сформировались. Не буду говорить о них подробно: их печальная роль слишком общеизвестна. Иногда председатели и члены комитетов искренне старались помочь командирам частей сохранить фронт. Но по большей части они увлекались властью и своей ролью и, создавая двойственность власти, только портили дело. Но очень часто в комитеты выбирались самые плохие офицеры, демагоги, ухаживавшие за солдатами, чем-нибудь недовольные и озлобленные против своего начальства, которые свое новое положение и власть ставили превыше всего и с самого начала стремились подорвать авторитет командования. Мне приходилось не раз сталкиваться с отвратительными типами честолюбцев, демагогов и авантюристов-офицеров, которых выплеснуло на гребень революционной волны. Наверное, большинство их служат большевикам и преуспевают у них. Армейский комитет в Луцке был сравнительно приличен и интеллигентен.
Таким образом, на фронте я мог наблюдать ту же двойственность, а потому и ослабление власти, что и в Петрограде, и выводы из моего доклада о поездке были печальные.
Впрочем, с начала войны я мало ожидал от нее хорошего, хотя, конечно, такого печального конца с брест-литовским апофеозом, как революция, докатившаяся до большевизма во время военных действий, никак нельзя было ожидать. Уже в начале 1915 года, когда я со своим передовым отрядом Союза городов был в Галиции, на сотни германо-австрийских снарядов мы выпускали десятки, а потом единицы. Снарядов не было. Мы всю зиму проработали в Тарнове на Дунайце под ударами шестнадцатидюймовой «Берты», которая образовывала воронки в десять аршин диаметром, дробила окна, засыпала нас землей и камнями. Несколько раз попадал я под ураганный обстрел (раз со священником Востоковым на Дунайце, раз в Карпатах в Горлице, куда можно было из-за обстрела проникнуть только ночью и где через несколько дней произошел известный горлицкий прорыв, положивший начало всему галицийскому отступлению). И нельзя было в таких случаях показаться не только автомобилю, но и пешим, чтоб не быть забросанными снарядами. А у нас, когда Радко-Дмитриев, командующий 3-й армией, объезжал фронт, то все время только и говорил: «Берегите снаряды!» Невольно сопоставлялось с этим треповское «Патронов не жалеть!» на Дворцовой площади. Радко-Дмитриев, беззаветно храбрый боевой генерал, был принужден это делать, так как снарядов у его армии не было. И так во всем. Не буду здесь перечислять недочеты. Даже малостоящих и простых по производству осветительных ракет у нас в начале войны совсем не было, а австрогерманцы целыми ночами освещали ракетами подступы к своим позициям. И ведь это был их второстепенный фронт! И тогда же я пришел к выводу, что при современной военной технике мы, как более отсталые, не можем победить. Как и Турция, тогда еще огромная страна, не могла в семидесятых годах победить Россию, несмотря на храбрость и выносливость своих солдат и несмотря на многие у нас недочеты. Более культурная Россия не могла в конце концов не сломить отсталой Турции. В современной войне побеждает культурность вообще, в частности развитие промышленности. Виноват не один Сухомлинов, причины более глубокие, их искать надо в русском быте, в русской истории. И по свержении большевиков, чтоб Россия могла занять подобающее ей место, надо будет длительно поднимать до общеевропейского уровня ее промышленность, ее культуру, ее грамотность. Иначе России грозит участь Турции в Европе, то есть она будет оттиснута в Азию.
Последним я посетил по дороге в Киев отведенный в резерв Кавалергардский полк. Половина его стояла в Знаменке. Командир полка Шипов, племянник Д.Н. Шипова, просил меня посетить и другую половину полка на станции Шепетовка, куда мы с ним проехали в моем вагончике.
Всего за восемнадцать дней пребывания на фронте я произнес речи и вел беседу в тридцати трех частях, не считая бесед с маленькими группами телеграфистов, циклистов, железнодорожников и т. п. Так как приходилось говорить иногда перед многотысячной аудиторией, на ветру, при свежей погоде, то в Москву я приехал без голоса.
В Киеве, всем в цвету, прекрасном в весеннюю пору, я пробыл с утра до вечера. Уличная жизнь большого тылового центра била ключом. Масса военных. Проводник моего вагона на мой вопрос, докуда он может меня довезти, сказал, что ему ничего на этот счет не известно. Очевидно, я мог бы в нем проехать до Владивостока. Так как все поезда с фронта были переполнены, то решил его задержать еще на сутки и доехать до Москвы. Ввиду того, что вагон был крохотный, его охотно прицепили к скорому поезду. По дороге в Москву пришлось быть все время в осадном положении. Солдаты взобрались на крышу, сидели на ступеньках, ломились с руганью внутрь. Напрасно проводник увещевал, говоря, что вагон служебный. Ни разу не пришлось выйти из вагона. К счастью, со мной была провизия. За кипятком, хлебом и прочим проводник ухитрялся как-то вылезать через окно служебного отделения. В Брянске солдаты ворвались в коридор, но их удалось удалить, и они заняли уборную и тормозные коридорчики. Двери в коридор пришлось забаррикадировать досками так, чтобы ручки не отворялись. Всю ночь стучали в двери, в окна, на крыше, ругались, что не впускают. На станциях мы все шторы спускали. Стекла в выходных дверях оказались разбитыми. В Москве я не торопился выйти, пока не разошлись мои внешние неприятели, покидавшие фронт, но храбро взявшие приступом мой вагон. Этим тревожным путешествием окончилась моя поездка на фронт, с речами и уговариванием беречь фронт! Чем я не маленький Керенский? На вокзале меня узнал приехавший тем же поездом солдат, часть которого я посетил. Он меня благодарил, говоря, что очень уж я хорошо, благородно все им объяснил, что очень мною солдаты остались довольны. «Куда же едете? – «Домой, на Волынь». – «В отпуск или совсем?» – «Какой отпуск, еду домой. Все едут, чего же мне оставаться. Сказывают – мириться теперь будут».
Очевидно, те, которые говорили менее «благородно», добились более реального успеха, чем я.
Доклад и мешок с Георгиевскими крестами я представил в комиссию Государственной думы. Доклад был очень подробный, с цифрами, с копиями документов из штабов частей, с просьбами, с мнениями командиров. Если и другие делегаты представили подобные же доклады, то картина всего фронта в данный момент получилась бы очень яркая. Копию доклада я отвез в Военное министерство Гучкову, но не думаю, чтобы кто-нибудь прочитал даже целиком мой доклад, кончавшийся определенными тезисами. Общий же вывод был аналогичен московской резолюции: необходимость восстановления авторитета и власти офицера и устранение двоевластия.
Глава 3 Преддверие большевизма и Октябрьский переворот. 1917 год (Москва и Московская губерния)
Летом 1917 года большею частью я жил в Москве, наезжал в деревню в Рузском уезде, ездил раза три в Петроград на различные совещания, а также на заседания Центрального комитета и на съезд К.-д. партии. В Петрограде митинги уже происходили на улице. Излюбленное место для типичных солдатских митингов было Конногвардейский бульвар. Никакой должности я не занимал и не стремился к этому, а когда партия наметила меня в Предпарламент, то отказался, так как не предавал ему никакого значения, выставив свою кандидатуру в Учредительное собрание, которое должно было вывести Россию из состояния почти анархического. Министры менялись, власть их постепенно умалялась, власть Совета рабочих и солдатских депутатов все росла, фронт окончательно разваливался, большевизм креп, становился на ноги, расправлял свои корявые члены.
В Московском кадетском клубе в Брюсовском переулке целый день кипела работа. Предвыборная кампания в Учредительное собрание сосредоточивалась здесь на всю Россию. Происходили ежедневно большие и малые заседания. Изготовлялись и рассылались плакаты и листовки, посылались лекторы и проч. Работало много молодежи. Энергично, как и всегда, работал Н.М. Кишкин, неутомимый организатор. Он уже в это время был комиссаром Москвы и успевал из Чернышевского переулка заезжать в наш клуб. Человек исключительной энергии и работоспособности, в государственном масштабе он оказался слаб. Общая трагедия русской интеллигенции! Государственного инстинкта в нем не было, и его соглашательские тенденции даже в то время смущали москвичей и осуждались.
Остановлюсь подробнее на этом примере, как характерном, тем более что Кишкин очень хороший человек и мой старый политический приятель и соратник. Когда он был назначен комиссаром, то Московский Совет рабочих и солдатских депутатов уже завладел генерал-губернаторским домом на Тверской и Кишкину пришлось расположиться во флигеле, в канцелярии в Чернышевском переулке. Но этого мало. Совет рабочих и солдатских депутатов захватывает себе и соседнюю гостиницу «Дрезден». Владелец ее Андреев жалуется Кишкину. Без последствия. Андреев доходит до Временного правительства, и даже оно удовлетворяет его просьбу. Кишкин и не думает даже привести в исполнение решение высшей власти! Совет не выселяют, и Андреева за захват никто не вознаграждает. Еще пример. Служащие «Мюр и Мерилиз» предъявляют владельцам неисполнимые и не выдерживающие коммерческого расчета требования. Кишкин предписывает удовлетворить эти требования, и за неисполнением его магазин закрывается, и все служащие оказываются безработными. Дворники предъявляют свои требования. Кишкин назначает обязательное минимальное жалованье дворникам в 100 рублей в месяц. А ведь в Москве еще вне Садовой много деревянных домишек уездного типа, владельцы которых, мещане и ремесленники, не в состоянии этого платить, и – массовое увольнение дворников, причем они не соглашаются съехать. И так все. Соглашательство, расстройство экономической жизни и – прогрессирующий паралич власти. Сам Кишкин работает вовсю, заставляет работать других. Эта работа удовлетворяет его энергичную натуру, ему кажется, что благодаря этой работе весь механизм начинает работать… Но энергия его не может восполнить отсутствия административного навыка и инстинкта государственности. Он до конца верит в Керенского. Я опасался, что Кишкин попадет в министры внутренних дел.
Впрочем, он был бы во всяком случае не худшим министром внутренних дел, чем Авксентьев. Двоевластие, а потому и безвластие, и чрезмерное соглашательство по всему фронту – в правительстве, в армии, внутри страны. Ансамбль не нарушался. О роли и деятельности городской думы говорить не буду, так как я не городской деятель и не непосредственный наблюдатель. О ней много писалось и еще будет написано.
Центральный комитет К.-д. партии постоянно собирался и, между прочим, обсуждал кандидатуру министров из партии, когда те сменялись. Интересный исторический материал представляли бы протоколы заседаний, если они сохранились, как потом и на юге России. В них запечатлелись тогдашние события в переживаниях политического центра. Ушел Львов, ушел Милюков, или, скорее, как теперь почему-то безграмотно говорится, – их «ушли». Они были слишком правыми.
Тогда началось первое серьезное расхождение Милюкова с партией. Когда он вышел из правительства, ему и некоторым другим казалось, что партия более не должна участвовать в правительстве. Большинство же находило, что раз мы приняли в критический момент участие во временной верховной власти, то и взяли на себя часть ответственности довести страну до Учредительного собрания, и что мы не должны дезертировать в трудный момент, хотя бы в чисто партийном отношении это было бы и выгодно. И мы вновь посылали министров, но уже без энтузиазма, как бы на заклание. Некоторые нехотя принимали пост после долгих колебаний, подчиняясь партийной дисциплине, но были и решительные отказы.
Помню, после одного такого заседания мы приехали с Шингаревым, министром финансов, в редакцию «Русских ведомостей». Там состоялось совещание с сотрудниками газеты (каковыми были и мы с Шингаревым) по поводу проектируемых Шингаревым для пополнения казны казенных монополий. Он энергично защищал их. Редакция высказывалась столь же энергично против, и потом все время газета вела кампанию против монополий.
Теперь, весной 1926 года, аналогичный вопрос поднят во Франции министром финансов Родлемом Пере и дебатируется в палатах. Кстати: призыв Эрио и других членов левого картеля идти на выборах с коммунистами против национального блока, почему коммунисты и побеждают иногда на выборах, напоминает выборный блок с.-р.[3] и меньшевиков с большевиками при выборах в Учредительное собрание.
Ненадолго уезжал я в деревню. И тут в г. Рузе я участвовал на двух митингах на Городке, на высоком холму, обнесенном старинным валом, над рекой с чудным видом. Здесь я, во время моего предводительства, устроил от попечительства трезвости музей, читальню, гимнастический зал и прочее и превратил площадку городка в парк, вал – в бульвар. Эти собрания в нашем тихом, нефабричном уезде уже происходили очень бурно, главным образом благодаря солдатам, пришедшим из Клементьевского артиллерийского лагеря, и нескольким московским рабочим. Первое собрание они даже сорвали в начале моей речи галдежом и выкриками и не дали мне говорить, что очень смутило и возмутило горожан, привыкших видеть во мне в течение пяти трехлетий предводителя. Но через две недели я вновь устроил собрание и провел его до конца.
Уже при большевиках в 1918 году в Москве на улице остановил меня один человек и сказал, что он с.-р. и срывал мой митинг в прошлом году в Рузе, а вот теперь оба мы пострадали. И я и он попали в тюрьму. «Кто бы мог ожидать?» Я ему возразил, что я как раз тогда на митингах предупреждал и остерегал социалистов от поддержки большевиков. В моих же оппонентах в Рузе по приемам и речам нельзя было отличить социалистов от коммунистов. В Москве собрания, иногда бурные, происходили все-таки в лучших условиях. И в Москве мне пришлось на одном собрании пережить несколько неприятных минут из-за Милюкова. Я поехал на большой мусульманский, преимущественно татарский съезд в Замоскворечье для приветствования съезда от К.-д. партии. Говорю краткое приветствие и о взглядах партии на права национального самоопределения народностей. Жиденькие аплодисменты. Когда иду через залу обратно, то поднимается шум, вижу под ермолками возбужденные, даже свирепые лица и угрожающие жесты.
Провожающие меня смущенные члены президиума, среди которых был и член Государственной думы к.-д., объясняют, что это манифестируют фанатики-панисламисты криками «Проливы! Милюков!», протестуя против известного заявления Милюкова о Константинополе и проливах. Они вступились за единоверную Турцию.
В Москве начиналась дороговизна, но городская жизнь шла своим чередом. Вечером часто бывал в Английском клубе, сжатом лазаретом с начала войны в двух комнатах. Игра в карты и на бильярде продолжалась.
В деревне в конце лета начался бандитизм. В нашем мирном уезде по соседству с нами в селе Дуброве убили и ограбили священника и его жену. Он был добросовестным законоучителем в земской школе, в которую я часто заезжал. На похороны съехались священники с половины уезда, большинство которых я тоже хорошо знал как законоучителей. Настроение на поминках было мрачное, тревожное.
Помню, что я приехал в шарабане с кучером Сергеем, пятидесятилетний юбилей службы которого у нас на конюшне предстояло в этом году отпраздновать. Жив ли он? Он был замечательный троечник. Но всех моих лучших лошадей постепенно позабирали на войну, а у меня были доморощенные чистопородные лошади, полукровные пристяжки, призовые одиночки и тройки. Последний конский набор был особенно опустошителен, и члены комиссии – крестьяне особенно настаивали на заборе у меня кровных лошадей, не всегда для тяжелой работы, особенно без подготовки, пригодных. И на этот раз я ехал в шарабане на одиночке, или на старой заводской матке, или на невтянувшейся еще трехлетке.
На исходе лета я урвался на десять дней в Кисловодск, прелестный, освежительный со своим парком, нарзаном и Подкумком. Народу была масса из-за отсутствия во время войны заграничных курортов. Курзал переполнен.
В Москву приехал прямо на Государственное совещание, бывшее в середине августа в Большом театре. Керенский был тогда на зените своей популярности. Я слышал, как в трамвае две барышни с восторгом говорили: «Я встретила Керенского, едет в автомобиле…» – «А я вчера встретила его два раза!» О совещании скажу кратко, оно у всех на памяти, и много свидетелей живы, которые писали и будут писать о нем.
Двойственность, царившая в России повсюду и все усиливающаяся, наглядно была представлена двумя секторами партера. Один стоял за оберегание государственности, другой, социалистическо-большевистский, все делал для ее крушения. Бурные сцены с депутатом-казаком Карауловым и с раненым офицером. На сцене появляются бурно приветствуемые нашим сектором и большинством публики в ярусах генералы Алексеев, Корнилов. Первый говорит мягко, примирительно, последний – категорично, по-военному отчеканивая фразы. Левый (сидящий справа) сектор свистит, неистовствует. Милюков обвиняет правительство в слабости и к концу речи обрушивается на министров Чернова и… Авксентьева, с которым потом в Париже он все блокировал. Как всегда, своеобразную и язвительную речь произнес Шульгин. За мной ерзает на своем месте Пуришкевич, недовольный тем, что ему не дали слова, и подающий реплику с места. Кооператор Беркенгейм от имени нескольких миллионов кооператоров торжественно присоединяется к декларации гражданина Чхеидзе. За Керенским смешно и театрально все время стоят два адъютанта в морской форме. Он председательствует резко, нервно. Правый и левый сектора – два враждебных лагеря, слышны подчас насмешки, перебранка, иногда сопровождаемая жестами, сжатыми кулаками. Ненависть между обоими секторами, конечно, сильнее, чем у воюющих в то время между собой русских и немцев. На наш сектор особенно гадливое впечатление производит самодовольный, ухмыляющийся селянский министр Чернов, окруженный во время перерыва депутатами-крестьянами. Какая-то чуйка фамильярно хлопает его по плечу. Особенная ненависть на левом секторе к офицерству. Я сам слышал, когда проходил офицер из Союза георгиевских кавалеров без руки, солдатский депутат, кто-то крикнул оттуда: «Оторвать бы ему и другую руку!» Вообще, Государственное совещание, которое должно было найти общий язык, объединить страну, подпереть колеблющуюся власть, оказалось антигосударственным митингом, показавшим взаимное озлобление и непримиримость, подчеркнувшим бессилие барахтающегося между двумя течениями, тонущего правительства. В виде демонстрации истории революции, как характеризовал это Керенский, – речи Крапоткина, Плеханова, Брешко-Брешковской. Символическое рукопожатие представителей двух секторов – Бубликова и Церетели, оказавшееся лжепророчеством.
Керенский начал свою заключительную речь твердо, со своими обычными паузами и обрываниями, срывая иногда аплодисменты и на нашем секторе. Но сидевшие за мной некоторые члены 4-й Думы, из которых я мало кого знал, злобно шипели: «Фигляр! Шарлатан!» Потом Керенский как-то вдруг сдал, и это в момент, когда он, очевидно, хотел себя проявить диктатором. Он заговорил что-то о железе и крови, к которым прибегнет, если хотят этого. Какой-то женский голос сверху крикнул: «Не надо, Александр Феодорович!» Керенский в изнеможении опускается на кресло и умолкает. Театральный жест не удался. Общее смущение. Министры и публика начинают подниматься, чтобы уходить. Родзянко из первого ряда говорит все сидящему на сцене за столом Керенскому: «Александр Федорович, вы забыли закрыть совещание». Керенский объявляет Государственное совещание закрытым. Был ли это припадок, которыми, кажется, страдал Керенский, или результат переутомления? Но финал не скрасил заседания, и все вместе не могло успокоить страну.
Наш сектор имел много пофракционных и объединенных совещаний и докладов в аудиториях университета, между прочим, с генералами. Левые тоже где-то собирались.
При приезде Корнилова с фронта толпа, кажется большею частью офицеры, его восторженно встретила и вынесла с Александровского вокзала на руках.
Так как партия меня выставила кандидатом в Учредительное собрание по Московской губернии, то с сентября я начал объезд уездных городов и до переворота успел побывать на собраниях в большинстве уездов. В помощь себе я обыкновенно брал одного из выдававшихся ораторов среди нашей студенческой фракции.
В Москве шла отчаянная борьба. Постоянные собрания. Но, насколько помню, уличных митингов еще не было. Был последний месяц перед большевистским переворотом. Большевики при помощи социалистов все более наседали. На Страстной и Арбатской площадях через улицу были протянуты полотнища с призывом голосовать за объединенный список с.-р., с.-д.[4] меньшевиков и с.-д. большевиков. Это объединение и помощь социалистов в проведении большевизма не должны быть забыты.
В Подольске на предвыборном собрании я встретил сплоченную оппозицию в лице рабочих фабрики «Зингер» и цементного завода. В одном из фабричных центров – г. Богородске, где морозовская и много других фабрик, – на собрании у рабочих имел большой успех приехавший из Москвы анархист. После наших речей он взял слово для возражения, стал меня высмеивать и паясничать, смеша аудиторию. Меня поддерживали всюду торговцы, обыватели и местные к.-д. – интеллигенты. Собрания устраивали местные уездные комитеты нашей партии. Как эти два собрания, так и остальные прошли все-таки в общем удачно и по отзывам местных к.-д. производили хорошее впечатление. Мне с молодыми моими коллегами не трудно было возражать, а иногда припирать к стене местных социалистов.
Когда я вечером ехал в Москве на вокзал для поездки в середине октября в Верею и Можайск, то уже слышались отдельные ружейные выстрелы. По слухам, в Петрограде Временное правительство пало. На следующее утро приходит ко мне в Верее (верст 30 от железной дороги) пожилой комиссар города и просит отменить собрание во избежание беспорядков. По его сведениям, в Москве идет бой. А афиши уже были расклеены по городу. Я настаиваю на неотмене собрания в маленькой Верее, ссылаясь на свой опыт и на то, что и в фабричных городах собрания прошли благополучно. Он уверял, что с наро-фоминской фабрики в Верею направляется толпа рабочих, чтобы сорвать собрание, и беспорядок может перекинуться на улицу. Как я ни возражал, пришлось подчиниться распоряжению растерявшегося начальства, и я уехал в Можайск. Я уверен, что собрание прошло бы благополучно.
Так как я приехал ночью, то до утра дремал, сидя в буфете вокзала. Из Москвы действительно шли тревожные вести.
В Можайске собрание прошло очень гладко, несмотря на присутствие железнодорожных рабочих и служащих.
В Москву я приехал поздно вечером. Александровский вокзал оказался уже во власти большевиков, которые никого не пропускали ночью в город. Пришлось опять переночевать, сидя в буфете переполненного вокзала. Ночью я выходил несколько раз на площадь. Вокзал был оцеплен редкой цепью большевиков, как мне казалось, из фабричных рабочих. Слышались редкие выстрелы. Виднелось зарево около храма Спасителя, где я живу. Разговаривал с большевиками и с вокзальной публикой. Оказывается, были уже кровопролитные бои, пожары. Кремль и центр города еще не взяты.
На следующее утро, часов в 9, когда обыкновенно уже бывает движение, иду с вокзала, хотя меня уверяют, что пройти в город не удастся. Слышна сильная ружейная стрельба и редкая орудийная. Стараюсь идти переулками, избегаю площадей. Все магазины заперты. На улицах почти никого. У встречных солдат и вооруженных штатских красные банты или повязки. К Никитской площади не мог подойти: там сильная ружейная и пулеметная трескотня. На Кудринской площади тоже. Из приотворенных ворот и дверей боязливо выглядывают любопытные. Переулками пересекаю Никитскую, Поварскую, Арбат. Через большие улицы стараюсь пройти скорее, когда никого не заметно. Хотя выстрелы близко, но не было заметно, где проходит боевая линия. Около Поварской заметил молодых людей уже с белой повязкой. Объясняют мне, что организовалась не то оборона, не то охрана. Оказывается, что я уже в стане белых. Не советуют идти на Арбатскую площадь, где Александровское военное училище и штаб полковника Рябцова, так как она сильно обстреливается из орудий. А мой дом рядом с Александровским училищем. Пошел на Сивцев Вражек, пересек Пречистенский бульвар и попал наконец к себе в дом с наглухо закрытыми воротами.
Оказывается, все сидят по домам, на улицу не выходят. Наши запаслись кое-какой провизией. Когда канонада стихает, бегают за подкреплением в дома, где есть лавки, хотя с улицы они заперты. Не помню, действовало ли электричество.
Так как наш дом рядом с Александровским училищем, контрреволюционным штабом, то в него и в обширную при нем усадьбу попадало много снарядов, несколько десятков. Бьют, как говорят, с Воробьевых гор. Но повреждения не велики: пробита крыша в нескольких местах, снесена труба, повреждены каменные ворота. Раз, когда мы сидели у себя внизу, послышался наверху сильный разрыв снаряда, напомнивший мне «Берту» в Тарнове. Оказывается, снаряд влетел в трубу и разорвался в ней. Вся комната во втором этаже, в которой никого не было, была в копоти и усыпана щебнем. Несколько раз, когда я выходил, картеченки, утерявшие живую силу (вероятно, от рикошета), обсыпали меня и катились по асфальту двора.
Контрреволюционный район все сужался. Главными цитаделями его были Кремль, который тоже обстреливался, и Александровское училище. Несколько раз в эти дни ходил днем по совершенно пустынным улицам к знакомым на Моховую и на Арбат. Целые дни и часть ночи проводил в Александровском училище, где царило большое оживление. Приходили части, посылались, формировались. Было в этих частях много офицеров и молодежи, юнкера, кадеты, добровольцы. Наверно не помню, кажется, были и регулярные части. Полковника Рябцова, который был или оказался комендантом Москвы, обвиняли в нерешительности и нераспорядительности. Его защищал и поддерживал оказавшийся в Москве член Временного правительства Прокопович. Бедному С.Н. Прокоповичу, который тоже постоянно бывал в Александровском училище, приходилось принимать участие в решениях стратегических вопросов. Мне тоже тогда казалось, что Рябцов был не на высоте положения, но, может быть, он был и прав, не предпринимая решительных действий. Мне было не ясно соотношение сил. Когда в конце концов Рябцов сдал Москву большевикам, то он, поддерживаемый Прокоповичем и другими, считал, что не следует зря вести на убой молодые жизни. На стороне большевиков был почти весь гарнизон. Большинство же полагало, что следует биться до конца и под конец сделать попытку пробиться навстречу казакам, прибытия которых ждали с Дона. Недовольство против Рябцова все росло. Иногда казалось, что его низложат и выберут другого командующего. До чего была тяжелая атмосфера, показывает следующий случай. Бывал в Александровском училище и один служащий в правительстве, кажется, товарищ министра. Он при всех говорил, что Рябцов не годится, что он действует лишь в интересах большевиков и т. п. Тогда, наконец, Прокопович сказал ему, что он, как служащий в правительстве, не имеет права так действовать и что если он будет продолжать это, то он, Прокопович, дезавуирует его. Но и дезавуация бедного Прокоповича тогда уже не была страшна. Кроме того, на психику офицеров, несомненно, удручающе действовала мысль: умирать за кого, за Керенского? А его они презирали и ненавидели. В огромных залах-дортуарах верхнего этажа, кое-где поврежденных снарядами, происходили беседы и совещания у отдыхавших частей. Произносились зажигательные, воодушевляющие речи, также и скептические, указывающие на малочисленность обороняющихся сравнительно с большевиками. Опасались, и это было вполне возможно, что были в училище и подосланные большевиками. На военных совещаниях у Рябцова в нижнем этаже я не был, но участвовал с ним и с другими в беседах и каких-то совещаниях. Поезда, оказывается, ходили. Молодой Арсеньев (сын С. Арсеньева) взялся и поехал на Дон «торопить казаков» идти на выручку Москвы (!). Тогда все, помню, и в Рузе были уверены в скорой помощи казаков, как потом чехословаков из Сибири. Мне удалось отправить с бумагой Рябцова в Тверь в Кавалерийское училище молодого А. Гутхейля, с просьбой прислать юнкеров. Но все это оказалось поздно.
Между тем защитники Москвы проявляли геройские подвиги. Орудий у нас не было и очень мало пулеметов. Больной вопрос – недостаток патронов. Иногда они были совсем на исходе. Тогда было предпринято несколько отчаянных вылазок: вооруженные люди ехали на нескольких грузовиках, прорывались в стан неприятеля, подъезжали неожиданно к их казармам или складам, захватывали патроны и привозили в Александровское училище. Раз проезжая мимо генерал-губернаторского дома, такой бронированный автомобиль обстрелял его с заседавшим там Советом рабочих и солдатских депутатов из пулеметов. Поздно ночью, когда канонада прекращалась, возвращался я из Александровского училища домой.
Ужасная, но порой странная вещь гражданская война в большом городе. В доме у нас толпилась наша молодежь. Но подчас она развлекалась, играла, пела. Я поощрял это и заставлял племянницу петь цыганские романсы. Помню еще такой случай. Из окон Александровского училища мы наблюдали, как через постоянно обстреливаемую Арбатскую площадь пробегала из церкви обвенчавшаяся парочка, она в белом, и за ними несколько человек. Жизнь пробивалась и под обстрелом. Очевидно, не хотели упустить время перед Рождественским постом. Конечно, огромная часть жителей, как и всегда, проявляла обывательскую трусость, преувеличивая опасность и ужасно пострадав впоследствии от этой трусости.
Петроград уже пал. В одну непрекрасную ночь защитники должны были покинуть Кремль, а к утру Рябцов сдал большевикам Александровское училище, под условием свободного выхода из него всех. Правильно ли он поступил? В военное время его судили бы, как Стесселя.
Просыпаюсь поздно, нет обычной канонады. Мир. Можно свободно ходить по улицам. Открываются магазины. На следующий день свежий хлеб. Вместе с испытываемою горечью я понимаю обывательское настроение и… удовлетворение после осадного положения. Ведь каково было сидеть несколько дней со скудным уменьшающимся запасом продовольствия, не выходя на улицу и дрожа за свою драгоценную жизнь. Да, признаюсь, и я с удовольствием шел по ожившим вдруг улицам, вчера еще мертвым, где приходилось жаться к стенам и спешно перебегать улицу. Обывательская поговорка «Худой мир лучше доброй ссоры» познается, когда обыватель испытывает войну, да еще не хорошую, на своей шкуре, на своем желудке, и она происходит не где-то там далеко, на фронте, а тут же рядом.
Особенно пострадала Никитская площадь. Два огромных дома на ней совсем разрушены: князя Гагарина – снарядами. Коробковой – от пожара. Сильно были обстреляны Воскресенская площадь, гостиница «Метрополь». В Кремле – в Чудовом монастыре, на соборах и во многих местах кремлевских стен – повреждения. На большинстве улиц попадаются разбитые стекла, обвалившаяся штукатурка, следы пуль. Не знаю, много ли было человеческих жертв, но думаю, что не много. Над Кремлевским дворцом развевается огромный красный флаг. Грустно, отвратительно! Хотя с чисто пейзажной точки зрения это красное пятно, пожалуй, и красиво.
На следующий же день Александровское училище занял штаб красноармейцев и он был окружен патрулями. Под вечер я возвращался домой. Патруль не пропускает. Я объясняю, что живу рядом с училищем в переулке, и меня пропустили. Другой патруль, уже на углу моего сада, останавливает, арестовывает и ведет в Александровское училище. В тех же комнатах, где я провел только что несколько дней и которые были заполнены белыми, теперь снуют красные. Приводят в какую-то комнату, спрашивают, кто я и документ. Я отвечаю: «Князь Павел Дмитриевич Долгоруков», подаю свидетельство домового комитета и объясняю, что живу рядом. Через некоторое время они говорят, что дадут мне пропуск, но что теперь князей нет, и я получаю пропуск – гражданину Долгорукову.
В Москве стало спокойно, довольно свободно. Я удивлялся, как в такое короткое время у большевиков оказалось столько исполнителей и столько перешло к ним. Террора еще сильного не было. Например, в Английский клуб, где мало стало бывать народу, как-то пришли красноармейцы, заставили поднять руки вверх игравших в карты, обыскали кассу, в которой почти ничего не было, выпили, забрали несколько бутылок вина и ушли.
Кажется, в начале ноября состоялись выборы в Учредительное собрание. Выборным производством, а потом и подсчетом голосов ведали служившие до этого в губернском присутствии, и все шло правильно. В день выборов я объехал на автомобиле несколько городских выборных пунктов. На улице стояли столики, где раздавались партийные списки, между прочим и наши, кадетские. Но уже на глаз было видно, что гораздо более берут социалистическо-большевистские списки. Оживления, как при выборах в Думы, не заметно. В участковых комиссиях сидят и буржуазные члены (Маклаков, Новгородцев). По Москве, где мы всегда имели такое преобладание, мы провели, кажется, только двоих – Кокошкина и Астрова. По Московской губернии по кадетскому списку был выбран только я, и то при помощи правых. У нас в комитете было из-за партийной вражды много противников соединения списков, и тогда все, и мы, и правые, провалились бы. Но благоразумие и логика арифметики взяли верх. Хотя у нас предвыборного блока и не было и все мы шли с особыми списками, но мы эти списки соединили. Таким образом, я прошел благодаря добавочным голосам правых и клерикальных групп, староверов, каких-то хоругвеносцев из Сергиева Посада и прочих. Они, как получившие менее голосов, чем кадеты, своих не провели, но действовали разумно, так как способствовали проведению к.-д. вместо большевика или с.-р.
Этим простым соображением и логикой затуманенные партийностью люди не руководствуются и теперь, даже после урока большевизма. Например, отколовшаяся от нас группа к.-д., назвавшая себя «демократической», и даже другие к.-д., которые за Милюковым стремятся еще дробить партию, образуя каких-то середняков, не сходясь с остальными по некоторым тактическим вопросам. Выборы по Московской губернии показательны.
Если прежде в борьбе против самодержавия за конституцию и правопорядок был естественен и допускался нами крен налево, то как же в борьбе с несравненно более жестоким деспотизмом большевиков не допустить крена направо? Но однобоких, как и горбатых, исправит, очевидно, только могила. Гибкость у них – лишь на одну сторону, а потому они, дробясь, и пребывают теперь в блестящей бездейственной изоляции, в положении оппозиции его величества большевизма. С самого начала угрозы большевизма, а потом на юге России и в эмиграции я стоял за широкое противобольшевистское единение, не смущаясь его естественной правизной.
Всего кадетов в Учредительное собрание прошло человек двадцать. В нем мы были бы крайними правыми. От губерний, не от городов, кроме меня из к.-д. никто не прошел.
Глава 4 Вся власть Учредительному собранию! 1917—1918 годы (Петропавловская крепость)
С благопожеланиями и с огромными надеждами на Учредительное собрание выехали мы 27 ноября[5] с Астровым, Шингаревым и Кокошкиным, тоже выбранными в Учредительное собрание, из Москвы в Петроград. Так как большевики начали уже проявлять полноту своей власти, то нам некоторые отсоветовали ехать, но мы не сочли возможным этого сделать, раз выбирались и были выбраны, как это мотивировал Шингарев в своем предсмертном дневнике. Некоторые же наши сочлены по партии, будучи тоже выбраны, предпочли даже уехать из Петрограда с чужими паспортами. Шингарев и Кокошкин остановились у графини СВ. Паниной на Сергиевской, а я в «Европейской», которая уже успела быстро опуститься. В передней всегда была толпа, в комнатах постоянно бывали обыски, как говорили для борьбы со спекуляцией. И мою комнату поверхностно обыскали.
Весь день 27-го до глубокой ночи мы были у СВ. Паниной на заседании Центрального комитета К.-д. партии, обсуждая нашу тактику на завтрашнем открытии Учредительного собрания. Пришли туда только что освобожденные из Смольного арестованные несколько дней тому назад В.Д. Набоков и Н.Н. Авинов, работавший в правительственной комиссии по выборам в Учредительное собрание. Они рассказывали про грязь и заплеванность Смольного. Насколько помню, в декларации нашей в Учредительном собрании мы должны были требовать установления норм элементарной свободы, неприкосновенности личности и правового строя, грубо нарушаемых большевиками. На другой день мы, члены Учредительного собрания, условились прийти в 10 часов утра к СВ. Паниной, чтобы вместе идти в Таврический дворец на открытие Учредительного собрания.
Прихожу я к Паниной 28-го утром. В передней несколько человек с винтовками. Швейцар говорит мне, что графиню, Шингарева и Кокошкина рано утром арестовали и отвезли в Смольный. Выхожу и иду по направлению к Литейной. Сейчас же вышли за мной двое и сказали, что меня приказано вернуть. Оказывается, это была засада, которая должна была арестовывать всех, пришедших к Паниной. Когда стало известно об аресте Паниной, Шингарева и Кокошкина и о находящихся в доме красноармейцах, вблизи по Сергиевской были расставлены молодые люди и барышни к.-д., чтобы предупреждать долженствующих собраться. Предупрежденный таким образом Астров не вошел к Паниной и успел прошмыгнуть в соседнюю парикмахерскую. Меня же как-то проглядели, не предупредили, и я попался в западню. Правда, я несколько запоздал, и потому наши молодые товарищи, может быть, подумали, что никто уже более не придет.
Между тем кто-то телефонирует в Смольный о моем аресте, оттуда приказывают меня задержать и ведут наверх. Вскоре таким же образом арестовывается инженер, товарищ министра путей сообщения, случайно зашедший к Паниной. Просидели мы с ним тут часа три, так как по Сергиевской шли бесконечные депутации к Учредительному собранию от партийных и профессиональных групп со знаменами и значками, на большинстве которых были надписи: «Вся власть Учредительному собранию!» Хороша власть, когда член этого собрания сидит тут же под арестом и глядит на процессию. Проходят с зелеными значками и наши кадетские группы, среди которых есть знакомые. Если бы они подозревали, что я тут сижу! Если бы я мог сообщить о моем аресте, то меня, наверно, освободили бы, так как в процессии участвовали тысячи людей. Но из дома никого не выпускали. Бывшие в доме приятельницы Паниной дали нам чаю и закуску, но мои записки не могли переслать.
Когда процессия кончилась, приехал комиссар из Смольного Гордон, юркий молодой человек. Короткий опрос и протокол. Я требую запись моего протеста против ареста члена Учредительного собрания, лица неприкосновенного. Комиссар везет нас в закрытом автомобиле в Смольный. Встречаем на Кирочной возвращающуюся процессию, которая огибает Таврический сад. Опять – «Вся власть Учредительному собранию!». Гордон подсмеивается над буржуазным составом депутации.
В Смольном большое оживление. Масса автомобилей. Нас ведут через длинный коридор в большой зал, в одном конце которого сидят арестованные, в том числе Панина, Шингарев и Кокошкин, которые радостно меня приветствуют. В другом конце зала столы, за которыми сидят и присаживаются большевики, постоянно снующие из коридора в боковую дверь. Несколько раз прошла жена Ленина. Несколько матросов; один из них кудрявый, препротивный матрос целый день здесь околачивается. В дверях – красноармеец с винтовкой. По всему залу мы ходим совершенно свободно, и к нам свободно всех пропускают с улицы. С Шингаревым – его сын гимназист и сестра, с Кокошкиным – его жена. У графини Паниной, как петербуржанки, за день перебывала масса друзей – аристократов и из интеллигенции. Ей принесли много провизии, которой с избытком хватило на нас всех. Через одну из ее знакомых я выписал управляющего – моего двоюродного брата, члена Думы Дымшу. Его я попросил привезти мне кое-какие вещи из гостиницы, на случай если нас не отпустят, и оплатить в таком случае завтра счет в гостинице и взять мой багаж.
Целый день мы томимся, ходим, разговариваем, делаем предположения. Оказывается, Панину арестовали за ее отказ, как товарища министра народного просвещения Временного правительства, сдать большевикам 70 тысяч казенных денег. Шингарева и Кокошкина арестовали как остановившихся у нее, а меня и инженера – как пришедших к ней. Других же членов Учредительного собрания, бывших на его открытии, например Родичева, не тронули. А так как мы, кроме Паниной, к этим деньгам были не причастны и даже ничего не знали до сих пор о них, то мы предполагали, что опасность ареста угрожает только ей, а нас отпустят или что наш арест, как Набокова и других, будет непродолжителен.
Я громко, не стесняясь большевиков, ругался по поводу незаконности нашего ареста.
Приводят новых арестованных. Врезался мне в память арестованный за расклейку каких-то политических афиш в рваной шинели, болезненного вида солдат, который в изнеможении садится на пол у стены. Тут же кипа афиш, которые он развешивал за плату. Смотрю афиши: «Вся власть Учредительному собранию!» Шингарев дает солдату хлеб и мясо. Были два мальчика, несколько женщин. В уборную, до невозможности загрязненную и мокрую, нас водили с часовым.
Вскоре стемнело. Пьем чай. Дымша привез мне белье и умывальные принадлежности. Движения нашего дела никакого. Говорят – заседает Совет народных комиссаров – от него зависит. Шагаем, разговариваем. С посетителями в нашем конце зала образовалась довольно большая группа, которая стала все энергичнее возмущаться нашим арестом, началась перебранка с подходившими большевиками. Тогда нас, арестованных, оцепили красноармейцами при офицере, а посетителей оттеснили и через некоторое время удалили.
Разговариваем с офицером, спрашиваем, как это он, сражавшийся на фронте, перешел к большевикам? Тупые ответы – раз власть и командование перешло к ним, как же не подчиниться? Ведь нужно же, чтобы кто-нибудь командовал солдатами и т. п. Особенно горячился Кокошкин: «А совесть, а долг, а ваша присяга? Разве вы не видите, что они разрушают армию, государство, что это на руку немцам и что это измена присяге?» Все те же тупые ответы. Впечатление, что переход к большевикам его был несознательный, механический; это был не солдат, а ремесленник – ландскнехт.
Томимся, не дремлется. Часов в 10 начинают нас вызывать поодиночке к следователю Красикову. Допрос не длинный, начинается с выяснения нашего отношения к укрывательству Паниной казенных денег. Так как мы трое только что приехали в Петроград, то алиби и наша полная непричастность выясняются сами собою. Затем идет принадлежность к партии и несколько других незначительных вопросов, из которых никакого обвинения нельзя усмотреть. Настаиваем на включении в протокол нашего протеста против ареста неприкосновенных членов Учредительного собрания. Через полчаса какой-то господин нам объявляет, что инженер, арестованный со мной, освобождается, а мы арестовываемся. По обвинению в чем? Неизвестно. Мы требуем письменного постановления следователя. Проходит в ожидании еще часа два. Оказывается, сам Совнарком обсуждает нашу участь. Как будто у него в этот день не было более важных дел! Около часу ночи приходит тот же господин и приносит декрет, подписанный Лениным, Троцким, Бонч-Бруевичем и другими, по которому члены Центрального комитета партии Народной свободы объявляются «врагами народа» и «вне закона»! Вот так законное решение! Придумали! Это было бы комично, если бы не привело впоследствии к убийству Шингарева и Кокошкина. Удивляемся, смеемся, негодуем. На основании этого декрета – постановление следователя об аресте «членов Центрального комитета партии Народной свободы». Юрист Кокошкин придирается и протестует; неизвестно, какие три члена арестуются: «Я не вижу постановления о моем аресте». Снова господин уходит и возвращается с тем же постановлением со вставкой наших фамилий. Характерно. Теперь все «законно». Прощаемся с Паниной, которую увозят в Кресты, а нас в двух автомобилях везут в Петропавловскую крепость. В переднем – Шингарев и Кокошкин, в заднем я с несколькими конвоирами, исключительно латышами.
Проезжаем мимо Таврического дворца; окна купола и фасада залиты почему-то электрическим светом, несмотря на поздний час. (Учредительное собрание разошлось до января.) Латыши лопочут на своем языке. На ухабе один из них выпустил винтовку, которую я еле успел устранить, и штык был уже около моих глаз. А ведь я вижу лишь одним глазом.
Въезжаем в ворота крепости и, миновав собор, останавливаемся у крепости налево. Выходим и идем какими-то закоулками и простенками, заваленными снегом. Зима была очень снежная. В глухом застенке остаемся очень долго, минут двадцать – тридцать. Я в осеннем пальто, так как ватного почти никогда не ношу. Мороз в 20 градусов, и мы беспокоимся за чахоточного Кокошкина. Просим, чтобы ввели в помещение, и через некоторое время нас вводят в старую мрачную гауптвахту, а еще через некоторое время – к коменданту, где у нас отбираются деньги, ножики, и, наконец, через длинные коридоры Трубецкого бастиона – в одиночные камеры, расположенные рядом. Моя камера № 72 была самой последней в бастионе.
Тяжелая дверь захлопнулась, щелкнул замок, и шаги удалились. Я помню, В.Д. Набоков рассказывал, как профессор-криминалист водил их студентами в тюрьму и какое сильное впечатление на него произвело, когда при демонстрации одиночной камеры для наглядности за ним заперли дверь и он остался один в камере. Я был скорее озадачен всем происшедшим в сегодняшний день: неприкосновенность личности, «вся власть Учредительному собранию», «враг народа» и… камера № 72.
Я как-то старался выдавить в себе ужас, но ничего из этого не выходило. Я думаю, что демонстрация ужасов в кинематографах, описание в романах или даже демонстрация тюрьмы студентам производят гораздо более впечатления, чем когда испытываешь их сам в жизни. Тогда все приспособлено и приурочено к восприятию «ужаса», а в жизни внимание отвлекается массой деталей настоящего, соображениями о будущем.
Бегло осмотрев камеру, я завалился не раздеваясь на кровать и, страшно усталый, сейчас же заснул, не подозревая, что пробуду здесь около трех месяцев и выйду уже один из тюрьмы, без моих убитых друзей.
Наш коридор был самый сырой и холодный, и особенно моя камера, как крайняя. Через день Кокошкина, как чахоточного, перевели в другой коридор, а меня в камеру № 69, рядом с сидевшим в № 70 Шингаревым, где мы с ним все время и просидели.
Камеры были большие, хорошие. Привинченные к стене кровать и столик рядом, над которым за матовым стеклом в стене электрическая лампа (только вечером). Более мебели никакой, так что сидеть приходилось на кровати. Вещи клались на газетной бумаге на полу. Дверь с глазком и небольшое высокое окно с решеткой. Огромное удобство – отсутствие параши и проведенная вода. Раковина с краном и судно с откидывающимся сиденьем, так что чистоту и воздух можно было отлично поддерживать. Пол мели мы ежедневно сами. Так как я здоров и не боюсь холода, то всего хуже было отсутствие света в зимние петроградские месяцы. Лампочка была тусклая и рано гасла. Потом двоюродная сестра принесла лампу и керосин, и я читал до поздней ночи. Надписи на стенах были неинтересные, современные.
Первоначальное настроение? Я уже говорил, что трагизма никакого не ощущал. Было только возмущение беззаконным арестом моей «неприкосновенной» особы и наивно-грубой мотивировкой его. Поэтому в первые дни я старался объяснить, как и офицеру в Смольном, надзирателям и красноармейцу, караулившему на прогулке, всю беззаконность нашего ареста, но, встречая лишь то же отношение – механический переход и подчинение новой власти, – я вскоре умолк:. Общее же настроение было хорошее. Я был оглушен тишиной. Тишина, спокойствие и… свобода. Свобода располагать своим временем. Ни звонков, ни телефона. Вообще в жизни я мало искал личного спокойствия, а в последний год – революция, фронт, предвыборные митинги, штурм Москвы. Какое наслаждение (тоже вопреки общему мнению), что заключение одиночное, а не общая камера! Я привык к одиночеству, живя долгие годы и зимой в деревне совершенно один в своем флигеле, отдельно от других. Только прогулки, и то, если желаешь, в определенное время. В остальном – газеты, свидания, провизия – ослабленный, сравнительно с царским, революционный тюремный режим. Встаешь и ложишься когда хочешь, особенно со своей лампой. Надзиратели продают газеты всех направлений из тюремной библиотеки и со стороны. Прочел много книг, преимущественно беллетристики, несколько прекрасных вещей Горького, преимущественно же русских классиков, некоторые сочинения которых не читал уже двадцать – тридцать лет. Кроме поэтов перечел с наслаждением почти всего Тургенева: «Дворянское гнездо», «Записки охотника», «Ася», «Вешние воды» и проч. Много времени уделялось хождению по обширной, к счастью, камере. В общем из угла в угол пройдено сотни верст в думах, в мурлыканье напевов. Вынужденное спокойствие и отдых. А снаружи – продолжающаяся война, углубление революции, усиливающийся террор, отзвуки которых к нам проникают через газеты и посетителей.
Посещения – два раза в неделю. Нас вызывают по нескольку человек в комендантскую, и мы сидим и свободно общаемся с посетителями, получаем и передаем через них письма. Не так, как при посещении брата, Муромцева и других «выборжцев», когда мы были отделены от заключенных двойною решеткой. Меня посещали двоюродная сестра Васильчикова (остальные родственники уже уехали из Петрограда), госпожа X., наша партийная приятельница, и швейцарец Акерман; были также А. В. Тыркова и М.Я. Пуаре. Посещения, разумеется, ожидались нами с нетерпением. Благодаря одиночному заключению только при посещениях приходилось встречаться с Кокошкиным, Шингаревым и другими заключенными (Пуришкевичем, Бурцевым, министрами Временного правительства, Сухомлиновым, Щегловитовым). По окончании процесса графини Паниной, на котором она была приговорена к «общественному порицанию» (или что-то в этом роде), приходила и она.
Благодаря обильному снабжению приношениями мы ели вполне удовлетворительно. Особенно обильную пищу привозила нам из Москвы госпожа X., хотя в то время, да еще с поклажей, было очень трудно ездить. Кокошкина снабжала жена. Шингарева – многочисленные петроградские партийные приятели и приятельницы, а мне, как одинокому и москвичу, первые дни пришлось поголодать. Давали отвратительный жидкий суп, немного каши, обыкновенно затхлой. Ввиду скудного пропитания я эти дни брал за деньги улучшенный офицерский обед, тоже плохой, чтоб увеличить количество хлеба. В камерах нас раза три посетили представители политического Красного Креста. Из знакомых были доктор И.И. Манухин и М.Ф. Андреева-Горькая, которую я знал по Художественному театру в Москве. Я думаю, что она сочла меня за сумасшедшего. Я только что в Москве встречался с первой женой Горького Пешковой. Слышу от надзирателя, что жена Горького обходит камеры. Когда она в декабрьские сумерки вошла в темную камеру, то я сказал ей: «А давно ли мы с вами виделись в Москве у И.Н. Сахарова?» Она что-то сказала утвердительное и вышла. А я с ней не виделся несколько лет. Изредка обходил камеры и тюремный врач.
Помощник коменданта был с нами очень корректен и любезен, но, судя по коротким разговорам, он был идейным большевиком. Замечательно симпатичен и мягок был старший надзиратель из матросов. Ему мы многим обязаны. Надзиратели были смешанного состава, ставленники Временного правительства, большевиков и несколько еще царских. Они каждый день дежурили в разных коридорах и дней через десять снова возвращались.
Можно было бы написать целый психологический этюд об этих тюремных надзирателях разных режимов и как на них отражалось переживаемое время и тюремный режим. Остановлюсь кратко на надзирателях из большевиков. Они попали из гарнизона. И если те же разнузданные, кровожадные солдаты, не спаянные дисциплиной, превращаются под влиянием воинской дисциплины в регулярное войско, охраняющее порядок и государство, то даже ослабленный тюремный режим с его обязанностями благотворно влиял на большевиков. В то время как их товарищи были совершенно праздны, грызли семечки, облепляли трамваи и митинговали, эти в известные часы дежурили, разносили обед, кипяток, а главное – несли ответственность не только за надежность нашего заключения, но и за нашу жизнь. Они нас оберегали от кровожадного и праздного многотысячного гарнизона Петропавловской крепости, и им мы много обязаны, наверно, в сохранении нашей жизни. Ничего так не дисциплинирует, как известные обязанности и ответственность. И самые заядлые большевики-надзиратели не были чужды этому влиянию. До нашего заключения, в первые дни революции, солдаты и рабочие ходили по коридорам, входили в камеры, вступали в беседу («Довольно попили нашей кровушки» и т. п.). При мне уже это было устранено, но в январе, после покушения на Ленина, гарнизон крепости освирепел и жизнь наша была в опасности. Одно дело, когда человек в многоголовой толпе, праздной, опоенной демагогией, другое дело, когда с ним говоришь с глазу на глаз, да еще он обуздан ответственностью и делом.
Припоминается такой случай. Один из надзирателей был матрос-большевик, рыжий, коренастый, завитой, с золотой цепочкой и с кольцами. У заключенных стали пропадать вещи во время прогулок преимущественно во время его дежурств. Мы все его не любили, да и другие надзиратели его недолюбливали. Было предположение, что он обкрадывает заключенных, чтобы одарять свою возлюбленную. Он был угловат и груб. Я себе выписал гуттаперчевый тэб и через день обливался и мылся в нем. Надзиратели приносили мне ведро горячей воды из кухни и помогали обливаться, за что получали папиросы. В день его дежурства прошу его принести воды. Отказывается: «Мы вам не слуги; прошло время господ и услужающих; теперь все равны». – «Не хотите – не надо. А ваши товарищи приносят мне воду; завтра попрошу другого дежурного». – «А меня и не просите, хоть вы и князь». – «Я и не прошу», – сказал я, повернулся и уткнулся в газету. Он постоял, как всегда в шапке, с папиросой в зубах, усмехнулся и вышел, хлопнув тяжелой дверью. Каково же было мое удивление, когда через полчаса он принес мне воды и не только обливал, но и предложил потереть спину. Когда я оделся, он подсел ко мне на кровать и, куря одну за другой мои папиросы, стал меня распропагандировать коммунизмом, а я ему доказывал, что он ведет к порабощению и разорению народа, и ругал его вождей за беззаконие. Мы друг друга не убедили, но отношение было человеческое, а в толпе до такого разговора не дошло бы, и мне не поздоровилось бы от него первого при выяснении взаимоотношений господ и слуг. Некоторые заключенные из министров и из социалистов называли надзирателей по имени и отчеству, подавали руку и находили (когда я под конец сидел с ними вместе), будто я веду себя слишком вызывающе и могу повредить не только себе, но и им. Я же был вежлив, за все благодарил, но не отказывался пользоваться их добровольными услугами просто как заключенный, не играл в равенство и не скрывал несочувствия коммунизму. А в результате, я уверен, судя по их обращению, я пользовался, во всяком случае, не меньшим их уважением, чем другие. Когда я напечатал в «Речи» открытое письмо народным комиссарам, то я достал несколько экземпляров газеты и роздал их надзирателям.
С этим письмом дело было так. Кончился процесс Пуришкевича, присужденного к каторжным работам, а вследствие отсутствия таковых снова водворенного в крепость (в виде работ он топил наши печи). Кончился процесс Паниной, арестованной с нами, она выпущена на свободу, а мы более месяца томимся, нам не предъявляют никакого обвинения, и ничего о нашем деле не слышно, да я уверен, что никакое дело и не вчинялось: слишком абсурден был наш арест и декрет, мотивировавший его. (Кстати, на случай процесса партия позаботилась обставить его, и защитники должны были быть у нас левее к.-д., у Шингарева и Кокошкина – госпожа Фигнер и госпожа Кускова, а у меня – старик Чайковский.) Тогда я перед Рождеством напечатал в «Речи», тоже через посетителей, открытое письмо народным комиссарам, в котором я рассказывал удивительную историю нашего ареста, обвинял их в том, в чем они обвиняли царское правительство, – в содержании в тюрьме без привлечения к ответственности, да еще народных избранников. Письмо это было перепечатано во всех газетах, тогда еще издававшихся, «Русских ведомостях» и других… Какая свобода печати тогда была! Оно встретило, кажется, то же опасение некоторых заключенных, а топивший печь Пуришкевич крикнул мне из коридора: «Молодец Долгоруков!» Кокошкин тоже одобрил мое выступление.
Он в Москве жил рядом со мной, и я часто у него наводил справки, как у выдающегося юриста и государствоведа, когда составлял доклад или писал статью в «Русские ведомости», он был ходячая энциклопедия, и я, не юрист по образованию, чувствовал себя школьником перед авторитетным учителем. Он же меня называл своим политическим учителем, потому что впервые был мною привлечен к политике, когда я, узнав и оценив его в Московском губернском земстве, привлек в начале столетия в собиравшийся у меня политический и издательский кружок «Беседа», в котором участвовали лидеры всех будущих центральных политических партий (к.-д., октябристы, мирнообновленцы, националисты). И на этот раз для открытого письма мне понадобилась консультация Кокошкина.
Так как мы с ним не виделись, то я вызвал помощника коменданта и объяснил ему, что по делу о нашем заключении мне нужна юридическая консультация Кокошкина. Он меня повел в его камеру, и я ему там сообщил наскоро о моем намерении, замаскировав для помощника коменданта якобы намерением подать жалобу по начальству. Он понял мое намерение, одобрил его и дал мне нужную юридическую справку. Когда я простился, то помощник коменданта сказал ему: «А ведь я, Федор Федорович, ваш ученик по Московскому университету». Кокошкин страшно заволновался и сказал ему: «Уж лучше бы не признавались в этом. Слушали у меня государственное право – и служите большевикам, попирающим и не признающим никакого права». Тот что-то стал возражать, но Кокошкин горячился, волновался, доказывал преступность для интеллигентного человека служить большевикам. Я прервал его, хотя он еще многое хотел, очевидно, сказать. Руки у него были потные, холодные. Я жалел, что моим приходом я невольно так взволновал его. Он, видимо, таял в тюрьме.
Одиночные прогулки по четверть часа происходили два раза, иногда один раз в день в тюремном дворике посреди нашего бастиона. Среди дворика была ветхая баня, которой я не пользовался, из которой постоянно вылетали окна из прогнивших рам, когда поддавали пару. Кружишь быстро по дорожке, а в сильные крещенские морозы (зима была лютая) и рысцой побегаешь в моем осеннем пальто. Когда деревья на дворике были покрыты инеем, все розовело в мглистом холодном воздухе, а под ногами скрипела наторенная заключенными жесткая дорожка. Розовел при ранних сумерках и шпиль собора с вращающимся флюгером-ангелом, единственное, что видно было из потустороннего мира. Нас выводил и караулил красноармеец. Обыкновенно они были не разговорчивы, тупо-механические служащие новой власти. Как-то попался разговорчивый.
Интересная психологическая черта. Как и другие заключенные, я приносил крошки хлеба, и, как только что спускался с крылечка, стая голубей окружала меня. Это было наше развлечение. Разговорчивый страж рассказывал, как он рубил немцев, потом как расстреливал где-то под Петроградом офицеров и прикалывал недострелянных. В то же время он заметил одного хромолапого голубя, который, ковыляя, не поспевал подбегать к хлебу. «Ишь, болезный, не поспеваешь за товарищами! Гуль, гуль, гуль, сердешный, на тебе хлебца». Одно – сочлен кровожадной, зачумленной толпы, другое – простой человек в жизненном обиходе; прикалываемые безжалостно офицеры и жалость к хромому голубю!
Сухомлинов и Щегловитов всегда гуляли вместе, большинство же заключенных – группами, например, все члены Временного правительства гуляли вместе. Мне Шингарев сказал, что ему, как члену Временного правительства, было совестно глядеть на Щегловитова и что он избегает с ним встречаться. Он несколько раз в правительстве говорил о невозможности так держать людей без предъявления им обвинения. Муравьевско-переверзевскую комиссию, ведавшую делом арестованных в феврале сановников, он назвал срамной. И действительно, продержав там Щегловитого и других в заключении около восьми месяцев до Октябрьского переворота, они их предали во власть большевикам. Щегловитов был ими потом расстрелян.
Морозы крепнут. Здоровье Кокошкина да и Шингарева ухудшается. Близится Рождество. Я так описываю это Рождество в рождественском № 20 «Свободной речи» в Екатеринодаре в 1918 году.
Год тому назад
«В Рождественский сочельник мне посчастливилось. В первый раз мне пришлось побыть с А.И. Шингаревым минут пять. Хотя наши камеры были соседние и мы сидели в них уже месяц, но благодаря одиночному заключению мы до сих пор только мельком, случайно встречались в коридоре, когда нас водили на свидание или на прогулку.
Прогулка большинству заключенных разрешалась групповая и продолжительная, до полутора часов, а мне, Кокошкину и Шингареву, вероятно, как «врагам народа», находящимся «вне закона», и гулять, то есть вертеться по тюремному дворику четверть часа, приходилось в одиночку.
К вечеру надзиратель, подняв дощечку наблюдательного глазка, постучался ко мне и крикнул, чтобы я готовился выйти в коридор на время мытья пола в камере. Надзиратель этот был из лучших по отношению к нам, пожилой солдат-эстонец, не большевик. Благодаря ослабевшей тюремной дисциплине, когда он бывал дежурным в нашем коридоре, к нему часто прибегала его пятилетняя дочь, звонкий голосок которой гулко раздавался под сводами мрачного коридора и оживлял его. Иногда она входила и в камеры заключенных с отцом, приносившим нам обед или кипяток, и мы давали ей лакомства, если таковые у нас были из приношений милых наших товарок по партии.
И в этот день она утром заходила ко мне похвастаться полученной на праздник куклой, причем без умолка лопотала что-то.
Когда звякнул замок, тяжелая дверь с шумом отворилась и вошло несколько человек с шайками и швабрами – целое событие в тишине монотонных, тусклых дней, – я вышел в коридор и увидал Шингарева, которому разрешили еще остаться минут пять, пока сохнул вымытый пол его камеры. Он стоял на корточках и держал в обеих руках руки девочки. Я застал конец такого диалога: «А как тебя зовут?» – «Рута». – «А у меня есть такая же маленькая девочка, Рита. Ее имя – Маргарита, а мы зовем ее Рита».
Разумеется, мы с жадностью стали впервые после ареста разговаривать и делиться впечатлениями. Шингарев жаловался на печень, на отсутствие аппетита; он осунулся.
Когда дверь за ним захлопнулась, я, благодаря снисходительности надзирателя, прильнув к окошечку двери, еще несколько времени с ним разговаривал, пока не пришлось вернуться в свою камеру. Кокошкин в первые дни был здесь же, а потом его, как чахоточного, перевели в более теплый коридор. Так как, кроме ввинченных в пол кровати и столика около нее, никакой мебели и полок в камере не было, то я занялся вновь раскладкой своих вещей с кровати на пол на листы газет.
Вскоре принесли нам по восковой свечке, с поздравительными открытками от наших партийных приятельниц. Оказывается, они нам прислали и по маленькой елочке, но их не разрешили передать нам.
Чем же еще ознаменовался для нас праздник? Да вот чем: ни в сочельник, ни в первые два дня праздника почему-то не давали горячей или, скорее, еле тепловатой пищи, а один день давали невозможно соленую колбасу, а другой – баночку мясных консервов в застывшем сале.
В бесконечные петроградские зимние сумерки ходишь из угла в угол. Сколько еще придется здесь просидеть? Не придется ли встретить здесь и Пасху? В камере Шингарева слышен глухой стук. Он или колет сахар, или мастерит что-то. Как ему, бедному, должно быть, тяжело так встречать Рождество! Он болен, потерял два месяца тому назад жену, оторван от детей. Воронежский хуторок его разгромлен. Но, сидя все время рядом с ним, я не подозревал всей остроты и болезненности его переживаний. Отчасти я узнал о них во время пяти общих прогулок, разрешенных нам перед его убийством, а главным образом при чтении впоследствии его тюремного дневника.
Многие стараются быть переведенными отсюда в Кресты, которые, как современная, усовершенствованная тюрьма, светлей и суше здешней. Но я, будучи здоров, предпочитал наш старый бастион новой тюремной казарме. Старина, даже тюремная, греет и придает уют. Москву с ее кривыми улицами я предпочитаю Петрограду, Киев – Одессе.
Двухэтажное пятигранное здание с мрачными сводами, коридорами и темными проходами охватывало маленький дворик, где мы гуляли и откуда был виден только золотой шпиль собора. Старые, толстые, сырые стены, сколько поколений политических узников было заключено в них! Здесь же витает дух Пестеля, Рылеева и прочих декабристов, о которых вспоминалось нам 14 декабря. Декабристы сидели, впрочем, не в бастионе, а в соседнем равелине, который был не так давно разрушен, а теперь остался Трубецкой бастион, как одиночная тюрьма, и Екатерининская куртина с несколькими общими камерами. Весной в газетах писали, что большевики хотят разрушить эту нашу бастилию. Жаль, если они в стремлении подражать французской революции это сделают. Следовало бы превратить крепость в памятник-музей, в котором камеры Шингарева, Кокошкина и многих других трагически погибших русских людей, любивших Родину и человечество, посещались бы, служа наглядным пособием к изучению отечественной истории. «А самоубийств тут много? – спрашивал я у самого старого надзирателя, прослужившего здесь около тридцати лет. – Были ли отсюда побеги?» – «Пытались бежать многие, – отвечал он, – но при мне никому это не удалось, и, как говорят, с самого основания крепости никому не удавалось. Вот самоубийств было много. В этой самой вашей камере два года тому назад повесилась женщина-студентка. Взяла в библиотеке много книг, стала на них у окна, из простыни свила жгут и повесилась на нем, привязав его к оконной решетке и оттолкнув книги из-под ног. В камере (такой-то) при моем дежурстве старик один умер, пустив кровь из жил».
И много подобных случаев рассказал мне старик».
Я зажег полученную восковую свечку и поужинал. Потом читал газеты. Еле-еле слышался колокольный звон Петропавловского собора. Я позвал надзирателя и попросил отворить форточку. Была тихая, очень морозная ночь, и звон колоколов слышался ясно, как и игра часовых курантов. А когда бывает северный ветер, то и соседней полуденной пушки не всегда бывает слышно, так как окно мое обращено не на Неву; так мало тюремное окно и так заглушает звук толщина стен.
В газетах я читал про кровопролитные бои в Шампани; про бомбы с аэропланов и треск пулеметов; про давящие все и уничтожающие танки; про наступление на древний Псков немцев, гонящих перед собой толпы «товарищей», изображающих из себя российское воинство; про кровавую расправу красноармейцев с контрреволюционерами…
Через закрытое уже окно еле слышался, скорее угадывался, звон колоколов. В церкви пели: «На земле мир в человецех благоволение!»
Новый год не принес ничего нового. В 12 часов ночи мы с Шингаревым перестукивались, единственный раз за все время.
И потом я не перестукивался, когда после Шингарева в его камеру посадили офицера и он все стучал мне. Он в коробочке папирос прислал мне записку, рекомендуясь и предлагая прислать мне шифр для перестукивания. Но так как я не имел никакой охоты к этому, да и надо было из осторожности опасаться подосланного провокатора, то в куске сыра я послал ему вместе с приветствием отказ, и он оставил меня в покое.
Поздно ночью на Новый год я услышал в коридоре шум, громкие голоса и непонятную речь. На другой день оказалось, что арестовали членов румынского посольства, тоже, казалось бы, неприкосновенных. К вечеру на другой день их освободили. Перед уходом им разрешили видеться с сидевшим в крепости Терещенко, который был министром иностранных дел после Милюкова. Курьезное свидание посольства с министром!
Далее я опять привожу две статьи «Свободной речи» (№ 5, Екатерине дар, от 6 января и № 6 от 8 января 1919 года).
Год тому назад (Последние дни Шингарева и Кокошкина)
«6 января перевели Шингарева и Кокошкина из крепости в больницу.
В начале года мы переживали в Трубецком бастионе тревожные дни. 2 января был день свиданий и приношений. Но в первый раз к нам никто не пришел. В эту ночь был где-то в крепости незначительный пожар, и надзиратели нам объяснили, будто посетителей не пустили из-за переполоха вследствие близости к месту пожара склада снарядов. На самом деле гарнизон крепости в несколько тысяч человек вследствие бутафорского покушения накануне у Михайловского манежа на Ленина самочинно воспретил посещения, выставив у ворот отряд. Как мы потом узнали, у ворот столпилась толпа посетителей с обычными узелками. Их грубо отстранили.
Настроение в городе было очень тревожное, и ходили всевозможные слухи. Нас считали или обреченными, или уже погибшими. Начались протесты толпившихся посетителей, не обошлось без истерики, особенно когда их начали разгонять выстрелами в воздух. В это время выстрелы в Петрограде были обычным явлением, и во время тюремных прогулок мы часто слышали то близкую, то отдаленную ружейную трескотню: то отбивали грабивших среди бела дня склады и винные лавки. В это же время Петропавловский гарнизон опубликовал кровожадную резолюцию: за каждое покушение на одного из своих вождей они обещали уничтожить сотню заключенных. Таким образом, они нас объявили заложниками.
На более нервных и впечатлительных заключенных все это производило подавляющее впечатление. Даже Совет народных комиссаров, сам натравлявший своих подданных на «врагов народа», был смущен этой резолюцией и издал на другой же день декрет, в котором, воздавая должное революционному подъему Петропавловского гарнизона, предостерегал против самосуда над заключенными, так как это пресекло бы нити к раскрытию контрреволюционных заговоров.
Но 2 января нас ожидала и радость. Когда меня вызвали на прогулку, то торопили, чтобы я не задерживался, так как буду гулять с другими. Шингарев, сияющий, уже ждал меня в коридоре. Потом к нам присоединились Кокошкин, В.А. Степанов, который был заключен сравнительно на короткое время, с.-р. Авксентьев, Аргунов и н. – с[6]. Питирим Сорокин. В этой компании мы и гуляли все пять дней до 6 января по два раза в день и уже по полчаса.
Эти полчаса пробегали гораздо скорее, чем четверть часа одиночного кружения по дворику. И это тревожное время, благодаря общению, переживалось гораздо легче. Сколько слухов и предположений, проникавших в тюрьму, спешили мы обсудить, сколькими переживаниями и впечатлениями с 28 ноября, когда мы вместе с Шингаревым и Кокошкиным были арестованы, хотелось обменяться с друзьями, с которыми мы дружно работали более десяти лет, с которыми рядом сидели в тюрьме и были в то же время так разобщены до этого дня!
О чем мы переговорили за пять дней в эти пять часов? В газетную статью не втиснешь и десятой доли. Слухи о готовящейся гарнизоном расправе с нами… О предстоящем 5 января открытии Учредительного собрания. О надеждах наших, что оно отстоит неприкосновенность своих членов, о неминуемом запросе о нашем аресте… Каково же было наше разочарование, когда мы узнали, что Учредительное собрание разогнано и что оно не удосужилось даже упомянуть об участи своих членов, а выслушало бесконечную речь Чернова, являющуюся бездарной перефразировкой большевистской программы. Социалисты-революционеры тоже недоумевали и возмущались Черновым. У них в партии было решено, что Чернов скажет совсем краткую речь. Очевидно, селянский председатель разошелся и только матрос Железняк мог его обуждать. Помню, как Кокошкин горячо протестовал против всякого покушения и насилия, когда кто-то удивился, как это террористические партии, умевшие организовывать покушения на царских сановников, испытывая и на своей шкуре гнет большевиков, не применяют против них столь же энергично своих методов борьбы.
Несмотря на мороз, чахоточный Кокошкин в эти минуты общения оживлялся, картавый голос его громко раздавался по дворику, и мы постоянно останавливали его. Благодаря своему возбужденному оживлению он несколько раз терял свое пенсне, и мы со смехом откапывали его в рыхлом снегу. Он заметно таял и говорил, что, наверно, потерял за это время много в весе. Шингарев тоже сильно осунулся. Печень мучила его. Он был тих, сосредоточен и, как всегда, улыбался лишь губами, глаза же в улыбке не участвовали и оставались грустными. Их обоих уже освидетельствовала комиссия врачей и признала тяжко больными. Перевод их в больницу ожидался со дня на день.
6 января мне удалось видеться с Шингаревым три раза, причем за обедней – в течение двух часов. Нам в первый раз разрешили идти в церковь, и накануне еще мы решили воспользоваться этим. Но Кокошкин не пошел, так как была страшная метель. Нас пошло девять человек; я, Аргунов, Сорокин, Сухомлинов, Щегловитов и министры Временного правительства – Шингарев, Карташов, Терещенко и Бернацкий. В первый раз мы вышли за ограду бастиона и в сопровождении нескольких солдат по глубокому снегу прошли в Петропавловский собор.
Нас поставили близ гробницы Петра I, и мы свободно разговаривали друг с другом. К Сухомлинову и Щегловитову подошли их жены, которые простояли с ними всю обедню. Они, как уже давнишние узники, использовали свой тюремный опыт для такого свидания. Я стоял с Шингаревым и Карташовым, который объяснял нам службу и называл композиторов песнопений. Пел очень хороший хор. Священник произнес проповедь против насилия и мести, имея, очевидно, в виду гарнизон. Из тысячного гарнизона было два-три десятка солдат. Более уже нас в церковь не водили, как нам объяснили надзиратели, из-за опасения все того же гарнизона, который был против всяких поблажек нам и особенно был враждебно настроен против Сухомлинова.
За прогулкой мы обсуждали вчерашний разгон Учредительного собрания. Я сказал Кокошкину, что напрасно он вышел в такую страшную метель; он ответил, что для чахоточных необходим свежий воздух и что спертый, сырой воздух камеры опаснее стужи. Вследствие соседства камер, тюрьма особенно меня сблизила с Шингаревым. С Кокошкиным, сидевшим в другом коридоре, я, как москвич, был раньше более дружен. Нас связывала с ним, кроме партийной работы, давнишняя наша служба в Московском земстве, политическая работа дореволюционного периода и соседство домов, в которых мы в Москве жили, а потому и виделись постоянно. Приезжал он раз ко мне с женой и в деревню. Соседство камер сблизило меня более прежнего с Шингаревым, и это сближение, наверно, отразилось бы на наших отношениях навсегда, если бы Шингареву суждено было попасть на свободу. Я рад был прочитать в дневнике его о хороших ко мне чувствах и о сожалении по поводу оставления меня одного в крепости при переводе его в больницу.
Часов в 7 вечера я услыхал шорох в камере Шингарева. Вскоре он постучался ко мне из коридора в дверь и простился, объявив, что его увозят в больницу. Я попросил открыть дверь. Хороший по отношению к нам солдат, помощник коменданта, разрешил отворить дверь. Мы в первый и в последний раз в жизни поцеловались с А.И… «Скоро, дай Бог, увидимся», – сказал я. «Ну, разумеется!» – «Привет Кокошкину!» – крикнул я ему уже вдогонку. Дверь за мной захлопнулась. Я рад был за больных товарищей, но грустно было остаться одному и знать, что соседняя камера пуста. Боязнь за нашу участь, вследствие разнузданности и кровожадности совершенно праздного гарнизона крепости, была столь велика, что близкие мои при посещении советовали мне «заболеть» чем-нибудь, лишь бы вырваться из крепости. Если бы я послушался и мне удалось это, меня постигла бы участь несчастных моих товарищей. Часа через четыре после прощания с Шингаревым они уже были убиты в больнице ворвавшимися матросами и красноармейцами!
Впервые я услыхал об этом ужасе на другой день, 7 января, когда мы собрались на прогулку уже в уменьшенном составе. Мы со Степановым отказывались верить. Но уже стороживший нас солдат сказал, что слышал об этом. Когда я проходил мимо камеры нашего приятеля Н.М. Кишкина, я крикнул ему через дверь, слышал ли он что-нибудь о Шингареве и Кокошкине. Он мне ответил: «Слава Богу, их отвезли в больницу!» Я не решился ему сразу поведать ужасную весть и только крикнул: «С ними неладно». Впервые после ареста состояние духа у меня было ужасно. Когда стемнело, но электричество еще не загоралось, мне стало невтерпеж. Я постучался и попросил, чтобы позвали кого-нибудь из конторы, чтобы узнать истину. Газет в этот день не было. Через час пришел наконец тот же помощник коменданта, который накануне уводил Шингарева. Не решаясь прямо спросить его, сначала я обратился к нему с каким-то хозяйственным вопросом. Потом я попросил его сказать все, что он знает про участь Шингарева и Кокошкина. Он подтвердил ужасную весть и рассказал некоторые подробности. Сомнений более уже не было! «Натравили!» – только и мог я произнести. Он как-то испуганно оглянулся, сейчас же вышел и запер дверь. Послышались голоса в коридоре. Очевидно, он был не один и испугался, чтобы я не распространился о натравливании. Все замолкло. В этот вечер я не мог ужинать и до поздней ночи шагал по камере. В соседней камере глухая тишина, и лишь через три дня посадили в нее арестованного офицера. Вскоре через три-четыре камеры от меня посадили участников убийства – Босова и Куликова, голос которых, проходя мимо, я слышал и которых встречал в коридоре».
Речь в защиту убийц Шингарева и Кокошкина
«По выходе из Петропавловской крепости я решился выступить на процессе убийц Шингарева и Кокошкина защитником их. Но большинство убийц не разыскали, а двоих заточенных выпустили из тюрьмы без суда. Вот что я приблизительно сказал бы на процессе в защиту убийц.
Как и за что были арестованы Шингарев и Кокошкин? 28 ноября было назначено открытие Учредительного собрания, и мы трое, только что избранные членами его, накануне приехали из Москвы.
28-го рано утром мы собрались у графини Паниной и тут-то вместе с ней и были арестованы и перевезены в Смольный. Графине Паниной инкриминировался отказ ее, как бывшего товарища министра народного просвещения, выдать 70 тысяч рублей казенных денег большевистской власти.
Как арестовавший нас, комиссар Гордон высказывал предположение, что мы соучастники сокрытия денег, так и на кратком допросе в Смольном Красиков все время допытывался об этих деньгах и о причине нашего пребывания у Паниной. Мы трое в Петрограде с середины лета не были, а о том, что мы члены Учредительного собрания, Красиков не знал. Казалось, недоразумение с нашим арестом вполне выяснилось. На вопросы же Красикова о наших политических убеждениях мы отвечать отказались, протестуя против ареста народных представителей как лиц неприкосновенных.
Скоро Панину увезли в Кресты. После этого было вполне вероятно, что нас троих отпустят. Мы даже условились между собой, что в таком случае мы будем требовать нашего ареста и заключения до освобождения Паниной, чтоб выразить протест против ее ареста. Но часы проходили за часами, и мы томились, оцепленные красноармейцами. Один из служащих по нашей просьбе узнал, что наше дело обсуждается самим Советом народных комиссаров. Наконец около часу ночи нам прочли декрет, подписанный Троцким, Лениным, Бонч-Бруевичем и прочими народными комиссарами, объявляющий нас, как руководителей партии Народной свободы, «врагами народа» и «состоящими вне закона». На основании этого декрета мы были заключены в Петропавловскую крепость и преданы военно-революционному суду.
Кто же были убитые впоследствии «враги народа»?
Во-первых, они были оба тяжко больные, которым уже одно пребывание в холодных, сырых казематах крепости могло угрожать смертью. У чахоточного Кокошкина были сильно поражены легкие, у Шингарева, только что потерявшего жену, была мучительная хроническая болезнь печени.
«Враг народа» Кокошкин, болезненный и хрупкий, был человек науки, в действиях ни революционных, ни антиреволюционных не мог принимать непосредственного участия. Но известный в Европе государственник, профессор государственного права, он был действительно врагом бесправия, произвола и деспотии. Кабинетный ученый, член губернской земской управы, член 1-й Думы, выдающийся публицист-передовик серьезной газеты, – откуда он мог быть известен и страшен этим матросам и красноармейцам, сидящим на скамье подсудимых? Им указал на него декрет 28 ноября.
«Враг народа» Шингарев, которому предлагали остаться при университете, отказался от науки, отказался даже от звания земского врача, чтобы вольным сельским врачом пойти в народ. И тысячи воронежских крестьян повалили лечиться к нему за назначенный им пятикопеечный гонорар. Они ли, воронежские крестьяне, подбили обвиняемых убить своего врача? Кто указал на него? И какого народа он был врагом?
Оба – бессребреники, все здоровье, всю душу свою они отдали русскому народу, и на обеспечение осиротелых семей после убийства их пришлось собирать деньги по подписке.
Как только Шингарев и Кокошкин были перевезены из тюрьмы в больницу, обвиняемые ворвались к ним и застрелили их ночью, больных, истощенных тюрьмой, только что заснувших в тепле, на мягких кроватях. Потом они, смеясь, рассказывали, как один из убиваемых, проснувшись, крикнул: «Братцы! Что вы делаете?» – и в смертельном ужасе щелкал зубами!
Какой ужас! Какое озверение! От этого убийства содрогнулись не только в России, но и в Европе, несмотря на ужасы войны.
И я, друг убитых и товарищ их по заключению, взялся защищать их убийц?! Оправдать это убийство нельзя, но необходимо разобраться, кто истинные убийцы и кто явился лишь слепым орудием в их руках.
Ведь лиц «вне закона», «врагов народа» преследовать и убивать может каждый. В этом видят даже заслугу, как и в истреблении хищных зверей.
Есть охотничий закон, оберегающий безвредную и полезную дичь и разрешающий всем истреблять в течение целого года всякими способами вредных животных. И эти последние находятся вне охотничьего закона, как враги человека. Земства назначают денежные премии за уничтожение этих животных. Убивший их приносит в земскую управу хвосты или шкуры их и получает соответствующее вознаграждение. И обвиняемые убийцы «врагов народа», изъятых из-под защиты закона, в слепом повиновении призыву вождей своих, сделав свое ужасное дело, имели бы право войти в комнату Совета народных комиссаров и с торжеством выкатить перед ними на красное сукно головы врагов народа – Шингарева и Кокошкина и требовать награды по заслугам, ожидать за свой подвиг многотысячной награды или производства в наркомы, главковерхи. И вместо этого – тюрьма, предание суду.
С чувством ужаса встретил я обвиняемых Басова[7] и Куликова в коридорах Трубецкого бастиона. Через несколько дней после убийства я слышал их голоса, проходя мимо их камер. И, сидя в своей камере, рядом с опустевшей камерой Шингарева, я старался вникнуть в их психологию. Не были ли они удивлены, озадачены своим заточением? Я представлял себе их возмущение. Не считали ли они, народные «герои», это предательством? Они ведь послушались призыва своих вождей, а те их предали.
Кроме Иуды-предателя, не особенно лестную репутацию в истории человечества заслужил и Пилат. Но тот старался защитить обвиняемого и лишь по слабости предал его толпе, умыв руки. Здесь же слабости не заметно. Здесь сначала сами распалили толпу, сами указали ей на невинные жертвы и натравили ее на них, признав их «вне закона» и «врагами народа», а после их убийства тоже умыли руки. Бонч-Бруевич, скрепивший декрет 28 ноября, сейчас же полетел в часовню Мариинской больницы и «в ужасе отшатнулся от трупов Шингарева и Кокошкина», сам распоряжаясь производством следствия. Ленин, первый подписавший декрет, распорядился всех «поставить на ноги и совершенно немедленно» расследовать преступление, «опозорившее» великую социальную революцию.
Действительно ли они ужаснулись содеянному злодеянию, раскаялись ли они в своих действиях? По всему последующему не заметно этого. Кого же обманет это умовение рук? К чему плеснули они водой на свои кровавые руки?
И теперь вы, революционные судьи, судите этих слепых, обманутых людей за то, что они вняли призыву своих и ваших вождей. Но, увы, миллионы несознательных и темных русских людей слепо идут за этими вождями. Это лишь наиболее рьяные и беспрекословные исполнители их велений, наиболее добросовестные чтецы их декретов, это «краса и гордость революции»!
Трудно не отшатнуться в ужасе от трупов Шингарева и Кокошкина, трудно и оправдать их убийц. Но вы должны разобраться в степени их виновности, и, разобравшись, вы должны признать, что главные, наиболее сознательные убийцы Шингарева и Кокошкина – это те, кто подписал декрет 28 ноября.
А если это так, то судебная власть, заточившая в тюрьму этих слепых исполнителей предначертаний свыше, власть обвиняющая и судящая их, если бы она была независима, должна была бы вынести постановление о привлечении к суду и главных виновников убийства. Иначе ваш суд – не суд, а классовая и политическая расправа, где под личиной суда и правды парит месть и бесправие».
Дня через два после трагедии я встретил в коридоре возвращавшихся с прогулки Сухомлинова и Щегловитова. Я счел долгом сказать последнему, как возмущался Шингарев действием комиссии Муравьева и что он, как бывший член Временного правительства, избегал встречи с ним, незаконно державшим столько времени его под арестом без предъявления обвинения. В темноте коридора мне показалось, что Щегловитов прослезился. Он мне ответил: «Мы с Андреем Ивановичем были политическими противниками, но я глубоко его уважал и ценил как честного и талантливого человека».
Тот же Щегловитов, как говорит в своих воспоминаниях Бьюкенен, встретив в Петропавловской крепости Терещенко, который будто дал большие деньги на революцию, сказал ему: «Вы дали пять миллионов, чтобы попасть сюда. Жалею, что раньше не посадил вас даром».
Как-то зашел ко мне проститься освобожденный вскоре В.А. Степанов. Однако в моем еще большем одиночестве я оставался недолго; меня перевели в министерский коридор, где сидели Терещенко, Бернацкий, Кишкин, Авксентьев, Аргунов, П. Сорокин, Рутенберг (убийца Гапона). Третьякова, Карташова, Бурцева и других перевели, кого – в Кресты, кого – в лечебницу. Карташов перед этим умудрился за что-то попасть в карцер, крошечную темную конуру, из которого его на следующий день освободили, так как коридор объявил голодовку. Мы, сидя тогда в нашем коридоре, не могли к ней присоединиться, ничего не зная.
Наступили «веселые» дни. В этом коридоре общение между камерами было свободнее, а главное, прогулки общие – два раза в день по часу! К нашему коридору на прогулках присоединяли камеру из Екатерининской куртины, преимущественно молодежь, офицеры, моряки. Ходили, не торопясь разговаривали, скалывали лед, прочищали в снегу новые дорожки. Подчас было шумно, бросались снежками, валили друг друга в снег. Насколько дисциплина была ослаблена, показывает, что раз кто-то из куртины принес фотографический аппарат и снял всех нас в группе. Интересно было бы найти эту фотографию, если она сохранилась. Несколько раз во время прогулок в воротах какие-то люди, с виду рабочие, с любопытством нас рассматривали. Вероятно, рабочие депутаты проверяли нашу наличность. Во время этих прогулок я узнал от министров много подробностей о последних днях Временного правительства и о защите Зимнего дворца.
С начала февраля нам по вечерам на два часа стали открывать камеры, и мы свободно общались, гуляли по коридору, делали друг другу визиты, собирались вместе. Это уже стало походить на клуб.
Но во время этой «клубной» жизни и шумных многолюдных прогулок с удовольствием вспоминал одиночное верчение по двору и сидение в полном одиночестве рядом с Шингаревым. Это казалось уже чем-то далеким, историческим. С удовольствием бы променял наш клуб на это время, чтоб если и не видаться с Шингаревым, то чувствовать и слышать его бытие в соседней камере.
Этот коридор был теплее нашего, но все же температура поднималась редко выше 10 градусов. Многие спали в одежде, сидели в галошах или в валенках. Так как я привык к холоду и не боялся его, то на ночь раздевался, а галош я никогда не носил. Асфальтовый пол меня не страшил, и принесенный мне коврик я дал сначала больному Степанову, а после него Кишкину. Некоторые учились языкам, писали что-то. Неутомимый Кишкин, с рвением коловший лед и разгребавший снег на прогулках, лепил фигурки из хлеба, а потом из глины. Я ничего не делал, только читал газеты, Тургенева и других. Сдружившиеся Бернацкий и Терещенко поселились в одной камере и обучали друг друга финансовому праву и английскому языку. Насколько «начальство» к нам благоволило: в наш коридор поместили совсем юного социалиста, полуинтеллигентного, арестованного с бомбой. Он нам пришелся не ко двору, попросили перевести его, и его перевели к молодежи в куртину.
У нас в коридоре образовалась коммуна. Мы обязались вносить в нее наши продукты извне, и выбранный в старосты Авксентьев делил их поровну. У запасливого Кишкина оказался большой запас сухарей из черного хлеба «про черный день». Впрочем, и фигурки свои из хлеба птиц и животных он мог бы в черный день съесть в качестве жаркого.
Душой общества был Авксентьев. Он оказался премилым и превеселым социалистом-революционером, отлично рассказывал армянские и еврейские анекдоты, пел куплеты. Он очень выигрывал в тюремной обстановке. Социалисты-революционеры были привычны к тюрьме. Аргунов, производивший серьезное впечатление, ухитрился как-то уже при большевиках в столь короткое время быть арестованным в третий раз. Всего в России и в Сибири он сидел восемнадцать раз.
Молодой Питирим Сорокин, оставленный при университете приват-доцент, был арестован сейчас же после свадьбы. К нему на свидание приходила совсем молодая хорошенькая жена.
У нас образовался даже хор. Но одиночные из соседнего коридора просили прекратить пение; оно их раздражало. Многие надзиратели постоянно напевали в коридоре во время своего дежурства, пели и некоторые одиночные заключенные. Какой-то сильный, но неприятный тенор орал целыми днями и надоедал нам, а некоторых, как ранее и Шингарева, раздражал.
Иногда удостаивал нас своим посещением и Пуришкевич, который свободно расхаживал по своей «каторге». Но не в своей среде он долго не засиживался. Теперь мы уже сами топили печи под руководством Авксентьева. Это совсем не так просто растопить печь, особенно когда дрова не сухие. Для этого у нас было установлено дежурство.
Оказались у нас и поэты: Пуришкевич, Терещенко и Бернацкий. Я как-то между ними устроил конкурс. Написал в юмористическом тоне благодарность госпоже X., в которой я говорил, что благодаря ее пирожкам и котлетам тюрьма моя сделалась раем, что они не только питают меня телесно и, холодные, согревают мне душу и тому подобное, я передал это им перефразировать в стихи. Пуришкевич написал звучную, но совсем не подходящую элегию, Терещенко подпустил еще более неподходящее легкомыслие, чуть не порнографию, и пальму первенства получил Бернацкий, очень хорошо, почти дословно обративший прозу в стихи. Я их переписал, подписал и при следующем свидании вручил этот плагиат по назначению.
В отныне, как я шутил, историческую дату 19 февраля состоялось мое освобождение.
После убийства Шингарева и Кокошкина мои московские друзья решили во что бы то ни стало добиться моего освобождения. Все та же неутомимая госпожа X. взялась за это трудное дело и немало прожила для этого в Петрограде, обивая пороги власти. Оказалось, как я и предполагал, никакого дела обо мне не было, кроме ареста по декрету 28 ноября. Наконец ей выдали ордер на мое освобождение. Но она его не взяла, опасаясь, что солдаты Петропавловского гарнизона меня убьют, как Шингарева и Кокошкина. Она добилась, чтобы меня вызвали якобы для допроса в Чрезвычайную комиссию и чтоб освободили оттуда, лишь бы не из крепости.
После обеда меня вызывают для допроса в ЧК, во дворец Николая Николаевича, куда я иду с молодым солдатом с винтовкой, совершенно не знающим Петрограда. Дворец совсем близко. Подойдя к Троицкому мосту, иду к нему. Солдат останавливается и говорит, что ему объяснили, что надо через мост идти. «Да куда же вы меня ведете?» – «Да где была Дума, а теперь Совет». Пришлось идти через мост. Показываю ему дорогу через набережную и Шпалерную.
Петроград еще больше опустился и в эту первую мою после заточения прогулку произвел удручающее впечатление. Улицы в ухабах, занесены снегом. Многочисленные афиши о танцульках, между прочим в бывшем Дворянском собрании.
Госпожа X. меня ждала в ЧК, она увидала из окна, как мы подошли к мосту и свернули на него. Она заподозрила что-то недоброе. На мосту она увидела толпу. В это время резали лед на Неве и толпа смотрела. Кто-то из служащих, тоже смотревших в окно, привлеченных испугом госпожи X., сказал: «Не сбросили ли они его с моста?» Убийство Шингарева и Кокошкина было еще у всех на памяти. Можно себе представить состояние бедной госпожи X. Она умоляла послать кого-нибудь, сама хотела бежать, но ее не пустили, говоря, что хуже будет. Так боялись даже в ЧК неподчиняющегося автономного гарнизона крепости. Телефонируют в крепость. Ответ: «Долгоруков отправлен четверть часа тому назад к вам». Оказывается, и там тоже всполошились, начали звонить, разыскивая меня.
Между тем мы подошли к Таврическому дворцу. Входим. Знакомый швейцар, с которого Трубецкой лепил Александра III, приветливо встречает. На вопрос конвоира, где здесь ЧК, оказывается, что здесь ее нет. Советую солдату телефонировать в крепость. Телефон тут же. Вокруг, в загрязненной до невозможности комнате, снуют люди, как мне показалось, дегенеративного типа. «Ну и кабак же у вас», – говорю я громко швейцару (вроде того, как В.А. Маклаков выразился про 2-ю Думу). Швейцар оглянулся и отошел от меня с опаской.
По телефону выяснилось, что идти, конечно, надо было во дворец Николая Николаевича. Тогда же из крепости телефонировали в ЧК, что я нашелся в Таврическом дворце. Говорю солдату, что я устал, пешком не пойду, сядем на трамвай. Он говорит, что ему денег не дадено. Я отвечаю, что у меня есть. На Шпалерной не садимся. Мне захотелось побаловаться и зайти к двоюродной сестре на Сергиевскую. Объясняю, что это не попутный трамвай. На Сергиевской звоню у подъезда. Солдат говорит, что не полагается. Я его убеждаю, что тут двоюродная сестра, которая у меня бывает в крепости, что мне только сказать, чтоб зашла. Выходит служащий и с удивлением смотрит на меня. «Скажите госпоже У., что она давно не была у меня в гостях, что я ее жду». Я и не подозревал, что не вернусь в крепость. Идем далее и садимся на Воскресенской в трамвай с пересадкой. Я мог бы моего солдата завести куда угодно и легко мог бы скрыться. На пересадке на Инженерной пропустили вагона четыре, все были переполнены, висели грозди людей, преимущественно солдат, на ступеньках. Наконец я втискиваюсь на площадку первого вагона, а солдат попадает в прицепной! «Не забудьте сойти, как переедем Неву!» – успеваю я крикнуть моему охранителю. Переехав мост, соединяемся с ним и уже в сумерки подходим к дворцу.
Солдат меня сдает под расписку. Меня ведут наверх по лестнице, украшенной трофеями великокняжеской охоты. Поднимаемся на третий этаж. Последние служащие расходятся по окончании присутствия. В одной из комнат, к моему удивлению, вижу госпожу X. Ничего не понимаю. Она указывает пальцем на рот, чтобы я молчал: «Молчите! Вы свободны!»
Садимся в темный угол, и она мне все объясняет. Она была уверена, что подвела меня на смерть, когда я исчез на Троицком мосту, и более часа томилась, пока из крепости не телефонировали, что я нашелся. Потом опять более часа ожидания. Она приносит мне откуда-то чаю. Оказывается, служащие приняли в ней горячее участие, успокаивали ее, давали пить воды, угощали чаем. Теперь уже служба кончилась, но какой-то Николай Николаевич и три-четыре машинистки специально из-за нее остались по окончании службы, чтобы вывести меня, когда совсем стемнеет, так как к моменту выхода служащих, когда легко было выйти с толпой незамеченным, я опоздал. Всего мы просидели часа полтора. Так они опасались крепостного гарнизона! Подошел Николай Николаевич. Шучу с ним: «Это ваш дворец?» Машинистки интересуются моими впечатлениями в крепости. Одна из них, когда заговорили о гарнизоне, воскликнула: «Звери!» И тут я столкнулся с двоевластием: ЧК охраняла мою жизнь от красноармейцев! Правда, это был первый год власти большевиков.
Наконец, когда уже все залы были пусты и было совершенно темно, мы стали спускаться по черной неосвещенной лестнице с электрическим ручным фонарем, который гасили на двух площадках и внизу, где дремали солдаты и матросы. «Кто идет?» Николай Николаевич называл себя, и нас пропускали.
Я шел посередине, окруженный тесным кольцом моих ангелов-хранителей – чекистов. Еще наверху они посоветовали мне не идти на мост, так как если солдаты крепости спохватятся, узнав о моем освобождении, то могут устроить на мосту засаду. Мы сердечно поблагодарили Николая Николаевича и милых чекистов, которых госпожа X. готова была расцеловать, и пошли направо по Каменноостровскому.
На углу Архиерейской у больного двоюродного брата жил посещавший меня Акерман, который был крайне удивлен моему появлению. Горячий ужин впервые после трех почти месяцев, хорошее вино, ванна, мягкая постель. Совершенно измотанная в этот день госпожа X. хотела идти в университет на Васильевский остров, где она остановилась, но Акерман уговорил ее остаться, уступив ей свою комнату. Ужин и утренний кофе были очень веселые.
За вещами своими я предпочел не ехать, а для безопасности просил съездить Акермана, швейцарского гражданина. В коммуну нашу я послал икры и других гостинцев, описание моего освобождения и добрые пожелания. Помощник коменданта прислал мне с вещами немного денег и вещи, отобранные 28 ноября у Шингарева и Кокошкина, которые они не успели взять при выезде в больницу.
Глава 5 В большевистской Москве. 1918 год
В Петрограде я остался дня три. Настроение тогда было на улице антибольшевистское, власть большевиков как-то сдала, и можно было громко критиковать ее. Помню, на другой день после освобождения наткнулся я на углу Надеждинской и Литейной на митинги. Я был поражен, как на них ругали большевиков, и даже сам выступил с критикой их. Один господин, оказавшийся петроградским кадетом Новицким, узнал меня и, отведя в сторону, убедил меня из осторожности не выступать, так как большевики могли меня узнать.
Выехав в Москву во втором классе, встретился случайно с Родичевым, отпустившим большую бороду и изображавшим из себя итальянца. В Любани наш вагон испортился и нам прицепили третий класс. Когда утром Родичев зашел ко мне в купе, то ехавший со мной господин спросил, не Родичев ли это, очень он на него похож. Я ему сказал, что это обрусевший итальянец.
На Масленицу я съездил в последний уже раз в деревню в Рузу и ел даже там блины с икрой. Весной и летом уже ехать туда не мог, и в Москве приходилось скрываться и жить нелегально. Из нашей чудной старинной усадьбы мы вывезли лучшие портреты французской работы – Lebrun, Lampi, Roslin, – которые дали на хранение в Третьяковскую галерею, а также вывезли письма Екатерины II Долгорукову Крымскому и кое-какие исторические и ценные вещи, которые, вероятно, теперь погибли. Уже за границей мне попался большевистский художественный журнал, в котором описывался попавший в Румянцевский музей мой альбом с 52 рисунками старых мастеров – Рубенса, Дж. Беллини, Карпаччо, Сарто и других из коллекции известного английского коллекционера Уэльполя с его ex libris. Рад, что эта художественная ценность сохранилась.
Верх нашего большого московского особняка самовольно заняла броневая команда. С лестницы было слышно, как они наверху пели, вероятно пировали, барабанили по «бехштейну»[8]. Мы помещались в двух нижних квартирах. Когда министерства стали переезжать в Москву, то дом был назначен под Морское министерство, но броневая команда, считая себя автономной, отказалась очистить помещение и даже выставила на дворе броневики с пулеметами. Долго ее уговаривали, но и Троцкий, военный и морской министр, ничего не мог сделать. Наконец, когда им отвели дом Манташева на Ходынке, они переехали. Морское министерство заняло сначала верх и часть флигеля, потом понемногу стало нас выживать, сначала заняло одну нижнюю квартиру, а к осени стали зариться и на мою половину, в которой мы уплотнились.
Впоследствии, как я узнал из немецкой газеты, переданной мне Гучковым, в нашем доме помещался университет имени Маркса и Энгельса с библиотекой в 500 тысяч (?) томов.
Пасху, как и в прошлом году, встретил в Кремле. Но какая разница. Закрытый для публики Кремль для пасхальной ночи открыли, но народу было очень мало. Нарочно ли, случайно ли, но электричества на площадях Кремля в эту ночь не было и было совсем темно. На колокольне Ивана Великого горело несколько плошек. Совершенно просторно было на темной площади с редкими огоньками свечек во время крестного хода; свободно было и в соборах. Ничего общего с обычной торжественной светлой кремлевской пасхальной ночью. Казалось, колокола звучали как-то глухо. Было мрачно и зловеще.
До мая я жил у себя дома беспрепятственно «под сенью броневых штыков», а затем – матросских. Когда я вернулся в Москву, стал формироваться Национальный центр, который потом в Москве и на юге России получил большое развитие. Не настало время подробно говорить о деятельности и деятелях Национального центра. Многие его московские члены, мои политические и общественные друзья, в 1919 году были расстреляны. Национальный центр сразу принял надпартийную платформу, аналогичную лозунгам Корнилова и Алексеева, как и впоследствии за границей Национального комитета, всегда стоявшего на надпартийных лозунгах армии и поддерживавшего ее.
Часто виделся с принимавшим деятельное участие в Национальном центре Д.Н. Шиповым, моим долголетним сотрудником и приятелем по Московскому земству. Он сильно страдал головными болями, постарел, но сохранил удивительную энергию. Он умер в Москве, когда мы были на юге. Упомяну еще о Н.Н. Щепкине, расстрелянном со многими другими членами НЦ в Москве, и Червен-Водали, тверском нотариусе, командированном впоследствии с Н.К. Волковым Национальным центром из Екатеринодара с Сибирь к Колчаку и расстрелянном там большевиками. Приезжал из Ростова М.М. Федоров. Национальный центр впоследствии развил свою деятельность по сношению Москвы с Колчаком и Добрармией.
Как и ранее, в Москве формировались все политические группировки. На Мясницкой начинал действовать Торгово-промышленный союз, с которым у нас было тоже постоянное соприкосновение. Собирались и умеренные правые, монархисты, среди которых были многие приехавшие из Петрограда (князь Алексей Дмитриевич Оболенский, Гурко). Среди правых господствовала немецкая ориентация, которая сильно была распространена в петроградских бюрократических сферах.
На ту же ориентацию перешел в Ростове и Милюков, решивший уклониться от Учредительного собрания, в которое был выбран и уехавший прошлой осенью с чужим паспортом на юг. Многие наиболее активные члены Центрального К.-д. комитета в Москве стали работать в надпартийном Национальном центре (о Правом центре упомяну впоследствии).
Но и партийная жизнь продолжалась. До мая действовал кадетский клуб в Брюсовом переулке. В начале мая состоялась последняя партийная конференция с приезжими иногородними членами, подтвердившая союзническую ориентацию партии и высказавшаяся против соглашения с немцами.
18 мая, когда в клубе было какое-то совещание, часа в четыре нагрянули большевики и арестовали до 60 членов Центрального комитета, городского и некоторых провинциальных комитетов. Их на открытых грузовиках повезли и заключили в ЧК на Лубянке. Очевидно, разгром клуба произошел с одобрения, если не по настоянию немцев, так как мы все значились не только в большевистских, но и в немецких проскрипционных списках. В тот же день было произведено несколько обысков и арестов на квартирах. Я в это время был на заседании в Художественном театре, пайщиком которого я состоял и куда мне телефонировали о разгроме клуба и чтоб я не ходил домой, где происходит обыск. Я оставался долго в театре, беседуя с двоюродным братом А. Стаховичем и артистами, и лишь под вечер пошел к себе.
Иду с Волхонки переулком – шестилетняя девочка идет навстречу и, не останавливаясь, говорит: «Не ходите!» Тогда у ворот нашего дома я заметил каких-то людей. Я как ни в чем не бывало вошел в соседнюю гостиницу «Княжий двор», откуда потом и ушел обратно на Волхонку. Оказывается, у меня была устроена засада, и служивший у меня в конторе отец многочисленного семейства разместил своих детей по трем переулкам, окружающим дом, чтобы меня предупредить. Таким образом, шестилетняя девочка спасла меня от засады и ареста, что не удалось 28 ноября нашим кадетам в Петрограде у дома Паниной. Потом у меня было произведено еще несколько безрезультатных обысков. Ничего компрометирующего я, конечно, у себя не держал.
Из арестованных в клубе товарищей некоторых отпустили через несколько недель, но многим пришлось сидеть долго, а некоторым до Рождества. Теперь уже я посылал провизию госпоже X., так как она была в числе арестованных. На свидание же не мог ходить. Раза два я ходил по переулку, примыкающему к Лубянке, куда выходило большое окно комнаты, где заключены были Кишкин, Комиссаров, госпожа X. и другие мои партийные друзья, с которыми я и раскланивался с улицы.
Но как-то раз я решился добиться свидания. В день свиданий я пришел в приемную ЧК на Лубянке. Много знакомых, родственников заключенных, которые ужаснулись, что я пришел, и гнали меня вон. Но я подаю листок с просьбой о свидании, жду часа полтора, и наконец мне отказывают, кажется, как не родственнику. Тогда я из передней прохожу в боковую дверь, где стоит часовой, намереваясь форсировать препятствия. Часовой спрашивает пропуск. Я принимаю начальнический вид и тон и спрашиваю: «Нечто не знаешь, кто я? Я сам даю пропуска!» Когда я прошел, то обернулся и сказал ему, что я скоро выйду, чтоб он запомнил меня. Поднимаюсь наверх, где по расположению окна, я предполагаю, находится комната заключенных приятелей. Но в массе коридоров запутываюсь. Решаюсь открыть одну дверь. Оказывается, следователь разговаривает или допрашивает кого-то. «Что вам нужно?» – «Где камера заключенных таких-то?» – «Не здесь, сюда вход запрещен», – говорит он сердито. Спрашиваю у какого-то солдата, потом у женщины и прислуги. Говорят, что в другом корпусе. Отсюда нет хода. Пришлось возвращаться без результата. Едва нашел дорогу. Когда я выходил, часовой как раз сменялся, и когда новый хотел спросить у меня пропуск, то старый узнал во мне «начальство» и сказал пропустить. Опоздай я на полминуты, может быть, меня задержали бы.
С мая началось кошмарное для меня лето. После прекрасного нашего подмосковного имения и прохладного дома в Москве со сводами и большим садом пришлось нелегально ютиться все жаркое лето в пыльном городе по чужим квартирам. Бюро Центрального комитета К.-д. партии собиралось очень часто в маленьких душных комнатах, преимущественно в переулках в конце Пречистенки и Остоженки и на Девичьем поле. Два раза состоялись и пленарные комитеты с кое-кем из петроградцев. Графиня Панина жила все лето в Москве и работала с нами.
Когда я не мог вернуться к себе в дом из-за засады, я прожил у знакомого в мезонине особнячка в глухом переулочке у Зачатьевского монастыря недели полторы. Но как раз в день, когда должно было у меня собраться бюро Центрального комитета, меня хозяин квартиры предупредил, что утром, когда меня не было, заходили два подозрительных субъекта, якобы от санитарного надзора. Он просил не собираться, а меня съехать. Наскоро нашли место для заседания в другом конце города, а после заседания я со свертком вещей отправился ночевать к А. Стаховичу на Страстной бульвар. И хорошо сделал, что съехал, так как ночью в домике, где я жил, был обыск, открывали шкафы, шарили на чердаке, в подвале: очевидно, искали меня.
У Стаховича, с которым я был в близких родственных отношениях, я переночевал на диване лишь одну ночь. Он нервничал и на другой день, ссылаясь на домовый комитет и возможность подвести кого-то, сказал, что мне тут оставаться опасно. Он был очень деликатный человек, но не из храбрых. Еще в революцию 1905 года, когда я свободно ходил по улицам, он с артистом А.Л. Вишневским заперлись в меблированных комнатах на Неглинной и просидели в форте «Шаброль», как я смеялся над ними, около недели. Стахович, замечательно милый и способный человек, страдал наследственной хандрой. В 1919 году он удавился в этой же квартире на дверной ручке. Когда я в Ростове узнал о его смерти, то показывался фильм с его участием. Странно и грустно было видеть это посмертное выступление…
Когда утром выяснилось, что надо съезжать от Стаховича, то я, выйдя на улицу большого города, в котором прожил полвека, не знал, где преклонить голову вечером. К счастью, я встретил приятеля графа Д.А. Олсуфьева, который мужественно приютил меня у себя в Мерзляковском переулке без всякой прописки, где я прожил до поздней осени, до отъезда из Москвы, так что, очевидно, риск для него от моего пребывания был немалый. Я очень был ему признателен. Немного спустя я стал днем заходить к себе в дом, где у меня на квартире жили племянник с женой, просто так или чтоб разбираться в вещах.
Английский клуб был уже закрыт, в большие рестораны, еще действовавшие, мне было опасно ходить, да и цены уже были недоступные. Лишь два раза меня угощали в «Эрмитаже» и в «Праге». Ходил же я по маленьким неважным столовым, часто вегетарианским, которых расплодилось очень много.
Раз в такой столовой подходит ко мне элегантный молодой человек. Не узнаю. «Авксентьев», – шепчет он мне. Он был неузнаваем в нелегальном виде со сбритой бородой.
В Москве росли, как грибы, антикварные и комиссионные магазины. Старая Москва распродавала свою старину. Многие представители и представительницы общества сами торговали в открываемых ими сообща магазинах.
Я много играл в шахматы. Устраивались шахматные турниры (князь А. Оболенский с сыновьями, граф Олсуфьев, граф С.Л. Толстой, граф Б.С. Шереметев и другие).
Последнее пленарное заседание Центрального комитета К.-д.[9] с приездом петроградцев состоялось в конце июля. И это заседание мы должны были отложить на два дня и перенести в другое место, потому что нам сообщили, что большевики узнали о нашем заседании. Незадолго перед этим подтвердился слух об убийстве 3 июля царской семьи. Открывая заседание, я сказал по этому поводу следующее: «Хотя мы и стеснены временем и условиями нашей работы, я считаю себя обязанным в самом начале заседания посвятить несколько слов подтвердившемуся слуху об убийстве бывшего государя. Мы во многом не сочувствовали его способу управления Россией, наша партия была в оппозиции к назначаемым им правительствам, как нелегальная организация. Но совершенно независимо от нашего к нему отношения как к человеку и монарху, независимо от того, республиканцы мы или монархисты, мы друзья Кокошкина и Шингарева и по-человечески не можем не ужаснуться этому зверскому умерщвлению узника и его семьи, а равно и с государственной точки зрения, так как узурпаторами власти убит человек, бывший до своего отречения законным носителем верховной власти в России. А потому эта новая, всероссийская жертва выделяется из тысяч жертв русской революции и все русские, не потерявшие совести и государственного разума, должны содрогнуться, узнав об этом злодеянии. И мы, по существу и по форме стремившиеся быть «оппозицией его величества», обязаны почтить сегодня память этого несчастного русского монарха».
Молчаливым вставанием мы почтили память государя Николая П.
Когда через год, 3 июля 1919 года, в Екатеринодаре в № 143 «Свободной речи» я привел эту мою речь, то какая-то социал-сепаратистская кубанская газетка высмеяла нас, и в окне какого-то местного пресс-бюро была выставлена моя статья, обведенная красным карандашом и с таковой же надписью: «Вот они, кадеты-царисты!!!» Так политические и партийные страсти бушевали в двух шагах от Ставки Деникина!
Почти ежедневно происходили всякого рода заседания в душных комнатах маленьких домов. Только два раза я, деревенский житель, вырвался за это лето из Москвы.
Провизия страшно дорожала, часто был недостаток продуктов, огромные хвосты у лавок. Москва питалась мешочниками. В конце июля по приглашению Шнеерзона, к.-д., бывшего черниговского раввина, а теперь организатора каких-то кооперативных учреждений в Рязани, выдающегося по энергии организатора, я, госпожа X. и еще двое поехали в Рязань за продуктами. На железных дорогах была мука тогда ездить, и мы решились поехать на пароходе. До Рязани по железной дороге езды часов пять-шесть, а на пароходе двое суток, так что, оставаясь в Рязани лишь от утра до вечера, мы всего проездили более четырех суток! Но какая прелесть была эта поездка на маленьком пароходике, вырванная из московского лета!
Старые московские монастыри с башнями и бойницами, историческое село Коломенское с его шатровой церковью-пасхой, барские усадьбы в старых парках, шлюзы по Москве-реке, знаменитые бронницкие заливные луга с рядами косцов, Коломна с монастырями, церквами, лесистые высокие берега Оки. До Коломны сутки, и сутки до Рязани. Все время по Москве-реке запах скошенного сена с близких берегов, а ночью – таборы и костры косцов. От пристани до Рязани мы прошли поемными лугами пешком.
Мы закупили при посредстве гостеприимного Шнеерзона чуть не за полцены против московских цен много муки, крупы, окороков и прочего и провезли все благополучно в Москву, несмотря на два обыска парохода из-за преследуемого мешочничества. Мы дали продукты запрятать пароходной прислуге. Почему-то конфисковали только флакончик с одеколоном.
Другой раз я поехал с графом С.Л. Толстым на два дня к графу Д.А. Олсуфьеву, в г. Дмитров. Он жил в хорошем доме с тенистым садом покойного своего брата, дмитровского предводителя. В городке много зелени. Граф С.Л. Толстой хороший музыкант, много играл на рояле. Мы много играли в шахматы. Познакомился со стариком Кропоткиным, который снимал комнаты у Олсуфьева в виде дачи и приехал на следующий день из Москвы. Он очень мирный и национальный анархист.
Конечно, велись и политические разговоры. В Москве тогда был очень влиятельной особой германский посол граф Мирбах и немецкая ориентация все более развивалась. Преклонение перед немецкой силой, растерянность и отсутствие национального достоинства у правых заходили очень далеко. И тут граф Олсуфьев, член Государственного совета от саратовского земства, горячился и упрекал меня, что мы, к.-д., худшие враги России (тоже «враги народа»!), что, если бы мы не упорствовали, Мирбах уже давно привел бы войска и прогнал бы большевиков и т. д. Я спокойно возразил ему, что по моральным соображениям мы не хотим изменять союзникам, хотя в международной политике моральные соображения еще не играют пока надлежащей роли; но и по соображениям чисто практическим, по данным стратегического, политического и экономического характера, мы убежденно стоим на союзнической ориентации, имея в виду будущий мирный конгресс и неминуемый разгром германского милитаризма. Присутствовавшая при споре дама потом пожала мне руку и сказала, что ее покойный отец был бы всецело на моей стороне. Это была графиня Милютина, дочь военного министра, который еще при Александре II предвидел пагубность для России германофильской политики.
Графиня Милютина, друг дома графов Олсуфьевых, жила в своем доме рядом, построенном на той же усадьбе.
Но Олсуфьев не унимался и договорился до следующего: «Пусть немцы, освободив нас от большевиков, превратят Россию лет на пятьдесят в германскую провинцию. Какое благоденствие наступит у нас! Они покроют Россию сетью шоссе и железных дорог…» и т. д.
Но, несмотря на политику, поездка в Дмитров тоже оставила хорошее впечатление свежести и зелени. Помещиков в Дмитровском уезде еще не трогали, а в свою Волынщину, Рузского уезда, я уже не мог ехать. В середине лета многие уездные наркомы стали выселять помещиков и их управляющих. Постановили выселить моего одного знакомого помещика. Но он был в хороших отношениях с местными крестьянами, и волостной совет отказался это выполнить. Тогда приехал из уездного города комиссар, бойкий еврейчик лет 18—19 с понятыми, увез его от больной жены и детей за 40 верст в город, где он и просидел в тюрьме недели три. Как у человека нервного, у него отнялись ноги, и в Москву он приехал совсем больной. Он человек прогрессивного направления и отнюдь не шовинист, стал с ненавистью говорить о «жидах». Так воздействовало непосредственное участие евреев в причиненных бедствиях на обывателей.
Наша Волынщина разгромлена не была, и впоследствии, говорят, там было коммунальное хозяйство.
В Москве я еще раз был арестован. Когда к осени большинство наших арестованных в мае было выпущено, а обыски у нас и, в частности, у меня прекратились, я часто бывал у себя на квартире и даже спал по нескольку ночей подряд дома. Только что я раз лег в постель в 2 часа ночи, раздается стук в окно и голоса. Я встал, но не зажигаю электричество. Стук и голоса усиливаются. Приходит встревоженная племянница. Я все не отвечаю. Через несколько минут звонок из передней и стук в дверь. Входят для производства обыска красноармейцы в сопровождении моего бухгалтера, который был председателем домового комитета, мною же назначенного, так как дом наш был особняк. Требую ордер на обыск. Показывают. Подробно осмотрели всю квартиру, перерыли мой письменный стол и бумаги; всего часа полтора провозились. Как всегда, фуражки и шапки набекрень, папиросы в зубах, неистово курят мои папиросы. Горничная племянницы дрожит, стучит зубами. «Что, – говорю я, – боитесь? Вон сколько женихов понаехало! Такие же русские люди, небось не обидят». Ухмыляются: «Конечно, такие же люди, к чему обижать!» – «В отдельности, – говорю, – каждый из вас хороший парень, а как в толпе, да натравят вас начальники ваши, то своих же русских убиваете, как зверей». Забрав бумаги, еще кое-что, кошелек с монетами, оставшимися от заграничных путешествий, между прочим египетский золотой и несколько золотых луидоров и фунтов, приказывают садиться и объявляют, что я, племянница и камердинер арестованы, и выводят нас на двор. «Где же, – спрашиваю, – автомобиль? Я привык в автомобиле в тюрьму ездить». – «Да вам тут же, рядом». Оказывается, нас повели в соседний особняк Соловых, где помещалась военная контрразведка.
В сводчатой комнате старого особняка уже сидело несколько мужчин и женщин, потом подвели еще нескольких, между прочим аббата Абрикосова. Мы всю ночь продремали сидя, и на допрос нас стали вызывать лишь после обеда. На обед нам дали какой-то бурды. Племянница ничего не ела, я ел только черный хлеб, а служащий наш съел все три тарелки супа.
Следователь допытывался, имел ли я отношение к какой-то экспедиции Абрикосова на Мурман. Так как ни я, ни племянница ничего не знали и ясна была наша полная неприкосновенность к этому делу, то следователь нас сейчас же отпустил. Я требовал было указать, по чьему доносу я арестован, но он, корректно в общем себя ведший, отказал. Так я и во второй раз при аресте не узнал, за что арестован. Думаю, что разыскивали моего племянника, который, к счастью, накануне выехал в Добровольческую армию. Через несколько дней вернули все забранные бумаги и вещи, даже иностранные деньги. Не возвратили лишь «оружие» – дамское ружье племянницы – и мою предводительскую шпагу с клинком, вывезенную мной из Толедо.
К осени положение в Москве сделалось для нас невыносимым. Приведу здесь выдержки из воспоминаний моих в «Свободной речи» (20 декабря, № 17) о политической деятельности нашей за это лето.
«Когда я из Петропавловской крепости в феврале вернулся в Москву, то Центральный комитет К.-д. партии уже высказался по поводу Брестского договора, за нерушимую верность союзникам».
«На последней партийной московской конференции в мае резолюция о верности союзникам была вновь принята единодушно (после блестящего доклада Винавера). Сейчас же после конференции последовал разгром партии (60 арестованных в клубе, обыски и аресты по домам), очевидно, с одобрения немцев. Затем наступило кошмарное лето…» (Уже описано у меня.)
«Киевский один приятель, когда я бежал в Киев, сказал мне: «Вы там были лишены возможности заниматься реальной политикой, а реальное дело делали мы здесь, на Украине. История покажет, кто на самом деле вел более реальную политику».
«Мы считали, что делаем большое национальное дело, и московское сидение, думается, займет должное место в истории нашей партии.
Изгнанные из дач и имений, занесенные не только в большевистские, но и в немецкие проскрипционные списки, мы должны были все лето, из-за опасения ареста и расстрела, вести в Москве кочевую жизнь, в поисках ночлега без прописки, опасаясь доноса швейцаров и дворников, постоянно меняя местожительство. Собиралось два-три раза в неделю лишь бюро Центрального комитета, человек 5 – 6 все лето по разным душным квартиркам на окраинах.
Москва изнемогала под большевистским гнетом. Германская ориентация делала огромные успехи. Со всех сторон и даже из недр партии нас упрекали в утопичности, в нереальности нашей позиции, требовали призыва нами немцев для введения порядка и охраны имущества. В то же время киевские наши товарищи, разобщенные с нами, учредили автономный главный комитет партии на Украине и повели свою линию, не соответствовавшую тактике, принятой партией. Но еще более нас смутил отход от нашей тактики виднейших наших товарищей по Центральному комитету, ошибка которых заключалась в том, что они, находясь на юге России, более полугода не сообщались с партией через бывшие оказии и, будучи хуже нас информированы, повели самостоятельную политику с креном на немцев. Стали говорить и писать, что кадеты переменили ориентацию на немецкую. Партии грозил раскол, а может быть, и гибель, так как после пережитых страной войны и революции все отделы партийной программы подлежали пересмотру, и при отходе программных вопросов при данных условиях на второй план мы могли быть крепко связаны лишь тактикой.
И московским сидением мы спасли партию. Центральный комитет в Москве, его петроградское отделение, а затем в июле и пленарный Центральный комитет в Москве единодушно вновь высказались, несмотря на внешний и отчасти партийный натиск, за союзническую ориентацию. Расхождение с целыми группами, киевской, с виднейшими отдельными нашими товарищами (Милюков и др.) сильно нас смущало. Да, смущение было, но смятения – ни минуты, и партия, как таковая, стойко выдержала искус. Ввиду отсутствия печати и нелегального нашего положения, слухи о перемене ориентации партии распространились и в провинцию. К нам начали приезжать смущенные партийные товарищи специально, чтоб выяснить положение, и, узнав о твердой и неизменной позиции партии, с облегчением уезжали. По возможности личными и письменными сношениями мы восстановили и в провинции стройность наших рядов, что при большевистском гнете и успехах Германии на Западе было не легко. Лишь в октябре, когда Германия дрогнула, наша линия вполне оправдалась и вопрос о немецкой ориентации потерял свою остроту и опасность, мы покинули Совдепию, не без труда и приключений выехали в места, куда политическая жизнь стала переливаться из изолированной, голодающей и замирающей Москвы. Разумеется, и выбраться из Москвы весной или летом было бы легче и жить где-нибудь в Крыму или Киеве было бы безопасней, беззаботней и сытней…
А в течение лета натиск на нас германофилов все усиливался. Тогда как некоторые правые дворянские круги Москвы (Самарины, графы Шереметевы и др.) были против измены союзникам, другие лица, преимущественно из правобюрократических петроградских сфер, определенно склонялись к немцам. Укажу из многих на несколько характерных примеров. В середине лета князь Д.Д. Оболенский рассказывал мне, приехав прямо от графа Мирбаха, как он его умолял направить в Москву хоть один германский корпус, чтоб прогнать большевиков. Граф Мирбах отвечал ему, что ежедневно к нему с такой же просьбой обращается несколько человек. «Вы, правые, умеете только просить, но за вами никто не стоит. Организуйте сначала в этом направлении общественное мнение. А русское общественное мнение пока против нас. – И он указал ему на нашу кадетскую резолюцию. – Вот, если бы кадеты нас звали – другое дело, а то кого мы теперь будем освобождать?» И князь Оболенский горько упрекал нас в том, что мы губим Россию, упорствуя в нашем доктринерстве и не выклянчивая помощи у врагов России. Через некоторое время, проходя по Арбату, я встретил похоронную процессию убитого Мирбаха. Представителей большевиков не заметил. Шло несколько немцев в сюртуках и цилиндрах. Меня поразила малочисленность публики для Москвы, где была до войны такая внушительная немецкая колония.
Правые бюрократы с немецкой ориентацией, войдя в непосредственные переговоры с немцами, погубили тем и междупартийное объединение – Правый центр, из которого вследствие этого мы должны были с некоторыми группами выйти и образовать Национальный центр[10]. Главная партийная работа наша и состояла именно в образовании широкого междупартийного и общественно-политического фронта, долженствующего подпереть противобольшевистскую военную силу, дать точку приложения союзнической помощи и способствовать образованию русской государственности. С этой же целью некоторые из нас входили в более левое объединение – Союз возрождения. Мы были связующим звеном его с Национальным центром. Это надпартийное дело партия Народной свободы и считала своим главным национальным заданием и ему преимущественно посвятила свои силы.
При этом обнаружилось, какое значение имеет для образования междупартийных организаций сплоченная, влиятельная партия».
Осенью Милюков переехал из Ростова в Киев. Мы ему посылали с оказией информацию в Ростов, он более полугода нам ни разу не писал. Из Киева он, оторвавшийся от партии, поведший свою линию с небольшим сравнительно числом членов партии, прислал нам резкое, как некоторые в бюро Центрального комитета выразились, дерзкое письмо, в котором он упрекает нас, что мы (!) в Москве уклонились от линии партии. Никто не хотел верить, что это мог написать Милюков, говорили, что это апокриф. Так с тех пор и стало это письмо называться апокрифическим. Лишь я, знавший Милюкова с моего детства, около полувека, утверждал, что это милюковское произведение. Пылкий Кизеветтер воскликнул: «Ведь тогда его надо было бы исключить из партии!» Дело в том, что Милюков сам, сознательно или не сознательно, вел постепенно к выходу своему из партии. Недовольный тем, что партия не поддержала его при выходе его из Временного правительства и вопреки его мнению постановила посылать в него своих членов, он в 1918 году, уже игнорируя партию, повел, оторвавшись от нее, свою линию и окончательно разорвал с партией в 1921 году в Париже, когда третий раз остался в меньшинстве, и образовал тогда свою отколовшуюся «демократическую» группу меньшинства. Лично я не упрекаю его в расхождении с партией по существу. В мучительных поисках спасения России я убежден, и Скоропадский, и Краснов, и многие другие делали ставку на немцев тоже из национальных, патриотических побуждений. Я упрекаю его в том, что он, ставя свое мнение превыше всего, желая непременно быть вождем и в то же время оставаясь в важнейших тактических вопросах в меньшинстве, поступил не общественно и не партийно, пренебрегая судьбой партии, выше которой он ставил свое мнение, свое «я».
Глава 6 Бегство из Москвы. Екатеринодар. 1918—1919 годы
В Москве уже некоторые мои приятели днем не выходят, кто отпустил, кто сократил бороду. В начале октября, в день выезда с паспортом украинца Черниговской губернии Зайцева, я тоже подстриг бороду, чтоб походить на хохла. В Москве же я все время ходил по улицам в своем виде. Как-то на Никитском бульваре сижу и читаю газету. Подходит такой видоизмененный знакомый и удивляется, что я не скрываюсь. «Разве вы не видите, – отвечаю я, – я скрываюсь за газетой».
Через Биркенгейма я с трудом получил в счет проданных кооперативу досок, привезенных в Москву через Нижний на баржах, с моего костромского завода, 50 тысяч рублей, из коих себе взял 18 тысяч, а остальные, к сожалению, оставил на расходы по имениям. Купил за 500 рублей четыре золотые десятирублевки и одну десятимарковую, чтоб подкупать на границе большевиков и немцев. Мне казалось тогда, что я заплатил очень дорого за золото. Жалею, что не купил его на всю сумму. Паспорт купил через полицейский участок за 1200 рублей.
Как мне, так и многим другим помог в получении разрешения на выезд мой партийный приятель и сочлен по К.-д. Центральному комитету А.Р. Ледницкий, бывший во главе польского ликвидационного комитета. Через него же я достал пропуск застрявшему на нелегальном положении члену французской военной миссии Эрлишу, депутату-социалисту, которому при наличии немцев было особенно в Москве опасно.
Пришлось немало мне походить по большевистским и украинским учреждениям, и наконец я получил разрешение выехать в украинском теплушечном поезде. Приезжаю около 10 октября на Брянский вокзал – весь поезд уже набит битком и приходится ехать обратно. На следующий день какая-то дама-распорядительница сжалилась надо мной и втиснула меня в теплушку того же поезда. Никак не предполагал, что уезжаю из Москвы так надолго. Я уезжал за счет большевиков на даровом поезде для бежавших с мест боев украинцев при наступлении немцев. Даже чай и обед в дороге давали даром. Было произведено на бесконечных остановках три поверхностных обыска. Спичечную коробку с золотыми я успевал при этом прятать в траву около пути. Но на границе подкупать мне, вопреки предсказаниям, никого не пришлось, и эти пять золотых сохранились до сих пор в виде моего неприкосновенного золотого фонда.
Через два дня к вечеру мы подъехали к конечной русской станции Зерново, находящейся в трех верстах от хутора Михайловского на немецкой Украине. В тот же вечер комендант поезда, выбранный вагонными старостами (двустепенные выборы), отправился в хутор Михайловский с бумагами для переговоров о принятии нашей партии. Поезд был демократический, и так как я один из сотен пассажиров говорил по-немецки, то просили и меня пойти с ним.
Отойдя немного, мы встретили пограничный пикет с пулеметами на железнодорожной насыпи. На окрик мы объясняем, и нас пропускают. Хутор Михайловский – большое местечко при сахарном заводе Терещенко. Немецкие часовые приводят в комендатуру. Там просматривают бумаги, приказывают пассажирам явиться завтра. Возвращаемся опять вдвоем в лунную ночь благополучно, хотя нас предупреждали, что в пограничной полосе развился бандитизм. В стороне слышны отдельные выстрелы. Большевистский пикет нас узнает и пропускает. Близ поезда – живописный табор с кострами. Пришлось еще ночь переночевать в Рос… в Совдепии. На следующий день нагружаем нашу поклажу на телеги, которые доставляют за дорогую плату крестьяне, и мы с комендантом ведем партию в соседнее государство. Длинная процедура у коменданта. Неприятное впечатление от того, как немецкие унтеры хворостинкой регулируют и направляют движение послушной русской толпы. Оказывается, нам придется прожить дней пять в карантине до дальнейшей отправки. Партиями нас направляют в карантин – ужасные, временные бараки для железнодорожных рабочих. Мой барак помещался под самым железнодорожным мостом. Ночью очень холодно.
На следующий день я решил превратиться из Зайцева в Долгорукова и проситься ехать далее, хотя доказательств моей личности никаких не имел. К счастью, переводчиком у коменданта был служивший у Терещенко петроградский кадет, который узнал меня и подтвердил мое identite. Обещали меня отпустить. Прозяб еще одну ночь в бараке, а наутро пришел ко мне переводчик и принес разрешение. В тот же день я выехал в Киев. Проезжая над бараками, я из вагона раскланялся с моими компаньонами, которые, наверно, мне завидовали. Оказывается, какие-то студенты еще в московском поезде узнали меня.
Противно было смотреть, как в вагонах немецкий вахмистр, попыхивая сигарой, что-то рассказывает, объясняет жестами, а публика чуть не с подобострастием его слушает, старается понять, поддакивает победителю. Немцев на станциях почти нет, да и в Киеве войска мало видно.
Киев с апреля прошлого года, когда я возвращался из поездки на фронт, мало внешне изменился. Статуя Столыпина с пьедестала убрана. Скоропадский возведен на гетманский пьедестал. Распоряжаются немцы. Кое-где следы разрушения. Остановился я у Д.Н. Григоровича-Барского, председателя Киевского К.-д. комитета, и пробыл в Киеве дней десять.
В то время Киев был первым беженским этапом. Он был переполнен московскими и петроградскими беженцами, интеллигенцией, аристократией. Устраивались какие-то еженедельные обеды с публикой, преимущественно яхт-клубной. Олсуфьев повел меня на такой обед, но я чувствовал себя не в своей тарелке и что я тут лишний и скоро ушел. Олсуфьев потом мне сказал, что ему досталось за мой привод. После обеда Мятлев читал и пел свои талантливые, едкие памфлеты и куплеты на политические злобы дня. Помню куплеты «Ни гуту». Мой приятель граф Дмитрий Адамович Олсуфьев жил тогда у своего родственника Скоропадского. Незадолго до его падения он от него переехал. Тогда в очередном памфлете Мятлева была такая строфа:
И, учтя, что зреет драма, В ночь из гетманских хором Граф Олсуфьев, сын Адама, Переехал в частный дом.Кто имел недвижимость в Малороссии, спешил продать лес и сруб, получить деньги под имения, заводы. У таковых с утра околачивались евреи.
Тут же впервые открылось аристократическое кабаре, которых потом в эмиграции было немало. Кое-кто бросился в спекуляцию, используя связи со Скоропадским и другими для получения разрешения на пропуск вагонов товаров.
Так как в гетманском правительстве были и министры-кадеты, то у Григоровича-Барского бывали совещания и разговоры по поводу деятельности министерства, в которых я не принимал участия. Я незнаком с деятельностью министерства, но со стороны оно почему-то отдавало опереткой. Настоящая власть чувствовалась у немцев.
Я не шовинист и не германофоб. Но неприятно было ходить добиваться права на жительство, на выезд в немецкие присутствия в русском древнем Киеве. Каюсь: мне менее претило посещение в Москве присутственных мест большевиков, мною ненавидимых и власть которых мне отвратительна. Это явление психологическое. А в самом начале войны, в разгар шовинизма, я же, как пацифист и председатель Общества мира, на многолюдном собрании этого общества в Москве в переполненной зале Политехнического музея восстал против погромов магазина с вывесками немецких владельцев, высмеивал переименование в ресторанах филе по-гамбургски и венского шницеля в филе славянское и шницель по-сербски и, призывая к отчаянной борьбе с врагом, призывал и к гуманному отношению к мирному немецкому населению, приводя слова французского социалиста Вальяна в 70-м году: «Мы воюем с германским милитаризмом и империализмом, но не с мирным немецким народом». В юности мне приходилось жить в Германии, и мне прирейнское и баденское население очень симпатично. И тем не менее спокойное пребывание за гранью вражеских штыков в Киеве мне более претило, чем тем правым элементам, о которых я говорил в предыдущей главе.
Немцы проявили себя хорошими администраторами. В частности, отлично были организованы отправки солдатами пищевых посылок в Германию с жирами, мукой и прочим. Я видел на станциях горы этих ящиков, которые посылались в Германию целыми поездами. Там, как говорят, семьи солдат и офицеров продавали часть продуктов на сторону, так что Украина в значительной степени питала оскудевшую Германию.
В это время и на Украине уже замечалось в немецких войсках начало разложения и отзвуки начинавшейся в Германии ноябрьской революции. Солдаты начали ругать Вильгельма, и дисциплина в отношении офицеров ослабела. Я это заметил по разговорам с солдатами в вагонах и на станциях. Впоследствии в Белграде М.В. Челноков рассказывал мне, что он в это время жил в Чернигове и что живший над ним старый немец полковник плакал, когда говорил о настроении солдат, и было слышно, как он целыми ночами шагал по своей комнате.
И в Киеве было много кадетских заседаний местной группы и наличных членов Центрального комитета. Кроме местных членов Центрального комитета, припоминаю присутствие Милюкова, Вернадского, Демидова. При личных сношениях стирались углы и недоразумения, возникшие вследствие разобщенности между киевлянами и Центральным комитетом в Москве. Но я доказывал, что мы в Москве, отнюдь не посягая на фактическую автономность киевлян кадетов, как результат разобщенности, считали неправильным образование самочинного формально автономного какого-то украинского главного комитета, не предусмотренного уставом, как бы вытекающего из самостийности Украины. Совершенно аналогично провозглашение автокефалии заграничных православных церквей, без надобности отходящих от Тихоновской церкви, которая отнюдь не ограничивала их фактическую автономию вследствие разобщенности. Ефимовский, бывший председатель московской студенческой К.-д. партии, когда я был председателем Центрального комитета, теперь в Киеве сблизившийся с Шульгиным, стал в прессе очень резко нападать на Милюкова. Так как Ефимовский не выходил из партии и бывал на заседаниях местной группы, то я имел с ним сепаратный разговор о недопустимости выносить наружу и в такой форме разногласия внутри партии, да еще с председателем Центрального комитета. И на заседании группы, не называя его, я высказал, что более, чем когда-либо, нужно поддерживать партийную дисциплину и что партия, известная таковой, сумеет настоять на ее соблюдении. (Если теперь я и позволяю печатно и определенно говорить о разногласиях с Милюковым, то потому, что это уже отошло в область истории, а Милюков первый в публичных выступлениях в своей газете отмежевался от партии, отколов меньшинство ее и признавая, что политический водораздел якобы должен пройти по телу партии.)
Тогда же, резко расходясь с тактикой Милюкова, я счел нужным оградить его от публичных выпадов младшего нашего товарища. Впрочем, Милюков, чувствуя свой разлад с партией, тогда же в Киеве на первом заседании членов Центрального комитета заявил, что он слагает с себя звание председателя Центрального комитета, так что председательствовать на заседаниях пришлось мне. Так как немцы к этому времени ослабли и одоление их союзниками было неминуемо, то и в ориентации своей он поколебался. На бывшей тогда же в Екатеринодаре конференции, на которую он и многие к.-д. из Киева поехали, он «пошел в Каноссу»[11] и принял позицию партии по отношению к союзникам, которую мы с таким трудом отстояли нашим московским сидением.
На конференцию я не поехал, так как достаточно пришлось поработать в последнее время и над партийными делами и хотелось между Москвой и Екатеринодаром хоть немного отдохнуть в Киеве.
Из Киева в середине октября я приехал в Ростов в служебном вагоне с какими-то инженерами, а из Ростова в Екатеринодар. Границы между немецкой Украиной и казацко-добрармейскими владениями как-то не заметил. В Екатеринодаре я застал еще не уехавших после конференции Милюкова, Родичева, Винавера и др. В Екатеринодаре пришлось прожить десять месяцев.
Милый Екатеринодар с его пылью или грязью, с его особняками, утопающими в садах. «Сколько надежд дорогих» с ним связано! Деловой провинциальный город, столица богатой Кубани, без претензий города-парвеню Ростова, с его интернациональной публикой и аляповато безвкусной убогой роскошью домов.
Меня устроил член местного комитета К.-д. партии у богатого мукомола Ерошова, гостеприимством которого я пользовался до самой его смерти от сыпного тифа.
Корнилова и Алексеева я уже в середине октября 1918 года не застал, приехав после их недавней смерти. В красивом склепе величественного собора покоился прах Алексеева, впоследствии оттуда увезенный, а могила Корнилова с белым деревянным крестом была на возвышенном берегу Кубани в пригородной ферме, где он был убит снарядом. Впоследствии гроб его, перенесенный в другое место, был найден большевиками, и тело Корнилова, привязанное к лошади, таскалось на поругание по улицам Екатеринодара.
В один из поминальных дней я был на панихиде у могилы Корнилова в присутствии Деникина и всей его Ставки, на которой замечательно красноречивый и горячий оратор Эрлиш произнес по-русски речь, пробившую слезу у присутствовавших. Эрлиш, которого я мельком видел и в Киеве, где он скрывался от немцев, был здесь военным агентом, а потом состоял при французской военной миссии.
Не состоя ни в какой должности, я Деникина видал очень редко, считая, что главнокомандующего следует возможно менее отвлекать гражданскими делами (а к нему лез всякий), по каковым бывал у его помощника, генерала Драгомирова.
Деникин производил прекрасное впечатление своей прямотой, простотой и рыцарством. Бывший в Добрармии с ее зарождения, быховский узник, который имел ореол сподвижничества с Алексеевым и Корниловым, преемником коих он был. Но в тот период, когда я его застал, у него уже замечались признаки утомления и разочарованности. Благодаря за привет, который я ему привез от москвичей, он мне тут же сказал, как трудно ему работать, как мало подходящих людей, как «опошлились» теперь люди.
Посильное ли бремя на него свалилось? Он недавно женился и почти не выезжал на фронт, а впоследствии из Таганрога или из своего вагона. Он всей своей персоной внушал к себе доверие и уважение, но мог ли он воодушевить людей на смерть? Конечно, он готов был сам умереть за Россию, как и его предшественники, но была ли в нем потенциальная энергия вождя и диктатора? Был ли он достаточно властен? По-моему, нет. Компетентный приговор вынесет история из многочисленных данных, я же высказываю лишь мои сомнения и мое мнение на основании личного впечатления. Вся моя деятельность тогда, как и моих товарищей, была, разумеется, направлена к всемерной его поддержке, так как в силе его власти мы видели наше спасение, спасение России.
Другой упрек, который делают Деникину, что у него не было достаточно гибкости в переговорах с государственными новообразованиями (Украина, Грузия, Крым, казачество). В этих крайне сложных, болезненных вопросах не то внешней, скорее внутренней политики, мне кажется, скорее был допущен неверный тон в переговорах, чем ошибочные мероприятия, тон слишком великодержавный.
Но эти «областные» вопросы, хотя бы казачий, ужасно осложняли задачу командования. С одной стороны – пребывание на казачьей земле и комплектование армии, главным образом казаками, с другой стороны – демагоги Кубанской рады и Донского круга своими самостийными устремлениями тут же все время деморализуют тыл и создают внутренний фронт.
Рада заседала недалеко от моей квартиры в театре, и я часто бывал в ней.
Торжественное заседание Рады в присутствии Деникина. Он произносит прекрасную речь, обрисовывая общие национальные лозунги Добрармии и роль в воссоздании России казачества, на самобытность и самоуправление которого никто не посягает. Вся Рада встает, бурная овация, а потом, в обыденной обстановке, – подтачивающая работа самостийников Быча, Рябовола и др. Вскоре последовало убийство Рябовола при таинственной обстановке, в котором обвиняли командование.
Речи в Раде обнаруживали убожество и политическую малограмотность ее членов. На одном из заседаний присутствовал председатель Донского круга Харламов, мой приятель по партии и по фракции в 2-й Думе. Он милый, прекрасный человек, был очень хорошим учителем, рядовым, ничем особенно себя не заявившим членом Думы и видной государственной особой на Дону… тон и стиль деятельности которой были мелкого калибра. И в приветственной речи, произнесенной в Раде, которая, конечно, была восторженно принята, через два слова в третье – демократия, демократизм, мы демократы. Все почти содержание речи исчерпывалось и выезжало на демократии во всех видах, падежах и числах.
А ведь настоящий демократизм не требует постоянного подчеркивания и провозглашения. Только милюковско-винаверский демократизм, к которому впоследствии примкнул и Харламов, мог придумать «демократическую группу Конституционно-демократической партии», этот демократизм в квадрате!
Иногда настроение в Раде бывало очень бурное. Деникину нельзя было отказать в личном обаянии. Работавшие при нем в Особом совещании мои друзья Астров, Федоров и Степанов были без лести ему преданы.
Апогеем популярности Деникина был момент признания им власти Колчака. На обеде, данном в честь английского генерала, он так просто и неожиданно сделал этот патриотический жест, сказав, что для пользы Родины он подчиняется адмиралу Колчаку, что многие заплакали, некоторые бросились целовать ему руку. Невольно прошибало слезу и после обеда, когда он на параде у собора провозгласил перед гарнизоном – «Ура верховному правителю России адмиралу Колчаку!», столь еще дальнему, из Сибири идущему, на освобождение России. Бескорыстный, самоотверженный патриотизм Деникина был вне сомнения.
Особое совещание при правительстве Деникина было довольно грузным совещательным аппаратом гражданского управления, состоящим из министров и лиц без портфелей. В нем было много трений. Среди правых и некоторых военных он был не популярен, как слишком «кадетский».
Членов Центрального комитета – К.-Д. партии в Екатеринодаре было человек 7—8, мы постоянно собирались и направляли деятельность Национального центра, местной К.-д. группы Ростовского областного комитета и по возможности всей партии на юге России. Мы всецело старались поддерживать надпартийную национальную общественную работу и диктатуру Деникина, за что были и не в милости у некоторых разобщенных с нами товарищей, находивших, что мы «отступаем от духа и программы партии» (!).
Заседаний партийных и Национального центра было множество. Я организовал и выступал на многочисленных публичных собраниях Национального центра в Екатеринодаре и других городах.
Я был товарищем председателя Национального центра, а председателем был энергичный, неутомимый М.М. Федоров, человек уже не молодой, вечно в хлопотах, достающий деньги, весь день бегающий по городу. И в страшно душные здесь летние дни, в черном сюртуке, красный и потный, перед вечерними заседаниями он успеет побывать в банках, убеждая жертвовать на армию и организации, у министров, у иностранных представителей, у генералов. Когда у них не было приемов, он к ним врывался со двора, что давало повод нашим недоброжелателям говорить, что кадеты ходят интриговать с заднего крыльца. Он был членом Особого совещания без портфеля, как и Н.И. Астров. Последнему была поручена разработка земского и городского самоуправления для отвоеванных мест. У него на квартире происходили бесконечные заседания комиссии, вырабатывающей это положение. Я в ней не участвовал, но со стороны мне казалось, что проект вырабатывался уж слишком детально и академично по обстоятельствам времени.
В.А. Степанов, сблизившийся еще с Киева лично и политически с Шульгиным, был главой контроля у Деникина. Он более занимался общей политикой, чем работавшим по известному шаблону контрольным аппаратом; к тому же у него был зуд передвижения, и он не сидел более двух-трех недель на месте; он постоянно уезжал, то в Ростов, то в Одессу, то в Крым, то в Константинополь.
П.И. Новгородцев уклонялся от официальных выступлений и предложенного ему заведования Министерством народного просвещения, так как боялся за свою семью, оставшуюся в России, но негласно он принимал участие как в наших общественных делах, так и в разработке законопроектов Особого совещания. Мы его всячески щадили и оберегали из-за его боязни за семью. Но впоследствии в Севастополе и за границей, когда его семья уже выехала из России, он уклонялся от активной политической работы и ударился в аполитизм, чем, как влиятельный профессор в Праге, был, по-моему, даже вреден, и мы, большие с ним приятели и соседи по Москве и еще сблизившиеся на юге, ожесточенно по этому поводу спорили. Я ему доказывал, что аполитизм при борьбе с большевиками – это пассивная помощь большевикам и что у молодежи аполитизм зачастую ведет к сменовеховству. Теперь, после смерти Новгородпева, я думаю, что это явилось у него в связи с физически надорванным организмом и общим разочарованием.
П. П. Тронский был вроде товарища министра внутренних дел. Он отличался внешней порывистостью и делал все как-то с налета. В ближайшие свои помощники он привлек Соловейчика. К рассмотрению какого-то его проекта был привлечен и Новгородцев, нашедший проект безграмотным с точки зрения государственного права. На заседании он уничтожающе раскритиковал проект и припер Тройского к стене, и тот должен был сознаться, что он недостаточно ознакомился с представленным им проектом.
В министры внутренних дел был намечен донской сенатор Носович. Мы с М.М. Федоровым поехали за ним в Новочеркасск, но он оттуда неизвестно куда уехал. Так как в министры хотели почему-то назначить из судейских, то я вспомнил о Н.Н. Чебышеве, бывшем в Москве прокурором, хорошем судебном ораторе и сумевшем при Щегловитове отстоять свою независимость от административного давления. Потом эту кандидатуру обсуждали в Национальном центре и в Особом совещании, и он был назначен министром. Не помню почему, он потом перед Ростовом был заменен Носовичем.
Кроме меня, Астрова, Паниной, Степанова и Новгородцева, были здесь еще члены К.-д. – Центрального комитета К.Н. Волков, который был командирован в Сибирь к Колчаку с Червен-Водали, которого большевики расстреляли, КН. Соколов, начальник осведомительного бюро-Освага, А.В. Тыркова, приехавшая надолго из Англии с мужем, сотрудником Times Вильямсом, и П. П. Юренев, инженер, деятельный и хороший организатор, кандидатура которого в министры путей сообщений была отклонена как члена Временного правительства и как слишком левая. Отклонена была и кандидатура в министры внутренних дел В.Ф. Зеелера, энергичного ростовского общественного деятеля и председателя областного К.-д. комитета, а также кандидатура в министры земледелия к.-д. Н.Н. Ковалевского (в пользу А.Д. Билимовича). Упреки Деникина со стороны правых в засилье у него кадетов были неправильны, так как они были в значительном меньшинстве в правительстве.
Как я уже говорил, вся деятельность нашей партии была направлена на внепартийное объединение Национального центра и, при его посредстве, – на более широкое объединение. Нам удалось подчеркнуть такое наше стремление на устроенном нами в переполненном театре торжественном объединенном заседании Национального центра, Союза возрождения (слева) и монархистов (справа). От нас оратором выступил Астров, от Союза возрождения (народные социалисты Мякотин, И.П. Алексинский, Титов и другие) и от монархистов Н.В. Савич, который вызвал гром аплодисментов, сказав, что он убежденный монархист, но, если по свержении большевиков в России будет республика, он ей присягнет и будет ей служить.
Такую простую и правильную мысль центральные политические группы проводят уже восьмой год, но зарубежная общественность все толчется почти на одном месте, и на происходящем теперь в Париже зарубежном съезде правые монархисты туго и нехотя свертывают свои партийные знамена, а левые не пришли на съезд, и в их рядах что-то не слышно, чтоб они, убежденные республиканцы, готовы были присягнуть монарху, если монархия будет восстановлена. Им так же трудно или, как видно, даже труднее, чем крайним правым, отрешиться от узкой партийности и возвыситься до национальной надпартийной высоты.
В газетах появились сведения, что в Омске осуществлен блок из Союза возрождения, к.-д., торгово-промышленников, кооператоров и других групп.
В то же время мы получили из Москвы письмо от Н.Н. Щепкина, вскоре потом с другими нашими друзьями расстрелянного, он пишет, что и они осуществляют широкий политический фронт. Они категорически заявляют о необходимости соглашения справа налево на одной временной платформе и говорят, что такое соглашение у них уже состоялось между Союзом возрождения, Национальным центром и группой общественных деятелей, а через нее направо с монархистами-конституционалистами, причем они признали, что при всех программных различиях все здоровые патриотические элементы должны объединяться на ближайших тактических задачах. Они полагают, что между этими группами может быть разное отношение к той власти, которая эти задачи осуществит, но, какова бы она ни была в настоящий момент, если за ней идут войска и она обладает достаточной мощью, чтобы освободить Россию от большевиков и восстановить ее государственное единство, она должна быть признана всеми.
В то же время по вопросам грядущего социального и политического бытия России отдельные группы и партии остаются каждая при своих убеждениях. В заключение друзья мои пишут, что демократические круги, примыкающие к народным социалистам, солидарны с ними и, по их мнению, мы будем бессильны и для них непонятны, если не объединимся. Они предлагают нам устыдить тех политических деятелей и те партии, которые действуют иначе. Будучи разобщены с югом и плохо информированы, они с тревогой спрашивают о наших настроениях.
В начале зимы я с несколькими членами Центрального комитета партии ездил в Ялту на заседание Центрального комитета с жившими там членами его Петрункевичем, Родичевым и крымскими министрами Винавером и Набоковым. Так как престарелый И.И. Петрункевич жил в прелестной Гаспре, принадлежащей его падчерице графине Паниной, которая тоже там остановилась, то большая часть заседаний происходила там и ездили мы в автомобилях министров (символ власти). Со мной приехали еще Астров, Степанов и Новгородцев. В Ялте было большое скопление беженцев, она имела почти свой обычный оживленный вид. В Ялте мы заседали на даче В.В. Келлера. Хотя не без труда, но все-таки мы, старые товарищи по партии, сошлись на общих тактических резолюциях, путем личного общения, свиданий и выяснив начавшиеся уже тогда некоторые разногласия между крымчаками и деникинцами. Межу крымским правительством и Деникиным происходили постоянные трения из-за тона взаимоотношений скорее, чем по существу. Тон у Деникина, как я говорил, вообще был слишком великодержавный, а крымское правительство, пожалуй, слишком держалось за свою автономную власть, ссылаясь на свое происхождение, тогда как оно управляло всего лишь одной губернией или, скорее, частью Таврической губернии, тогда как континентальная ее часть, по ту сторону Перекопа, была еще во власти большевиков. Но разумеется, никто из членов крымского правительства не был самостийником, и смотрели они на свою власть как на временную. Потому предубеждение командования против их тона, их игры во власть было неосновательно, и с некоторыми разногласиями (например, нормальная, более медленная юстиция, а не военный суд) можно было бы помириться, кое в чем договориться, принимая во внимание пользу их управления и порядок, ими установленный.
Незадолго перед этим был близ Ялты таинственно убит мой приятель, долго живший в моем доме, московский фабрикант француз Гужон, человек выдающейся энергии и способностей. Убийцы не обнаружены, но молва упорно приписывала преступление кружку гвардейских офицеров, убивших его не то за его германофильство (?!), не то за непочтительный отзыв о членах императорской фамилии (?).
На обратном пути из Ялты в Новороссийск мы попали в шторм со снегом, и так как каюты были переполнены и все страдали от качки, то я ночью на палубе чуть не замерз, и около Феодосии меня, совсем окоченелого, едва свели в каюту.
Во главе осведомительного бюро, или Освага, стоял профессор К.Н. Соколов. Это учреждение все ругали, и оно оставило по себе плохую память. Но в то же время, казалось бы, что общественные силы, местные и приезжие, сами бы должны были организовать в тылу и в освобожденных губерниях противобольшевистскую пропаганду, хотя бы в местном масштабе. Дело это общественное и помогло бы командованию. Но общественные элементы, в том числе и наши местные кадетские группы, как я ни старался их побудить к тому, не проявили ни в Екатеринодаре, ни в Ростове и в других местах никакой инициативы.
Соколов, располагавший большими средствами на пропаганду, придал организации очень бюрократический характер и не пытался придать ей мало-мальски общественный характер. Во главе ответственных отделов стояли люди совершенно ничтожные в общественно-политическом отношении. Общий тон Освагу был придан неподходящий. Что же касается по существу и объему произведенной работы, то Соколов, сам человек выдающейся эрудиции и хороший работник, сделал очень много, и, в общем, я являюсь убежденным защитником Освага от несправедливых нареканий. Выставка Освага в Ростове показала, какая огромная работа была произведена. Несмотря на плохую репутацию Освага, я не гнушался все время работать с ним рука об руку, устраивая при его технической помощи многочисленные публичные собрания, на которых сам выступал и привлекал других в Екатеринодаре, Ростове и других городах, издал брошюру, писал статьи через Руспресс и т. д. И, зная дело не только с показной стороны, по выставке, но и по существу, я удостоверяю, что при трудных обстоятельствах и деморализации того времени сделано было очень много и огульные нападки на Соколова несправедливы. Повод к нареканиям им давался от внешних приемов работы, от тона Освага, который портил музыку, далеко не плохую по существу.
Значительное оживление и надежды привезли нам союзники, сначала французы, а потом и англичане. Подъем был огромный. Весело ехали мы встречать французов в специальном поезде в Новороссийск. Музыка, флаги, толпа. Большой банкет под председательством Кутепова, бывшего тогда в Новороссийске военным губернатором, почему-то временно не в строю. Блестящая речь Эрлиша. Такая же встреча в Екатеринодаре.
Если в крымский период Врангелю более помогали французы, то Деникину более помогали англичане, во главе военной миссии которых стояли симпатичные, энергичные генералы, Пуль, потом Бриггс, который помог даже в разрешении конфликта Деникина с Красновым. Последний, в свое время опиравшийся на немцев, атаман Войска Донского, сам хороший администратор, много при их содействии сделавший для воссоздания донских частей, не хотел подчиниться Деникину, который в интересах единого командования, преемственно державшийся все время союзнической ориентации, при поддержке общественного мнения и союзников, тщетно добивался этого объединения и подчинения. Генерал Бриггс ездил в Ростов и добился того, что Краснов приехал на пограничную станцию между Кубанской и Донской областями, где у него произошло в вагоне свидание с Деникиным, на котором единое командование, при известной автономии донцов, было достигнуто. Вскоре Краснов ушел и уступил место А. Богаевскому.
Трудно предположить, чтобы англичане допустили вмешательство русского генерала в конфликт между двумя своими генералами!
Англичане, правда старыми остатками от войны, действительно очень широко помогали материально: оружием, снаряжением, обмундировкой, обувью, консервами обтрепанной и во всем нуждавшейся Добрармии. Френчи и тяжелые ботинки распространились по всей ее территории и, как всегда в таких случаях, появились и на базарах и на гражданском населении. Прогрессирующая дороговизна отразилась главным образом на мануфактуре, на тканях. Я, как и многие другие, щеголял летом в куртке, сшитой из мешков. Английское старье пришлось очень кстати.
Русофильское английское военное ведомство, руководимое Черчиллем, только и могло помогать нам остатками, не требуя новых кредитов, в которых парламент отказал бы. Официально английской интервенции не было и впоследствии. Черчилля обвиняли, что он помогал Добрармии не только без одобрения парламента, но и без разрешения правительства, во главе которого стоял далеко нам не дружелюбный Ллойд Джордж. И при этих обстоятельствах находились у нас хамы критики с претензией, что англичане снабжают нас рванью, на самом же деле очень доброкачественным старьем.
Эта двойственность английской политики нами осязалась. С одной стороны – широкая дружественная помощь военного министра, с другой – тут же под боком в Грузии политика их министерства иностранных дел, поощрявшая отделение Грузии и грузинских меньшевиков, подготовлявших, как и в России, приход большевиков. Положение действительно создавалось трудное, так как в тылу Добрармии уже возникли Совдепы и ее и Деникина открыто ругали и были явно враждебное настроение и действия. Как я говорил, в великодержавном тоне и вообще в дипломатии Деникина были ошибки, но образование такого тыла под протекторатом и при содействии англичан было невыносимо. Генералы Пуль и Бриггс отлично это чувствовали, доносили об этом Черчиллю, но не в его было силах уничтожить эту двойственность английской политики. Двойственность политики союзников еще обнаруживалась, когда они воспрепятствовали продвижению отряда полковника Вермонта из Курляндии одновременно с продвижением Деникина на Москву. Одной рукой давали, другой мешали.
Особенный восторг возбудили привезенные англичанами танки. Они стояли и маневрировали для обучения русских на лугу за городским парком. Из этого парка, вечером очень оживленного, с хорошим казачьим оркестром и чудными аллеями каштанов, открывался вид на предгорье Кавказского хребта по направлению Майкопа. На лугу между этим парком и железнодорожным мостом через Кубань переваливающиеся через рвы и валы, подминающие под себя деревца и кустарники танки первые дни собирали большую толпу любопытных.
Кроме материальной и инструкторской помощи, Добрармия от союзников ничего не получила. Да вряд ли и можно было бы заставить англичан сражаться за Россию. Солдаты были плохо дисциплинированы, смотрели на свое пребывание как на пикник и сильно пьянствовали. В Екатеринодаре по вечерам постоянно происходили буйства и драки. Раз я наткнулся на избиение пьяными солдатами своего товарища, у которого лицо было все в крови. Англичане очень жестоки, когда пьяны. Я пробовал было на плохом английском языке объяснить им, что в России бокс не полагается, но чуть-чуть сам ему не подвергся и был ими обруган. Вряд ли городовой, которого я прислал с главной улицы, мог что-нибудь с ними сделать. Другой раз в ресторане, в котором я сидел, солдат начал пальбу. Его едва разоружили и отвели к коменданту. Ежедневно пьяные, буйствующие английские солдаты приводились к коменданту, который их передавал английскому командованию. Там с ними, говорят, строго поступали, посылали в Новороссийск на суда под арест и отсылали в Англию.
Еще в январе генерал Шкуро освободил от большевиков Минеральные Воды с большим количеством согнанных туда, как стая куропаток в бурю, припертых к Кавказскому хребту беженцев, из которых многие были расстреляны в Пятигорске (генералы Рузский, Радко-Дмитриев и др.). С первым же поездом я проехал в Кисловодск к жившему там с семьей и скрывавшемуся при большевиках брату. Вот как я описываю Кисловодск в интервью («Свободная речь», № 17, 1919 г.).
«Я пробыл в Кисловодске около двух суток. Ехал быстро и удобно в служебном поезде. Пассажирское движение еще не открылось. Теперь уже в Кисловодске длинная вереница получающих пропуски на выезд. Все желающие покинуть Воды после вынужденного длительного пребывания выедут очень не скоро. Станции, сравнительно с германским и австрийским фронтом, пострадали незначительно. По разрушениям выясняется партизанский характер войны. Только кое-где стекла выбиты. Сильно поврежден телеграф: столбы повалены, проволока спутана. Нередко по бокам полотна лежат вагоны колесами вверх. Немало и погорелых остовов. Даже станции Курсавка и Суворовская, где было столько боев, на вид мало пострадали.
Близ станции Минеральные Воды сильно повреждены два моста через Куму, и поезд тихонько перебирается по восстановленному одному из путей. В самом Кисловодске разрушений тоже немного. Я видел только один дом в центре, изрешеченный пулеметами. Тополевая аллея вырублена вначале, саженей тридцать, остальная не тронута. По всему парку вырублено немало деревьев, но он не особенно пострадал. На Рождество в Кисловодске и Ессентуках столичная аристократия и буржуазия проявила вандализм во всяком случае не меньший, чем большевики, вырубая для детей посаженные в парках елочки.
Кисловодск еще переполнен. Многие возвращаются из Баталпашинска и из окрестных станиц. В день моего приезда из Кисловодска ездили в специальном вагоне в Пятигорск родственники, главным образом родственницы, расстрелянных под Машуком (госпожа Рузская и др.) опознавать откопанные трупы.
Кроме террора и холода, страшную нужду испытывали в продовольствии и в одежде. Вот цены последнего времени: десяток яиц – 45 рублей[12], коробка спичек – 5 – 7 рублей, большая катушка ниток – 100—125 рублей. Вместо чая – роза, морковь; сахару давно нет. Хлеб, мешанный из кукурузы и ячменя. Разумеется, недоедание и у зажиточных очень большое. Большинство сами все делают. Тиф свирепствует. Часть города и домов освещена электричеством, а половина – погружена во мрак, так как большевики увезли динамо.
В Гранд-отеле, где я провел одну ночь, мороз, комнаты не отапливаются, пыль, грязь. Только что начинают прибирать. Нельзя достать даже кипятку. Все магазины, булочные заколочены. Действуют 2—3 ресторанчика, в кафе-парке играет даже оркестр.
Вообще от Кисловодска, обычно столь оживленного, впечатление давящее, удручающее. Жизнь только начинает пробиваться.
В самом центре на пригорке близ Тополевой аллеи поставлены теперь для большевиков две виселицы. В день моего приезда на одной из них висел целые сутки молодой парень, как гласит расклеенный приказ, за отказ сдать оружие. Он в одном белье, и белое пятно, покачивающееся на ветру, видно отовсюду: из окон гостиницы, с Тополевой аллеи».
Первый набег Шкуро на Минеральные Воды был неудачен; ему пришлось отступить, и это вызвало кровавую расправу с беженцами. Лишь после второго наступления минеральная группа была окончательно взята.
С молодыми генералами партизанского типа Шкуро и Покровским я видался в Екатеринодаре. Шкуро вспомнил, что он бывал в моем отряде Союза городов в начале войны в Тарнове, когда он совсем молодым офицером с товарищами приходил пить чай к нам и подарил моей племяннице – сестре милосердия – кавказский красный башлык. Теперь генерал, он имел и несомненные качества, и недостатки молодого партизанского героя; Покровский геройски погиб в 1921 году в Болгарии во время Стамболийского, друга большевиков, когда он, Покровский, готовил смелый набег в Россию.
Тиф, как и повсюду, в Екатеринодаре страшно развивался. На кладбище маленького Екатеринодара во время похорон моего хозяина Ерошова, умершего от тифа, подошло 5– 6 похоронных процессий. Мрачная картина, напомнившая сцену из «Пира во время чумы» в Художественном театре.
После смерти Ерошова я переехал в типичный для Екатеринодара домик. Здесь ежедневно мы обедали со столовавшимся у моей хозяйки П.И. Новгородцевым в садике, полном цветов цветущих весной деревьев, летом покрытых черешнями.
В это время происходило удачное продвижение на Москву. Деникин переехал в Таганрог, а в самом начале августа 1919 года мы все, большинство учреждений и все гражданское управление – в Ростов. Чтобы передать наше настроение при этом переезде, приведу здесь две мои статьи в № 169 и 170 «Свободной речи».
Прощание с Кубанью
«Ставка и гражданское управление главнокомандующего покидают Кубань, и Екатеринодар перестает быть временной столицей юга России. С радостью мы устремляемся к Москве, но и с некоторой грустью покидаем Кубань. Здесь столько пережито, столько славных воспоминаний! Некоторые впечатлительные политики и публицисты давно уже мечтали вырваться из здешнего «болота». Они говорили о болоте в переносном смысле. Но Екатеринодар окружен и действительными болотами, посылающими в город стаи комаров. Правда, мы изнывали от здешнего тяжелого, влажного зноя, и днем и ночью, как в бане, мы мокры, мы искусаны комарами. Но когда-нибудь культура коснется и этого уголка России, болота будут высушены, и климат здесь будет здоровее, и политическое заболочивание исчезнет, не будет «болота», на почве которого развиваются самостийные и украинские ржавые течения. С возрождением России и стихийным ростом в ней мощи и государственности неминуемо оздоровление и кубанской стихии. А пока что – было бы болото, а черти найдутся!..
Но так ли уж страшны здешние болотные обитатели?
Разумеется, они немало причиняют хлопот высшему командованию, вместо объединения всех над созданием России вносят смуту среди слабых и несознательных и более всего вредят собственному краю, о котором так хлопочут, так как чем менее данная область проявит государственного понимания, тем менее народ русский при учреждении будущего государственного строя будет склонен дать этой области широкую автономию. Но негосударственные эти течения не глубоки ни в Малороссии, ни здесь. Группу политиков и политиканов не следует смешивать с казачьей массой, а при возрождении России центроустремление неизбежно одержит верх над центробежностью. Теперь некоторым кажутся еще страшными все эти болота, в которых вязнет не окрепшая еще Россия, страшны и водящиеся в них обитатели с комариными жалами. Но для будущей единой и сильной России никакие чухломские и царевококшайские республики не будут страшны. При трагизме и величии переживаемого момента вся эта чертова свистопляска на различных болотах Российской равнины будет впоследствии казаться мелкой и даже смешной и к великой российской трагедии в перспективе истории подметается доза опереточного элемента.
Маленькие области и небольшие люди, очутившись на свободе после гнета петербургского централизма и большевистского каблука, стали «играть в государства». И теперь, расставаясь с Екатеринодаром и его комариными уколами, мне живо припоминается первый год студенчества, когда мы, вырвавшись из тесных стен гимназии, почувствовали себя вольными гражданами университета и испытывали потребность протестовать и участвовать в студенческих беспорядках, идти непременно наперекор учебному начальству и зачастую и здравому смыслу.
Но все мелкое и смешное стушевывается перед величием кубанского периода возрождения России. С чувством благодарности и доброжелательства покидаем мы эту благодатную частичку России, приютившую нас, беженцев, «проходимцев», как склонны были назвать всех приезжих, работавших здесь над воссозданием единой России, некоторые члены Рады на своем изысканном государственном языке.
Кубань – колыбель новой России, и имя ее будет благословенно в истории России, а значит, и в истории человечества. Здесь казацкая удаль сочеталась с великорусской доблестью, крепостью духа и мудростью русских вождей, казачья боевая слава сплелась с творческим гением великих русских витязей, стойких и сильных своей верой в Россию и в конечное торжество правды.
Мы уезжаем отсюда, мы движемся на Москву. Но и из Москвы мы будем присылать наших сынов и внуков сюда, к кубанским памятникам казацкой и всероссийской славы. Здесь, в Екатеринодаре, они преклонят колени в склепе под величественными сводами Екатерининского собора и на высоком берегу Кубани, где у фермы белеет крест. Уходя отсюда, Добровольческая армия оставляет Кубани эти дорогие для России останки и памятники своего возрождения. Многие местечки и станицы Кубани будут теперь связаны с историей этого возрождения, и по степям кубанским разбросано много безызвестных могил борцов за бытие России. В степях этих, орошенных слившейся в один поток казацкой и великорусской кровью, зародилась и зреет нива новой русской государственности.
И это кровное родство делает Кубань еще более близкой и дорогой для России.
Мы покидаем героическую Кубань с лучшими чувствами к ее населению, к Черноморью, к линии и к нагорным аулам. Мы желаем процветания и мирного развития Кубани. Ее автономия и местные интересы обеспечены в будущей единой России. Местные интересы «своей колокольни» естественны и законны. Но и для жителей Кубани, как и для всех русских, одна колокольня должна выситься над всеми остальными – колокольня Ивана Великого».
На новоселье
«В течение восьми месяцев «Свободная Речь» издавалась в Екатеринодаре на героической Кубани. Всю зиму и большую половину лета мы провели в этом милом провинциальном городе, с его пылью и грязью, с его особнячками, утопающими в садах. Теперь временной столицей юга России становится Ростов.
Ростов, Новочеркасск, Дон!
Сколько горьких и славных воспоминаний связано с этими местами! Вспоминается, что было здесь год, полтора года тому назад и что становится уже достоянием новейшей русской истории. И здесь, как на Кубани, в лаврово-терновом венке сплетаются казацкая лихость и слава с великорусской доблестью, с государственной мудростью и стойкостью великих вождей Добровольческой армии. Вместе со священными для русских именами Корнилова и Алексеева в терновый венок вплетены имена славного донца Каледина, Богаевского, Назарова и других донских казаков, павших за великую Россию и тихий Дон.
Что даст нам новый донской период, когда фронт уже далек отсюда, а здесь пребывают Ставка и правительство? Мы вышли на большую московскую дорогу. Будем надеяться, что дальнейшее закрепление зародившейся в проселках и болотах Кубани и уже значительно окрепшей новой русской государственной власти будет происходить при более благоприятных условиях, что вставший, но еще слабый после тяжких потрясений организм России не будет вязнуть в зыбкой трясине и найдет здесь более твердую почву под ногами. Будем надеяться, что здесь, на Дону, состоится для общего блага соглашение и будет более единодушия при предстоящем государственном строительстве.
Итак, мы вышли на большую московскую дорогу. Но скоро ли мы будем в Москве? Как мы ни стремимся в Москву, мы обязаны учитывать все предстоящие еще нашей доблестной армии трудности и предвидеть, наряду с ее подвигами и блестящими успехами, и неминуемые неудачи, и частичные отступления. Большевики, которым терять нечего, будут при своем издыхании делать отчаянные, судорожные усилия, и, как это ни печально, а для жителей Совдепии как ни трагично, мы допускаем возможность и зимней кампании. При огромном протяжении фронта слишком смелые броски и поспешность при необеспеченности тыла могли бы быть пагубны и для Москвы, и для конечного освобождения России.
Стремясь в Москву, мы не будем ныть, как чеховские сестры: «В Москву, в Москву!» Мы не будем от разочарований с тыловой паники быстро переходить к обывательскому оптимизму. Лучшим средством для успехов и упорядочения фронта, а следовательно, и для достижения Москвы является упорядочение тыла и всемерная поддержка временной власти и новой государственности. В этом – первейшая задача и национальной, патриотической прессы. Разумеется, при общественной поддержке власти мы допускаем и нелицеприятную критику вводимых ею реформ и отрицательных ее проявлений на местах.
Для выполнения этой государственной задачи и для лучшей осведомленности «Свободная речь» переехала в новую временную столицу юга России; она намерена и впредь следовать за временной властью, несмотря на огромные технические затруднения кочевого существования газеты, пока она не заживет оседлою жизнью и не превратится в замолкнувшую на время столичную «Речь», выходя в Петрограде или в Москве, там, где суждено быть всероссийской столице.
Без излишней торопливости и оптимизма будем надеяться, что скоро это время настанет! В кровавом мареве мерещатся стены Кремля; за грохотом орудий и треском пулеметов глухо звучит призывный колокол Ивана Великого».
Грустно теперь читать о тогдашних наших настроениях и надеждах. Обстоятельства изменились, многое – достояние истории. Но в истории великой разрухи все это, как и последующее, лишь эпизоды, которые не должны и не могут убить наших надежд и пришибить наше настроение.
Глава 7 Ростов – Новороссийск. 1919—1920 годы
В Ростове я сначала пользовался гостеприимством В.Ф. Зеелера, а потом тоже двух сочленов по партии. Жизнь большого города, театры, рестораны, бега, спекуляция – все в Ростове в большем размере, чем в Екатеринодаре. Деятельность наша была приблизительно той же, но ростовский период оставил у меня худшее воспоминание. Во-первых, сам город интернациональный, с претензией на роскошь, с безвкусием домов на главных улицах, а во-вторых – под конец – период отступления, разложения Добрармии и эвакуации города. Прилегающая Нахичевань, с домиками, утопающими в зелени, симпатичнее.
Та же масса заседаний партийных, Национального центра, тот же неутомимый М.М. Федоров, бегающий целыми днями по городу. Но Деникин со своим штабом поселился, и хорошо сделал, в тихом Таганроге, поодаль от правительственного аппарата. Я продолжал писать в «Свободной речи», организовывать собрания и читать на них доклады. В Ростове несколько раз выступал в болыпевизирующих железнодорожных мастерских, в Новочеркасске, Таганроге (с Тырковой и Рыссом).
Когда было получено известие о расстреле в Москве наших друзей Н.Н. Щепкина, Астровых, Алферовых и других, за их работу в секретном отделе Национального центра, мы устроили в их память торжественное собрание в городской думе.
Велика была наша печаль об утрате наших товарищей. Но теперь, рассуждая хладнокровно, можно ли среди массы невинных жертв большевиков винить их особенно за это убийство? Думаю, что настолько же, насколько в убийстве белых борцов на фронте, насколько вообще убийство в войне допустимо. Мы не знаем подробностей дела, кажется, некоторые пострадали и невинно. Но некоторые пострадали за передачу неприятелю (с точки зрения большевиков) сведений и за помощь ему, что карается как шпионаж во всех войнах. Оплакивая доблестную смерть наших товарищей на внутреннем фронте, мы должны смотреть на их смерть, как и на расстрел Червен-Водали в Сибири, так же, как военные смотрят на естественную смерть своих товарищей в бою. Особенно в гражданской войне – гражданская доблесть не должна уступать воинской доблести.
Когда Харьков был взят, там захватили и гастролировавшую труппу Московского Художественного театра (Книппер, Качалов, Германова и др.). Приятно было вспомнить Москву и повидать моих театральных друзей, приехавших в Ростов на гастроли.
«Гастролировали» у нас и приехавшие вместе Крамарж и В.А. Маклаков (посол Временного правительства в Париже). Вечно бодрый, энергичный Крамарж, верный друг России, заслуженный борец за чешскую независимость, ободрял нас в нашей борьбе одним своим видом, своим прошлым, свидетельствуя, что у нас есть истинные друзья в Европе. Маклаков приезжал выяснить положение дел, которое было неопределенно и неясно на расстоянии, чтобы во всеоружии знания дела освещать его французам и истолковывать им наши чаяния. Уже тогда началась усиленная критика Белого движения среди русских же в эмиграции и искажение его подлинного лица.
Да и в значительной уже части занятой Добрармией России (Украина, Одесса, Харьков) требовалось объединение лозунгов и целей, и потому, как это ни было трудно, мы решили созвать в начале ноября кадетское совещание в Харькове. В это время мы были полны надежд, отряд Май-Маевского достиг Орловской губернии, все были уверены в скором достижении Москвы.
Из Ростова со мной поехали Степанов, Тыркова, Новгородцев и некоторые другие кадеты. Съехалось довольно много народу, были представители Киева, Екатеринослава, Одессы. Энергично работал Н.В. Тесленко, которого мы нашли в Харькове. Новгородцев сильно заболел, мы очень опасались за его жизнь и его с трудом потом эвакуировали перед самым падением Харькова. Написанный им тактический доклад прочли на совещании без него. О харьковских впечатлениях я говорю следующее в № 250 «Свободной речи».
Харьковские впечатления
«При современных условиях наше кадетское совещание, разумеется, не могло быть многолюдным. Тем не менее совещание прошло очень живо и было очень плодотворно. Впервые после годичного пребывания в казачьих областях и после екатеринодарских конференций мы имели возможность собраться в центре России и возобновить личный обмен мнениями с нашими товарищами из малороссийских и великорусских губерний. При неизбежности различия мнений, после горячих прений столковывались и находили общий язык в резолюциях. Таким образом, харьковское совещание послужит, несомненно, к вящему сплочению партии на нашей национально-государственной платформе, основы которой были вывезены в прошлом году из Москвы и получили свое развитие и формулировку в Екатеринодаре. Правда, и ранее при нашей оторванности мы убеждались в том, что наша линия приемлется партией. Наши сибирские и кавказские товарищи намечали аналогичную линию совершенно независимо от нас, а Одесский, Киевский и Крымский комитеты партии потом единодушно присоединились к нашим резолюциям. Но личное обсуждение и выработка платформы с вышедшими из-под большевистского гнета товарищами еще более сплотит партию.
При нас приехал генерал Бриггс, которого харьковцы чествовали парадным спектаклем и роскошным банкетом, на котором Бриггс пред своими обильно покушавшими и еще обильнее выпившими хозяевами сказал речь о настроении тыла. Генерал Бриггс, наверно, в своей речи не говорил о «генерале Харькове», как Ллойд Джордж.
Не знаю, какое это произвело на них впечатление, но на постороннего и трезвого человека чтение в газетах речи английского генерала с откровенными, но справедливыми упреками не могло не произвести удручающего впечатления.
Генерал Бриггс сказал, что с пассивным, спекулирующим тылом и с еврейскими погромами в тылу немыслимо воевать и что если тыл не изменится, то ничего нам не поможет и нам придется искать помощи только у Господа Бога.
От таких истинных друзей России и столько для нее поработавших во время своего пребывания при Ставке главнокомандующего, как генералы Бриггс, Пуль и Киз, мы должны, не обижаясь, выслушивать хотя жестокую, но, несомненно, доброжелательную критику.
Я не пошел на банкет и считаю такого рода прием гостей в настоящее время совершенно неподходящим. А если бы я был и мне пришлось бы держать речь, то вместе с глубокой признательностью за помощь друзей, которые познаются в несчастье, в ответ на дружественные упреки я, признав их справедливость, тоже по-дружески позволил бы себе высказать надежду и уверенность, что политика Англии на Кавказе, в Средней Азии и Лифляндии будет впредь более согласована с рыцарской их помощью генералу Деникину в воссоздании им единой России. Кроме банкета, был еще и парадный спектакль, на котором английским генералам сделали овацию.
В Харькове при нас была настоящая зима, более десяти градусов мороза с ветром. С фронта, нуждающегося в теплой одежде, привозится много больных. Уже в начале августа я опубликовал в «Свободной речи» воззвание о снабжении теплой одеждой армии. Номер газеты попал к госпоже Третьяковой в Париже, она образовала там дамский кружок, который прислал мне большой транспорт фуфаек и теплого белья. Но вещи где-то в пути затерялись, и я их так и не получил.
Стали приходить известия об оставлении нами Курска. Между тем внешний вид Харькова производит впечатление глубокого тыла. Более десяти кабаре различных наименований: «Кривой Джин», «Веселая канарейка» и т. п. В этом отношении «передовой» Харьков перещеголял «спекулирующий» тыловой Ростов.
Я устроил публичное собрание на тему: «Подвиг фронта и задачи тыла». Выступали с докладами выдающиеся ораторы из известных публицистов и членов Государственной думы. Немногочисленная публика сидела в шубах в неотопленной зале городской думы и плохо согревалась пламенными призывами подпереть фронт.
Когда мы шли с собрания, многочисленные кабаре блистали электрическими вывесками. В них, вероятно, было тепло и многолюдно…
Во время войны, особенно когда немцы наступали на Париж, он как бы слился с фронтом. На улице не мог показаться здоровый молодой человек, чтобы его не освистали и не осмеяли. Все автомобили были посланы на фронт. Все увеселения закрыты. Все население сосредоточенно работало над защитой страны и самозащитой.
Погруженный в мрак Париж в сосредоточенном напряжении как бы замер.
Харьков – последний большой тыловой центр на пути в Москву; он аванпост Москвы. Как Париж участвовал в охране Франции, так и Харькову предстоит огромная роль в последней схватке с большевиками.
Будут ли харьковцы на высоте положения?
Харькову суждено быть для Добрармии маленьким Парижем.
Но не соперничеством числом кабаков с Парижем мирного времени это достигается».
Приезжал со мной из Ростова в Харьков и бывший раввин Шнеерзон, организаторские способности которого по продовольствию я оценил в Рязани. Мы с ним устроили большое совещание с представительством города, земства, всех железных дорог, банков, коопераций, купечества и прочих для выработки мер снабжения тыла. Последовавшая вскоре эвакуация Харькова не дала возможности развить деятельность выбранного на этом совещании органа. Потом Шнеерзон представил от себя министру продовольствия С.Н. Маслову широкий проект снабжения армии и населения, но на этом проекте последовала резолюция Деникина: «никаких Шнеерзонов». По существу, проект мог вызвать возражения, ибо по обстоятельствам времени размах его был слишком широк.
В конце ноября кадетская газета «Свободная речь» отпраздновала скромно свой юбилей. Основанная в прошлом году в Екатеринодаре К.Н. Соколовым, потом она перешла к петроградскому молодому кадету Б.Е. Малютину, очень милому, серьезному человеку. Он был замечательный шахматист и дал в Екатеринодаре сеанс одновременной игры вслепую с двадцатью партнерами, которых и обыграл почти всех. Я в газете поместил около тридцати статей. Кроме того, я поместил несколько статей в «Приазовском крае», в харьковской и симферопольской газетах, а также через Руспресс циркулярно в нескольких провинциальных газетах. У меня сохранилось несколько номеров «Свободной речи», которая в последнее время в Ростове издавалась иногда на серой, иногда на коричневой бумаге, иногда чуть не на картоне.
В Ростове же возникла более правая, национальная «Великая Россия», издаваемая Н.Н. Львовым, Чебышевым и Шульгиным. Близкое участие принимал в ней приехавший в Ростов Струве. Впоследствии газета была перенесена в Севастополь.
В «Приазовском крае» мне пришлось полемизировать с моим большим другом Н.Н. Львовым, который нашел уместным в «Великой России» напасть на прежние прегрешения К.-д. партии, на партийность вообще, призывая к стойкой политике.
Я ему в статье «А судьи кто?» возразил, что не ему, побывавшему в трех партиях, между прочим и в кадетской, и нигде не ужившемуся, ставшему «диким», учить стойкости, а что кликушество патриотов-индивидуалистов создает обыкновенно более вредную и нетерпимую, чем партия, кружковщину; я доказывал ему, что партия наша, в общем, в эти тяжелые годы была именно в своем целом на национальной высоте, организуя и призывая к надпартийному объединению и поддерживая армию. И почему он напал именно на кадетов и, между прочим, за их действия в Одессе, когда в той же Одессе более правые организации и его друзья наделали гораздо более ошибок и шли на компромиссы до ставки на Петлюру включительно. На это он мне возразил в «Великой России», причем, насколько помню, самым сильным его возражением-предостережением было то, что я наживу себе геморрой, сидя в К.-д. партии. Ему, не нашедшему для возражения фактических аргументов в прошлом, пришлось прибегнуть к такого рода физиологическому прогнозу!
Как я уже говорил по поводу харьковского совещания, мы твердо установили нашу национальную, надпартийную работу, поддерживающую диктатуру и армию, закрепив партийную тактику на всем юге России, во всех партийных организованных группах, до Харькова, Киева и Одессы включительно, вполне согласную с тактикой наших кавказских и сибирских товарищей, а также и московских, судя по письму Щепкина. Признание диктатуры и призыв к широкому единению как налево, так и направо (именно это последнее) стало волновать некоторых наших товарищей, оторванных от русской действительности, не работающих при армии, живущих за границей.
Я получил два длинных письма от Петрункевича и Винавера, живших на даче последнего в Cap d'Aill близ Ниццы, в которых они нас упрекают в том, что мы изменяем программе и духу партии и не бережем завоеваний революции. Я им ответил тоже большими письмами, обстоятельно доказывая фактически, что мы отнюдь не изменили партии и партийным конференциям в Москве и Екатеринодаре, а что слушать о «завоеваниях революции» нам здесь дико, что известные завоевания, несомненно, останутся в восстановленной России, но что в отчаянной борьбе, в мертвой схватке, при которой мы присутствуем и в которой посильно принимаем участие, – не время и не место говорить и заботиться о «завоеваниях революции».
И действительно, горит дом, гибнет наше имущество в нем и даже наши дети и близкие, а мы, владельцы и квартиранты дома, не делаем все возможное, чтобы спасти от огня людей и достояние наше, помогая и подчиняясь брандмейстеру, будь он даже бурбон, а стоим и утешаем себя, что пожар истребит клопов и крыс дома, видя в этом завоевание огня. А ведь ни Деникин, ни Врангель не бурбоны, а «завоевания революции», когда самые стены нашего дома – Родины – рушатся и от него грозит остаться одно пепелище – сравнительно не большая радость, чем гибель клопов и крыс в огне.
Кстати, почти так же уместны при этом и разговоры о будущем государственном строе. Когда самые стены дома готовы рухнуть в огне, два совладельца дома, вместо дружной работы по спасению близких и имущества, ожесточенно (?) спорят, в каком стиле они возобновят дом: в стиле ампир (Марков) или в стиле модерн (Милюков).
Как младенцы, лишенные еще зрительной перспективы, одинаково простирают руки к близким и отдаленным предметам, так и плешивые уже подчас младенцы, лишенные политической перспективы, хватаются и за ближайшие и за отдаленные задачи, ссорятся из-за них, а потому ничего не ухватывают, упуская ближайшую задачу…
Когда мы еще были в Харькове, был отдан большевикам Курск. Потом пал и Харьков. Волна откатывалась. Ноябрь и декабрь в Ростове были мрачны. Армия обнаруживала признаки разложения; вожжи как бы выпадали из рук Деникина. Была ли им сделана коренная стратегическая ошибка – занятие Малороссии и быстрое продвижение на Москву зимой плохо одетой и снабженной армии? Было два мнения: одни были за этот план, а другие, в том числе Врангель, за ограниченное продвижение на запад и за направление не на Москву, а из Царицына на Самару, на соединение с Колчаком. Когда продвижение на Москву рухнуло, большинство стало обвинять Деникина в стратегической ошибке. Горе побежденным, победителя не судят. А если бы не удался рейд к Колчаку, который, в свою очередь, был отброшен? Тогда у большинства Деникин был бы виноват в том, что увлекся далеким Колчаком и побоялся один идти на Москву. Два таких стратега, как я и Новгородцев, спорили между собой; он был за московский план (не было ли кроме нашего общего стремления еще субъективное его стремление к семье), я за самарский.
Тиф страшно развивался, унося многочисленные жертвы. Лазареты Ростова и Нахичевани были переполнены.
С начала декабря начали говорить об эвакуации Ростова, о переезде вновь в Екатеринодар, в Новороссийск, а с середины декабря через Ростов на мост через Дон потянулись воинские обозы, а затем и войска и гражданское население. Не хватало вагонов и особенно паровозов, между Ростовом и Батайском образовывалась постоянно пробка. На мосту для конных и пеших в двадцатых числах декабря творилось что-то невообразимое. Чины некоторых управлений принуждены были дойти до Батайска пешком. Магазины стали закрываться, а город стал плохо освещаться, и некоторые улицы тонули в темноте.
Проходящие войска являли признаки разложения. А что хуже вооруженных людей, не связанных дисциплиной? Офицеры усталые, озлобленные, зачастую нетрезвые. Я на себе испытал прелесть такого настроения. В трамвае два таких выпивших офицера придрались ко мне как-то вечером за то, что я не уступил места одному из них, раненному, хотя никаких признаков ранения не было, и он потом ходил за мной полчаса. Слезаю на Таганрогском проспекте, они за мной. Сворачиваю в темный переулок – они тоже. Начинают меня ругать большевиком, издеваться, не позволяют курить, угрожают револьверами. Я стараюсь объясниться – не дают, все время размахивая в пустынном, темном переулке револьверами. Наконец один из них говорит: «Ведем его в комендатуру, там с ним скоро расправятся!» Я обрадовался. Но потом, когда, пересекая Садовую, они встретили товарищей, которые урезонили их: «Охота возиться со стариком!» – и уж я стал настаивать, чтобы идти к коменданту, они, еще раз обругав меня, удалились.
Дня за два до Рождества на главной улице – Садовой и на других улицах появились на деревьях, окаймляющих улицу, повешенные. Раз мы с Новгородцевым около вокзала натолкнулись на толпу, окружающую только что вздернутого на дерево человека. Спрашиваю кого-то: за что? «Говорят, за спекуляцию; дорого продавал офицерам». Вероятно, это был уличный разносчик. Был ли тут же самочинно организован летучий военный суд? Был ли вообще суд? Если вешались по суду, то почему трупы висели по всему городу? Не было ли иногда это результатом обиды за высокие цены или за отказ дать даром или просто результатом беспричинной придирки, как со мной в трамвае? Усталые, может быть голодные, пьяные, озлобленные на тыл люди, может быть недавно проявлявшие геройские подвиги на фронте, теперь были часто отвратительны.
Творились ли зверства в Добрармии? Конечно да. Трудно, почти невозможно облагородить и регулярную войну, и так называемые правила войны редко соблюдаются. Тем труднее облагородить гражданско-партизанскую, худшую из войн. Наряду с геройством развращение, особенно юношества, огромное. Я сам слышал, как юный доброволец, почти мальчик, товарищ моего племянника, рассказывал, как они приканчивали шашками раненых большевиков: «Вжи, вжи, раздавалось только». Может быть, это было так, а может быть, он только хвастался, но и хвастовство это было отвратительно.
Я описываю это ужасное явление только в Добрармии, потому что повествую только о мною лично виденном. Превосходили ли зверства большевиков количественно и качественно? Не знаю. По слухам и анкетам с нашей стороны – да. Но на войне всегда преувеличиваются злодеяния противника, и у большевиков белый террор изображался куда ужаснее красного. И вот мне кажется, что разница заключается именно в том, что при несомненном наличии неизбежных при гражданской войне зверств, особенно в период разложения армии, в Добрармии не было террора как системы, и неизбежное зло преследовалось высшим командованием, тогда как у большевиков, судя по тому, что я видел еще в Петрограде и Москве, террор возводится в систему, на ней зиждется большевистская власть, которая даже в декретах отдает должное революционному подъему своих адептов, красы и гордости революции.
Нужна ли была гражданская война со всеми этими зверствами?
Если мы считаем большевизм злом, разрушающим нашу Родину, то должны были сделать все, не смущаясь даже ужасами гражданской войны, чтобы вырвать ее из этого зла, и – увы! – не приходится при современном состоянии государственности и человечества смущаться зверствами войны, как с неизбежным пока злом, каковым является всякая война. И, описывая нелицеприятно отрицательные явления, до зверств включительно, от которых сам чуть не пострадал, я в то же время преклоняюсь перед подвигом солдат и офицеров Добрармии, в ее легендарной, неравной борьбе. Перед отъездом я несколько раз посетил в переполненном госпитале лежавшего в тифе в полусознательном состоянии редактора «Свободной речи» Малютина, которого эвакуировать уже было невозможно. Он меня иногда узнавал и с мольбой смотрел на меня. Язык в пересохшем рту заплетался. Наверно, он скоро умер, а попасть живым к большевикам для него – та же смерть. По-моему, его ближайшие сотрудники по газете неважно с ним поступили и боялись даже его навещать в больнице. Все, что я мог сделать, – это передать его на попечение двух близживущих барышень, переболевших тифом, остающихся в Ростове.
С трудом 23-го утром, перевезя свой беженский скарб в теплушку поезда, стоявшего на бесконечных путях между вокзалом и Доном, я наконец в нее втиснулся.
К нашему теплушечному поезду были прицеплены два частных слабосильных локомобиля, с какого-то частного подъездного пути, но мы простояли на путях еще сутки, вследствие пробки от затора поездов и восстановления только одного пути на поврежденном в прошлом году мосту. Все поезда спешили отойти, чтобы не застрять в заторе, но Батайск и следующие перегруженные станции плохо принимали. Много поездов так и не могли вовремя, до прихода большевиков, отправиться. Постоянно ходили на вокзал упрашивать пустить нас. Наконец, в сочельник утром мы двинулись. До Новороссийска мы ехали восемь-девять дней. В Батайске, откуда виден Ростов, мы простояли полтора суток, в Екатеринодаре и на Тоннельной сутки.
Опять теплушечная жизнь. Публика чистая, но присутствие дам стеснительно. Едут некоторые министерства, Новгородцев, Федоров, Фенин (министр торговли) и др. По шоссе тянутся непрерывно войска и обыватели в экипажах и пешие. В Батайске, где стоит поезд Деникина и штабной поезд, мы встречаем Рождество. В батайской станице разыскиваем провизию, которую приносим в общий котел вагона. Мне посчастливилось: жена дьякона пожалела меня и дешево отпустила обильную провизию ради праздника. Помню, как на одной из бесконечных стоянок, в поле перед закрытым семафором П. И. Новгородцев поджаривал близ пути на углях костра ветчину. Под Новый год мы в нашей теплушке устроили вечер, на котором Гуревич, талантливый импровизатор, читал звучные стихи на задаваемые темы. Я, как импресарио, водил его и в другие теплушки к знакомым, где он тоже имел большой успех и нас радушно угощали. Разумеется, по большей части разговор в поезде вертелся вокруг создавшегося положения, возникали споры. Говорят, что бедного М.М. Федорова какой-то компаньон по теплушке упрекал во всех бедствиях: «Заседали, заседали; говорили, говорили всю жизнь, ну и договорились!» В Екатеринодаре я успел посетить нескольких новых моих приятелей. Грустно было это посещение Екатеринодара при настоящих обстоятельствах. В нашем поезде от тифа умерло всего лишь два человека, в других поездах смертей было более. Наконец, в самом начале января мы добрались до Новороссийска.
В Новороссийске пришлось пробыть всего три с половиной месяца. Если пребывание в Ростове оставило во мне тяжелое впечатление, то еще худшее впечатление оставил Новороссийск.
В день приезда, как почти и во все время нашего пребывания, дул знаменитый норд-ост. Была метель. Оставив вещи в теплушке, утром я поехал в далекий от вокзала переполненный город искать пристанища. Весь день я ничего не нашел и, усталый, холодный, намеревался уже устроиться в ночлежке, в которой, вероятно, кишели носители тифа – вши, как уже под вечер, к счастью, встретил графа Д.А. Олсуфьева, который во второй раз оказал мне большую услугу, приютив меня на диване в своей маленькой комнате на краю города, где я и прожил все время. Комната плохо отапливалась, и на окне у моего изголовья, когда свирепствовал норд-ост, замерзали чернила. На полу у нас ночевал единственный уцелевший после обеих войн сын Н.Н. Львова, да и он сам зачастую ночевал рядом с сыном. Под вечер почти каждый день приходили он и Е.Н. Трубецкой до своего заболевания играть в шахматы.
Те же собрания кадетские (редкие – местный К.-д. комитет не деятельный), Национального центра, публичные собрания в театре, статьи в «Свободной речи», возобновленной Соколовым после упразднения Освага…
Сосредоточие общественной деятельности (Красный Крест и проч.) было в Думе. Столовались мы в дешевой столовой Союза городов. Переполненный город плохо вмещал все прибывавшую публику. Ею были переполнены целые поезда, а также и вокзал, где на полу спали вповалку. Союзные базы обосновались в Стандарте, по ту сторону бухты.
Хорошо разместились англичане в помещениях заграничного типа поселка при цементном заводе. Здесь же они приютили и кормили некоторое количество беженцев с черноморского побережья. В Новороссийске же расположилась большая часть правительственных и военных учреждений с генералом Лукомским во главе. Деникин жил в своем поезде на станциях от Батайска до Екатеринодара.
В это время и познакомился с генералом Врангелем, проживавшим в вагоне с генералом Шатиловым. Он разошелся с Деникиным, должен был покинуть фронт, где у него было столько блестящих дел, и теперь выжидал решения своей участи. Через некоторое время он уехал в Константинополь. Я пришел спросить его мнения по поводу возникшего тогда в Новороссийске проекта формирования добровольных дружин для гарнизонной службы и пополнения частей. Врангель отнесся к проекту отрицательно. Из Константинополя он написал Деникину письмо с резкой критикой всей его стратегии. Даже если бы Врангель по существу был и прав во многом, что вполне допускаю, то, во всяком случае, с точки зрения воинской дисциплины он был не прав, в это трудное время подрывая авторитет Деникина, так как это письмо широко распространялось в копиях. Аналогично поступил бы Деникин, если бы после взятия Перекопа в Севастополе распространялось его письмо с критикой защиты Перекопского перешейка.
Дул норд-ост. Косил тиф.
Скосил он и буйного Пуришкевича, на похоронах которого было много народу. Уже в конце февраля, перед эвакуацией, умер от тифа и князь Е.Н. Трубецкой. Грустно было его отпевание: простой, дощатый гроб, почти пустая церковь.
В начале февраля Деникину пришлось реорганизовать правительство, чтобы в этот критический момент привлечь симпатии и энергичное содействие казачества, с политическими лидерами которых он все время воевал. Ставка на господ Агеевых и Тимошенко, представителей «революционной демократии», была последней, отчаянной ставкой. Министерство, задачей которого было поддержать фронт, было коалиционное. В него под председательством донца Мельникова вошли кадеты – Бернацкий (финансы) и Зеелер (внутренних дел), кажется, остальные были казаки (Агеев – министр труда, Харламов, Сушков и др.). Министром иностранных дел был назначен вызванный из Батума генерал Баратов.
По состоявшемуся соглашению единоличная власть Деникина сильно умалялась и создался какой-то федеративно-парламентарный строй. Члены Центрального комитета К.-д. партии вынесли резолюцию о поддержке этого правительства как совершившегося факта, не входя в критику его политической физиономии и личного состава. Подчиняясь настоянию Национального центра, Бернацкий вступил в министерство против своей воли, за что ему от Национального центра был поднесен горячий адрес. Вот что я писал в номере «Свободной речи» от 13 февраля.
«Россия представляет теперь из себя клокочущее море; русская государственность – утлое судно, потерпевшее аварию. Это судно, в последнее время с креном налево, борется с волнами. И если нам и не суждено быть в командном составе этого судна, мы должны работать в кочегарном отделении, должны спуститься в трюм, выкачивать воду и заклепывать пробоины, чтобы не дать погибнуть судну.
И тем более мы имеем основание надеяться доплыть до желанного берега, что руль не выпускает из рук испытанный кормчий, привыкший к непогодам. Корабль и с креном может дойти до берега. Придать же более устойчивое положение кораблю можно и в море, если ослабнет буря, или причалив к берегу и введя корабль в сухой док. Ослабнет ли бушующая в России буря при завоевании Харькова, Курска, или придется Москве сыграть роль сухого дока?
От скептиков я слышал и такую фразу: «Офицерство умирало за Россию, но оно не пойдет умирать за Агеева и Макаренко, за казачью республику». Я лучшего мнения о геройском нашем офицерстве. Конечно, среди них есть малодушные, усталые, тыловики и поддавшиеся развалу и разложению.
Лишь у таковых может возникнуть подобная извращенная мысль. Огромное же большинство офицеров поймет, что оно и теперь умирает не за Макаренко и Агеева, а за ту же Россию, как оно умирало за Россию и прежде, а не за Драгомирова или Лукомского, да, в конце концов, и не за Деникина или Колчака. Но Деникин сам всегда готов отдать свою жизнь за Россию, и офицеры это отлично знают, а потому у здорового офицерства никогда такого сомнения не возникнет».
И так все для попытки удержания фронта и ради этого – примирение и с личным составом правительственной власти, и с ее нелепой конструкцией. Мы все делали, чтобы подкрепить Деникина, из ослабевших рук которого вываливались вожжи.
Потому же я не подписал ходатайство, инициатором которого был, кажется, приехавший тогда Струве, подписанное многими моими друзьями, обращенное к Деникину, с просьбой назначить Врангеля командующим войсками в Крыму, которому предстояло сыграть роль последнего пристанища белых сил, если Кубани и Новороссийску суждено было пасть. Пока Деникин был главнокомандующим, я не считал правильным гражданским лицам вмешиваться в дела командования, а потому, хотя по существу я разделял точку зрения Струве, я отказался подписать это ходатайство.
В феврале в Новороссийск все прибывала военная и гражданская публика, и в то же время началась эвакуационная лихорадка, причем ею обуревались и молодые и одиночки. И на собраниях и в газете я горячо восстал против этой паники тыла, которая не могла не отразиться и на фронте. Вот что я, между прочим, писал («Свободная речь» от 6 февраля).
Лицом к России
«Мы работали для Добрармии и в Совдепии с ее возникновения. Работали на нее в Москве, в Екатеринодаре, в Ростове и будем работать в Новороссийске.
При ее успехах и продвижениях мы были с ней и радовались ее радостями. И в черные дни, при ее неудачах и после ее катастрофического последнего отступления, мы обязаны быть с ней и с Деникиным. Не только мы обязаны сами проявлять гражданское мужество, но и должны призывать к нему и других, предостерегать от гражданского дезертирства. Если мы имели право гордиться успехами Добрармии, посильно работая на нее, то и в ошибках власти мы, как и другие, повинны. Все мы должны учитывать эти ошибки; как и армия, мы обязаны перестроиться и с удесятеренной энергией продолжать работать на нее.
Ничего нет легче и неправильнее, как заявлять, что власть Добрармии не слушала наших предостережений, а потому и провалилась. Если и провалилось что-то, то провалились мы все вместе. Правые говорят, что следовало бы провозгласить принцип монархии, за который якобы охотно пошел бы умирать народ; левые видят причину неудачи в недостаточной демократичности реформ и в реакционности власти. Таким образом, каждый дует в свою дудку; как и ранее, многие не способны встать даже в такие моменты на надпрограммную национальную высоту и не учитывают всю сложность задач и конструкции Добрармии, всю необычность условий ее возникновения и обстановки, при которых ей приходится бороться.
Если Добрармия потерпела неудачу, то ее идея, ее лозунги не побеждены и в конце концов, несомненно, восторжествуют над ложью и насилием большевизма.
Правда, мы временно приперты к морю. И Новороссийск представляет из себя пока более неблагоустроенный эвакуационный пункт малодушных обывателей, чем средоточие возрождения и перестроение власти.
Многие уже уехали. Другие, одержимые стадным инстинктом и паникой, с растерянным видом, мутными глазами смотрят на море, чтобы куда-нибудь да уехать. И среди них много не старых, способных работать и в тылу и на фронте. Пусть старики, женщины, слабые обыватели уезжают, но граждане, способные держать в руках винтовку, лопату или перо, должны остаться.
Пусть они станут спиной к морю и лицом к России. И, вглядевшись в ее многострадальный лик, русский гражданин не уедет зря.
На Серебряковской – толпа беглецов. Десятки знакомых задают все тот же вопрос: «Надолго ли остаетесь, куда едете?» – «Остаюсь пока в Новороссийске». – «А потом?» – «А потом, даст Бог, на Ростов, на Харьков» и т. д.
Сами в состоянии психоза, они на вас смотрят как на помешанного».
В том же духе я написал ряд статей, стараясь главным образом воздействовать на интеллигенцию и пристыдить ее. Последняя моя статья была 8 марта. В это же время возникло Общество добровольных отрядов, председателем которого я был. По этому поводу я писал («Свободная речь» от 13 февраля):
«Когда спасение Родины зависит главным образом от военного успеха и армия претерпевает трагическую неудачу, обязанность всякого гражданина, даже и непризывного возраста, могущего носить оружие, – становиться в ряды армии и пополнять урон фронта. И прежде всего именно интеллигенция должна провозгласить лозунг «Все на фронт» и претворить его в жизни. Союзники в Новороссийске и Харькове говорили: «Среди русской интеллигенции много талантливых, может быть, гениальных людей, но нация потеряла сердце. Мы не видим подлинного патриотизма. Вместо защиты Родины только все и думают о бегстве из России».
И действительно, просить помощи у англичан, призывать славян проливать кровь за Россию мы можем только будучи сами мужественны и патриотами. Роль «гнилой», как ее называют, интеллигенции показать в подобную минуту всему свету, что русская нация, потеряв почти всю территорию, не потеряла своего сердца. Надежда на спасение организма возможна, пока бьется сердце. Замерло сердце – организм обречен на смерть и разложение.
Нельзя смотреть на себя как на соль земли, которую нужно беречь в интересах будущего в сухом и безопасном месте. Эта соль будет подмочена и потеряет всякое значение. Все, кто может, должны идти в армию для несения гарнизонной службы, для защиты от банд и главным образом для пополнения убыли на фронте».
Небольшой кружок инициаторов Общества добровольных отрядов энергично принялся за дело. Но на получение разрешения и утверждения устава прошло много времени, и потому с этим делом было опоздано, большевики взяли Екатеринодар, и все побежало из Новороссийска. Деникин жил в вагоне у пристани. Я спорил и со своими друзьями, бывшими членами Особого совещания и стоявшими во главе Союза городов, стремившимися уехать в Константинополь. Я убеждал их остаться или переехать на черноморское побережье или в Крым. Они меня называли Дон Кихотом, а я их – гражданскими дезертирами. Такие энергичные общественные деятели, как Астров, Юренев, Жекулина, Дмитриев и Федоров, стоявшие во главе Союза городов, уехали в Константинополь, а потому этот союз влачил в Крыму при Врангеле довольно жалкое существование. Земские уполномоченные Шликевич и Эйлер тоже уехали, но случайно в Крыму была база и склады Земского союза с уполномоченными графом Капнистом и Хрипуновым, а потому этот союз развил в крымский период борьбы очень широкую деятельность.
В предыдущих главах я забыл сказать, что оба этих союза плодотворно работали при Добрармии.
Когда все хлопотали о иностранных визах и пароходных билетах, я так и остался без визы. На случай, если бы мне не удалось в последнюю минуту сесть на пароход, я достал винтовку, чтобы идти на Черноморское шоссе, по которому впоследствии отступало много войск, главным образом казаков, которые не успели эвакуироваться. Потом эти части из Туапсе и Сочи перевозились в Крым. Меня, пацифиста (но не антимилитариста), обучал обращению с винтовкой брат милосердия из моего передового отряда на войне – Вонсович. Олсуфьев, «учтя, что зреет драма», уже давно уехал, и я жил в комнате один, а когда Панина, Федоров и Астров уехали, я переехал в их помещение в Азовском банке.
Когда же большевики из Екатеринодара шли на Тоннельную, за день до моего отъезда, я проходил мимо цирка-балагана у моря и зашел в него на несколько минут, заинтересовавшись, что может там происходить во время начавшейся паники и поголовного бегства из Новороссийска. В переполненном цирке были преимущественно солдаты и офицеры. Много пьяных. Офицеры с трудом выводят из ложи буянящего товарища. На сцене крошечный мальчик, накувыркавшись, тяжело дыша, выкрикивает патриотические контрреволюционные стихи, размахивая национальным флагом. Вероятно, тот же мальчик дня через четыре, размахивая красным флагом, высмеивал Добрармию.
На следующий день начались пожары и грабеж. О последнем я впервые узнал, купив у солдата спички за 2 рубля, тогда как они продавались последнее время за 25 рублей. В тот же день по городу начали бегать и бродить на свободе брошенные на произвол судьбы лошади, выпряженные из обозов и от орудий. На узком шоссе между старым городом и новым, где вокзал и пароходные пристани, творится нечто невообразимое.
Под вечер приезжает ко мне в банк на автомобиле французский представитель генерал Мондии, узнавший от кого-то, что я еще в городе. Как он пробрался по шоссе, не понимаю. «Mais qu'est ce que vous faites donc, mon ami? Il est temps[13]. Большевики в Тоннельной, могут быть завтра здесь». Дает мне пропуск на французскую пристань и торопит сегодня же приехать. Бросаюсь искать подводу и не нахожу, никто не решается ехать ночью, так как обратно проехать будет невозможно. Устраиваю двуколку Союза городов на завтрашнее утро. С вечера слышна канонада. С утра выезжаю. Канонада приблизилась. На узком приморском шоссе 4—5 рядов повозок и масса пеших. Идут и в обратном направлении. Продвигаемся 15—20 шагов – остановка на полчаса. Очевидно, так не доберемся и до вечера. Встречные говорят, что на лошади все равно не проберемся. Некоторые бросают подводы и экипажи и несут поклажу на руках. Что делать? У меня три мешка и ящик с пишущей машинкой Национального центра. Назад тоже уже не проедешь по шоссе. Сворачиваем в сторону, несколько раз чуть не топим лошадь, еле сами ступая по колени в грязи, и наконец попадаем обратно в город. Выпрашиваю в Согоре четырех санитаров для моего багажа и иду с ними. И пешком продвигаться трудно. Приходится пролезать под лошадьми, запряженными и брошенными на свободу, лавировать между повозками и людьми. Санитаров, которых я не знаю в лицо и по имени, постоянно оттирают. Несколько снарядов пролетело в море. Паника усиливается, и мои санитары трусят. В море и на берегу стоят брошенные повозки, орудия, танки. Горят железнодорожные пакгаузы, огромные склады с товарами и вагоны разграбляются.
Я видывал виды, но и галицийское, и мукденское отступление не могут сравняться по скученности и замешательству с Новороссийском: вся противобольшевистская Россия, припертая к морю, мечется на этом шоссе.
Солдаты с кипами товаров. Под ногами людей и лошадей бархат, сукна, кожа, консервы, винтовки. В воздухе – матерщина. Офицеры отбирают у солдат товары, заставляют подбирать брошенные винтовки. На повороте к вокзалу, с которого еще вливается поток людей и лошадей, с адъютантами распоряжается генерал Кутепов в белой шапке, но урегулировать движение уже не в состоянии. Несколько раз еле отстаиваю мой багаж, на который набрасываются под предлогом, что это краденый товар. Ящик с машинкой разбивают, чтобы убедиться, что в нем. Теряю постоянно из виду санитаров, наконец, троих из них теряю окончательно и к пристани прихожу лишь с ящиком с пишущей машинкой. Оставляю ящик на пристани и иду с санитаром на набережную разыскивать остальных трех. Нахожу одного, а двух других не нашел, и все мое платье и белье так и пропало, хотя я просил санитаров потом принести вещи, если бы их товарищи вернулись в город с вещами.
Уже на французском катере, стоявшем у пристани, на который я попал в довольно растерзанном виде, меня подкормили, а когда я очутился на дредноуте «Вальдек-Руссо», то я сразу попал после моих скитаний и ужасной новороссийской обстановки как бы в Европу, на плавучую почву Франции: обед у капитана из пяти блюд, вина, ликеры, сигары, ванна, душ, парикмахер. «Вальдек-Руссо» был переполнен главным образом военной толпой; у многих солдат не было оружия, то, что было, отбиралось французами до высадки. Отличались выправкой и дисциплиной, были частью, а не толпой юнкера Алексеевского училища, которые выстраивались петь молитву, благодарить французов. Мне капитан уступил свою вахтенную каюту на вышке.
Мы стояли далеко на рейде. К счастью для эвакуации, была тихая погода. Ночью взошла луна. Она и пожары отсвечивались в воде. Особенно сильно пылали нефтяные баки и вагоны-цистерны. До позднего вечера лодки подвозили беженцев.
Поздно утром я проснулся от страшного шума и сотрясения. Это с «Вальдек-Руссо» стали обстреливать горы за городом, чтобы прикрыть отступление. Огромное, кажется 12-дюймовое, чудище было под моей вышкой. Меня не предупредили о стрельбе; следовало приоткрыть окно, чтобы дать выход сотрясенному воздуху, а то у меня вдребезги разбились окно и посуда. Прибежавший на шум битого стекла матрос-дневальный убрал осколки и дал ваты заткнуть уши, как и они все делают, чтобы не лопнула барабанная перепонка. Обстрел подступов к городу продолжался еще некоторое время. Офицеры и прислуга орудий, смотря в бинокль, радовались, когда снаряды разрывались около «большевиков», людских скопищ на склоне холмов. Должен ли и я радоваться? На меня тяжелое впечатление производил обстрел русской земли и русских людей с иностранного судна, на котором я бежал. Да и были ли то большевики? Может быть, это население, бегущее от большевиков, может быть, запоздавшие части или беженцы с застрявших в Тоннельной поездов, ищущие выхода к морю? Наш капитан был против обстрела, но приказ был дан старшим по чину английским адмиралом, который тоже открыл огонь со своих судов.
Переполненные, черные от народу пароходы проходили мимо нас, направляясь в Крым. Некоторые пароходы тащили на буксире какие-то металлические плоские баржи, тоже переполненные. Разумеется, это было возможно только благодаря спокойному морю. Что бы было при норд-осте?
К нам целый день подплывают лодки с беглецами. К вечеру они рассказывают, что большевики уже в городе, что их лодки ими обстреливались. А может быть, это были бандиты или новороссийские друзья большевиков? Было послано несколько миноносцев, в их числе и русские, обстрелявших кого-то из пулеметов. Ружейные выстрелы, бывшие сначала одиночными, стали все чаще раздаваться.
В прибывающих лодках стали появляться убитые и раненые. Когда судовой врач у трапа констатировал смерть, то к ногам мертвеца привязывали гири и его сбрасывали в море. Вероятно, такие мертвецы с грузом на ногах, достигнув дна, стоя покачивались в воде. Одна переполненная лодка в сумятице опрокинулась. Мужчины и женщины барахтались и кричали. Им бросили круги, спустили лодки. Предполагали, что спасли всех, но количество ехавших было неизвестно.
Еще ночь переночевал на рейде. Я пользовался гостеприимством симпатичного, расторопного капитана в его роскошных гостиных. Бывал и в офицерской кают-компании. Ночью усилился ружейный и пулеметный обстрел вдоль черноморского побережья. Или большевики, или зеленые обстреливали, вероятно, отступающих по шоссе на Туапсе. Утром большевики начали обстреливать рейд. Прошел русский крейсер с Деникиным, в честь которого на «Вальдек-Руссо» выстраивали команду. Когда снаряды стали ложиться близ нас, снялся и «Вальдек-Руссо», взяв курс на Феодосию.
Глава 8 Феодосия – Севастополь. 1920 год
Злополучный Новороссийск стал скрываться из вида, заволакиваясь дымкой; мы покидали русский материк на приморском бульваре. Эта современная часть города тянется вдоль моря и состоит из прекрасных вилл, большей частью караимов, – Хаджи, Крым, Стамболи и других. Здесь же большая дача, бывшая Суворина, с чудным садом у моря. Старая часть небольшого городка с пристанью и старой крепостью имеет прелесть старины и от сохранившихся остатков турецкого владычества. Попадаются в раскопках и предметы древнегреческой бывшей здесь колонии. Из дома-музея Айвазовского картины были убраны.
Для меня Феодосия, куда я попал впервые, связана с воспоминаниями детства, так как в нашем подмосковном имении в церкви похоронен В.М. Долгоруков-Крымский, покоривший восточную часть Крыма, и в зале дома висели два огромных плана-картины взятия им Феодосии и Керчи и турецкого флота. На дворе же стояли подаренные ему Екатериной II пушки с серебряными надписями, отбитые у турок в этих сражениях.
К западу от Феодосии начинаются скалистые годы Крымского хребта с чудными дачными местами – Коктебель, Судак и другими.
На вилле же Крыма поместилась с полковником во главе французская военная миссия, с очень милыми молодыми офицерами, с которыми я очень дружил. На соседней площадке ежедневно происходили оживленные футбольные состязания между французскими и английскими моряками.
Наступил апрель, все было в цвету. Я прожил в тихой Феодосии с комфортом и в полном отдыхе, что после Новороссийска и перед Севастополем было очень приятно и полезно.
Вблизи было маленькое кладбище при церкви под сенью кипарисов. На нем были свежие могилы молодых знакомых москвичей, чуть не мальчиков, гр. Пушкина и Тучкова, погибших в славных боях при защите Крыма от большевиков Слащевым. Тут же в тифозном госпитале Красного Креста лежал в бреду мой племянник, доброволец-солдат Ахтырского полка.
Деникин с остатками своего штаба занял гостиницу против вокзала. Он не выходил из нее. Он не захотел своей властью назначить себе преемника, а предоставил это сделать собравшимся в Севастополе высшим чинам командования, которые и выбрали главнокомандующим Врангеля, находившегося тогда в Константинополе и немедленно прибывшего в Севастополь. Деникин скромно, как всегда, почти незаметно сел на английский миноносец и уехал с начальником штаба генералом Романовским в Константинополь. При прощании многие из штабных плакали.
Так перевернулась страница и окончилась глава истории белой борьбы, и началась новая глава – врангелевский период.
Генерал Романовский, очень нелюбимый в армии, был убит в передней русского посольства в Константинополе. Странное явление: насколько главнокомандующие были любимы армией и пользовались огромным авторитетом, настолько же не любили их начальников штаба. С одной стороны – великий князь Николай Николаевич, Деникин, Врангель, с другой стороны – генералы Янушкевич, Романовский, Шатилов…
Сразу прибывшее в маленькую Феодосию большое количество войск из Новороссийска и все продолжавшие прибывать с черноморского побережья разрозненные части или, скорее, банды солдат оказали свое действие, и скоро началась нехватка провианта, а также начались грабежи и бесчинства. После новороссийского погрома солдаты прибывали в лохмотьях, без обозов, часто без оружия. Это было не войско, а военный сброд, который внушал опасение в настоящем и мало обещал хорошего в будущем.
Собралась городская дума для обсуждения положения дел. На это собрание был приглашен и я с некоторыми общественными деятелями. Было принято спроектированное мной обращение к генералу Врангелю, в котором изображалось угрожающее положение города и намечался ряд необходимых мероприятий.
В то же время с кавказского побережья начали прибывать кавалерийские солдаты, преимущественно казаки, не только с оружием, но даже и с лошадьми.
В скором времени продвижение воинских чинов в места формирования частей, как по железной дороге, так и по шоссе, урегулировалось и произошло, как я классифицирую, чудо № 1 генерала Врангеля – быстрое превращение деморализованных, разрозненных, неодетых и невооруженных банд в регулярное войско, о чем я буду говорить впоследствии.
Кроме думского заседания, был я еще на двух заседаниях маленькой местной кадетской группы; этим и ограничилась здесь моя общественная деятельность, и отдых мой был полный.
Отдыхом и развлечением была и поездка в Сочи за беженцами. Пасха была поздняя, 1 мая. В самом конце апреля французская миссия получила из Севастополя распоряжение отправить судно в Сочи для эвакуирования оттуда беженцев в Ялту. На небольшом военном транспорте из миссии был командирован лейтенант. Так как в Сочи находился мой брат с семьей, которому пора было эвакуироваться, то я попросился поехать. Полковник очень обрадовался, так как я мог быть полезен в качестве помощника, советчика и переводчика при молодом лейтенанте. Погода была чудная. Мы ехали вдвоем на пароходе, как на своей яхте, и после обеда стреляли в кувыркающихся дельфинов. Под утро 1 мая мы подъехали к Сочи и, не зная наверно, в чьих руках город, из предосторожности остановились поодаль. Утром подъехала комендантская лодка, и мы с лейтенантом поехали на ней к городу. Сделав распоряжение о погрузке беженцев, мы гуляли по городу и зашли на дачу, где жил брат. Оказывается, он накануне выехал в Ялту на английском судне. Потом мы пошли в гостиницу «Ривьера» к генералу Шкуро, который стал во главе войск, отступающих по кавказскому побережью. С севера по шоссе беспрерывно шли конные и пешие группы солдат. Туапсе уже был в руках большевиков, и все побережье, очевидно, агонизировало.
У Шкуро мы застали разговение с обильной выпивкой. Тут же пришло духовенство с крестом. Шкуро меня расспрашивал о передаче власти Деникиным Врангелю и был недоволен этой передачей, будучи сторонником первого и не желая признать власть второго. Он потом в Крыму и не был, а прямо поехал в Константинополь. На своем участке в трех верстах от Сочи я не успел побывать.
Когда к вечеру погрузка беженцев окончилась (кажется, человек 1200) и пароход был битком набит, мы выехали в Ялту. Я действительно был полезен. Мало того что публику французы даром перевозили и давали хлеб и консервы, беженцы все время заявляли мне разного рода претензии насчет горячей пищи, чая и тому подобного, которые я просто не передавал лейтенанту, совестясь за бесцеремонность соотечественников.
Вечером я пригласил ехавшего с нами полковника Гнилорыбова, который потом стяжал себе такую печальную известность, и другого казачьего полковника в капитанскую каюту, чтобы получить у них сведения о побережье для доклада, который составлял лейтенант для начальства. Положение, в смысле обороны, было безнадежное: полное отсутствие патронов, острый продовольственный и фуражный кризис. Помнится, что десяток яиц в Сочи стоил 1000 рублей.
На другой день, пока пароход в Ялте разгружался и чистился, я показывал лейтенанту город, погуляв и покатавшись по нему. Ялта вся в цвету, но с прошлого года как-то еще опустилась и посерела. Пообедав со знакомыми мне москвичами, мы выехали в Феодосию, забрав нескольких пассажиров.
Вскоре после этого я выехал из Феодосии на пароходе в Севастополь, где поселился на биологической станции-аквариуме у заведующего ею Гольцова. Я жил в комнате при лаборатории и из окна, выходящего в парк, слушал вечером музыку в бульварной раковине, Собинова и др. Станция помещалась в самом центре города на Приморском бульваре с его чахлой растительностью. Купание было под боком. Главную прелесть квартиры составляла громадная квадратная терраса вдоль всего второго этажа здания, отделенная от моей комнаты лабораторией. Она подходила к самому морю, и во время бури брызги долетали до нее. После душного севастопольского дня чудно было на этой террасе, откуда слышалась сирена, поставленная где-то в море при входе в бухту. В лунные ночи была картина, «достойная кисти Айвазовского». Тут же жил известный инженер старик Белелюбский. В комнате рядом со мной на лабораторных столах спала молодежь.
Разумеется, Севастополь, сам по себе живописный, довольно благоустроенный для русского города, был переполнен и очень оживлен в роли столицы. Его исторические памятники – Малахов курган, братская могила, 4-й бастион и др. – были еще в хорошем состоянии, они как и иностранные воинские кладбища, постоянно посещались союзными моряками. В музее я нашел посланный мной портрет отца, бывшего адъютантом у князя Горчакова. В течение лета я принимал участие в нескольких пикниках в Херсонесский монастырь с его древнегреческими раскопками, в Березовую (?) Балку и в другие окрестности.
Врангель помещался в верхней части города. Я был у него всего два-три раза. От всей его фигуры веяло энергией, и сразу почувствовалась его молодая, крепкая рука. Тот военный сброд, который я видел в Феодосии, Врангель и его сотрудники в короткое время преобразили в регулярные части, способные не только оборонять Крым, но и наступать. Летом была занята северная часть Таврической губернии, Мелитополь и Бердянск. И это при страшной трудности комплектования, при недостатке обозов, лошадей, артиллерии и при ограниченных ресурсах населения небольшой территории.
Грабежи и насилия в войсках благодаря строгим мерам исчезли, произошло то чудо, о котором я говорил ранее, в которое не верили и потрясенные разложением Добрармии военные. Приведу характерный пример. В каком-то селении, кажется татарском, около Карасубазара, должна была формироваться часть. Население, уже испытавшее прелести гражданской войны, составило приговор, прося не ставить у них формирующуюся часть, говоря, что они платят откуп зеленым в горах, которые их за это не трогают и даже оберегают. Но часть была у них поставлена, и месяца через два, когда она должна была продвинуться на фронт, то же население просило не уводить всех войск. Оно не испытало от них никакого насилия, за все продукты получало деньги, зеленые исчезли.
По всему своему облику Врангель, с его порывистыми манерами и стройной фигурой кавалериста-гвардейца, для меня, вращавшегося более в либерально-интеллигентских кругах в моей земской, политической и общественной деятельности, был более чужд, чем скромный, более демократического облика Деникин. На плечи Деникина после смерти Корнилова и Алексеева свалилось тяжелое и ответственное бремя. Он с достоинством нес это бремя и снискал к себе общее уважение. Он был коренастый, крепкий солдат, который твердо стоял на посту и честно выполнял свой патриотический подвиг. Но он не был диктатор.
Во Врангеле более чувствовалось потентной энергии. И он впоследствии доказал, что не только может из деморализованной массы формировать, воодушевлять и вести в бой боеспособное войско, но не выпускал из своих крепких рук вожжей и после катастрофы. И после военного крушения люди верили в него, и он, в неимоверно трудных условиях, находил возможность поддерживать их морально и материально, поддерживать в них воинский дух и порыв к национальному подвигу. Он был ближе к типу диктатора, а это в настоящее время и требовалось, а потому я, прогрессист, кадет и пацифист, всецело и убежденно стал его поддерживать, как в Крыму, так и за рубежом. «Какова бы власть ни была в настоящий момент, если за ней идут войска, она должна быть признана всеми», – писал нам из Москвы Щепкин незадолго до своего расстрела. А для признания власти и роли Врангеля многим моим друзьям, которые никак не могли потом спеться с ним в Константинополе, следовало помнить, что до окончания Военной академии он окончил Горный институт и, как человек всесторонне образованный и развитой, он мог быстро ориентироваться в непривычной ему политической обстановке и – неопытный, делавший много ошибок политик – был способен эволюционировать.
И не только в него уверовали русские люди, но ему удалось через некоторое время добиться и того, что не удалось Деникину, – официального признания своей власти Францией.
В деникинский период борьбы более существенную помощь оказали англичане, а в крымский – французы, которые снабжали Врангеля артиллерией, оружием и боевыми припасами, а англичане как-то стушевались и даже при эвакуации Крыма почти не помогли. Во главе французской миссии был генерал Манжен, а дипломатическим представителем после признания Францией был назначен граф Мартель, бывший до того в Грузии.
После первоначального устроения военного управления было приступлено к образованию гражданского правительства. Когда потом критиковали правление Врангеля, с его действительно крупными дефектами, то забывают, какое было в Крыму безлюдье, а большинство бежало из Новороссийска за границу или проживало там ранее, и далеко не все согласились оттуда приехать на предложение Врангеля различных должностей.
Во главе правительства стал приехавший из-за границы Кривошеин, и, в общем, как не узкопартийный, спокойный и опытный бюрократ, он был подходящим помощником Врангеля. Но при эвакуации Крыма он, как и вообще при таких обстоятельствах многие гражданские чины и в Новороссийске и в Севастополе, был не на высоте. Он уехал в Константинополь заблаговременно, даже не уведомив своих коллег. По крайней мере, Бернацкий узнал об его отъезде post factum чуть не из газет.
Бернацкий опять заведовал финансами. Большим подспорьем было то, что еще при Деникине часть экспедиции по печатанию денег была в Феодосии, и потому это дело, уже налаженное, пришлось только расширить. Бернацкого многие упрекали в том, что он недостаточно печатает денег, в коих действительно чувствовался большой недостаток. И без того рубль стремительно падал. Но не мог же Бернацкий неограниченно печатать деньги, играя на их понижение, и иметь в виду лишь эвакуацию. Согласно общему плану командования он должен был рассчитывать на продвижение армии в Россию, а туда двигаться с окончательно обесцененным рублем было нельзя.
Струве ведал иностранными делами, и помощником одно время был у него князь Г.Н. Трубецкой. Не помню, кто сыграл главную роль в признании Врангеля Францией. Если Струве, то это его большая заслуга и удача. Он, как и всегда, меткими словечками, почти афоризмами, характеризовал общую линию врангелевской политики: «левая политика правыми руками». Проводя эту политику и симпатизируя ей, он пригвоздил к ней эту этикетку, которая получила широкую огласку, чем вряд ли он оказал услугу проведению в жизнь этой политики, к которой и без того относились недоверчиво. К каким печальным результатам приводила на практике такая тактика, будет видно, в частности, на мелком сравнительно примере в моей деятельности, о котором расскажу ниже. Торговлей ведал харьковский горнопромышленник А.И. Фенин, юстицией – Н.Н. Таганцев, внутренними делами – Тверской. Последний – опытный чиновник и симпатичный человек – не отличался самостоятельностью и твердостью и совершенно пасовал и затирался различными течениями и военным элементом.
Во главе ведомства земледелия стоял Глинка. Земельный закон, проводимый им, был достаточно широк и «либерален», как и вообще вся программа врангелевского правительства вполне подходила под струвевский афоризм.
Севастополь – первый город на юге России, в котором я застал кадетский комитет недействующим. Довольно многочисленная к.-д. группа резко разделилась на левую и правую половины, которые, как это ни нелепо было в переживаемое время, никак не могли сговориться между собой, и потому уже около года комитет вовсе не собирался. Благодаря наплыву приезжих членов партии мне удалось перестроить группу, и мы часто собирались, как и везде обсуждая и стараясь главным образом направить деятельность в направлении надпартийного объединения.
Таковое возникло под моим председательством под названием Объединение общественных и государственных деятелей (ОО и ГД), которое развило летом широкую деятельность, главным образом устраивая публичные собрания. Национальный центр прекратил свое существование в Новороссийске, все руководители его, кроме меня, уехали за границу, и мне пришлось преемственно одному организовать это объединение, послужившее звеном между Национальным центром и возникшим в 1921 году в Париже Национальным комитетом. Платформа всех этих трех общественных организаций была тождественная, национально-надпартийная, аналогичная лозунгам Добрармии, а ныне русской армии, и всемерно армию поддерживающая. (Мое предложение возобновить деятельность Национального центра не было принято.)
В Севастополе собрания устраивались в Морском собрании и в большом городском театре.
Особенной торжественностью отличались собрания в переполненном театре в присутствии Врангеля, правительства и генералитета, на котором Струве, Бернацкий и Глинка делали доклады, в которых разъясняли программу и мероприятия своих ведомств. Когда Врангель в начале собрания проходил в первый ряд, то речь прерывалась, мы на сцене и вся публика в театре вставали и приветствовали его. Я делал краткое вступление и после докладов (все три очень обстоятельные и интересные) – более подробное заключение, освещая вопрос с общественной точки зрения и призывая общество и тыл поддерживать армию и работать над упорядочением тыла. Так как вход был свободный и бесплатный, то обширный театр со стоявшей во всех проходах публикою далеко не мог вместить всех желающих.
И Врангель со своими сотрудниками, и публика были очень довольны этим способом личного общения и ознакомления публики с политикой командования. Отчеты о собраниях печатались в газетах и в виде суррогата заменяли собой отчеты о парламентском законодательстве. Собраний с докладами других ведомств я не успел уже организовать. На одном из заседаний ОО и ГД была предложена кандидатура в члены Переверзева, но ее пришлось снять, так как многие были против него, как члена злополучной комиссии Муравьева, которая восемь месяцев держала в заключении некоторых сановников без предъявления к ним обвинения и тем обрекла их при Октябрьском перевороте на расстрел большевиков. (Об этой муравьевско-переверзевской комиссии говорил мне со стыдом Шингарев в Петропавловской крепости после встречи с Щегловитовым.)
Осенью, как у нас полагается, началось было расслоение общественности на различные течения. Милейший Н.Н. Львов затеял было какое-то более правое национальное объединение. Мой большой приятель, друг детства, Львов, путаник в организационных вопросах, идеалист, но не реальный политик, постоянно воевавший с партийностью и призывавший к объединению, сам не замечал, как он только подрывал единение, образуя вместо него какую-то расплывчатую, патриотическую кружковщину. С другой стороны, Зеелер, не вошедший в ОО и ГД, задумывал какое-то демократическое объединение с социалистами. Но из обоих начинаний к моменту сдачи Севастополя так ничего и не вышло.
Кроме общественной деятельности я имел и скромное служебное дело. Врангель меня привлек к устройству более планомерных лекций о политическом положении и на фронте и в тылу на казенные деньги. (Да и для существования я нуждался хоть в скромном содержании.) С Кривошеиным мы условились, что это дело будет при управлении печати, то есть в ведомстве Тверского. Остановлюсь на этом маленьком, сравнительно, деле поподробнее, так как оно характерно для проведения «левой политики правыми руками».
Я собрал в Севастополе и из других городов Крыма кадры лекторов и образовал из них группы для отправки в прифронтовые и другие районы. С ними вырабатывалась программа лекций и общая для них инструкция. Предварительно перед посылкой на места лекторы выступали на собраниях в Севастополе, на которые приглашался и Тверской. Выступления эти были признаны удачными. Целью деятельности таких групп было ознакомление прифронтового населения и тыла с лозунгами армии, с платформой Врангеля, чтоб выяснить, с чем мы идем в Россию.
После нескольких выступлений лекторов в прифронтовой части они вернулись в Севастополь, так как заведующий гражданской частью в Северной Таврии (Мелитополь) граф Гендриков, непосредственный помощник Тверского, запретил лекции. Тут обнаружилась несамостоятельность Тверского. Он, его ведомство организует дело, а его помощник отменяет. Правда, этот помощник был товарищем Врангеля и личным его ставленником, и… Тверской пасует. Иду к Кривошеину, и он советует мне переговорить лично с Врангелем. Какой я ни был противник загромождения главнокомандующего гражданскими, да еще такими мелкими делами, пришлось обратиться к нему. Он мне сказал, что, действительно, прифронтовую часть надо оставить, так как армия должна быть «вне политики» (!). Я кратко возражал, но не стал переубеждать. Приемная была полна народу. Я имел перед собой молодого генерала, вступившего на войну эскадронным командиром, и нельзя было требовать, чтобы он разбирался в вопросах политической тактики. Мне было жаль, что ему приходится отвлекаться от фронта этими несвойственными ему делами.
Впоследствии он политически очень эволюционировал. В Константинополе и в Белграде мне приходилось уже на свободе и подолгу с ним говорить и спорить. Он уже стал значительно лучше разбираться в политических вопросах и сам на каком-то собрании определенно сказал, что в гражданской войне армия не может быть вне политики. А в Севастополе он совершенно еще не разбирался в политических терминах, не отличал понятия «политика» от политиканства и партийности.
Как же действительно можно воевать, вести междоусобную брань против большевиков, то есть против большевистской фракции С.-д. партии, не объяснив борющимся и населению суть большевизма и что ему противопоставляется? Когда он меня привлекал к этому делу, он как будто это понимал, а потом, очевидно, «правые руки» его сбили.
И по существу являлся абсурд. На фронте, да и в тылу велась усиленная большевистская пропаганда. Кроме того, на фронте же велась беспрепятственно со стороны тех же властей монархическая агитация священником Востоковым и др. А между этими действительно партийными течениями и политиканством не было места для пропаганды политики Врангеля, большой национальной внепартийной политики.
Затрачены миллионы (правда, тогдашние миллионы) казенных денег на организованное «министром» внутренних дел Тверским дело, а его помощник отменяет, и главнокомандующий соглашается с ним. По патриотическим побуждениям и из-за доверия ко мне некоторые лекторы и семейные бросают свои места и занятия (работа в садах, на виноградниках), приезжают из Феодосии, Керчи и остаются не у дел. А я получаю и по почте от командиров частей просьбу прислать лекторов, да и лично ко мне заезжал генерал и два-три полковника с фронта, умоляя прислать лекторов, говоря, что они сами не разбираются в земельном и других законах, что необходимо их разъяснять солдатам и населению ввиду большевистской пропаганды. Но «правая рука» помешала осуществить это «левое» дело, и оно, с таким трудом налаженное, рухнуло. Еще в самом начале начавшихся препятствий, на последнем собрании в театре в присутствии Врангеля, его сотрудников и тысячной аудитории, я в заключительном слове подчеркнул, что такое общение между властью и населением, которое происходит здесь, в «столице», необходимо и на местах, иначе эти торжественные собрания явятся лишь дешевыми декорациями, прикрывающими взаимное непонимание и разобщенность власти и населения, при которой немыслимо вести гражданскую войну.
Но и здесь, под боком у главнокомандующего, эта плохая политика «правых рук» давала свои плоды.
Между мной и Тверским стоял начальник печати Немирович-Данченко, дальний родственник Владимира и Василия Ивановичей Немирович-Данченко, в ведомстве которого находилось мое лекционное дело. Он был крайне правый, и мое кадетство, очевидно, ему претило. Я получал гроши, а он так и не включил меня в штат, так что я и уехал после эвакуации, недополучив тысяч восемьсот. На службе я, уже не молодой, не мог даже получить никак стола и стула, всякий карандаш приходилось брать с боя, а принимать довольно много посетителей приходилось стоя или сидя на подоконниках, тогда как другие служащие, и молодые, имели свои места. Мои молодые сотрудники и узнавшие про обстоятельства моей службы партийные товарищи находили, что такое положение не соответствует моему достоинству, и убеждали уйти. Но я не смущался всем этим и оставался. Когда прекратились беседы в прифронтовом районе, они продолжались кое-где в тылу, главным образом в Севастополе, где для портовых и других рабочих в пригородных слободах читались, кроме того, все время и культурные популярные курсы по естествознанию, истории и политической экономии.
Наконец я нашел себе какую-то треугольную каморку с разбитыми окнами и обосновался в ней. Получил даже в свое распоряжение для переписки на машинке генеральшу Патрикееву. Как-то она смущенно и со слезами на глазах говорит мне про поручение, данное ей ротмистром. Я его фамилии, к сожалению, не помню. Он был помощником Немировича-Данченко, мрачный, в темных очках. Оказывается, он ей поручил следить за мной, сказав, что ему доподлинно известно, что Долгоруков против Врангеля и армии, и пообещал ей очень много денег, если она найдет в моих бумагах и переписке с лекторами что-нибудь компрометирующее меня. Я посмеялся и успокоил госпожу Патрикееву, сказав, что мне и бумаг-то некуда прятать, так как не имею ни одного шкафа или ящика в столе а что все мои бумаги и переписка лежат открыто в папках на столе и ротмистр может их сам перерыть в мое отсутствие. Вот при каких обстоятельствах приходилось работать мне, «левому» (?), у «правых рук».
Потом этот Немирович-Данченко стал издавать (вероятно, на казенные деньги) понедельничный черносотенный листок, в котором ругал врангелевских министров! Тогда Врангель вызвал его и немедленно уволил. Я рад, что это увольнение состоялось помимо меня и что я дрязгами, касающимися лично меня, не беспокоил не только главнокомандующего, но не говорил о них и Кривошеину.
В Гендрикове Врангелю тоже пришлось скоро разочароваться, так как он оказался совершенно непригодным к занимаемому посту и что-то натворил такое, что тоже был отстранен и уехал из Крыма в обиде на Врангеля и поссорившись с ним.
Остановился я так подробно на мелких дрязгах не потому, что они касались меня, но как на очень характерных примерах проведения «правыми руками» «левой» (врангелевской) политики не такими уж мелкими сошками, а управляющим Северной Таврией на правах генерал-губернатора и начальником управления печати, находившимся здесь же, в центральном правительстве. А сколько было других примеров! Я на этих примерах по личному опыту убедился, что политика в Крыму была слаба, если под политикой подразумевать не только предначертания и программы, но и проведение их в жизнь. И это только в пределах одной губернии! Что было бы при продвижении далее?
После увольнения Немировича-Данченко мне еще пришлось в короткий срок менять начальство, и новые назначения были довольно характерны. На его место был назначен сначала Аладьин (!), бывший член Государственной думы, а потом перед эвакуацией молодой Г. Вернадский.
Плохая политика не так еще мешала ведению войны, как экономическое состояние тыла. Какие бы чудеса ни делал Врангель в военно-административном отношении, формируя боеспособное войско, как бы оно доблестно ни было, с таким небольшим и расстроенным тылом трудно было воевать. Летом уже было недоедание, граничащее с голодом. Базарных цен не помню, так как обедал в дешевых столовых, частных и общественных. В ресторанах уже мясные блюда стоили до 10 тысяч рублей. Живя у моря, рыбы совсем не ели. Почему? Совсем не было рыболовных снастей. Сети приходилось выписывать из Константинополя за миллионы. Лодки рассохлись, а чтобы их оснастить, не было ни смолы, ни краски. И так во всем. При недостатке валюты на привоз из-за границы нельзя было рассчитывать. Обедая в плохих столовых, вечером у себя ел преимущественно черный хлеб и чеснок, который очень люблю. Когда приезжал кто-нибудь из Константинополя с турецкой валютой, ему казалось все очень дешевым. Помню, что, когда такой приезжий, обедая в ресторане, угощал меня после моего скудного обеда в столовой, я с удовольствием ел в дополнение десятитысячный бифштекс. При приезде в Константинополь оказалось, что мы с братом потеряли по два пуда.
Но недоедание ничего сравнительно с жаждой во время летней жары в белом, ослепительном, каменном и накаленном Севастополе. Часто портился водопровод, а бутылка подозрительной содовой воды, пить которую не рекомендовалось из-за желудочных заболеваний, стоила 300—400 рублей. Кипяток для чая в свой аквариум я брал из ресторанов и столовых, и при порче водопровода днями его нельзя было получить.
На пристани произошел страшный взрыв склада снарядов, которые потом еще взрывались несколько часов. С трудом отвели близстоящие суда и отстояли другие склады взрывчатых веществ. Как полагается, стали говорить, что опасность угрожает всему городу, и, говорят, женщины начали уже вязать узлы с пожитками, чтобы унести их к морю.
Как в свое время к Деникину, так теперь к Врангелю приезжал из Парижа Маклаков, чтобы выяснить положение. Огромная заслуга Врангеля, что он, ведя ожесточенную борьбу на фронте, предвидел возможность поражения и подготовил эвакуацию. Маклакову он, разумеется, ничего о возможности эвакуации не сказал и вселил в него уверенность в успехе. Мог ли главнокомандующий с кем-либо поступить иначе, а тем более с едущим в Париж? А Маклаков серьезно был на него потом в претензии, как я, смеясь, говорил, за сдачу Перекопа. Он говорил, что французы были на него в претензии, что он их обманул, уверяя в неприступности Перекопа. Мало ли что они в претензии! Мог ли русский главнокомандующий высказывать сомнение во время войны в ее успехе? Да и мог ли посол антибольшевистской России высказать то же сомнение перед французами? Маклаков не профессиональный дипломат. Но мне кажется, что и профессиональные русские дипломаты часто грешили тем, что чересчур были угодливы перед правительством, при котором были аккредитованы, иногда в ущерб достоинству России.
Приезжал на короткое время Гучков. На пристани он подвергся оскорблениям со стороны одного офицера. В армии не могли ему простить приписываемого ему (справедливо ли?) приказа № 1.
Новгородцев, живший у сестры, всецело ушел в свою научную работу. Я с ним ожесточенно спорил. Досадно было при безлюдье в Крыму потерять для практической работы такого выдающегося деятеля. П.И. Новгородцев был замечательный человек, ученый и практик-администратор (учреждение Коммерческого училища в Москве, заведование топливом в Москве во время войны). Разочарованный, а может быть, и подорванный физически, он ударился в аполитизм.
Львов с Чебышевым возобновили издание официоза Врангеля «Великая Россия».
Как только Врангель укрепился, а затем стал продвигаться на север, стали понемногу возвращаться некоторые общественные деятели, бежавшие из Новороссийска. Сейчас же Севастополь оживился. Приехали из-за границы дельцы. Стали открываться новые банки. Но тылового разгула, как это было в Ростове и Харькове, не было.
Незадолго перед падением Крыма состоялось многолюдное экономическое совещание, созванное Врангелем. Многие приглашенные не приехали, но некоторые приехали даже из Парижа и Лондона. Они эвакуировались уже с нами.
Кажется, в октябре пришлось оставить Северную Таврию. Наступали редкие для Крыма, особенно в эту пору, морозы. Я мерз в своей неотапливаемой комнате. Сиваш замерз, и по нему могли переходить не только люди, но и лошади. Перекопский перешеек в значительной степени потерял свое исключительное значение сухопутного сообщения с материком, и в ноябре Крым пал.
Почему пал Крым? Я до сих пор не могу указать непосредственной причины. Одни приписывают катастрофу замерзанию Сиваша, другие – плохому укреплению Перекопа, третьи – измене. Я уже указал на одну из основных, по-моему, причин – на экономическую разруху маленького тыла. Кроме того, мне стало ясно, что положение наше отчаянное, когда поляки заключили с большевиками летом перемирие, а затем Рижский мир, и большевики могли перебросить на юг силы с Западного фронта. Тут можно было верить только в чудо, но на этот раз Врангелю не удалось совершить ветхозаветное чудо, и Давид не прошиб башку Голиафа пращой. Разумеется, нельзя было претендовать, чтобы Польша, столько претерпевшая в войну с немцами, а затем воевавшая с большевиками, после своей победы над ними с помощью французов продолжала, ради спасения России, наступление на Москву. Но если бы Польша при помощи и по настоянию союзников продолжила позиционную войну, задержав силы большевиков на своем фронте, то тогда еще можно было бы ожидать другого результата борьбы на юге.
Для эвакуации из Симферополя, Евпатории и из других мест все начало стекаться в Севастополь. Брат мой с семьей приехал за неделю до эвакуации из Алушты и, не найдя помещения, поселился в сырой подвальной кладовой под флигелем биологической станции. Чтобы крысы не ели провизию, он должен был подвешивать ее на веревке с потолка. Но крысы объели у него корешки книг, переплетенных на крахмале. Очевидно, и крысам стало голодно в Севастополе.
Симферополь пал очень быстро после прорыва на Перекопе. Один поезд за другим стал прибывать из Симферополя. Князь В.А. Оболенский рассказывал, в каких условиях приходилось ехать. Вследствие перегруженности и длины поезда сверх нормы, при больших подъемах он останавливался или происходили разрывы. Тогда публика высаживалась, толкала отдельные вагоны до конца подъема, поезд вновь сцеплялся и катил далее. И так несколько раз.
Но в общем, заранее подготовленная эвакуация 130—140 тысяч людей, не помню на скольких судах (150—200?), займет блестящую страницу в военной истории. Огромную помощь большим количеством судов оказали французы, тогда как англичане, в противоположность Новороссийску, совсем не помогли, хотя у них стоял большой флот в Константинополе.
А каких усилий стоило подготовить, при тогдашних условиях, русские суда! Кроме Врангеля, огромная заслуга лиц морского ведомства, работавших над этим, и имена их следует внести на славные страницы истории крымской эпопеи. Надо было добыть уголь, собрать команду, исправить повреждения.
Я был летом на крейсере «Адмирал Корнилов». Вместо блеска и роскоши военных судов – все мрачно, погнуто, темно. Электричество не проведено, в каютах и трюмах огарки и лампы. Часть котлов и машин еще не исправлена и т. д. Команда сборная, большею частью из добровольцев пехотных частей. Работа при этих условиях в кочегарном и других отделениях крайне трудная. Состав переменный. Те, которые стремились с фронта попасть на суда, в тыл, не выдерживают тяжелой работы и часто при отпуске на берег не возвращаются, дезертируют. Тем большая заслуга оставшихся до конца. К моменту эвакуации все предназначенные суда, хоть с грехом пополам, могли выйти в море. Ведь суда эти потерпели в боях, пострадали от бунта матросов, побывали в руках большевиков.
Понемногу переполненные суда стали выходить в море. Шла целая армада. Некоторые инвалиды шли с креном. У некоторых в пути испортились машины, и они трое суток вместо одних оставались в открытом море и приходили к Константинополю на буксире подобравших их пароходов. В трюме и на палубе люди лежали и сидели в страшной тесноте, страдая на палубе и от холода. Перед уборными стояли хвосты в несколько десятков человек. Некоторые ехали на турецких моторных шхунах. Никогда еще в Босфор не приходила такая многочисленная флотилия.
Я отвез свои вещи на тот же «Вальдек-Руссо», на котором эвакуировался из Новороссийска и который теперь нес вымпел адмирала Дюмениля, большого друга русских, женатого на русской. Оставив вещи, я поехал в Севастополь и переночевал еще там. Оказывается, что при посадке брата с семьей упал в море их сундук. К счастью, матрос со станции, подвезший кого-то, подобрал его и плавающие вещи и привез на станцию. Я бросил сундук и часть вещей, выбрал наиболее нужное и наименее испорченное водой и на следующий день привез мокрый узел на «Вальдек-Руссо».
Зашел на следующее утро в думу, где оставшиеся члены управы и гласные лихорадочно организовали временную власть и милицию. В городе начались небольшие грабежи, магазины запирались, но в общем было спокойно.
Врангель днем покинул город, когда последние войска сели на суда, и переехал на русский крейсер. На лодках еще подъезжали к стоявшим на рейде судам запоздавшие, и из Севастополя все хотевшие уехали. Остались лишь те, которые слишком поздно прибыли в Севастополь или по какому-нибудь несчастному случаю.
Как всегда, ходили разные слухи о подступающих и входящих уже в город большевиках, но, кажется, они еще были в Бахчисарае.
Поздно вечером крейсер с Врангелем двинулся в путь, и «Вальдек-Руссо» – вслед за ним. Мы покидали живописную бухту Севастополя, озаренную ярким пламенем горящего арсенала.
Так как Врангель направился на Ялту и Феодосию, чтобы посмотреть, как там шла эвакуация, то мы пошли вслед за ним. В Ялте мы были днем, и Врангель сходил на берег. В Евпатории, в Севастополе и Ялте эвакуация произошла в полном порядке. В Феодосии, где мы были следующей ночью, говорят, казаки, прибывшие из Джанкоя, внесли некоторое смятение, а в Керчи было менее порядка. Но в общем эвакуация Крыма прошла блестяще.
Из Феодосии мы взяли курс прямо на Константинополь. Так как «Вальдек-Руссо» был переполнен и ехало много дам, то на этот раз мне постелили матрац на полу около каюты баронессы Врангель. На последнем, перед Константинополем, обеде у адмирала Дюмениля многочисленные его гости попросили меня произнести по-французски благодарственный тост. Я сказал следующее: «Во второй раз, к счастью и к несчастью, я очутился на «Вальдек-Руссо». К несчастью, так как я и мы все, вынужденные к этому, лишились Родины. К счастью, потому, что мы попали на гостеприимную плавучую почву Франции. После падения Новороссийска зубами и окровавленными ногтями мы уцепились за последнюю русскую скалу, вдающуюся в море. Теперь мы сброшены и с нее в пучину, и вы дружественно подобрали нас.
Дружелюбные отношения установились между двумя народами задолго до формального союза. Позвольте от лица всех моих товарищей по несчастью вас приветствовать возгласом, который с прошлого столетия распространен по всей России, стал в ней обычным, – «Vive la France!».
На это французы горячо ответили возгласом «Vive la Russie!» и отдельный голос заключил: «Et elle vivra!»[14]
Глава 9 Константинополь. 1920—1921 годы
Рано утром, покидая Черное море, омывающее Россию, мы вступаем в Босфор и медленно идем за русским крейсером с Врангелем на борту по чудному проливу, прибрежные холмы которого – сплошной сад с многочисленными белеющими местечками, виллами, дворцами, развалинами. Ученики американского колледжа на горе высыпают и приветствуют нас кликами. Из-за этого Босфора и вожделений Милюкова я чуть не был побит в Москве татарами на мусульманском съезде.
При приближении к Константинополю беженская масса на судах, мимо которых мы проходили, восторженно приветствует криками «ура» вывезшего их главнокомандующего, а многочисленные союзные военные суда выстраивают команду и салютуют флагом. Потом они салютуют и нашему адмиральскому флагу.
В Константинополе я был при Нелидове еще в прошлом столетии. Тогда еще электричество было запрещено в нем, женщины все ходили покрытые чадрами, а на улицах жили стаи собак. Но и теперь Константинополь, в котором мне пришлось прожить полтора года, был живописен и красочен. И торговое оживление Галаты, и особенно Стамбул с турецкими и главным образом византийскими древностями, и чудные окрестности Константинополя яркими пятнами скрашивали нашу серую беженскую жизнь.
Первый месяц я гостил у П.В. Ратнера, председателя Одесского к.-д. комитета, а ныне константинопольской группы к.-д. Потом я снимал одну за другой две холодные, плохие комнаты, причем в одну надо было спускаться по крутым улицам и лесенкам и ночью легко было сломать в темноте шею. Лишь летом я нашел приличную комнату.
Мои партийные товарищи Шнеерзон из Белграда и Ельяшевич из Берлина, сами люди семейные и трудом своим живущие в беженстве, услыхав от кого-то о печальном состоянии, в котором я приехал в Константинополь (исхудавший, без денег, оборванный, после потери багажа в Новороссийске), прислали мне денег, совершенно для меня неожиданно. Я никого ни о чем не просил и, кроме них, ни от кого не получил ничего. Не только евреи сильны взаимопомощью, но, как я на себе убедился, они отзывчивы и на помощь вообще, в несчастье. У русских и организация взаимопомощи слабее, да и помощи даже от близких по родству и связям лиц трудно дождаться.
Врангель поселился сначала в посольстве, а потом переехал на небольшую паровую военную яхту «Лукулл», стоявшую в начале Босфора недалеко от дворца Долма-Бахче. Милый, славный «Лукулл»! Сколько совещаний и бесед на нем было в каюте главнокомандующего или на палубе с дивной панорамой расширяющегося перед Мраморным морем Босфора и видом на Константинополь. В маленькой столовой, увешанной произведениями кадетов и юнкеров, поднесенных Врангелю в Галлиполи, много раз приходилось съедать далеко не лукулловский обед. Другие суда вскоре ушли в Бизерту, и только на «Лукулле» еще развевался Андреевский флаг.
Чудное здание русского посольства с огромными флигелями было заполнено различными учреждениями, гражданскими и военными, и только в нижнем этаже были апартаменты Врангеля и управляющего миссией А. А. Нератова. В парадных залах помещался госпиталь. Во дворе и у ворот на улице Пера всегда стояла толпа беженцев. Все в здании было серо и загрязнено.
Русские суда были отведены к азиатскому берегу Мраморного моря за Скутари. Там долго еще томились десятки тысяч беженцев, отчасти за неимением пристанища на суше, отчасти вследствие неполучения еще разрешения властей сойти на берег. Константинополь после войны находился под управлением союзников. В межсоюзной комиссии главным образом распоряжались французы и англичане, под начальством своих верховных комиссаров. Земский союз ежедневно снабжал суда хлебом и консервами. Войска стали отбывать в Галлиполи и на остров Лемнос (казаки). Через неделю стали освобождаться и суда с беженцами; кто переехал в город, а большинство в беженские лагеря в окрестностях Константинополя на европейском и на азиатском берегу. В городе, на Принцевых островах и в других местах уже находилось много беженцев, преимущественно одесской и новороссийской эвакуации. Мне часто приходилось бывать в лагере Лан, где поселилась семья брата. Лагерь помещался в казармах кожевенного завода на берегу Мраморного моря, за старинной городской стеной, близ мрачного Семибашенного замка. Неказистое помещение, и, как и в других лагерях, обзавелись скоро церковкой, хором, а также при помощи Союза городов – читальней. Питание беженцев в лагерях производилось главным образом на счет частной американской благотворительности. Американцы широко помогали все время одеждой, пищей и в культурных начинаниях (обучение).
В городе русская речь слышалась постоянно и повсюду встречалась русская военная форма.
Бывшие офицеры торговали на улицах пончиками и другими предметами. Открывалась масса русских магазинов, столовых, ресторанов и различных учреждений до тараканьих бегов включительно. В числе русских ресторанов были и самые лучшие и дорогие в Константинополе. Во многих ресторанах служили русские дамы. Богатые интернациональные клиенты (греки, армяне, левантинцы, евреи, еспаньолы[15]) вносили наиболее соблазна среди них, и немало моральных и семейных устоев рухнуло в Константинополе, который и в обычное время представлял из себя международное торжище со свободными нравами.
Турецкая монархия доживала свои последние дни. Султан жил узником в Ильдиз-Киоске. Я был на селамлике в одну из пятниц. Какая разница с блестящими селамликами при Абдулл-Гамиде в конце прошлого столетия, с блестящей свитой, чудным войском и великолепными лошадьми. Теперь – жиденькая процессия, без карет гарема и толпы евнухов за коляской султана, а малочисленные войска пополнены пожарными. В Константинополе хозяйничают союзники, а в Малой Азии в войне с греками возвышается, хозяйничает Кемаль, который одно время подходил близко к Константинополю, а падишаху и повелителю правоверных остался один Ильдиз-Киоск.
Среди русских беженцев, разумеется, страшная нужда. Широко действует Земский союз, возглавляемый Хрипуновым, и американская помощь. В городе и лагерях устраиваются бесплатные и дешевые столовые, организуется трудовая помощь. Обладающий меньшими средствами, возглавляемый Юреневым Союз городов, в котором работаю и я, как член его комитета, удовлетворяет культурные потребности (обучение, библиотеки). Открывается гимназия, перенесенная на следующий год в Чехию. Главная заслуга в открытии гимназии принадлежит А.В. Жекулиной, удивительно способной и энергичной организаторше в школьном деле. Она и Сомова, представительница американского филантропа Уитимора, пользуются большим авторитетом у американцев, и через них получаются от них значительные средства.
Через год от совещания послов в Париже приезжал ревизовать союзы В.Д. Кузмин-Караваев. Он произвел удивительную, исключительную, по тому времени общей нервности и сумятицы, ревизию, тщательную, обстоятельную и объективную. Наряду с большими заслугами он констатировал и недочеты, у Согора – главным образом в делопроизводстве, а в Земском союзе и по существу, а именно в том, на что особенно было распространено обвинение Земского союза, – в трате им самим значительных средств, переданных через князя Львова на нужды армии и предназначавшихся командованию, и в недаче этому последнему отчета в полученной от него сумме. В этом отношении воевал с Хрипуновым и Врангель и Русский совет при нем. Земсоюз не только не возвращал Врангелю выданной ему ссуды, но и отказался дать отчет в израсходовании этой ссуды.
В Константинополе собралась значительная группа кадетов (к.-д.). Часть их устроила общежитие, где жил и мой брат и Юренев, сняв двухэтажный дом в квартале Харбие. Кроме того, летом на азиатском берегу Мраморного моря была и к.-д. дача, при школьной колонии Согора. Мы еженедельно, особенно в первое время, заседали, а члены Центрального комитета собирались изредка. Главной нашей задачей было образование, а затем и направление деятельности межпартийного объединения ПОК (Политический объединенный комитет) под председательством Юренева, в который кроме кадетов входили представители Земского союза, Согора, Торгово-промышленного союза и других организаций. Частые собрания ПОКа были многочисленны и иногда очень оживленны. Впоследствии ПОК принял на себя функции отдела Национального комитета.
Много времени общественные организации посвящали выяснению своего отношения к армии и Врангелю. В самом начале константинопольская общественность (в том числе Юренев, Хрипунов и др.) письменно выразила Врангелю готовность всецело поддерживать его преемственную власть как главнокомандующего. Потом, когда зарождался Русский совет, стали предъявлять всякие условия при выработке взаимоотношений. Было много совещаний в посольстве и на «Лукулле», которые ни к чему не привели, между общественностью и Врангелем установились холодные отношения, и Русский совет потом многими бойкотировался.
Теперь я думаю, что тогда из-за пустяков ломали копья. Я лично, не придавая большого значения параграфам выработанной конституции, решил для себя всецело поддерживать армию, как политическую и национальную силу, и думаю, что моей непосредственной работой при ней я внес свою скромную лепту для конечной правильной оценки эмиграцией армии с политической точки зрения.
Кроме политического объединения ПОКа дружно и плодотворно работал ЦОК (Центральный объединенный комитет) благотворительных учреждений (Красный Крест, Союз городов, Земский союз) под председательством Б.Е. Иваницкого.
О левых политических организациях не было слышно. Сформировалась монархическая группа.
В редакции одной из турецких газет в Стамбуле я присутствовал на ряде бесед с турецкими редакторами и публицистами. Турки в общем замечательно хорошо относились к русским и ненавидели французов и особенно англичан. Например, без установленных пропусков они ни за что их не пропускали в Святую Софию, а меня, узнав, что я русский, пропускали без всяких билетов. Беженцам они помогали насколько могли. Недалеко от посольства, на маленькой площадке, возвышавшейся над улицей, среди трех стен, устроились беженцы наподобие табора, в котором они жили и мерзли зимой. Я сам видел, как сгорбленный старик мулла раздавал им деньги. И это далеко не единичный пример.
Я получил телеграфный вызов от Коновалова из Парижа в Учредиловку, как член Учредительного собрания. Как ни соблазнительно было поехать в Париж с даровым проездом и оплатой пребывания там, я не поехал, так как считал ненужной затею поднимать тень Учредительного собрания с его С. Р-ско-большевистским подавляющим большинством, выборы в которое производились уже при большевиках, в смутное время ноября 1917 года. Небольшая кучка его членов за границей не могла ни у кого пользоваться авторитетом. И действительно, этот пустоцвет через некоторое время завял, ничего не сделав и поглотив зря известное количество труда и денег.
В большом вестибюле парадной посольской лестницы торжественно состоялось открытие Русского совета в присутствии многочисленных гостей. Врангель и некоторые из нас произнесли речи. Всего членов Русского совета было человек 45; председательствовал Врангель. Несколько человек было по назначению (я, Шульгин), остальные по выборам общественных (не политических) групп: земских гласных, городских гласных, парламентского комитета, Торгово-промышленного союза, а впоследствии и территориальные представители от Болгарии и Сербии. Русский совет был финансово-контрольным аппаратом при армии; кроме того, он должен был быть посредником между армией и гражданской эмиграцией, быть истолкователем нужд армии и ее политического значения, облегчая главнокомандующему его роль в трудном международном положении, то есть косвенно функции Русского совета были и политические. При этом считалось нужным поддерживать моральную связь и преемственность армии от Добрармии и преемственность власти Врангеля как главнокомандующего от Корнилова. Заседали мы или в кабинете Врангеля внизу, или в одной из зал посольства, оставаясь из-за холода в пальто и шапках.
Казалось бы, что такие задачи были вполне естественны и надо было идти навстречу главнокомандующему, раз он искал общественной опоры, но Русский совет встретил враждебное отношение не только среди левых партий, не признававших армию, но и среди большей части Политического центра, который не знал и не понимал армии.
К сожалению, долгие переговоры не привели и к представительству казаков. Соединенный совет Дона, Кубани и Терека потребовал около половины мест своим представителям и предъявил ряд требований, до права самостоятельного сношения с иностранными державами включительно (!). Как ни странно было это последнее требование, препираться из-за этого, по-моему, не стоило. Бог с ними, пускай сносились бы, все равно ничего из этого не вышло бы.
Для популяризации условий жизни армии на чужбине я взялся выпускать гектографированную официозную еженедельную информацию «Д. и Л.» (инициалы мои и Львова, который предполагал сначала сотрудничать). Сведения я получал из штаба и из частей, а информацию посылали в русские газеты, некоторым учреждениям и лицам во все страны. За два года ведения мной этого дела было выпущено в Константинополе и Белграде более ста бюллетеней, и, при оторванности Лемноса, Галлиполи и Балканских стран от прочей эмиграции, они сыграли известную роль в усвоении этой последней истинного положения и задач переброшенных и сохраненных остатков армии, что, особенно в начале, мало кому было известно и ясно. Из газет всецело поддерживало армию и печатало мою информацию «Общее дело» Бурцева, которое в 1921 году прекратило свое существование, а также несколько маленьких провинциальных газет, в том числе «Новое время», газета монархическая и националистическая. «Руль» систематически информацию не печатал и вообще почти игнорировал армию, а левая пресса была клеветническо-враждебна армии. Отсутствие внепартийной национальной газеты, стоящей на платформе армии, нами очень болезненно ощущалось. Теперь этот пробел в значительной мере пополнен выходом «Возрождения», на которое армия может вполне рассчитывать.
Чтобы лично узнать, в каких условиях очутилась наша армия, всего через месяц после эвакуации, в середине декабря я посетил Галлиполи.
Галлиполи, маленький городок с развалиной-крепостью у входа в Дарданелльский пролив, перешел после войны к Греции. Он весь в развалинах от землетрясений и от перекидной бомбардировки союзников через полуостров. Я встретился там с одновременно прибывшим Врангелем, возвращавшимся с Лемноса.
О Галлиполи существует целая литература, и я не стану подробно описывать те лишения и ужасные условия, в которых находилась армия в городе и в лагере в шести верстах от него, переброшенная сюда зимой. Подробный отчет мной представлен Врангелю и в ПОК. Еще только что начинали устраиваться. Впоследствии условия, благодаря исключительной энергии Кутепова, улучшились. В городе жило тоже в отвратительных условиях много семей офицеров и солдат. Сначала даже некоторые жили в пещерах и под лодками. Женщины и дети часто ютились в комнатах разрушенных домов с тремя стенами или без потолка, завешивая и заделывая бреши досками или материей. Госпитали были еще в самом примитивном состоянии, большинство больных лежали на полу, медикаментов и инструментов почти не было. Потом американцы снабдили всем этим; заразные больные различными болезнями лежали вместе.
Так как Врангель уехал в лагерь на автомобиле с французским адмиралом Ле-Боном, а мне хотелось видеть смотр войск, то я пошел в лагерь пешком по холмистой грязной дороге. Вдали виднеются горы азиатского берега пролива. По дороге в город шли солдаты с сучьями, так как топливо в город доставлялось с гор за лагерем, а обратно они несли по два-три кирпича с развалин города для кладки печей в лагере.
Лагерь расположен в долине. По одну сторону речки – четыре кавалерийских полка, по другую – четыре пехотных расположены в больших французских палатках. Я застал конец смотра, когда Врангель в сопровождении адмирала Ле-Бона здоровался с двумя последними полками и говорил им речь. Люди с восторгом встречали своего главнокомандующего.
Сразу уже можно было видеть, что это войска, кадр армии, а не сброд людей. После смотра Врангель беседовал с генералитетом и с командирами полков в палатке, и, хотя беседа была очень интимная и касалась больных мест, коих было немало, Врангель пригласил меня, штатского, присутствовать, как бы подчеркивая необходимость связи армии с общественностью. По окончании беседы я испросил у него позволение посещать лагерь для бесед и высказал уверенность, что общественность поддержит армию и что мы, со своей стороны, должны опираться на армию как на твердый фундамент, так как она символ борьбы с большевиками, вывезла из России и сохранила общие всем нам национальные лозунги этой борьбы. На обратном пути в автомобиле, в котором мы ехали, Кутепов рассказывал Врангелю о затруднениях, чинимых французскими властями. Комендант и гарнизон были французские. На караулах стояли преимущественно чернокожие сенегальцы, «сережки», как их звали русские солдаты.
В это время баронесса Врангель, сопровождавшая мужа, была в дамском комитете и посещала русские учреждения в городе. Врангель в тот же день уехал в Константинополь, и союзники не разрешали ему более посещать Галлиполи и Лемнос. Боясь присутствия русской вооруженной силы, они по предписанию из Парижа и Лондона старались всячески распылить армию и трактовали ее как беженскую массу. Недомогавший Кутепов свалился на другой день в тифу, и я его больше не видел.
Остановился я в штабе, в комнате с молодыми штабными офицерами, большею частью инвалидами. Так как мне не было койки, то я спал на полу, даже не подостлав мое жиденькое пальто, которым покрывался вследствие сильного холода ночью. Начальником штаба был генерал Достовалов, который произвел на меня неважное впечатление. Впоследствии он передался большевикам и служит теперь в СССР.
Три дня подряд я ездил в лагерь и вел беседы с офицерами в каждом полку отдельно. Сначала я спрашивал о нуждах и записывал их, а потом вел политическую беседу. Офицеры, оторванные от всего мира, очутившиеся внезапно в пустынном Галлиполи, слушали меня с огромным интересом. Из-за недостатка времени приходилось кончать беседу. Как я писал в отчете, «армия висела тогда на волоске» и нужна была огромная сила воли Врангеля и исключительные административные способности и энергия Кутепова, чтобы сохранить этих людей в лохмотьях, почти без оружия, в тисках международных условий, как войско. Оказывается, около половины людей не присутствовали на смотру Врангеля из-за недостатка обуви и одежды. Моего племянника (Ахтырского полка) я застал в рваной шинели, надетой на рваную рубашку, без верхнего платья. Я ему привез водки, закуску и табаку. Он тут же с товарищем все выпил и съел с жадностью, а потом с наслаждением курил. Они здесь курили сухие дубовые листья вместо табака. Из-за массы работы по оборудованию лагеря строевые занятия еще не начинались (они были введены впоследствии). Офицерам самим было не ясно, кто они, беженцы или воины, и что их может ожидать. Их старались распылить французы, большевистская пропаганда и… к стыду, часть эмиграции и русской прессы. Я их старался ободрить, сравнивал их с сербами, принужденными бежать во время войны на Корфу, со знаменитой тысячью гарибальдийцев, у которых, казалось, все было потеряно и которые в конце концов победили и создали объединенную Италию, и т. д. Тяжело было им говорить все это, зная их лишения. Они недоедали при голодном французском пайке, денег, чтобы прикупить хлеба, не было, ночью зябли, так как печи только еще начали складывать в палатках. Не было мыла, стирали в речке без мыла. Бани только что начали копать. Не было белья, посуды, одна кружка на 5—6 человек. Спали без коек, на земляном полу или на досках и так тесно, что старались поворачиваться с бока на бок разом вместе, и т. д. Вечером рано ложились, потому что не было освещения. Великим постом это был уже благоустроенный лагерь с проложенной дековилькой к морю, с конной тягой и ежедневно производилось строевое учение. В городе я тоже беседовал с расквартированными в нем частями, посетил все лазареты и учреждения. При мне прибыл американский представитель и открыл склад с предметами оборудования. Городской и Земский союзы тоже потом прислали своих представителей. Особенно Земский союз принес существенную пользу.
Трудно было тогда предположить, что вскоре будет тут гимназия, перенесенная затем в Болгарию, церкви, военные курсы, гимнастические и спортивные состязания, театр, хоры и проч. В Галлиполи все время жила Н.В. Плевипкая, жена командира корниловского полка, постоянно певшая в концертах.
Совершенный вздор, будто людей держали как в плену, как писали «Последние новости». Напротив, всех желающих поступить в университет свободно отпускали и поощряли это, помогая материально им выехать.
На следующий год я в этом убедился, присутствуя в Праге на вечере студентов-галлиполийцев, которых было там уже много.
Зимой еще Кутепов объявил, что все не желающие подчиняться воинской дисциплине могут в известный срок покинуть лагерь. Уехало очень немного. От оставшихся требовалось, правда, подчинение очень строгой кутеповской воинской дисциплине. За появление одетым не по форме, за неотдание чести и так далее люди сажались на гауптвахту, так называемую «губу». За преступления, например за пропаганду не подчиняться дисциплине и призыв сбросить «военное иго» и разойтись (то, что делала и либеральная пресса), двое были даже расстреляны по приговору военного суда, приравнявшего это к призыву к бунту.
Многие, как приезжавший сюда Кузмин-Караваев, строгий законник, возмущались этим. Действительно, с точки зрения буквы закона и международного права на чужой территории расправляться по русским законам было верх беззакония, как и само существование армии. Но французы не протестовали, так как им было легче иметь дело со строго дисциплинированными и организованными десятками тысяч людей, чем с разнузданными бандами, для усмирения которых им пришлось бы расстрелять десятки людей. Кутепов железной рукой скрутил действительно людей, сразу поставив галлиполийский лагерь на военное положение. Но в то же время Врангель и Кутепов материально и морально поддержали это скопище людей, объединили их национальной идеей, воодушевили их на подвиг. Свершилось то, что я называю вторым чудом Врангеля. После крымского поражения он не выпустил вожжей из своих крепких рук и, увезя от большевиков до 150 тысяч людей военных и гражданских, сумел, вопреки мнению многих авторитетных военных, на чужой территории, против воли союзников «незаконно» сохранить армию, хотя и без оружия. И ему, побежденному, повиновались и молились на него. Я видел, когда он через год, на транспортах в Константинополе, проходя своим быстрым шагом мимо выстроенных войск, перевозимых в Болгарию, здоровался с ними, у людей наворачивались слезы. А он только быстро проходил. Но тогда они уже знали и поняли, что для них сделал этот узник союзников, не могший даже к ним ездить из Константинополя, ведший все время из-за них тяжелую, упорную борьбу с союзными властями. Кутепов был верный исполнитель его начертаний, и я, прогрессист и гуманист, подписывавший в мирное время протесты против смертной казни, преклоняюсь перед силой этого человека, спасшего много русских людей в беде от моральной и физической гибели.
На Пера в Константинополе можно было летом встретить бодро идущих в чистых белых рубахах, с воинской выправкой, отдающих воинскую честь генералам молодых людей и безошибочно узнать в них галлиполийпев. А в то же время несчастные, голодные люди в рваных шинелях угрюмо продавали на улице фиалки, спички, карандаши – то были офицеры, покинувшие армию. Сколькие из них погибли, сколькие опустились! Другие офицеры служили в ресторанах, в кафешантанах, в различных вертепах. Это были люди, убоявшиеся тягот военной службы и кутеповщины и в своем малодушии поверившие людям и газетам, говорившим, что армии нет и быть не может…
Так как пароходное сообщение Галлиполи с Константинополем очень редкое, то мне пришлось пробыть здесь целую неделю. Маленький городок очень оживился благодаря пребыванию русских, вместе с живущими в лагере превысивших все его население. Открывались новые греческие лавки и кафе, немало домов отремонтировалось. Впоследствии греки открыли лавки и близ лагеря. Открылось и несколько русских ресторанчиков, один даже с музыкантами. В городе образовался оживленный «толчок», на котором офицеры продавали и «загоняли» последние вещи, чтобы купить хлеба, халвы, мыла, табака. Население, само небогатое, очень отзывчиво относилось к нуждам беженцев; турки и греки давали им доски, гвоздей и проч., чтобы штопать жилища. Врангель, во время своего приезда, благодарил городского голову и муллу за это отношение населения. Ко мне из лагеря каждый день приходили с разными вопросами и за объяснениями и для бесед по наболевшим вопросам. Наконец я уехал, как и приехал, на греческом товарном пароходике, на котором спал среди мешков апельсинов и мандаринов.
В Константинополе я делал доклады о Галлиполи в ПОКе, ЦОКе и у к.-д. Но, несмотря на лично мною виденное, многие общественные деятели не верили мне, что армия существует. Удивительная вещь самовнушение: они были глухи и слепы. Они не хотели, чтобы армия существовала, вероятно боясь ее реакционности и реставрационности ее вождей. А между тем Кутепов, согласно директиве Врангеля, вывел даже понемногу пение гимна в Галлиполи, под тем предлогом, что кощунственно молиться за сохранение царя, когда мы сами его не сохранили и его нет. О внепартийности галлиполийцев подтвердил при проезде через Константинополь в Болгарию и Кутепов, о чем скажу ниже. Далеко не вся общественность, даже константинопольская и не милюковского толка, не поддержала армию, в том числе и многие из моих партийных товарищей. Такая выдающаяся, например, деятельница, как А. В. Жекулина, которой беженство многим обязано за ее культурно-педагогическую деятельность, на все мои данные о Галлиполи твердила, что меня генералы обошли, что никакой армии нет. Известный ялтинский врач и общественный деятель И.Н. Альтшуллер говорил то же самое. И лишь когда летом приехавшие из Парижа Карташов и Кузмин-Караваев, побывавшие в Галлиполи, восторженно засвидетельствовали о бытии армии, он этому поверил и сознался, что я был прав, когда «по интуиции» утверждал это с прошлого года. Я не знаю, интуиция ли это или просто русские глаза и уши, видящие и слышащие то, что есть, а не дальтонизм и атрофия слуха оторванных от действительности лиц или слепых и глухих по предвзятости людей. Если Милюкову за тысячи верст это вменяется в вину, то совсем жалкое впечатление производила часть интеллигенции в Константинополе, которой потребовалась чуть не экспертиза двух профессоров из Парижа, чтобы узнать то, что было у нее тут же под боком.
Потом уже часть интеллигенции в Праге, Париже и других центрах, где существуют кружки студентов-галлиполийцев, давших лучших по успехам русских студентов и техников, должны были понять, что мощно поддержанные и объединенные в армии молодые люди не только способны послужить России мечом, но и оралом, что при воссоздании России, ради которого они вновь готовы проливать кровь, они будут полезны и для мирного строительства. Сколько мне пришлось еще ломать копий из-за этих простых истин с моими ближайшими политическими друзьями в Париже и каким нападкам в «правизне» я подвергался за «защиту» армии и Врангеля. Я в Галлиполи вложил персты в раны русской армии и готов был громко воскликнуть: «Верую, Господи, помози неверию русской интеллигенции!» Но в ее среде были не только Фомы, но и Иуды.
В казацких лагерях в Чаталдже и на острове Лемнос я не был, а я передаю здесь лишь личные впечатления. Галлиполи был ближе Лемноса, в нем преобладал офицерский состав, в нем было у нас больше родственников и знакомых, чем в более демократическом лагере на Лемносе, а потому о Галлиполи значительно более писалось, и он стал символом доблести русской армии на чужбине. Но заслуги генерала Абрамова не меньшие, чем Кутепова. В некоторой степени задача его была труднее даже, чем у Кутепова, сразу взявшего в свои твердые руки галлиполийский десант. Абрамов прибыл на Лемнос из Чаталджи, когда большевистская и французская пропаганда возвращения и распыления уже сделала свое дело и у казаков-солдат, томящихся по земле и своим станицам, политически менее сознательных, уже началось разложение. Отправилось уже несколько транспортов казаков в Россию, участь которых, по дошедшим сведениям, была печальна; отправился транспорт казаков при помощи французов в Бразилию, но, доехав до Корсики, вернулся обратно. Французы вывешивали афиши о возможности выехать в Россию и в Бразилию, опрашивали желающих, устранив офицеров, пугали скорым прекращением голодного пайка и т. д.
Абрамов, приехавший в клокочущий и разлагавшийся лагерь, спокойно, с удивительной скромностью и тактом, но в то же время твердостью взял дело в руки, и скоро Лемнос стал неузнаваем и имена Абрамова и Лемноса станут на почетном месте в военной русской истории наряду с именами Кутепова и Галлиполи. Врангель в одном из приказов назвал Кутепова и Абрамова по справедливости русскими витязями.
Вероятно, из Галлиполи я привез тифозную инфекцию. Я вскоре заболел и не спал целые ночи от боли в ногах в моей холодной, мрачной комнате. Я спал только днем и дремал вечером на заседаниях с сильно повышенной температурой. Когда я недели через две обратился к Альтшуллеру, то он определил тиф в легкой форме и стал делать впрыскивания. Так я и перенес тиф на ногах.
В начале лета 1921 года в Париже созывался национальный съезд и совещание членов Центрального комитета К.-д. партии, и я выехал на французском пароходе в Марсель. Море было спокойное, и этот дешевый способ передвижения очень удобен. Приятно было прокатиться по морю между Константинополем и парижской страдой. Каюты третьего класса были чистые, койки хорошие, стол сносный. Я ходил пить чай и играть в шахматы в первый класс к двум офицерам французской миссии, с которыми сошелся в Феодосии. От Константинополя до Марселя ни одной остановки. Миновав Галлиполи и острова Эгейского архипелага, мы обогнули Грецию и вечером проехали чудный Мессинский пролив со сверкающими электричеством городами Сицилии и Калабрии, который мне хорошо известен, так как я три раза бывал на Сицилии. Миновав Сциллу и Харибду и Липарские острова, из которых Стромболи дышит своим вулканом, мы проехали через Корсиканский пролив и 30 апреля, на пятые, кажется, сутки, прибыли в Марсель.
Так как ожидалась первомайская забастовка, чтобы не застрять в пути, я заехал на два дня к знакомым на Ривьеру. Посетил и прелестный Монте-Карло, в который заезжал до войны постоянно по дороге из Италии в Париж. Публика посерела. Был конец сезона, но столы в казино были облеплены. Мне кажется, исчезла главная притягательная сила игры: после войны золото исчезло, играют на фишки и не видно куч золота, не слышно его звона и характерного стука золотых монет о загребающие их лопаточки.
В Париже я остановился у Маклакова в русском посольстве. Комната с полным комфортом в чудном старом барском особняке с великолепным цветущим садом. Маклаков, несмотря на свое двусмысленное положение – посла несуществующей державы, да еще не успевший до Октябрьского переворота вручить свои верительные грамоты, – сумел занять известное положение у французов; с ним считаются, и он в хороших отношениях с влиятельными чинами на Quai d'Orsay[16]. Очень ему помогла создать положение в Париже его сестра М.А. Маклакова, которая очень умело, просто и радушно всех принимает, устраивает завтраки и обеды. Ее энергия в культурно-благотворительной деятельности поразительна. Она помогает массе беженцев, основала и содержит на собираемые ею сотни тысяч франков в год русскую гимназию. Ей удалось завязать хорошие отношения с французской аристократией и плутократией, благодаря чему ей удаются ее благотворительные предприятия. Великолепное здание посольства в запустении, и все оно заполнено разными учреждениями.
В Париже у меня масса друзей и родственников из Москвы и Петрограда. Хотя он не так еще был переполнен беженцами, как впоследствии, но уже их немало, и он делается политическим их центром. До войны я с юных лет каждый год бывал в Париже, очень его люблю, но в эти два весенних месяца мало его видел, так как все больше пребывал на заседаниях и в метро. Все же удалось побывать на Grand-Prix. И здесь эмиграция начинает устраиваться и почтенно зарабатывать свое пропитание. Особенно в этом отношении отличились некоторые дамы-аристократки, не побоявшиеся открыть в Париже модные мастерские и сумевшие привлечь английскую и американскую клиентуру. Двор во время обедни в русской церкви, прозванный «брехаловкой», полон народу. По всему Парижу открыто много десятков столовых, ресторанов и ночных кабаков. В общем в парижском беженстве гораздо больше денежных людей, чем в Константинополе и вообще на Балканах, но чувствуется большая, чем там, оторванность от России. Разумеется, и здесь беженцы – патриоты, мечтают вернуться в Россию, но патриотизм их пассивный, не действенный. «Сестрочеховская» тоска по Москве, но граждан мало, все обыватели, занятые своими личными интересами и отчасти развлечениями. О жертвенной любви к Родине, которую я наблюдал в армии в Галлиполи, нет и помину.
О далекой армии мало знают, мало интересуются ею, не понимают ее. Я устроил публичное собрание с докладами об армии в большом помещении, на котором выступали Карташов, Струве и я, и зал был наполовину пуст.
Членов Центрального комитета К.-д. партии съехалось 19 человек, число почтенное для пленарных заседаний и в Москве и в Петрограде. Милюков уже изобрел свою новую тактику для партии и стал ее пропагандировать в своих «Последних новостях», не сговорившись с товарищами по Центральному комитету. Как и на юге России, он повел свою линию и думал, что партия за ним последует. Но и здесь он остался в меньшинстве, ни Центральный комитет, ни партия за ним не последовали. У нас состоялись многочисленные дневные и вечерние заседания. Много было разговоров и споров. Впервые съехались после России руководители и большею частью основатели большой влиятельной партии, лидер которой повел самочинно свою политическую линию. Председательствовали мы по очереди.
Мы допытывались у Милюкова, в чем должна выразиться демократизация партии. Насколько помню, он объяснял, что тактически мы должны сблизиться и столковаться с левыми партиями, с правыми социалистами, а в программном отношении более выдвинуть интересы крестьянства: то есть мы должны делать ставку на крестьян, быть классовой крестьянской партией? На последовавший утвердительный ответ И.И. Петрункевич, наш doyen[17], близкий Милюкову человек, никогда не отличавшийся правизной, ему резко возразил, что К.-д. партия, защищая интересы трудящихся, была всегда надсословной и надклассовой, что нельзя в эмиграции менять основные положения и характер партии, которые могли бы быть изменены лишь всероссийским съездом. Горячо возражали ему Родичев, Набоков и некоторые другие. На его соглашательство с социалистами я заметил ему, что он надеется въехать в Россию на левых… товарищах (или что-то в этом роде по думской терминологии), но что он ошибается и это ему не удастся. Когда наконец дело дошло до баллотировки, Милюков оказался в меньшинстве. Таким образом, произошел милюковский раскол; он со своими единомышленниками (Винавер, Волков, Демидов, Харламов, Тронский) вышли из основной К.-д. партии, образовав свою демократическую группу партии Народной свободы, или, что то же, – демократическую группу Конституционно-демократической партии, то есть получился демократизм в квадрате.
После этого заседания, происходившего в редакции «Последних новостей» в доме Денисова на Place Bourbon, я проводил немного Набокова по Place Concorde, и он мне говорил о статье, которую он пишет в «Руль» о расколе партии. Тогда же я ему возразил и потом постоянно это доказывал, что термин раскол не верен, а что произошел «откол» от партии.
И действительно, за рубежом не только Центральный комитет, но все без исключения организованные группы партии, в Балканских странах, в Берлине и др., остались при старой тактике и отказались перейти на новую. Даже к.-д. группа Парижа, этой цитадели Милюкова, на бурном заседании которой я присутствовал, не приняла его тактики, и партия, хотя бы претерпевшая урон от откола, не поколебалась.
Я приветствовал определенный откол, так как самочинная тактика такого видного члена, как Милюков, вредила всей партии. Другие же члены ЦК и на совещании и впоследствии стремились найти компромисс, замазать разногласия, думая этим спасти партию, но на самом деле эти «средняки» только могли углубить трещинки в партии и действительно произвести в ней раскол и погубить ее. Лучше было отколоть часть партии, чем разбередить весь ее организм! Потребовалась хирургия. Милюков тоже был против компромисса. Раз партия не пошла за ним, он считал, будто политический водораздел и в эмиграции, и в будущей России должен пройти по телу партии. Он это высказывал публично и проводил в своей газете. А потому и я, всегда стоявший за дисциплину в партии и пробиравший в Киеве Ефимовского за нападки в прессе на того же Милюкова, считая, что он после откола вышел из партии, счел тогда же возможным, как и Набоков и другие, от него отмежеваться в газетных статьях, а теперь, после стольких уже лет, вспомнить историю этого откола.
На этих же совещаниях Центрального комитета меня просили сделать доклад об армии и Русском совете, но я отказался это сделать, а подробно выяснил мой взгляд, отвечая на критику моего «поправения» и врангелизма.
Милюков относился отрицательно к существованию армии как таковой. Но и большинство моих друзей, не отколовшихся от партии, не разделяли моего взгляда на политическое и национальное значение остатков русской армии и относились отрицательно к Русскому совету. Уже перед отъездом моим в Константинополь они устроили обед специально, чтобы уговорить меня выйти из Русского совета. Я сказал, что подумаю и сделаю надлежащие для себя выводы. Набоков, видя мое убежденное настаивание на свободе мнения, испугался этих слов, думая, что я могу уйти из партии, и после обеда говорил мне, что это после ухода Милюкова погубило бы партию. Но я перед самым отъездом подал мотивированное заявление об уходе моем из Центрального комитета партии. И на это мне было нелегко решиться: с основания партии я был членом Центрального комитета и первые пять лет, до перенесения Центрального комитета из Москвы в Петербург, его председателем.
Этим шагом я хотел подчеркнуть моим друзьям и всей партии, какое значение я придаю армии и действенной поддержке ее и что в этом отношении тактика партии с 1918 года, установленная в Москве и на юге России, должна неукоснительно продолжаться до окончания борьбы, то есть и в эмиграции.
С самого моего приезда в Париж я вступил в организационное бюро по созыву национального съезда, которое уже энергично работало под председательством Н.В. Тесленко, собираясь ежедневно у Бурцева в редакции его «Общего дела» на rue Montmartre.
Теперь, после зарубежного съезда, многим стало ясно, как сложно дело подготовки подобного съезда. Положения и доклады были разработаны очень обстоятельно.
Торжественное открытие съезда состоялось в Hotel Majestic, «величественной» гостинице, которой суждено было стать местом попыток объединения эмиграции, которое до сих пор все еще не имеет величественного характера.
За отказом председательствовать Бурцева, главного инициатора и популяризатора съезда, я принужден был согласиться по постановлению бюро взять председательствование на себя и уже подготовил вступительную речь. Но чаша эта меня миновала. Перед самым открытием съезда некоторые члены бюро заявили, что в интересах единения лучше снять мою кандидатуру, как слишком определенно «армейскую» и «врангелевскую» (!). Тогда же была выдвинута кандидатура Карташова, который потом и был единодушно выбран в председатели.
Насколько сложно дело единения рассыпанного по разным странам беженства, показывает следующий эпизод. Мне поручено было по-французски произнести приветствие Франции. Я сказал приблизительно то же, что и в тосте на «Вальдек-Руссо», а именно, что, к счастью и к несчастью, русским приходится съехаться в Париже, и затем благодарил Францию за гостеприимство и кончил – «Vive la France!». На следующий день мы едва отговорили берлинских делегатов Набокова и князя И.С. Васильчикова, говоривших, что после этого им нельзя вернуться в Берлин, не заявлять публично их протеста, каковой был приложен к журналу.
Как всегда, горячо и красноречиво говорил Эрлиш. Среди массы приветствий я настоял на произнесении приветствия именно от непопулярного Русского совета.
Не буду здесь говорить о всех трениях и трудностях, которые пришлось преодолеть на долго заседавшем днем и вечером съезде и в бюро его. Подробные отчеты можно найти в «Общем деле». В общем съезд прошел удачно и с подъемом. Он выделил Национальный комитет, который вот уже пять лет работает со своими отделами во многих странах. На съезд не были привлечены, как их некоторые называли, «большевики справа», то есть рейхенгальцы и социалисты; демократические демократы не пришли на съезд. Инициаторы его не стремились к теоретически желательному, но практически неосуществимому тогда всеэмигрантскому объединению, старались образовать здоровый центр, к которому впоследствии могли бы примкнуть и справа и слева элементы, способные в нужную минуту подняться на надпартийную национальную высоту. На съезде и в Национальном комитете приняли участие представители тех же групп, которые входили и в Национальный центр, а затем и в Объединение общественных и государственных деятелей на юге России, то есть к.-д., бывшие октябристы, конституционные монархисты, торгово-промышленники и некоторые другие профессиональные группы. Национальный комитет преемственно продолжал дело, начатое Национальным центром в Москве, и в основу его легли заветные надпартийные лозунги Корнилова и Добрармии. Одним из основных мотивов съезда было – всемерная поддержка армии. Председателем Национального комитета был выбран Карташов, технически слабый председатель, но покрывавший этот недостаток своим высоким нравственным авторитетом.
Около 10 июля я выехал тем же путем в Константинополь, мало насладившись, из-за заседаний и метро, Парижем, столь прекрасным весной.
14 июля французы отпраздновали на пароходе иллюминацией и концертом. Снова Корсика, огни городков Мессинского пролива, Эгейское море, Галлиполи и Константинополь.
Я летом жил в Константинополе в хорошей комнате и много ходил по Стамбулу и ездил на Принцевы острова и в Босфор. Излюбленными моими местами были поэтический Эйюб в конце Золотого Рога, развалины крепости Румели-Хисар на европейском и Бейкос на азиатском берегу Босфора. В последнем была чудная аллея платанов, в дуплах которых могла поселиться целая семья, казино с музыкой и красивым парком, поднимающимся в гору. Хорош также запущенный парк летней русской посольской дачи в Буюк-Дере, обращенной в беженское общежитие. На Принцевых островах чудный вид на Константинополь, но растительность чахлая, малорослые сосны, нет пышной свежей зелени Босфора. На острове Халки, перед собранием с моим докладом, я присутствовал на всенощной в русской церкви с хорошим хором беженцев. Видел также в Константинополе вертящихся, а в Скутари воющих или, скорее, лающих дервишей, кажется теперь уже уничтоженных Кемалем вместе с феской.
По улицам Константинополя, с музыкой и с портретами то Венизелоса, то короля Константина, с кликами в их честь, проходили их сторонники-греки, когда один из них брал верх. Не успевали художники закончить их портреты, как происходил переворот, и приходилось Константина перекрашивать в Венизелоса и наоборот.
ПОК стал работать как отдел Национального комитета. При проезде на шеркете в начале Босфора можно было часто видеть длинную фигуру Врангеля, шагающего без фуражки по маленькой палубе «Лукулла».
Кажется, в августе итальянский торговый пароход, шедший из большевистского Батума, средь бела дня круто повернул с фарватера широкого в этом месте Босфора и, направившись прямо на «Лукулл», стоявший близ берега на постоянной стоянке русского стационера, перерезал его пополам и, не остановившись, прошел к Константинополю. Врангель с женой в это время были на храмовом празднике греческого монастыря Влахернской Божией Матери на Золотом Роге. Верующие люди говорили, что Она спасла главнокомандующего. Немногочисленные люди, бывшие на борту, спаслись, кроме дежурного мичмана Сапунова, который, видя неминуемую гибель яхты, перед самым носом надвигающегося итальянца бросился в каюту предупредить людей и погиб славною смертью при исполнении своего долга. Так опустился в воду на своей мачте последний Андреевский флаг, развевавшийся на Босфоре.
Мы собрались в посольстве, где были уже Врангель и экипаж «Лукулла», потерявшие весь свой багаж. Была также и вдова Сапунова, которая еще не теряла надежды, что муж ее подобран одним из пароходов. Баронесса Врангель потеряла последние свои драгоценности.
При этом обнаружилось возмутительное бесправие и беззащитность русских, лишенных опоры своего государства. Несмотря на крайне подозрительные в политическом отношении обстоятельства катастрофы, союзное командование не нашло повода даже к уголовному преследованию итальянцев, гражданский иск о потере яхты вчинить некому было, и лишь после долгих судебных хлопот команде удалось получить с итальянской компании гроши за погибшее их имущество. Врангель вновь поселился в посольстве.
Зимой началась переброска войск из Галлиполи и Лемноса через Константинополь и Варну в Болгарию и Сербию. Союзники торопили с упразднением военных лагерей; исстрадавшиеся и истосковавшиеся в пустынных лагерях части с радостью ехали в славянские земли. Начальник штаба генерал Шатилов энергично работал в Сербии и Болгарии, подготовляя приезд воинских частей и расквартирование их там. Когда проезжал Кутепов, мы ему устроили в посольстве торжественную встречу, и до двадцати представителей различных организаций приветствовали его речами. Галлиполийский подвиг уже победил значительную часть эмиграции. В моей речи я высказал надежду, что армия и на новых местах останется надпартийной, в чем заключается смысл ее существования и даже условие самого ее бытия, как национальной силы. Далее я сказал, что кутепия, кутеповщина стали нарицательными именами, правда, ругательными у врагов армии, и что мы ничего не имеем против широкой славы о кутеповщине, так как клевета отпадет и имя это останется символом доблести русского солдата, не выпускающего и на чужбине, при невероятно трудных условиях, из своих рук знамени, хотя со всех сторон его стараются вырвать у него. В заключение я провозгласил славу генералу Кутепову и его сподвижникам, всем галлиполийским подвижникам.
В своем общем ответном слове Кутепов дал прямой ответ и на высказанную мной мысль; он сказал, что как в Галлиполи у него в палатках рядом лежали и монархисты, и республиканцы, так же внепартийна армия останется и на новых местах.
И, как всегда, слово его согласовалось с делом. Армия осталась верна лозунгам, вывезенным Врангелем с юга России, хотя, распыленной среди гражданского населения небольшими группами, ей труднее было не втягиваться в политиканство, чем в изолированных военных лагерях.
Тут-то на транспортах я видел слезы на глазах многих воинов, когда Врангель только быстро проходил, здороваясь с ними. Он, побежденный, не оставил их, спас от большевиков и на чужбине, разлученный с ними союзниками, все время заботился о них и боролся из-за них. Авторитет побежденного вождя не умалился, люди готовы следовать за ним по первому его зову.
Пробыв полтора года в Константинополе, в конце февраля 1922 года я выехал в Софию.
Глава 10 Белград. 1922—1923 годы
После огромного, шумного, крикливого и красочного Константинополя серенькие провинциальные София и Белград производят впечатление маленьких губернских городов.
Сначала Врангель предполагал поселиться в Софии, и я был туда командирован для подготовки выборов в Русский совет от беженства в Болгарии. В Сербии выборы уже были произведены, а в Болгарии встречались большие затруднения вследствие режима Стамболийского. Я заменил посланного ранее Шульгина. Грязная в марте месяце, плоская, без воды София произвела на меня плохое впечатление. Красивый собор построен на средства государя. На главной улице царя Освободителя – конный памятник Александру П. В Софии застал Кутепова и Шатилова. Я собрал представителей русской общественности и приступил к выяснению способов организации выборов в Русский совет. Порайонных выборов, как в Сербии, невозможно было произвести, и намечались выборы от организаций и групп.
Я был радушно встречен местной к.-д. группой, председателем которой состоял К.Н. Соколов (Осважный), издававший здесь газету. Около него и этой газеты и группировалась софийская общественность. Софийская группа к.-д. была монархического толка и настаивала, чтобы и остальные к.-д. группы стали таковыми. Я еще из Константинополя писал Соколову о невозможности этого и с формальной стороны, за невозможностью собрать съезд и изменить программу в эмиграции. В партии всегда были идеологи как монархии, так и республики, и конституционность строя и демократичность программы были существенными ее чертами, а не форма правления. Кроме формальной невозможности, пересмотр программы нежелателен и по существу, так как теперь необходимо более широкое объединение межпартийное на тактической платформе, а постановка программного вопроса разъединила бы и членов партии. Поэтому, как я писал, Соколов с софийцами делал ту же ошибку, что и Милюков с парижанами, ставя остро вопрос о республиканизме партии, хотя у Милюкова было к тому более формальных оснований, так как партия перешла в 1917 году на республиканскую позицию. Таким образом, у меня было резкое разногласие с моими софийскими товарищами, что не помешало нам дружелюбно спорить и вместе заседать по субботам вечером в ресторанчике, где особенно налегал на вино Э.Д. Гримм, сменивший вскоре вехи и скакнувший от Соколова к большевикам.
Небольшая, но сплоченная Соколовым группа осталась одинокой в своей позиции, и остальные к.-д. группы отнеслись отрицательно к ее затее. Как «ни Ленин, ни Колчак» для социалистов, так и Милюков, и Соколов не увлекли за собой К.-д. партию за границей.
Наш константинопольский к.-д. И. Лукаш при моем содействии издал тогда в Софии первое появившееся в печати описание Галлиполи, талантливый свой очерк – «Голое поле».
Земский союз продолжал и здесь обслуживать беженцев и армию, а Союз городов, где я начал было работать, открыл в Болгарии несколько гимназий и школ.
Как только я переехал из плохой дешевой гостиницы в хорошую комнату на Аксаковской улице, Врангель вызвал меня в Белград. Комнату эту нашел мне И.М. Калинников, издававший правую русскую газету и через несколько месяцев убитый в разгаре стамболийщины. Из-за этого же режима Врангель отказался от намерения поселиться в Софии.
Белград лучше расположен, чем София. Он лежит на холме при слиянии Савы с Дунаем, что напоминает местоположение Нижнего и русскую ширь. Небольшой городок обстраивается и растет, оказавшись после войны столицей втрое увеличившейся страны. По ту сторону и Дуная и Савы была прежняя Австрия и маленький городок Земун, который по сравнению с Белградом носит отпечаток благоустройства и австрийской культуры, как и ближайшие придунайские городки Карловцы, Новый Сад, Панчево. Особенность Белграда – что на весь город всего четыре церкви и сотни кафанов на каждом шагу. В некоторых из них русские балалаечники.
Я поселился в домике из двух комнат на краю города среди вишневого сада, цветущего весной и с вишнями летом. На диване у меня долго ночевал мой племянник-доброволец, по болезни уехавший из Галлиполи. Сначала он служил в ресторане, а потом работал при паровой прачечной и на сахарном заводе. Останавливались также брат, Олсуфьев и Алексинский.
В другой комнате жила хозяйка с пятилетним сыном Радко. Она, говорившая на иностранных языках, вдова полковника, дочь генерала, сама убирала мою комнату, таскала воду, колола дрова: подлинный сербский демократизм. Ко мне она благоволила, как к отменному самцу (ударение на а), то есть совершенно одинокому, без хозяйства, тогда как семейных беженцев квартирохозяйки недолюбливали и у них происходили постоянно стычки.
Сербское правительство щедро помогало беженству, в частности русскому студенчеству. Гимназии русские при помогли сербов были в нескольких городах. (Я принимал участие в заседаниях Согора.) Кроме того, небогатая сербская казна содержала два русских института, кадетские корпуса. Россия не забудет то, что сделала тогда для нас небогатая Сербия и стоявший несменно во главе правительства старик Пашич.
В державной комиссии играл видную роль М.В. Челноков, у которого я часто бывал, так как вместе с другими столовался у его хозяйки. Как московский городской голова, он был в почете у сербов.
Малодеятельный К.-д. комитет собирался редко; в нем участвовали к.-д. из Нового Сада и Суботиц.
Отдел Национального комитета под председательством профессора Салтыкова был, напротив, очень деятелен и собирался еженедельно. В нем, между прочим, деятельное участие принимал генерал Добророльский, которого я встречал на войне, когда он был начальником штаба у Радко-Дмитриева. Потом он перешел к большевикам. Деятельное участие принимал в качестве товарища председателя и С.Н. Ильин, начальник политической части главнокомандующего, понимавший необходимость реальной, не только на словах, связи армии с общественностью. Он, как исключение в окружении Врангеля, был действительно непартийным человеком, вполне разделял надпартийную платформу Национального комитета и ценил поддержку им армии. Вследствие его непартийности правые его недолюбливали, считая его левым. Человек замечательно работоспособный, корректный и самоотверженный (работавший усиленно, несмотря на мучительную болезнь), он был незаменимым помощником главнокомандующего.
Генерал Миллер, бывший командующий Северным фронтом, сменил начальника штаба генерала Шатилова. Миллер был хороший работник, во все мелочи входивший сам и очень упорядочивший и сокративший расходы по армии. С ним было приятно работать в Русском совете. В политике, как покажет дальнейшее, он разбирался слабо. Кажется, осенью он был назначен представителем Врангеля в Париже.
Русский совет стал терять свой константинопольский характер. В него вошли выборные от Сербии крайние правые – Скаржинский, Локоть и другие, что придавало окружению Врангеля партийный оттенок и повод к нареканиям. Нужно отдать справедливость этим правым, что в Русском совете они держали себя вполне корректно. Но профессор Локоть продолжал в «Новом времени» усиленную кампанию за смену национальных лозунгов армии – партийными – за веру, царя и отечество. Правда, когда я поднял вопрос о недопустимости для человека, работающего при армии, выступать публично против ее надпартийного знамени и Врангель поддержал меня, Локоть оставил армию в покое в своих статьях. К этому же времени Врангель решил отказаться от политической роли и передать ее в Париж великому князю Николаю Николаевичу. Вследствие этого в середине лета Русский совет, сыгравший известную роль в первый самый трудный период пребывания армии на чужбине, был упразднен и преобразован в маленький чисто технический Финансово-контрольный комитет, членом которого и я остался.
Все сербское беженство было отлично сорганизовано по колониям правомонархическими организациями, во главе которых стояли Скаржинский, Палеолог и др. Центральные группы жаловались на засилье правых, но мало проявляли активной организационной работы. Правые были недовольны платформой Врангеля, но все-таки его и армию поддерживали. Большую роль у них играл и митрополит Антоний, живший в Карловцах, где ранее собрался злополучный церковный собор, большинство которого с Антонием во главе вынесло чисто политические партийные (легитимно-монархические) резолюции, результатом чего было аннулирование постановлений собора патриархом Тихоном и назначение им младшего в иерархическом сане митрополита Евлогия главой всех европейских церквей.
Я познакомился с митрополитом Антонием, как председателем Парламентского комитета в Белграде. Он образованный, живой и интересный собеседник.
Какая атмосфера была в Белграде, видно из того, что правые с «Новым временем» вместо стремления к общему объединению стремились и преуспевали лишь в единении своем партийном; они считали левыми даже таких лиц, как Родзянко и Челноков. Первого так травили и так ему угрожали, что он, к стыду русских, должен был обратиться к Пашичу за разрешением носить револьвер! А ему действительно грозила опасность, если припомнить убийства Гужона и генерала Романовского.
К чести сербов (и к стыду русских политиканов), когда Родзянко умер, сербы устроили ему торжественные похороны, как председателю русской думы, за счет государства. Они же оказывали ему при жизни и Хомякову материальную помощь.
Врангель поселился на пригородной даче в Топчидере. Он жил с семьей, со своими престарелыми родителями и детьми. Это были три поколения русской, культурной помещичьей семьи. Сам Врангель до Военной академии окончил Горный институт, а старик барон был известным знатоком искусства и писателем по истории искусства. И дача с большой террасой с видом на Белград и Саву напоминала помещичий дом, а 29 июня и 11 июля самовар на террасе и именинные пироги напоминали русский усадебный уклад жизни.
Прирожденный военный вождь, Врангель и в частной семейной жизни отнюдь не проигрывал.
У короля он был только раз, вскоре после своего приезда. Король был с ним очень любезен, интересовался армией, но на этом их отношения и прекратились. Ни он, ни правительство, стесненные международными и внутренними парламентскими условиями, официально не могли к нему относиться иначе как к частному лицу и армию, как таковую, и Врангеля как главнокомандующего признавать не могли. Все, что они могли дать и дали, – это дружественный нейтралитет и гостеприимство.
Летом состоялась свадьба короля с дочерью румынского короля. Красив был торжественный приезд румынской королевской флотилии с невестой по Дунаю и Саве. Живописен был и кортеж в день свадьбы. Разумеется, не было той пышности, что на наших церемониях, но блеск придворных мундиров заменяли более живописные костюмы представителей многочисленных народностей разросшегося королевства, ехавших верхом (черногорцы, хорваты, мусульмане-боснийцы, далматинцы и т. д.).
В июле я ездил с комиссией в Катаро продавать англичанам часть серебра Петроградской ссудной казны, вывезенной Добрармией через Новороссийск. Продано было только заложенное серебро, а все вклады сохранены. Из закладов сохранено все имеющее историческое и художественное значение, например известная коллекция монет великого князя Георгия Михайловича, а также все заклады, по которым владельцами их наводились справки после многочисленных публикаций в русских газетах. Всем до известного срока предоставлялось выкупить свои заклады, а те, которые этого не сделали и не заявили о своих закладах, имели и имеют получить за проданные их заложенные вещи сумму заклада в английских фунтах, и лишь сверх этого полученная сумма (довольно значительная) поступила в оскудевшую казну армии на ее нужды по переселению и устройству на новых местах. Эта операция навлекла много обвинений на командование. Была опубликована Финансово-контрольным комитетом подробная записка, почему она с точки зрения юридической, финансовой и политической сочла правильным производство этой операции. Таким образом, все мы наравне с Врангелем приняли на себя ответственность за операцию. Здесь я лишь кратко приведу мои личные политические мотивы и соображения целесообразности.
Все закладчики могли и могут еще получить известную сумму в размере залоговой оценки. Иначе при неустойчивости международных отношений они могли бы и ничего не получить, например, если бы Сербия признала большевиков и имущество ссудной казны было им передано. А в то время как раз говорили о возможности ухода Пашича и вслед за великими державами-союзницами признания большевиков. С этой точки зрения, по-моему, целесообразнее было бы продать и вклады. На примере «Лукулла» и многих других мы видели бесправное положение русских и русского имущества. При затянувшемся нашем бедствии на долгие годы на это имущество в чужеземных руках, как бы на вымороченное, могла какая-нибудь держава-кредитор наложить запрещение и т. д. И неужели надо было сохранять это имущество с риском, чтобы оно попало большевикам, которые уже ничего не уплатили бы владельцам серебра, раз они не считают, например, нужным вернуть румынам захваченное у них золото?
Катаро находится на исключительном по своей красоте и природе далматинском побережье Адриатического моря, полном памятников средневековой итальянской старины, так как Далмация была провинцией Венецианской республики. Глубокая Катарская бухта, по которой маленький пароход идет четыре часа, со старыми городками на берегу и на высоких горах, напоминает итальянские озера. В глубине бухты у подножия Черной горы, откуда идет в гору дорога в черногорское Цетинье, как бы прилеплена в огромной скале старая итальянская крепость Катаро, обнесенная рвами и стенами с башнями, в таможенных складах которой хранилось русское серебро. В городке живописная толпа далматинцев и черногорцев.
Петр I присылал в Катарскую бухту русский флот для обучения, и здесь остались памятники этого. В одном из домов Катаро находится статуя Петра, но совсем на него не похожая. В маленьком городке Перастро, в который мы ездили на лодке, в думе находится портрет Петра и картины с изображением флота. В Перастро, как, вероятно, и в других городках, находится ряд итальянских необитаемых дворцов, густо заросших плющом, которые можно купить за 3—4 тысячи франков.
Кропотливая процедура сдачи серебра англичанам (взвешивание и проч.) и окончательная торговля с ними продолжалась около недели. Спасением в июльскую жару было купание в море несколько раз в день.
Грустно было погружать ящики с русским серебром на английский пароход и смотреть, как он отчаливает. Но вот еще один из многочисленных мотивов продажи серебра: было несколько случаев покраж, и одна со взломом, несмотря на то что склад таможни оберегался сербским караулом. Охрана и администрация ссудной казны стоили недешево армии.
Из Катаро я заехал на два дня еще покупаться в живописный Дубровник (Рагуза) на далматинском побережье. Это сохранившийся венецианский городок, полный итальянского ренессанса, со старыми церквами, монастырями и дворцами. Славянское население Далмации преимущественно католическое. Чудная растительность, живописные острова, благоустроенный австрийцами курорт с современными большими гостиницами и хорошими шоссе. Здесь же сохранился живописный полуразрушенный дворец русской княжны Таракановой.
На обратном пути по гористой узкоколейной дороге я заехал в Сараево, представляющий из себя смесь современного австрийского города с турецким. Значительная часть боснийцев – славяне, предки которых были обращены турками в мусульманство. В Сараеве, Дубровнике и городках Катарского залива – обширная русская колония. В Дубровнике и Герцеговине – школы Согора.
Войскам русским жилось на новых местах нелегко, особенно в Болгарии. В Сербии их устраивали на тяжелые лесные и шоссейные работы, а часть (кавалерия) была взята на сербскую службу в пограничную стражу, причем, например, на албанской границе приходилось жить в дикой местности в уединенных пикетах, а офицеры служили нижними чинами под командой сербских офицеров и унтер-офицеров.
В Болгарии многие работали в угольных копях Перника, а отчасти были разбросаны маленькими группами и в одиночку на казенных и частных работах и местах. В таких случаях командование задавалось целью в центре района устраивать ячейку-околоток, в котором заболевшие и безработные могли получить приют, лечение, устраивались библиотечки, церкви и т. п. Таким образом, и разбросанные чины имели тяготение к своим полковым ячейкам, где сохранялось и их боевое знамя. И все люди в рассеянии были зарегистрированы и дорожили этой регистрацией и зачислением в свою часть. И в рассеянии это была армия. Тут свершилось чудо № 3, пожалуй, самое чудное из чудес. Если в Галлиполи и на Лемносе трудно было сохранить армию как таковую, то в таком рассеянии поддержать воинский дух и даже воинскую дисциплину было прямо невероятно. К тому же в Болгарии воцарилась стамболийщина. Диктатор Стамболийский с партией земледельцев были верными друзьями большевиков, которые являлись здесь хозяевами положения. Началось преследование наших контингентов. Были высланы Кутепов, все высшие командиры и даже Соколов, мирно читавший лекции в университете, как редактор белогвардейской газеты. Но образцовая организация наметила ряд заместителей командиров, и по мере, как те выселялись, их заменяли другие, до совсем юных включительно. Стамболийцы, подстрекаемые большевиками, боялись, что русская армия примет участие в перевороте против них. Последовал ряд репрессий и провокаций, чтобы втянуть контингенты в беспорядки, ночью подбрасывалось оружие, чтобы доказать их причастность, их привлекали к суду. Было несколько случаев убийства русских. И тем не менее не было ни одного случая, чтобы чины армии пошли на провокацию и нарушили дисциплину. Они, в неимоверно тяжелых условиях трудовой жизни и удручающей обстановке бесправия, беспрекословно исполняли приказ Врангеля не вмешиваться в болгарские дела, несмотря на разобщенность со своим вождем и непосредственными начальниками. В это же время был убит отважный генерал Покровский, готовивший (помимо Врангеля) партизанский набег в Россию.
Этот тяжелый период «болгарских зверств», продолжавшийся до переворота и убийства Стамболийского, армия выдержала с честью. Потом командный состав вернулся, отношение правительства стало благожелательным к русским воинам, и они могли уже спокойно продолжать свою трудовую жизнь. Но само население болгарское и в самый разгар стамболийщины относилось к русским очень доброжелательно.
Осенью Врангель с семьей переехал в Сремски Карловцы. Тут у него в ноябре состоялось военное совещание с высшим командным составом и военными агентами из других стран. Хотя Врангель, придерживавшийся правильной не партийной платформы, и не разбирался иногда в политическом положении и делал тактические ошибки, но он все же лучше и вернее схватывал это положение, чем его военные советники. После этого карловцевского совещания и, думается, под давлением общей белградской атмосферы в политической линии Врангеля замечаются неровности, шероховатости, непоследовательность.
На этом же совещании было решено передать армию под верховное командование великого князя Николая Николаевича. Этот правильный сам по себе акт, способствовавший объединению военного элемента всех фронтов, был сделан несколько поспешно и неловко. Со стороны могло казаться, что великому князю навязали эту обузу («без меня меня женили»), а на самом деле Врангель доказал, насколько неосновательны были нарекания на него в бонапартизме. Думаю, что он поспешил с этим актом именно потому, что эти нарекания ему надоели.
Вскоре я был командирован в Прагу для переговоров с тамошними русскими организациями и с чешским правительством относительно принятия в университет, и главным образом в средние учебные заведения, юношей из армии, преимущественно из Болгарии, где создавалось особо тяжелое положение.
Остановившись на день в Будапеште, я приехал в старую красивую Прагу с ее Градчанами, этим чешским кремлем. Приятно было посетить этот культурный русский центр, окунуться в московскую интеллигентскую среду, свидевшись с моими партийными друзьями: профессорами Кизеветтером, Новгородцевым, Струве и др. Приятно было видеть П.И. Новгородцева, с которым я скитался по югу России и у которого я здесь несколько раз обедал в кругу его семьи, приехавшей из России и за участь которой он так мучился.
Здесь я собрал членов Центрального комитета К.-д. партии, которых оказалось до десяти человек, более чем в Париже (не отколовшихся). Впоследствии число их еще увеличилось переехавшими из Парижа и Женевы.
Я делал доклад и вел беседу с многочисленными студентами-галлиполийцами, которые, как и в других городах, были лучшими по успехам студентами. Они считали себя в отпуску по армии, дорожили своей связью с частями, в которых числились, и здешней своей корпорацией. Приехавшие сюда большею частью еще из Галлиполи при содействии Врангеля и Кутепова, они наглядно опровергали клевету Милюкова и социалистов на командование в какой-то кабале молодежи в армии. (Извиняюсь за резкость выражения. Но в армии так именно восприняли выступления Милюкова и имели на то право. Я же хочу допустить лишь ошибку с его стороны, вызванную его корреспондентами-отщепенцами из армии, обиженными на командование, неспособными на подвиг армии, к которому командование их призывало. Ведь даже часть интеллигенции в Константинополе оказалась слепой и глухой, когда она под боком проглядела армию. Психологическое явление предубежденности.)
В это время Милюков уже переменил несколько свой взгляд на армию. Он должен был признать факт существования армии и высказывал даже дружелюбное к ней отношение, но в то же время выступил ее «защитником от Врангеля и Кутепова!» (sic!) Это было так же остроумно, как если бы Врангель и Кутепов взяли под свою защиту демократических демократов от Милюкова и Винавера. Как демократическая группа К.-д. партии не существовала бы в эмиграции без Милюкова, так и русской армии не было бы за рубежом без Врангеля.
Главный комитет Согора перенес из Константинополя в Прагу свою широкую и культурную деятельность, и в нем я тоже встретил моих товарищей и друзей, у которых я и остановился.
Из правительства я видался по делу моей командировки с министром Гирсой, который очень сочувственно отнесся к нему, обещав свое содействие в принятии молодежи будущей осенью с начала академического года, при новом бюджете. Был я у нашего друга Крамаржа, женатого на москвичке Абрикосовой, в его чудном доме на холме близ Градчан, с видом на всю Прагу.
При мне был вечер русских соколов, упражнения которых вызывают восторг даже у чешской публики.
На обратном пути я заехал в Моравскую Тшебову, где находится русская гимназия Согора на 550 учеников, перенесенная из Константинополя и содержимая чешским правительством.
Нельзя не оценить широкую и планомерную помощь в деле обучения детей и юношей, оказываемую чехами. Правда, они это делают за русский счет, вывезя русский золотой фонд из Сибири, но другие бы на их месте могли этого не делать для русских беженцев при их бесправии и при установившихся международных обычаях.
Гимназия помещается в прекрасных каменных бараках среди покрытых хвойным лесом холмов, близ маленького местечка. Как с педагогической точки зрения, так и со стороны оборудования (дортуары, церковь, театр, механическая прачечная и проч.) этот гимназический городок производит прекрасное впечатление, и беженство с благодарностью будет вспоминать главную инициаторшу и руководительницу этого начинания, члена Согора А.В. Жекулину.
Вена, в которой я остановился на день, столь красивая и до войны оживленная и веселая, производит теперь тяжелое впечатление. Переживаемый ею кризис и крушение империи сильно отразились на ее внешности и на уличной жизни.
Весной 1923 года я вновь был в Париже после двухлетнего отсутствия. Я выбрал наиболее дешевый и простой (одна транзитная виза) путь: через Италию на Загреб, Триест, Венецию, Милан и Турин. Ехал я четыре дня в тихих поездах с семью многочасовыми остановками. При езде сидя, в переполненном третьем классе эти остановки имеют свои преимущества (отдых, мытье) и дали возможность увидеть и походить по главному городу Хорватии Загребу, который гораздо более благоустроен, чем Белград, а также и по словенскому живописному городу Любляны.
Остановился я в Париже снова в посольстве у Маклаковых. Так как на этот раз не было съездов, то я более видел надземный Париж, который так хорош весной. Кадетские заседания были очень редки, а Национальный комитет собирался еженедельно по средам – президиум и по пятницам – общие собрания. Обсуждались главным образом вопросы более широкого объединения и возглавления. По-прежнему энергичен хлопотливый М.М. Федоров, который много сделал и для студенчества. Париж и Франция все более стягивают к себе беженство, студенты и офицерство тянутся сюда и с Балкан, и из Германии. Константинополь и Берлин пустеют. Тысячами работают они на больших автомобильных заводах, много студентов, шоферов, приказчиков и т. п. Многие полковые ячейки и казацкие станицы переносятся с Балкан во Францию. Париж все более делается общественным, политическим, деловым, культурным и церковным центром эмиграции.
Мы в Национальном центре в это время подверглись усиленному напору со стороны военных, главным образом врангелевского представительства. Раз армия признала великого князя Николая Николаевича своим вождем (с чем и мы, разумеется, считались и признавали), то генералы требовали, чтобы мы его признали безоговорочно и национальным политическим вождем. Это бравым генералам, но наивным политикам казалось очень простым. Общественность и политику они трактовали как роту и ротное обучение. Объединить политический фронт на Николае Николаевиче им казалось так же просто, как «равнение направо» (именно направо) по команде ротного командира.
Если монархисты охотно признали Николая Николаевича своим вождем еще до армии именно потому, что он царского рода, то Национальному комитету и другим группам, в него входящим, как надпартийным, именно потому это было гораздо сложнее. Некоторые видели в этом признании предрешение будущего государственного строя. Впоследствии генералы должны были убедиться, насколько политическое объединение и вопрос возглавления в эмиграции сложны. Тогда же они со своей упрощенной психологией говорили, что мы против великого князя и армии (!), а один доблестный генерал в Белграде даже сказал, что Долгорукова следует повесить (!).
Мы никогда не вмешивались в чисто военные дела, и я лично, и в России, и в эмиграции все время работая при армии, строго этого придерживался. Теперь, к сожалению, в гражданскую войну и в эмиграции генералам нельзя обойтись без политики. Но прав Струве, когда он, возражая недавно генералу Краснову по поводу более чем странных приемов его политической полемики в последнее время, высказал, что мы против того, чтобы политика проникала в казармы, но беда и когда казарма проникает в политику.
Вследствие неверной информации о политическом положении в Париже, Врангель совершенно отвернулся от Национального комитета и стал со своими генералами верить в то прожектерство И.П. Алексинского, коего объединительные проекты повсюду проваливались, как, например, мертворожденная в Париже «Беседа», организация под председательством Третьякова, с первых шагов взявшая неверный тон и быстро заглохшая. Началось метание в поисках общественной опоры. Мне тем более было досадно за Врангеля, что я, в перспективе его огромных заслуг и национального подвига и ценя его лично очень высоко, считал его политические промахи очень мелкими слагающими. У других же теперь, когда политика выступает на первый план, политическая перспектива нарушалась, тактические ошибки Врангеля застилали его славное прошлое, и этот период далеко не способствовал его популярности в широких общественных кругах.
Нужно сказать, что Национальный комитет, несмотря на политические ошибки Врангеля и на его изменившееся отношение к Национальному комитету, продолжал неизменно поддерживать армию и Врангеля как ее главнокомандующего. Мне кажется, Врангель недооценивал эту стойкую, нелицеприятную поддержку верных друзей армии.
В это время уже усиленно говорили о признании большевиков Францией, и, уезжая из Парижа, я не был уверен, что вновь вернусь в посольство.
Обратно в Белград я поехал в начале июля тем же путем. После двух дней пути я остановился с утра до вечера в Венеции ровно на полпути, чтобы покупаться в Лидо и освежиться.
В Белграде умерли трое из моих сослуживцев при армии. Еще зимой умер Н.А. Ростовцев, теперь, вскоре после моего возвращения, мы на той же «гробле» схоронили умершего после двух операций С.Н. Ильина, а осенью в городке Панчево похоронили графа Мусина-Пушкина.
Ильин последние месяцы мог менее, конечно, влиять на политические шаги импульсивного, порывистого Врангеля, жившего в Карловцах. Я его застал в клинике после первой операции. Несмотря на свою слабость, он живо интересовался и долго расспрашивал про парижские настроения и говорил, что последнее время ему трудно было продолжать работу. Из всех лиц, работавших при армии, я наиболее сходился во взглядах с Ильиным и считаю его смерть большою потерею для Врангеля. Его заменил Чебышев. Из ближайших сотрудников Врангеля Чебышев, Львов и Даватц стали сотрудничать в «Новом времени», которое потом становится как бы официозом Врангеля.
За неимением средств на издание собственной газеты и за прекращением «Общего дела» в Париже я считаю правильным это сближение. Благодаря этому сотрудничеству «Новое время» значительно улучшилось, Локоть стал писать реже и менее агрессивно, А. Столыпин и некоторые другие сотрудники должны были совсем уйти. Но конечно, жаль, что не было своей национальной непартийной газеты, и близость хотя бы и улучшенного «Нового времени», но все-таки партийной монархической и националистической газеты, не могла не налагать известной окраски и на командование.
Когда я вернулся из Парижа, то некоторые мои друзья в Белграде упрекали меня, что я резко разошелся в вопросах тактики с нашими генералами. Я не так понимал мое служение армии, а генералов не считаю особой породой людей, с которыми нельзя спорить и не соглашаться. Другое дело при наличии фронта, тогда надо было наименее отвлекать политикой военачальника; у Деникина я был всего один раз, а у Врангеля в Крыму раза три, причем я не счел нужным загружать его жалобами на политику, проводимую его подчиненными, хотя сам я являлся жертвой этой плохой политики. Другое дело теперь, когда фронта нет, и хотя борьба продолжается, но позиционная и окопы наши – увы! – отнесены далеко от пределов России. Теперь приходилось подолгу говорить и спорить с Врангелем и его генералами, которые сами начали спор и резко поставили по своей политической неопытности некоторые тактические вопросы и предъявляли упорные требования равнения по ним.
Я еще в Константинополе советовал Врангелю, чтобы быть откровенным до конца, при случае объявить, что он лично монархист по убеждению. От этого только выиграла бы его как главнокомандующего надпартийная позиция – уметь ставить на второй план свои личные политические взгляды, когда выступают общенациональные задачи спасения Родины. Некоторые, например и. д. начальника штаба, находили, напротив, что гораздо лучше, когда, как это было с Корниловым и с Деникиным, никому не известно, кто монархист, а кто республиканец. Но все обличье и тон у тех были иные, чем у Врангеля, а потому здесь откровенность до конца могла быть только полезна. Врангель и высказался тогда в одном из своих приказов или обращений в этом смысле.
Но как это было далеко от того, что по тону, да и по существу, творилось теперь в Белграде. Ведя борьбу с крайними правыми, Врангель, под влиянием окружения и белградской атмосферы, делал уже уступки монархической партийности, чему много было примеров.
Как на один из таких примеров, укажу на его распубликованную речь: «Мы, старые офицеры, служившие при русском императоре в дни славы и мощи России, мы, пережившие ее позор и унижение, мы не можем не быть монархистами. И, воспитывая будущее поколение русских воинов, тех, кто будет ковать мощь и славу нашей родины, мы можем лишь радоваться, что они мыслят так же, как и мы».
Тут уже значительное уклонение от личного исповедования веры – к партийности. Да и фактически тут не все верно. Хоть подавляющее большинство офицеров монархисты, но есть и республиканцы. Как по тону и содержанию, эта речь отличается от речи Кутепова в Константинополе, в которой он говорил, что у него в палатках в Галлиполи рядом лежали и монархисты и республиканцы и что и впредь армия будет столь же беспартийна.
Кроме фактической неточности, в речи Врангеля заключается и призыв к воспитанию военной молодежи в партийном духе.
Это говорилось, правда, в то время, когда по приказу № 82 офицерам запрещалось участвовать во всех партиях, в том числе и монархических, что вызвало столько возражений, а затем и исключений и разъяснений к этому приказу.
Когда таким образом с умеренными монархистами и «Новым временем» у Врангеля установилась entante cordiale (сердечный союз), он подвергался усиленным нападкам неумеренных правых. В Белграде, правда, они только шипели, но сдерживались, не желая порвать с армией. И приезжавший сюда Марков произносил сдержанные речи и ублажал Врангеля при его посещении. Но в то же время в Берлине в органе Высшего монархическго совета на него резко нападали и прямо ругали его.
Уже в Париже я убедился, что на разговорах об объединениях и возглавлениях далеко не уедешь, хотя я с 1918 года только и делал с учреждения Национального центра, что призывал к объединению и до сих пор продолжаю работать над этим в Национальном комитете. Разобщенность эмиграции с Россией, даже противобольшевистской, все растет, и нам необходимо знать подлинные положение и настроения в России. И я решил сам проникнуть в Россию. В Белграде уже я приобрел для этого некоторые старые предметы крестьянского обихода, и в сентябре, после полуторалетнего пребывания в нем, я окончательно покинул Белград и выехал в Париж.
Тепло проводили меня мои белградские товарищи, члены Национального комитета, вечеринкой и ужином Врангель с чинами штаба и членами Финансово-контрольного комитета. (Как мы его в шутку звали Фи-ко-ко.) В ответ на речь Врангеля я его благодарил за то, что он мне помог в эмиграции «не распылиться».
Начальником штаба тогда был генерал Абрамов, а генералы Миллер и Шатилов были в Париже.
Глава 11 Париж – Польша – Россия. 1923—1926 годы
Пять месяцев, проведенных мной на этот раз в Париже, кроме работы в Национальном комитете с разговорами все об объединении и возглавлении, причем мы старались унять чрезмерно ретивых и услужливых друзей великого князя Николая Николаевича, я главным образом занялся подготовкой моего путешествия в Россию. Нужно было выбрать маршрут и, что особенно трудно, добыть средства для поездки четырех лиц. По ряду соображений лично для себя я решил ехать в Польшу.
Что касается средств, то трудно было достать денег и из-за конспиративности цели, но особенно трудно было бороться с обывательщиной, отсутствием жертвенной готовности служить общему делу.
Для характеристики этого настроения приведу здесь мой ответ одному приятелю в Белграде, который писал мне, что удивляется, что я не могу найти потребную сумму в Париже, где сравнительно еще столько состоятельных русских вообще и, в частности, моих родственников и друзей. Я ему на это писал:
«…Действительно, денег здесь у русских более, чем на Балканах. Но здесь много обывателей, а граждан мало. Здесь жизнь большого города более засасывает, более оторванности от России; там как-то к ней ближе, особенно соприкасаясь с армией, когда ощущаешь, что борьба продолжается.
Конечно, и здесь все патриоты, любящие Россию и мечтающие в нее вернуться. Но мечтают и ноют импотентно, как три сестры, «в Москву, в Москву!». Как те, вместо того чтобы скопить денег и на вакансиях взять билет и съездить в Москву, только ныли и никогда в Москву не попали, так и нам не попасть при таком пассивном патриотизме в Москву, при отсутствии действенного, жертвенного патриотизма. (Я не говорю о большинстве членов армии, которые пойдут умирать по первому зову, хотя людей инициативы и у них, думается, мало.) Никто из моих политических и партийных друзей пальцем о палец не ударил, чтобы помочь в моих хлопотах. Только наш москвич Третьяков отнесся сочувственно, переговорив кое с кем, кое с кем из промышленников познакомил меня. И более всего, значительную часть нужной суммы внес русский крупный промышленник, но… иностранный подданный, который отнесся удивительно сознательно и сочувственно к моему плану. С близкими же мне лично людьми я даже не мог говорить о моих намерениях, среди них нет граждан, все обыватели. Все они поглощены целиком своими личными имущественными и семейными делами, причем некоторые занимаются раздуванием семейных дрязг и прожиганием жизни по увеселительным учреждениям Парижа. Посвящать их в эти дела и просить денег было бы дико. Они ничего не поняли бы, не почувствовали; у них другое на уме, другие расходы…»
С большими хлопотами достав минимальную, необходимую сумму, в марте я выехал в Польшу, остановившись на день в Праге, чтобы повидать брата. Если бы я собрал большую сумму, то поездку можно было бы лучше обставить, с меньшим риском.
В Праге я застал умирающими Новгородцева и госпожу Кизеветтер.
В Варшаве я последний раз был в сентябре 1914 года, когда немцы подходили к ней и когда польские дамы бросали цветы сибирским стрелкам, отразившим немцев от Варшавы в кровавых боях под ней в Ракитно и Песечной, и когда стекла в городе звенели от орудийных выстрелов.
Старая Варшава очень выигрывает весной благодаря ее красивым паркам и скверам.
В величественном православном соборе только еще начали разборку куполов, колокольня уже была разрушена.
Я сначала остановился у моего московского приятеля Ледницкого. Я был встречен в Варшаве, как друг поляков, так как наша партия первая провозгласила автономию Польши, и со многими польскими деятелями я встречался с начала столетия на русско-польских совещаниях в Варшаве и у меня в доме, в Москве. Премьер В. Грабский, Р. Дмовский и другие были со мной в 2-й Думе, а профессор Петражицкий, как и Ледницкий, были членами Центрального комитета К.-д. партии. Ледницкий устроил у себя большой раут, где было русское и польское общество, архиепископ Рооп, член 1-й Думы, члены сейма.
Я был приятно поражен любезностью публики на улицах и в трамвае, где вопреки тому, что я слышал и что было, кажется, года два тому назад, не только можно было спрашивать по-русски, но и все охотно по-русски отвечали. В нескольких радушных русско-польских семьях я приобрел истинных друзей.
Политическое и экономическое положение Польши в тисках между немцами и большевиками ужасное. При возрождении Германии опора на отдаленную Францию окажется недостаточной и Польша неминуемо задохнется в этих тисках. Увлеченные империализмом поляки недостаточно это учитывают и побаиваются сильной, государственной России. Тогда как единственный выход для Польши – ставка на будущую Россию, они, ненавидя и боясь большевиков, в то же время не прочь, чтобы они подолее похозяйничали в России и еще ее ослабили. Введенная при мне Грабским стабилизация денег вряд ли выведет Польшу из финансового и острого во всех областях экономического кризиса. Наблюдаются застой всей хозяйственной жизни страны и многочисленные крахи.
На одном из чаев с видными политическими деятелями и военными поляки допытывались у меня, как я и мои друзья смотрим на теперешнюю границу и не будем ли мы впоследствии за ее изменение. Я ответил, что недостаточно знаком с этим вопросом с исторической и этнографической точек зрения, да и теперь, при отсутствии России, этот вопрос меня и не интересует. (На самом деле поляки продвинулись на восток значительно далее так называемой линии Керзона.)
Мой ответ разочаровал поляков. Они мне возразили: «Вот все вы, русские, так неопределенно отвечаете. Только Савинков не только гарантирует нам неприкосновенность границ, но говорит, что у России довольно земли, что она еще может уделить Польше сотни тысяч десятин из Пинских лесов и болот».
Это было еще до поездки в Россию Савинкова, которому легкомысленные поляки верили и передавали немало денег.
Я возражал, что пусть они верят террористам и авантюристам, но всем теперешним обещаниям Савинкова или Долгорукова, Иванова или Петрова – грош цена. Мы в свое время умели терпеть, когда нас за автономию Польши правые считали изменниками и расчленителями России. Теперь и правые не будут посягать на независимость Польши. В интересах России – сильная процветающая Польша, как тем более и Польше ввиду агрессивного германизма и емкости русского рынка необходима сильная Россия. Если Россия и пожелает урегулировать дружелюбно свою польскую границу, то Польше гораздо выгоднее на это пойти и получить при содействии сильной России действительный выход к морю вместо нелепого Данцигского коридора. Некоторые мои собеседники с этим согласились, а в Савинкове поляки, вероятно, разочаровались, когда он через два месяца, арестованный большевиками, как говорят, выдал нескольких поляков.
Но, как я говорил, ставка на большевиков и на ослабление России еще не была тогда в Польше изжита, и если ее ориентация не изменится, то плоды этой близорукой политики будут для Польши самые плачевные.
Более двух месяцев (май, июнь) я прожил на Волыни, близ г. Ровно, в гостях у барона Штейнгеля, члена 1-й Думы, в его живописном имении, верстах в сорока от советской границы, среди сплошь малороссийского православного населения. Здесь я отпустил бороду, делал окончательные приготовления к путешествию и сговаривался в Ровно через евреев с проводниками.
Привожу из «Руля» (сентябрь – октябрь 1924 г.) описание моего неудавшегося путешествия.
Неделя во власти ГПУ
«Уже около семи лет властвуют большевики. Эмиграция ждет взрыва изнутри, в России многие чают толчка извне. Создался заколдованный круг. Между эмиграцией и Россией, даже антибольшевистской, все более и более создается отчужденность, взаимное непонимание, а подчас недоверие и недружелюбие.
Необходима смычка эмиграции с Россией, чтобы рознь не увеличивалась, чтобы создать взаимное понимание, сговор. Нам необходимо уяснить себе потусторонние чаяния и положение вещей; в России должны узнать наши настроения. Там должны узнать, что мы (говорю о беженском центре, к которому примыкает все более и более эмигрантов и к которому, верю, в скором времени примкнет подавляющее большинство их) не хотим навязать стране тот или другой политический строй, что ничего не хотим принести на острие штыка, что, по-нашему, живущие в России, сам исстрадавшийся народ русский должен решить свою судьбу и определить форму государственного строя, что мы стремимся в Россию не мстителями, а примирителями, что мы считаем вынужденных служить в Красной армии и в разных ведомствах русскими людьми, которые послужат наряду с нами возрождению родины. Для всего этого необходимо преодолеть стену, выросшую между нами и Россией, возможно большему числу лиц авторитетных, могущих своей прошлой и настоящей деятельностью внушить к себе доверие и уверенность, что они не стремятся к реставрации, сумеют учесть совершившееся и хотят только, чтобы существовала Россия правовая, свободная, мирная.
Многие отправились уже в Россию, некоторых поощрял на это и я. Подбивать на дело, сопряженное со смертельным риском, имеет право лишь тот, кто и сам в нужный момент готов подвергнуться риску, и, когда, по имеющимся у меня сведениям, этот момент наступил, я решился пробраться в Россию.
Легально ехать я не мог. В 1917 и в 1918 годах я уже несколько раз был на волоске от смерти. Вместе с Кокошкиным и Шингаревым я был арестован, как член Учредительного собрания, и просидел в Петропавловской крепости около трех месяцев. Они были убиты, я уцелел. Потом в Москве я еще раз был арестован, подвергся нескольким обыскам и с чужим паспортом, переменив обличье, пробрался в Киев и на юг России. Своей теперешней поездкой, предпринятой преимущественно в видах правильного осведомления, я никого не подводил, так как не связан был ни с какой организацией.
В Варшаве и в Ровно я приобрел и остальные предметы и принадлежности костюма, все старое, потрепанное, – длинный кафтан, очки, кошель, кружку, нож и т. п. В Польше я прожил четыре месяца в приготовлении путешествия. Мне пришлось в Варшаве и в Ровно разыскивать и вести переговоры с евреями-контрабандистами относительно перехода границы и получения большевистского паспорта. Я отпустил длинные волосы и бороду. Мне очень трудно было остаться незамеченным. Многие газеты сообщили о моем прибытии. Одна газета выразила удивление, что польское правительство мне разрешило въезд, и это было перепечатано в какой-то немецкой газете. Еврейская газета «Момент» прислала ко мне интервьюера, которого я не принял и, выйдя в коридор, сказал, что политикой теперь не занимаюсь и интервью дать не могу. На следующий день (какова наглость!) под невозможным кричащим заглавием заметка, что я не счел возможным высказаться по поводу польско-еврейских отношений и глубоко вздохнул, как бы высказывая этим сожаление о невозможности теперь высказаться и надежду, что настанет время, когда это можно будет сделать. При этом давалось название гостиницы и номер моей комнаты, как бы к сведению большевистских агентов. Эта заметка смутила министерство, которое должно было продолжить мне визу на пребывание в Польше.
Последние полтора месяца я прожил в деревне в приграничной полосе, окончательно изменив обличье. Из длинной козлиной бороды я выстриг все не седые волосы, так что в очках, с котомкой на спине, в моем костюме я походил на старого дьячка-странника.
Накануне моего отъезда мне пришлось иметь дело с польскими властями. Срок моей польской визы кончался 1 июля, а мой отъезд должен был состояться лишь 3 июля, а в последние минуты был перенесен на 6 июля. 4-го поздно вечером на усадьбу, где я жил, являются из города двое полицейских, смотрят паспорт и на другое утро везут меня за десять верст к коменданту. Сначала я думал, что полиция узнала о моих намерениях. Я ссылаюсь на болезнь. И действительно, я в последнее время болел желудком (колит) и лечился. Комендант, а затем староста очень корректно и любезно отсрочивают мне визу на семь дней. На другой день, 6 июля, я двинулся в Россию.
Приехав в 4 часа в город в условленное место, я встретился с двумя евреями, приехавшими из Варшавы к местным, и переоделся в мой костюм. Эти евреи, кроме полученного задатка, в случае благополучного прохода границы должны были получить оставленные мною у третьего лица доллары, из которых мои проводники, два молодых парня – Петры, как оказывается, получали немного. Вопреки обещанию, паспорта большевистского я не получил, а таковой я имел получить в одном местечке уже в России. Пройдя окраинами города, мы подошли к ждавшей нас подводе со стариком хохлом и проводником Петром. Простившись с евреями, мы поехали недалеко от полотна железной дороги, по которой без надлежащего разрешения нельзя было ехать. Мы проехали верст пятьдесят по живописной бывшей Волынской губернии, с селами, чисто малороссийского характера, с православными церквами. Как и в той местности, в которой я жил последнее время, население деревенское сплошь малороссийское, православное, а в городах и местечках – преимущественно еврейское, с польскими войсками и чиновниками.
Когда уже стемнело, мы подъехали к деревне в трех верстах от г. Острога, находящегося на самой границе. По дороге к нам подсел другой Петр, с которым на другой день я и пошел в Россию. В версте от деревни мы сошли с подводы, на которой старик тотчас же уехал обратно, а мы уже в темноте, огородами и усадьбами, перелезая через заборы, соблюдая тишину, чтобы не привлечь внимания людей и собак, стали пробираться к деревне. Постучали тихонько в заднее оконце одной хаты. Узнав, кто стучит, через несколько минут девочка нам отворила заднюю дверь. Не входя в хату, не зажигая огня и в полной тишине мы поднялись по жиденькой лестнице на чердак, где и переночевали на свежем сене.
7 июля весь день провел в темноте на чердаке, куда свет проникал лишь через щели. Приграничные селения сплошь занимаются контрабандою и проводом перебежчиков. Часто бывают обыски, постоянно заходит полицейская стража, а потому, чтобы не попасться и не подвести хозяев, нужна крайняя осторожность. В хате была лишь одна старуха и девочка-подросток, приносившая нам воду, яйца, молоко. У меня была еще провизия с собой. Много было времени для спанья и для дум. В последний раз я повторял вытверженную наизусть мою, Семена Дмитриевича, биографию, сына псаломщика из Томска, с семейным положением, с историей, как я попал в Польшу и почему без паспорта возвращаюсь в Россию. План Томска с главными улицами и церквами я тоже изучил на случай допроса. В рукаве кафтана под мышкой у меня было зашито 90 долларов, а в простой холщовой суме – 50. На руках у меня было 69 долларов. Когда на улице слышались голоса или проезжала телега, мы совершенно притаивались, все время боясь прихода полиции или соседей. Днем в хату зашел полицейский и что-то спрашивал насчет контрабандистов. Разговор глухо слышен был через трубу на чердаке. А вдруг он вздумает обыскивать хату и чердак! К счастью, через некоторое время он ушел. Часа через полтора на улице раздался шум. Поднявшаяся к нам девочка рассказала, что в версте от деревни поймали четырех разыскиваемых контрабандистов.
Когда стемнело, в десятом часу мы с двумя Петрами вышли. Они понесли мою суму и котомку. Ночь была душная, темная. Мы направились на север от г. Острога, параллельно границе, чтобы верстах в восьми ее перейти. Вскоре мы свернули с дороги и пошли через поля и кустарник. Было очень трудно идти в темноте через поля спелой ржи и пшеницы, через рыхлую пахоть и колючий кустарник. Ноги вязли в пашне. Ремешок одного лаптя ослаб, и он стал сниматься. Спелая рожь и подсев из вьюнков опутывали ноги. Сравнительно легко было идти по белоснежной грече, но мы избегали ее и старались скорее пробежать полосу, так как на ней мы были заметнее. Мы старались избегать малейшего шума; я, несмотря на хронический кашель и одышку, старался не кашлять, в чем мне помогли напряженные нервы. Несколько раз я откашлялся, уткнув рот в рукав, и раз при приступе кашля уткнулся в землю, как мне заблаговременно рекомендовали проводники. Постоянно мы останавливались, прислушивались и залегали во ржи, как что-либо заслышится, отдаленный ли лай, стук ли телеги. Я любил в деревне отдаленный лай собак и громыхание запоздалой телеги. Но теперь эти звуки возбуждали жуть и долго, наверно, мне будут неприятны. Как тати, мы ныряли в рожь и снова двигались в путь, когда звуки стихали. «Чу, опять пес брешет!» – с досадой шептали проводники.
Раз залаяли две собаки и стали к нам быстро приближаться. А что, если это полицейские собаки-ищейки. Потом я узнал, что таковые действительно имеются на границе, но, выдрессированные, они идут молча по следу человека и делают по нему стойку, как по дичи. К счастью, собаки, не дойдя с четверть версты до нас, свернули в сторону, и лай стал удаляться. Вероятно, они гнались за зайцем.
Дойдя до границы, Петр первый (в отличие от второго) взял мой паспорт, который я взял на случай ареста в Польше, для отсылки его моему знакомому в Варшаву, и пошел обратно. Я снял кафтан, но и в одной рубашке обливался потом. За спиной старая котомка военного образца. Вправо где-то вдали маячил яркий электрический свет, как мне объяснил проводник – таможни. Мы прошли от границы версты 3 и миновали самую опасную зону. Я изнемогал от жары, в горле пересохло, белье – хоть выжми, ноги запутываются во ржи. Мне евреи наврали, что придется идти пешком лишь 5—6 верст: мы уже прошли верст 11, а до Славуты, куда мы шли, оказывается, оставалось еще верст 12. Очевидно, без дороги до свету не дойдем. Хотелось ругаться, что так неразумно составили маршрут. Но Петр умолял даже шепотом не говорить, ввиду опасности. На другой день он уверял, будто он вел меня на хутор, лежащий в 2 верстах, но ранее я об хуторе ничего не слышал. Когда он залегал во ржи, я в изнеможении припадал к земле, уже родной, русской. Но при каких условиях пришлось снова вступить на нее!
При опаске за каждый шаг, за каждый шорох, при страшном физическом утомлении я не мог, конечно, наслаждаться теплой украинской ночью. Но и при притуплённой восприимчивости я все же ощущал ее красу. И у «гробового входа», в который я мог ежеминутно вступить, «она красою вечною сияла». Я только что на польской Волыни, в деревне, перечитывал А. Толстого. И, припадая к земле в эту знойную ночь, я вспомнил Иоанна Дамаскина и его «в поле каждую былинку и в небе каждую звезду»…
«Кто идет? Руки вверх!» Этот окрик раздался неожиданно саженях в 5 впереди нас во втором часу ночи, вскоре после того, как мы вышли на полевую тропу и я воспрянул духом после многочасовой ходьбы по целине. Впереди, чуть выше нас, на темном фоне неба вырисовывался силуэт красноармейца в шлеме, который я видал ранее только на рисунках. Он выстрелил и свистнул. Справа и слева отозвались свистки. Мы попали в большевистскую засаду, и о бегстве нельзя было и думать. С дулом револьвера, направленным на нас, он подошел к нам, снова требуя поднять руки вверх. Мы сбросили суму и котомку. Прежде чем поднять руки, я успел взять в кармане приготовленные на этот случай доллары и зажать их в руке, так как, по словам проводников, при поимке красноармейцы отбирают деньги. Ощупав наши карманы на предмет поиска в них оружия, наш пленитель, оказавшийся товарищем-следователем из Кривина, разрешил нам опустить руки. Подошли двое других. Краткий опрос, и нас повели. Минута была скверная, я сразу понял, что все мое предприятие рухнуло и что перспектива мне грозит не из приятных. Но ведь и шел я на все. И чем более мне угрожала опасность, тем более я был хладнокровен. Я сразу вошел в роль дряхлого старца, что мне в эту минуту, впрочем, было не трудно из-за крайней усталости, и ни разу не сбился при опросе и затем при разговоре во время ходьбы с моей шпаргалки-биографии. Я незаметно достал из кармана огромные очки и в Кривине явился восьмидесятилетним стариком, плохо видящим и слышащим, сутуловатым, прихрамывающим, полуинтеллигентом из духовного звания.
Впереди шел Петр со следователем. Вдруг слышу крик последнего, и Петр получает от него в зубы так, что фуражка слетает на землю. И на другой день в арестной его красноармейцы все дразнили, не потерял ли он «кашкета»? В чем дело? Следователь мне объясняет, что Петр намекнул ему, что мы можем откупиться.
– Стыдно вам, старик, такими делами заниматься, – говорит следователь, – предлагать взятки.
– Это вы врете, господин, что я вам предлагал… – шамкаю я.
– Как вру, как вы смеете, – вспылил он и хватается за приклад винтовки, – ведь ваш проводник за вас предлагал.
– Вот и выходит, ваше благородие, что врете, – мало ль, что малый брешет, а я ни слова о том не молвил. Все можете от меня отобрать, как теперь в вашей я власти, а ничего не давал от себя и не дам.
– Какое еще там благородие. Это у вас в Польше так! Нет в Советской России ни господ, ни благородий, все равны. Ну, что говорят о нас в Польше?
Отошел, стал разговаривать. А контрабандисты уверяли меня, что если мы натолкнемся на польскую или русскую стражу, то их подкупят, и потому набивали цену за переход, чтоб хватило и на подкуп. А на самом деле у моего Петра не было ни гроша, и я все время ареста содержал его на мой счет. Через полчаса, около двух часов ночи, мы пришли в с. Кривин к помещению ГПУ.
8 июля. Шагая через спящих на полу арестованных, мы прошли в комнатку, занимаемую караулом. Кроме коек красноармейцев – стол, скамьи. В углу, как и во всех казармах и канцеляриях ГПУ, большой литографированный портрет Ленина. Нам приказали раздеться и приступили к обыску и допросу. Всего я подвергся у большевиков трем допросам. Допрашивал в присутствии других арестовавший нас следователь. Прощупывали швы, стучали по каблукам, нет ли в них пустоты, и т. п. Сначала подвергся осмотру Петр. Я под предлогом жары снял кафтан с зашитыми долларами и незаметно подбросил его на уже осмотренную одежду Петра. В грубом холщовом мешке зашитых долларов не прощупали. У меня взяли бывшие в кошеле 69 долларов, из которых 4 дали мне на продовольствие, а остальные отобрали под расписку. Кроме того, отобрали у меня порошки с висмутом от желудка и порошок с ядом, бывшим у меня на всякий случай.
Обращение резкое, но со мной, как со стариком, сравнительно вежливое. Над Петром и его упавшим «кашкетом» издевались, кричали на него, запугивали. По мере допроса заполнялись анкетные листы (откуда, куда, зачем, семейное положение, профессия и т. д.), потом нами подписанные. Особенно заинтересовался следователь найденной у меня в кошеле бумажкой с пятью цифрами, которые я должен был отослать с проводником и означавшими: прибыл благополучно, надлежащий паспорт получен, чтобы евреи получили причитающуюся им сумму. Я сказал, что это мне объясняли размен долларов на польские и русские деньги. Следователь не поверил, но сказал, что завтра на допросе выяснит правду. В Польшу я якобы попал в поисках попавшего в плен сына. Паспорт мой якобы украли. Правдоподобие последнего подтверждалось действительно вырезанным у меня летом между Брестом и Ковелем в вагоне из кармана во время сна бумажником с 80 долларами, след чего остался на холщовой куртке. Обращение на «вы», «товарищ» или «гражданин». Я во все время пребывания в России ни разу не назвал никого «товарищем», изредка говорил «гражданин», иногда, нарочито в стиле моей роли, говорил «господин», «ваше благородие», как и крестился часто и говорил «благодарение Богу, как Бог даст» и тому подобное, чем вызывал насмешки и реплики, что Бога нет. Часа в три ночи нас отпустили спать. В камере арестованных все было переполнено, и нам разрешили спать в женской камере на полу, так как нары были заполнены женщинами и детьми. Подстилки никакой, в голове – сума.
Утром в семь часов прогулка в садике перед домом. Здесь у забора, на улице колодец, где умываемся и берем воду для питья. Утром и вечером дают кипяток, и я завариваю в кружке свой чай. Позади дома на огороде ужасная яма-уборная, куда ходят по пять человек с конвойным. Так как заграничных газет нельзя было брать с собой на случай благополучного прохода в Россию, то бумаги никакой. Хата имела три комнаты: женская камера, маленькая прихожая, где дежурил красноармеец с винтовкой, мужская камера (дверей нет) и примыкающая к ней сзади комната караула, где нас ночью допрашивали, с плохо прикрывающейся, висящей на одной петле дверью. Грязь ужасна, ночью воздух отвратительный. Мне, как старику, уступили место на нарах у стенки в караульной. Лежали тесно, как сельди, большинство на полу, а также под нарами, – особо вшивое место. Выборный из арестованных староста (уволенный железнодорожный служащий) заведовал внутренним распорядком, подметанием и мытьем (женщины) полов, командированием на работы, когда поступало требование от начальства (большей частью уборка присутствия) и т. п. Продовольствия никакого не полагалось, а некоторые сидели десять дней и более и денег не имели. Имущие делились с неимущими и хоть скудно, хоть хлебом, но все кое-как кормились… Рядом была лавочка и кооператив, где можно было купить хлеб, яйца, колбасу, сало, табак. Доллары там принимались, но за них давали только 1 р. 50 коп., тогда как им цена около 2 р. Золотых я ни разу не видел, но говорят, что они ходили наравне с бумажными червонцами (10 р.), которых тоже не видел, вследствие ничтожных моих оборотов. Обращались бумажные рубли и полтинники, серебряные 20, 15 и 10 коп. с плохим каким-то оловянным звоном. Хоть в мою роль и не входило разыгрывать богача, но приходилось подкармливать неимущих. Красноармейцы постоянно обращались за табаком и спичками.
Большая часть моих товарищей (без кавычек) были молодые контрабандисты и перебежчики босяцкого типа в лохмотьях. Были и более зажиточного вида. Я своим видом не дисгармонировал со всей компанией. Некоторые профессионалы попадались по нескольку раз. Состав арестованных менялся: партиями, главным образом ночью, отсылались в Славуту или обратно в Польшу вновь пойманные. Особенно грубо красноармейцы обращались с контрабандистами: нередко попадало прикладами, если замешкаются или возражают. При допросе вновь приводимых – рукоприкладство, окрики и угрозы, слышимые сквозь плохо прикрывающуюся дверь и с моего места на нарах у стены караульной. По словам арестованных, избиение практикуется и в польских арестных.
Особенно сильно влетело молодому парню, убежавшему от уборной-ямы. Понятно озлобление стражи, так как дежурному красноармейцу грозило за побег два года тюрьмы, если бы его не поймали. Но из караульной парень вернулся как ни в чем не бывало и сейчас же стал крутить папироску: очевидно, бывалый. Когда его спохватились, красноармейцы сказали: «Ничего, через час поймаем». Была снаряжена погоня, и действительно часа через два его привели.
Сидели с нами и коммунисты, два чеха и один галичанин. Они тоже пробирались в Россию без паспорта. Красноармейцы объяснили мне, что в Россию пропускают лишь коммунистов с командировками партийных ячеек, а остальных высылают обратно: пусть работают у себя дома. В прошлом году еще, по их словам, всех перебежчиков пропускали в Россию, и будто за один год через европейскую границу прошло 950 тысяч человек (?). В этом же году большинство перебежчиков высылают обратно: «Когда нам плохо приходилось, где вы были? А теперь, когда мы окрепли, вы и переходите к нам». Очень много среди арестованных евреев, преимущественно бедных. По слухам, из России переезжают и переходят более зажиточные евреи.
Не только замечается массовое переселение в Россию русских с польской Волыни, но и евреев, а также среди арестованных перебежчиков встречались и поляки. Была, например, польская семья из мужа, жены и двоих малых детей из-под Вильны. Они там продали все имущество до посуды и подушек включительно, а теперь, пойманные на границе, препровождаются обратно в Польшу, где невозможно найти заработка вследствие кризиса.
Ужасное впечатление в Кривине, кроме тесноты, грязи и вони, производит и грубость красноармейцев. Матерщина, соединенная с богохульством, с упоминанием Христа и Богоматери висит в воздухе. Кроме дежурного, и другие красноармейцы снуют все время через нашу камеру в караульную. Особенно отличается шестнадцатилетний Сережка, маленького роста, винтовка которого со штыком на аршин выше его шлема, что производит карикатурное впечатление. Третье слово его – богохульство и матерщина, вошедшие в обиход его речи, а также постоянные насмешки и угроза прикладом. Сначала я его возненавидел, но потом, узнав, что он уж седьмой год при Красной армии, то есть с самой революции, поговорив с ним, когда он меня конвоировал, я его лишь искренне сожалел. Ведь он, дитя революции, попал в красноармейскую среду девятилетним ребенком. Из него, смышленого и бойкого малого, при других обстоятельствах мог бы выйти хороший русский парень.
Мне припомнились дети полков, которые совершали с полками поход, вместо того чтобы учиться в школе. Они, одетые в форму, играли в ужаснейшую игру – в войну; их ласкали, баловали и даже награждали Георгием.
Вряд ли те, которые уцелели, стали хорошими работниками и людьми от такого развращающего воспитания и игры с кровью… И если из них вышли мерзавцы, то они такие же без вины виноватые, как и отвратительный бедный Сережка.
Я на себе за все время не только не испытал рукоприкладства, но и грубости, и красноармейцы величали меня, кроме традиционного «товарища», «отцом» и «дедом». Мои товарищи по аресту во всем мне помогали, ухаживали за мной, называли меня дедушкой. Ведь, несмотря на то что мне под шестьдесят лет, я сходил за восьмидесятилетнего старика. Два раза мне хотели поцеловать руку, принимая за священника.
Очень трудно было всю неделю, без перерыва, не только на допросах, но и в течение всего дня играть роль. Ведь если бы я хоть раз сбился с тона глубокого старика и полуинтеллигента, то я пропал бы. Не только мы все время были на виду красноармейцев, но среди нас были и арестованные большевики. А как трудно было мучимому жаждой, когда приносили ведро с мутным кипятком, не побежать к нему со своей кружкой с засыпанным чаем, чтобы не остаться без кипятка, а ковылять к нему, покряхтывая. Но я сразу влег в мою роль и ни разу не сфальшивил. Труднее было держаться на допросах, когда более интеллигентные люди вас специально допытывали и сбивали.
После «обеда» (сухоедение из лавки) меня с проводником Петром вызвали в другое помещение ГПУ через улицу на допрос. С ним мы сговорились уже ранее, что отвечать по поводу совместного с ним путешествия. Это был самый трудный из трех допросов. Тот же следователь допрашивал меня около полутора часов. На все вопросы у меня были готовые подробные ответы согласно моей, еще в Париже составленной и написанной томской биографии. Около четверти часа он допытывался относительно злополучной записки с цифрами. Я упорно твердил, что это жид мне писал в Дубно при размене денег и что я в этих цифрах ничего не понимаю… Действительно, в Польше только что произведена была стабилизация валюты, и марки их сотнями тысяч и миллионами переведены на злоты и гроши, так что иностранцу с франками и долларами сначала трудно было ориентироваться.
Следователь бесился, вскакивал, ходил по комнате и угрожал, что меня перешлют в Харьков и в Москву и там сумеют узнать правду, церемониться не будут. «Стыдно вам, старик, врать; это вы или что-либо в России должны сообщить, или в Польшу». – «Зачем мне врать. Добрался я, слава Те, Господи, до России, не помирать же мне в Польше. А если пошлете меня в Харьков, то Бога благодарить буду и за вас помолюсь. Я и то путь держу на Харьков, в клиниках там лечь хочу полечиться. Больно там хорошо лечат. Четыре года тому назад в них лежал». – «В молитвах ваших не нуждаюсь, Бога никакого нет, это вы им только народ морочите, чтоб вам на хлеб подавали. А правду я от вас все-таки узнаю. Измором возьму, а узнаю». – «Со мной что хотите можете сделать, в вашей я власти. А что касаемо измора, то много ли мне, при моей древности и хилости, жить осталось. Смерти я не боюсь. Привел бы Бог поближе к Томску умереть, в Сибири. А в Бога я всю жизнь верил, с этим и помру, грех так говорить о нем. И правды теперь не стало, как Бога забыли». А сам все крещусь и кашляю. Потом он чуть меня не поймал на русских деньгах. Я забыл, когда были введены червонцы, и сделал вид, что сначала не расслышал его вопроса, какие у меня были деньги при переходе моем якобы полгода назад в Польшу в поисках сына… Потом я что-то начал говорить о царских деньгах и керенках. «А червонцев не было?» – «Нет, не было». – «А как же вы по железной дороге к Польше подъехали… Ведь в то время уже не брали старых денег». – «Это, – говорю, – как вырезали у меня кошель с паспортом, то червонцы украли, а сначала в России они у меня были». – «Где в Польше были?» – «В Дубно, в лечебнице лежал, привел Бог помолиться у Почаевской Божией Матери» и т. д. «А откуда же у вас доллары?» – «Помогли добрые люди, да было еще у меня несколько золотых русских с личностью государевой, их и выменял на американские деньги по совету людей». Много еще расспрашивал меня следователь, и я уже точно и подробно на все отвечал…
Очевидно, я и этот экзамен выдержал, так как иначе если бы в чем-нибудь был заподозрен, то был бы задержан впредь до телеграфного запроса в Томск и другие отдаленные пункты, на которые ссылался. Надо отдать справедливость следователю – он был очень резок, но не груб. Интересовался, как и при других допросах, что говорят о Советской России в Польше? «Слышал, – говорю, – что в газетах писали о голоде да что бандитов большевики снаряжают нападать на границу». Смеется. «Что касается голода, то сами видите, какой у нас урожай, а где есть недород, туда подвезут из урожайных мест. Что касается бандитов, то нам нет в них надобности. Народная Советская Россия миролюбива, а если бы захотела, могла бы легко смять Польшу. Теперь мы окрепли, не то что вначале, когда и Врангель был на юге, и Сибирь мы недовоевали». – «К какому обществу вы, товарищ, принадлежали в России?» Я, будто не понимая вопроса, отвечал: «Ни к какому обществу я, господин, не приписан». – «Господ у нас нет, все равны». – «Ни к какому обществу, потому я не крестьянин, а духовного сословия». – «Не то, к какому союзу или политической партии?» – «Православный я, русский и прописан я в Томске». – «В Союзе архангела Михаила не состояли?» – «Никак нет, и не слыхал про то». – «А что вы делали в Почаеве?» – «Богу молился да болел. Второй раз сподобился я у Почаевской Божией Матери побывать, – говорил я крестясь, – я и не ведал, что она теперь к Польше отошла. А что мне Польша. Не умирать же мне в ей… Сынка не разыскал, а выправлять пашпорт, сказывали, более года пройдет, да и денег уйма уйдет, не хватит, а старого больного человека, вишь сказывали, свободно через границу пропустят, не то что призывного. Опять-таки, какой я контрабандист. Умереть бы в России. Уж вы сделайте такую милость, направьте на Харьков и в Сибирь, не возвращайте в Польшу». – «Отправим вас в Шепетовку, там рассудят». А в Шепетовке высшая инстанция пограничного ГПУ, и ее особенно боятся контрабандисты и перебежчики. В Славуте – средняя инстанция.
Когда я рассказал в арестной о допросе, то все пришли к заключению, что дело мое обстоит хорошо и что меня через Шепетовку отпустят в Россию. Они не знали, какой я опасности подвергаюсь, если там какой-либо следователь или другой служащий в ГПУ, бывший в Москве или видевший меня на юге России, меня узнает.
Весь день почти приходилось лежать на нарах, так как ходить из-за тесноты нельзя было. Приводили новых и уводили партиями и в одиночку. Вечером снова час прогулки – толчея в садике перед арестной и кипяток, потом перекличка и проверка. Когда дежурный красноармеец рапортовал следователю, что нас в мужской камере 26 человек, а оказалось 27 (одного недавно привели), то ему сильно влетело. Следователь его ругал и стыдил, что красное дело такими служащими не может делаться и что если он еще раз будет замечен в небрежности, то он его посадит под арест на шесть месяцев. Очевидно, это не было простой угрозой, так как вытянувшийся красноармеец, по-видимому, струхнул. Под вечер вывели партию перебежчиков, отправляемых обратно в Польшу.
Ночью духота и вонь нестерпимая. Из-под нар, наиболее вшивого места, к нам направлялись постоянно струи такого зловония, что даже лежавшие рядом со мною босяки не вытерпели, разбудили старосту, и тот стал ругать обитателей под нарами, убеждая их проситься «до ветра». Дежуривший красноармеец вытащил из-под нар за ноги одного парня, приказал спать на полу посреди комнаты и для назидания ткнул несколько раз прикладом под нары. Но ничего не помогло, и обитатели нижнего этажа напоминали нам о себе всю ночь. Мне плохо спалось, и уснул я лишь под утро.
9 июля. День однообразно тянется по-вчерашнему. В 7 часов чай и прогулка. Томительно неведение дальнейшей судьбы. Сначала говорили, что нас отправят утром. Дремлю на нарах. Слушаю оживленные разговоры. Все в один голос утверждают, что в России лучше жить, чем в Польше. Здесь урожай, и в голод в России не верят. Сравнивают цены, не здешние лавочные, а базарные в деревнях, которые некоторым известны. Оказывается, что хлеб и некоторые продукты дешевле, сахар дороже, чем в Польше. Предметы контрабанды из Польши – мануфактура, водка, кокаин и прочее («Познанка»—водка польская – в большом почете.) Из России несут табак и золотые, царские и большевистские, которых очень много на Кресах у евреев. Некоторые перебежчики попадаются в третий, четвертый раз и все же намерены по водворении в Польшу вновь идти в Россию, и в конце концов они достигают своего. Резкие, гортанные голоса евреев. Большинство арестованных – преступный элемент с точки зрения государственной (как и я преступник по отношению к большевикам), но, живя с ними в тесном общении, совершенно естественно подходишь к ним как наши великие русские писатели – по-человечески, человечно. Контрабандисты в огромном большинстве молодежь. Одного постарше, посолиднее на вид, не босяцкого типа, я спросил, почему он занимается контрабандой. Он мне ответил, что семья большая, земли мало – не прокормить, – так не бандитом же становиться. Контрабанда – это прибыльный, рискованный промысел-спорт; к перебежничеству прибегают из-за нужды.
Днем пришла пятилетняя девочка, спрашивать арестованного батюшку. Позвали меня. Оказывается, местный священник прислал свою дочь узнать про меня. Через полчаса пришла молодая еще жена его и принесла мне теплый молодой картофель, салат из огурцов, белый хлеб, сухарей и бутылку молока. Спасибо добрым людям – хорошо пообедал, после нашего сухоедения поделился с друзьями. Звала вечером прийти к ним чай пить, говорит, что разрешают. Дежурный красноармеец обещал повести меня, если разрешат.
Но часов в пять велели мне и Петру с вещами отправиться в Славуту. Сборы – минуты три, и мы с конвоиром шагаем в Славуту, до которой четырнадцать верст. Конвоир убеждал нанять подводу, но с меня запросили три доллара, которых у меня не было. День очень жаркий, и по песку большака идти очень трудно. Убедил конвоира идти другой дорогой, по луговым тропинкам. Если бы не жара, то была бы приятная прогулка. Типичный малороссийский пейзаж, убранные покосы, спелые хлеба, которые уже начинают жать, греча, купы деревьев, речки, хутора и села, утопающие во фруктовых садах. Проходим задами трех сел с деревянными церквами. Одна из них старинная, со звонницей, напоминающая галицийские церкви. Так пересохло в горле, что, несмотря на продолжающееся расстройство желудка, пил несколько раз из колодцев и речек. Недалеко от дачной местности Славута вновь начался сыпучий песок, забирающийся в лапти и перетерший в труху носки. В начале векового соснового бора чудный холодный родник, у которого посидели, покурили. В конце торгового еврейского местечка помещаются казармы и канцелярия ГПУ, куда мы подошли часов в восемь.
Помещение гораздо просторнее и опрятнее кривинского. Военный следователь, приступивший к нашему допросу, интеллигентный, вежливый, в своем щегольском френче напоминает англизированного, изящного гвардейского офицера. После поверхностного сравнительно обыска и осмотра вещей подробный допрос-анкета. Никакого попустительства, та же формальность, что и в Кривине, но атмосфера культурнее, обращение менее резкое. Ко мне чаще обращаются с ласковым «дед, дедушка», чем «товарищ, гражданин». Когда случился у меня приступ кашля, следователь распорядился принести мне воды. Те же вопросы о настроениях в Польше, относительно советской власти, моей политической партийности и т. д. На мою просьбу отпустить меня в Харьков он сказал: «Наверно, вас, дедушка, отправят в Харьков, что вам в ваши годы трепаться по границам». В конце допроса я поблагодарил за ласковое обращение (повторяю, без всякого попустительства).
Когда допрос кончался, вошли три каких-то чина и тоже стали интересоваться разговорами о Польше. На мои ответы возразили: «Если бы Россия захотела, то в порошок могла бы стереть Польшу. Мы во всякий момент можем выставить 12 миллионов (?)». Веселый молодой человек стал подшучивать надо мной и запугивать моего проводника Петра. «Как вас зовут, товарищ?» – обращается он к нему. «Петр». – «По отчеству?» – «Онуфриевич». – «В каторгу вас, Петр Онуфриевич, ушлем вместе с дедом», – и тому подобное кричит он зычным голосом и с веселыми глазами. Мой Петр оторопел и струсил к удовольствию говорившего. Я, подделываясь под тон шутившего, говорю: «Чего, Петя, уши развесил? Ты не верь ему. Вишь, глаза у него ласковые; может, он и мухи не обидит. Для смеху брешет. Вишь, барин чудить вздумал». – «Какой я барин? В народной советской республике, гражданин, равноправие, нет бар и господ». – «А если равенство правов, то отпустите помирать на родину в Сибирь». – «На каторгу вас, гражданин, вы преступник» и т. д.
По поводу равноправия припомнился мне разговор с красноармейцем в Кривине. Он говорил, что прежде чиновники, помещики и попы объедали народ, а теперь сам народ правит, пусть графы и князья поголодают, потому теперь равноправие. «Хорошо, – говорю, – равноправие, коли от него у народа живот подводит». Вообще я не подделывался под большевиков, придерживался роли богобоязненного старорежимного старика.
После допроса Петра отвели в арестную с обычным тюремным режимом, а меня следователь провел сам в удивительное учреждение – в арестное помещение, лишенное всякой стражи, без красноармейцев, с одним выборным старостой. Помещение было не лучше кривинского. То же переполнение. Я поместился на полу у двери в маленькой передней, где воздух был получше, но к утру было свежо от постоянного хождения на двор.
10 июля. Кроме передней, две комнаты без разделения на мужскую и женскую. Комната поменьше была занята евреями, а побольше остальными арестованными. Таким образом, самоопределилась национальная дифференциация в стране национального равенства. В нашей вольной арестной – преимущественно семейные и те, которые, по мнению начальства, не предпримут побега. Два старика за семьдесят лет. Один из них сказал мне: «А ведь вы постарше меня будете»; так удачно принял я обличье дряхлого старика.
Кроме меня, в передней помещалась на ларях славная крестьянская семья из Нежинского уезда. Я примостился на полу у ларей. Муж – тридцати пяти лет, рослый, с правильным греческим профилем, начинающая стареть жена его, с грустными красивыми глазами, и прелестная живая дочь лет четырнадцати. Я спросил, знают ли они в Нежинском уезде село Володково-Девица (имение моей невестки). Оказалось, что они из соседнего села, знали помещицу княгиню Голицыну, а потом Долгорукову, знали про построенные ими больницу, школу. Они бежали восвояси, лишившись места на железной дороге. Несли много имущества и даже самовар. Я как бы приписался к их семье: хлеб и пищу нам давали на четверых. Они меня обслуживали посудой, даже покупали мне яйца, молоко и белый хлеб на базаре, дочь приносила воду, пришила пуговицы, подбирала сор. Я им давал чай, сахар и мою казенную порцию – большой кусок черного хлеба и суп с костями и затхлой крупой. Варили мне яйца и молоко в соседнем доме, в бедной еврейской семье, чрезвычайно услужливой, отказавшейся брать деньги за это. Утром и вечером полагался удивительный чай – кипяток с цикорием.
До пяти часов нельзя было удаляться далеко, дальше саженей 200, на случай если вызовут в ГПУ или на работу, а с пяти часов можно было идти куда угодно. Молодежь ходила спать в бор, куда-то на сеновал и даже раз – в театр. Позади дома был чудный бор. Я бродил по нему днем и чудно спал на мхе куда лучше, чем на жестком полу у постоянно отворяющейся наружной двери.
Целый день арестованные жгли перед домом костры из шишек и хвороста и готовили на них борщ, картошку. Чтобы покупать на базаре провизию, продавали кто штаны, кто кофту. Дети играли в песке. Еврейская комната кишела детьми, и грязь там была невообразимая. В одной еврейской семье их было пять штук.
Красноармейцы лишь изредка приходили, вызывая кого-либо к следователю или когда требовался наряд на работу. Кошмаром сравнительно со Славутой и ее свободным арестным режимом представлялись грязь, вонь и теснота в Кривине с постоянно висящей в воздухе бранью красноармейцев и резкостью, задерганностью других чинов. На работу требовалось много народу. Кроме уборки помещений – расчистка с выкорчевыванием площадки под футбольную игру для команды. 13-го, в воскресенье, предстояло открытие игры. Мой сосед – черниговский крестьянин, томившийся в безделье, – охотно шел на работу, тогда как большинство арестованных евреев старались увильнуть от этой бесплатной повинности. Дочь его Анюта с охотой шла мыть полы.
Приходил доктор и опрашивал нас. Я заявил, что болен грудью и кашляю. О наиболее меня беспокоившем расстройстве желудка не сказал, чтобы не положили в госпиталь. Весь день меня не вызывали и ничего о моей отправке не объявляли.
11 июля. Часов в 10 утра, когда я дремал в бору за арестной (чтения, конечно, никакого не было), меня позвал староста и вручил бумажку, по которой я, Семен Дмитриевич, и беременная еврейка вызывались в больницу, которая помещалась версты за полторы на усадьбе зверски замученного князя Сангушко. Мы с еврейкой без конвойного отправились, прошли все местечко. Оживленный базар на площади со старыми каменными рядами. Несколько старых домов Александровской эпохи, собор, большая синагога. Типичное торговое еврейское местечко.
Усадьба Сангушко обнесена массивной чугунной изгородью. Главный дом, окрашенный в желтое, представляет из себя развалину. Во флигеле помещается больница и амбулатория. Нас, как арестованных, приняли вне очереди. Амбулатория обыкновенного типа, чистая. Два врача, фельдшера, сестры. Персонал, как мне показалось, преимущественно еврейский. Врач и его помощник как будто мной очень заинтересовались, мне даже казалось, что чересчур, уж очень они меня с любопытством рассматривали. Я жаловался на грудь и удушье. Раздели и очень внимательно прослушали. Прописали лекарство и дали за печатью справку для следователя следующего содержания: «УССР. Славутская совбольница, 11/7 1924 г. № 4250. Арестованный тов. Дмитриев страдает эмфиземой легких, артериосклерозом и резко выраженным миокардитом, почему и нуждается в постоянном клиническом лечении. Рай-врач (подпись неразборчива). На печати Шепетовский окружной отдел здравоохранения УССР. Славутская гминная больница».
Справку эту дали по моей просьбе, очевидно, вследствие моего ходатайства направить меня в харьковскую клинику. Пока в аптеке готовили лекарство, я в окна осмотрел больницу. Чистота и порядок обыкновенной земской больницы. Хотя у меня не было полагающейся посуды, мне дали для лекарства бутылку. Но, выйдя, я вылил лекарство, так как мне нужно было не оно, а справка для следователя, с которой я надеялся скорее разделаться с пограничным ГПУ; бутылку же, которую тут достать нелегко, я употребил под молоко, купленное на базаре. Справка у меня сохранилась на память.
Около часа я побродил по усадьбе. В развалинах дома среди мусора виднеются остатки овального зала с лепными орнаментами. В этом доме был зверски растерзан во время большевистского переворота восьмидесятилетний князь Сангушко. Когда толпа подступила грабить дом, то, как мне передавали, он вышел на балкон и стал убеждать, что исторические и художественные вещи для них большой ценности не представляют, что он это собирал всю жизнь. На это он получил ответ, что никакого у него имущества теперь нет, а что все принадлежит народу, то есть им. Он схватил охотничье ружье, чтобы обороняться. Тогда несколько человек ворвались в дом, его стали бить, топтать ногами и сбросили с балкона. Толпа его разорвала на части. В доме была замечательная коллекция польских королевских древностей. Между прочим, в одной комнате стоял походный шатер короля Яна Собеского со всеми принадлежностями. Все было уничтожено. В запущенном парке большие тенистые аллеи; одна из них приводит к костелу. Мне мерещилась в этих темных аллеях высокая, сутуловатая фигура злополучного старца. Поболтавшись на базаре, поговорив с горожанами и селянами, я отнес докторскую справку в ГПУ к следователю. Прочтя ее, он сказал, что, наверно, меня скоро пустят в Россию. Уверенный в этом, я провел в хорошем настроении большую часть дня в бору и на улице, вступая в разговор с приходящими к колодцу.
12 июля. В 8 часов утра после чая меня вызывают с вещами в ГПУ; я был уверен, что меня пошлют на Шепетовку и далее в Россию. Но какой-то чин объявляет, что я высылаюсь обратно в Польшу. Я ссылаюсь на справку врача, на мой возраст – все напрасно, таково распоряжение старшего следователя. Прошу повидать его, но безуспешно. С одной стороны, рад, что освобождаюсь от грозившей вследствие ареста опасности, с другой стороны – страшно досадно, что все предприятие мое, с таким трудом подготовленное, рушится. «Получите ваши деньги обратно. Сколько у вас взяли в Кривине?» – «65 долларов». – «Расписку имеете?» Подаю. Оказывается, в ней значится лишь 55 долларов. Я объясняю, что ночью в Кривине не прочитал расписки, не до того было, что плохо вижу. Считают деньги, оказывается – 65 долларов, кои мне целиком и возвращают, несмотря на разницу в 10 долларов, с распиской.
Нас пятерых, в том числе и Петра, ведут обратно в Кривин под конвоем трех красноармейцев. При проходе через базар дал им по их просьбе рубля два на закуску и табак. Они уговаривали меня нанять подводу, зная, что у меня есть деньги. «Все равно отберем на границе», – говорили они, но ничего подобного не случилось, да и конвоировали другие. Я отказался. День был прохладный, за подводу просили дорого, и пройти четырнадцать верст было в такое утро приятно. Я снова попросил не идти песчаным большаком, и мы скоро свернули на луговые тропы, но шли по иному пути, чем на днях. Тот же мирный малороссийский пейзаж, полный свежести и зелени.
В село ехало много телег с празднично одетым людом. Оказалось, что сегодня Петров день по старому стилю и народ ехал к обедне. Итак, я справлял свои именины в России! Хоть и под конвоем красноармейцев, но прогулка в это свежее утро была приятна. Мы шли не торопясь, присаживались курить.
Припомнился мне Петров день в нашем чудном подмосковном, где я пять трехлетий предводительствовал, когда съезжались со всего уезда и приезжали из соседних уездов, за стол, скорее за столы садилось до 80 человек – ярмарка, народный праздник…
Между тем мы подошли к реке Горынь, которая, извиваясь, как Змей Горыныч, впадает в Припять. Нам пришлось, разувшись и засучив штаны, которые все-таки намочили, перейти через впадавшую в Горынь речку. Крестьянские девушки, идущие к обедне, высоко подняв подол, тоже переходили речку. Наша стража отпускала им недвусмысленные солдатские остроты; те, не смущаясь и отнюдь не запуганные, бойко давали им реплики.
Когда мы поднялись на берег, вдруг набежала туча и ударил гром. Сейчас же полил ливень с градом величиной в лесной орех. Мы побежали обратно к дикой груше у берега Горыни. Когда мы бежали, град колотил в затылок и больно сек уши. Лошади, в пасшемся на лугу табуне, стали как-то ежиться, потом беситься, бросились, несмотря на крик мальчишек, вплавь в реку и, подстегиваемые градом, умчались на другой берег, вероятно в деревню. Груша плохо нас защищала, град отсекал листья и целые ветви, и мы промокли насквозь, как и наши мешки. Вскоре засияло солнце, и мы зашагали по земле, белой от града, который минут десять хрустел под ногами.
«Была засуха, попы перемолили, не только дождь вымолили, но и град», – острили красноармейцы. Градом сильно побило и попутало рожь. Как и в польской Волыни, несмотря на казавшийся хороший урожай, умолот ржи вышел неважный вследствие бывшей засухи.
Я шел позади с красноармейцем, симпатичным парнем, который стал передо мной обнаруживать свои познания: гроза – это разряд электричества, а не от Ильи-пророка; град – от охлажденной атмосферы вверху, где воздуха нет; неба никакого нет и т. п. От метеорологии перешел к астрономии, к Марсу, к потухшей планете Луна, потом перебросился в политическую экономию: причина войн – капитализм; народы соперничают в торговле, и правительства в угоду капиталистам объявляют войны. Когда будет мировая революция и капитализм будет побежден, не будет и войны и т. д. В общем, обнаруживается, при поверхности знаний, при хватании верхов на курсах, читанных им, рядом – полное невежество. Много говорил за эту неделю с красноармейцами. Обнаруживается необыкновенный у них апломб и самоуверенность, то, что подметил князь С. Волконский и другие, описывающие красную Россию, где ученики получают готовые формулы мышления, прежде чем научаются размышлять. Приведу схематически несколько самоуверенных сентенций: «Бога нет, попы – шпионы», «Мы защитники народной власти в красной России, мы – авангард пролетариата всего мира. Нам бы только позволили, одной ротой завоюем Волынь, там все население с нами (миролюбие пролетариата?). В случае войны Россия выставит 12 миллионов, никто не устоит, Польшу сотрем. Это неверно, что немцы нам помогают, мы сами по себе. Теперь в Германии управляют буржуи, арестуют наших в Берлине, советская власть не может с ними дружить… Мы сами поможем немецкому народу» и т. д. Вообще, немало задорного пафоса и воодушевления.
Правда, в пограничной полосе, вероятно, отборный коммунистический материал, наиболее отчаянный. Потому же, вероятно, много татар. В кривинской страже при арестной их было человек пять. Евреев среди красноармейцев заметил мало, но среди других чинов ГПУ их порядочно. Срок службы здесь двухлетний, а внутри России полуторалетний, но скоро ожидается и там введение двухлетней службы. Содержание здесь несколько более, а главным образом, стража получает большой процент с захваченной контрабанды, не говоря про побочные доходы с контрабандистов и перебежчиков. Меня арестовало начальство – комендант, следователь и фельдшер, а рядовые красноармейцы, говорят, при поимке отбирают деньги и отпускают за откуп. Одеты хорошо, френчи, сапоги, шлемы, кожаные куртки. Безобразна зимняя форма – темное сукно и зеленые широкие галуны. Зимой получают валенки, шубы, папахи.
Офицеров нет, а есть товарищи-командиры, товарищи-следователи и т. д. Вне строя или службы – вместе сидят, курят, не встают. При дежурстве и службе, по-видимому, дисциплина строгая и наказания серьезные.
Мой собеседник по дороге в Кривин был серьезнее и вдумчивее общего уровня своих товарищей, много расспрашивал про Сибирь, Польшу, на мои замечания по поводу хулиганства Сережки отвечал, что тот еще молод, глуп. В отрицательном отношении к войне я, как пацифист, ему не возражал, изображая из себя сибиряка, тронутого толстовством. Но относительно большевистских методов и разжигания вражды и пренебрежения божескими законами резко возражал и ставил его подчас в тупик. Он не находился возразить ничего, кроме задолбленных формул. Но, шагая с ним в этот Петров день в России, я осязал, что он такой же русский человек, как и я, что при других условиях, без разжигания в нем классовой розни и злобы, на которой ничего нельзя создавать, а лишь разрушать, мы с ним оба могли бы быть равноправными русскими гражданами.
Яркое солнце сменялось несколько раз дождем, и мы два раза заходили укрыться на хутора… В чистеньких хатах висело много образов, хотя обитавшие в них молодые парни и были, по-видимому, в приязненных отношениях с красноармейцами, постоянно проводящими здесь арестованных. В первом часу подошли мы к арестной в Кривине, где мне еще пришлось помаяться два дня, опустившись снова в атмосферу смрада, грубости и скованности арестантским режимом. Сначала нам сказали, что отправят партию вечером, но какие-то бумаги не были досланы, и мы переночевали в Кривине. Мне уступили мое прежнее место на нарах у стены. Одежда наша высохла на нас, так как переодеться было не во что. Вообще за все время ни разу не раздевался, не переодевался.
13 июля. В Кривине застал наполовину старых знакомых, наполовину вновь арестованных. Много молодых парней, недурно пели хором малороссийские песни, рассказывали анекдоты с адюльтерными похождениями, не слишком неприличные и не очень смешные. К священнику, «к шпиону, к контрреволюционеру», меня не пустили.
В 7 часов вечера нам объявили, что нас поведут на границу, и мы сейчас же пошли в сопровождении двух конвоиров. Кроме меня с Петром, в нашей партии находились еще два еврея и один русский парень. Пройдя около четырех верст, мы подошли к пограничному посту, одинокому зданию, окна которого светились издалека. Вокруг пустынно, внутри чисто, – большая комната заполнена койками для команды, в углу сидит корректный, но не общительный начальник поста. Над ним большой портрет Ленина, портреты других видных большевиков, большая красная звезда и на бумажных лентах большевистские изречения. У входа сосуд с водой, вероятно кипяченой, и с надписью: «Не пейте сырой воды». В одном из ГПУ я видел листовку относительно борьбы с сифилисом, объясняющую, что эта болезнь – несчастье, но не позор, которого следовало бы стыдиться и скрывать.
Минут через сорок, когда совсем стемнело, нас повели к польской границе. Я просил красноармейцев так нас подвести, чтобы не попасться польской страже. Они сказали, что так всегда и делают. Минут через двадцать они остановились, и мы пошли под предводительством Петра, который заработал на этой операции у партии долларов сорок. Опять пошли пешком полями. Сначала было темно. Вследствие бывшего дождя местами скользко, и я несколько раз упал. Перелезли несколько изгородей. Через час взошла луна. Когда она пряталась за тучи, мы шли гуськом, когда появлялась – прятались во ржи, лежа в ней иногда минут пятнадцать. Какая красота смотреть, прильнув к земле, сквозь высокую запутанную рожь на полную луну и серебристые облака; совсем тропический, фантастический пейзаж! «И в поле каждая былинка, и в небе каждая звезда» чудесны в этом пейзаже.
Заляжет впереди Петр, и мы все ложимся, когда забрешет вдали собака, или послышится стук колес, или почудится какой-либо шорох. Раз стук колес стал приближаться все ближе и ближе, как будто ехали совсем на нас, слышен был разговор едущих, очевидно, дорога подошла совсем близко к тому месту, где мы лежали. Хоть мне в Польше не угрожала уже такая опасность, как в России, но все-таки не хотелось попадаться в таком виде, в таком месте и без паспорта польским властям во избежание хлопот и проволочки.
Пройдя от границы версты три, в час ночи мы дошли до деревни, где и заночевали. На этот раз переход границы был не так утомителен: ночь была прохладная и полями мы крались только в Польше, а с красноармейцами мы шли по дорогам. Да и ложились мы из-за луны раз пятнадцать. Запрятав троих наших компаньонов в конопле, Петр провел меня снова огородами и через плетни к задней двери хаты, постучал тихонько в окно, устроил меня, а сам вернулся к троим и провел их куда-то в другую деревню.
14 июля. Я поместился в чистой клуне при хате и с удовольствием после стольких дней, проведенных на голом полу и на нарах, растянулся на душистом сене. Здесь мне пришлось переночевать две ночи, так как Петр ездил в город узнавать у другого Петра относительно моего паспорта. Оказывается, он отослал его уже моему знакомому в Варшаву. Днем тоже пришлось в темноте проваляться на сене из опасения соседей и стражников. Когда стемнело, я сидел в хате. Моим хозяином оказался семидесятилетний хохол. Прелестный пятилетний внук его, с голубыми ясными глазами, в большой отцовской шляпе, прятал меня от окон в угол, чтобы с улицы не заметили. Приграничный промысел обогащает население, но и развращает его.
15 июля. В 3 часа ночи старик хозяин повез меня на подводе на станцию за 50 верст, так как без паспорта и специального разрешения я не мог ехать в пограничной полосе по железной дороге, хотя последняя польская станция Могиляны была под боком. К счастью, в местечке Здолбуново по средам бывает базар; когда рассвело, ехало много подвод, и мы не обратили на себя внимания. Проехав богатые чешские колонии, дремучий казенный лес, бывший удельный, и покормив лошадей на базарной площади Здолбунова, мы объехали г. Ровно и прибыли на станцию. В поезде, к счастью, паспорта не спрашивали, и я благополучно приехал в Варшаву, где польские власти с большой предупредительностью продлили мне визу на моем просроченном паспорте, благодаря чему я мог пожить и отдохнуть более месяца в имении моих приятелей на Волыни.
Какие я могу сделать заключения из моей краткой неудавшейся поездки? Мне проводник предлагал идти через два дня вновь в Россию в другом месте, как и делают в случае неудачи большинство перебежчиков. Если бы мне не угрожала такая опасность по политическим соображениям при вторичной поимке, а главное – не было бы ослабляющего желудочного заболевания, то я, наверно, и решился бы на это.
Я приобрел ценные технические сведения относительно перехода границы, что следует и чего не следует делать.
С населением, кроме арестованных, мало общался наедине и по случаю полевых работ преимущественно говорил со стариками. Старики определенно говорят, что прежде жилось лучше, всего было вдоволь и дешевле стоило. Но, ссылаясь на экономические условия, политических соображений они обыкновенно не высказывают, когда же и относились отрицательно к красной власти, то о преимуществе какого-либо государственного строя не говорили, упорно возвращаясь к экономической, а отчасти моральной разрухе при большевиках. Этим как бы подтверждается мой давнишний, уже пятилетний прогноз, что после всего пережитого у крестьянина явится прежде всего не тоска по царю или президенту, сидящим в Москве или в Петрограде, а, грубо выражясь, тоска по городовому, то есть по твердой и законной власти, опирающейся на вооруженную силу и охраняющей его и его труд на принадлежащем ему клочке земли. Но это уже мои субъективные убеждения и впечатления.
Я привел в моем повествовании по возможности объективный, правдивый, фактический материал, скорее несколько штрихов в добавление к имеющемуся уже обширному материалу к характеристике большевистской власти. Мои наблюдения кратковременны, случайны, в глубь России мне не удалось проникнуть, но некоторый интерес они могут представить, так как материал этот выхвачен в глухой приграничной местности с ее боевым характером, где ничего не было показного, как это может быть в больших центрах; к тому же это наблюдение не туриста, а арестанта, не только наблюдавшего, но и испытавшего на себе эту власть в мелких ячейках ГПУ.
Но мои русские и польские приятели в Варшаве, когда я им сделал сообщение о моей неудавшейся попытке, настаивали, чтобы я высказался о прочности, по моим наблюдениям, большевистской власти. Того же, может быть, хотят и некоторые читатели. Тогда перейдем опять в область субъективного.
A priori можно сказать, что власть, построенная под видом равноправия на неравенстве классов и на классовой вражде, власть разрушающая, но не созидающая – непрочна, как здание, построенное на песке. Я же лично за эту неделю осязательнее, нагляднее осознал характер этой власти, чем за все годы эмиграции по отзывам других. И, шагая в партии арестантов по сыпучим пескам Славуты, слушая заученные формулы самоуверенных в своих энциклопедических познаниях, но невежественных по существу красноармейцев, я осязательно представил себе, что, несомненно, налаженный военно-полицейский административный аппарат большевиков представляет из себя как бы тяжелый железный стержень, глубоко воткнутый в песок и который, как бы зыбок ни был песок, может долго еще простоять без сильного толчка или упорного раскачивания его.
Таковы законы равновесия, таковы вечные и непреложные законы природы, как и сияние вечной красы природы, несмотря на уродливые подчас уклонения венца природы – человека. Теперь, когда я отдохнул от физических и моральных переживаний моей поездки, выпуклее передо мной вырисовывается краса малороссийской природы в эту июльскую неделю, выхваченную из моего эмигрантского быта, несмотря на необычность условий, в которых пришлось эту неделю прожить.
Август 1924 г.
С. Городок, Ровенского уезда
Польская Волынь»
Таким образом, мне не удалось проникнуть в Россию. О «засыпке рва» между нами и большевиками не может быть речи, слишком велико этико-политическое различие. Но перепрыгивать через ров следует, хотя бы с некоторым риском сломать шею. То, что я не сломал себе шею, показывает, что более молодым и менее меня известным по общественно-политической деятельности людям это не так трудно.
Если я упоминаю о красе природы в своем повествовании, даже словами Иоанна Дамаскина, то все же я менее, чем он в изображении А. Толстого, сентиментален. Тот говорит:
И посох свой благословляю, И эту бедную суму, И в поле каждую былинку, И в небе каждую звезду.Былинками и звездами я восхищался, но к палке своей оставался равнодушен, а суму мою готов был подчас проклясть, так как она резала мои бедные плечи.
Жизнь моя в Варшаве и на Волыни и близкое знакомство с перебежчиками показали мне, насколько ошибочна окраинная политика поляков и относительно русского меньшинства. Не буду говорить о том, что узнал в Варшаве от других, от русской общественности, группирующейся около Русского дома, Русского комитета и газеты «За свободу» (Арпыбашев, Философов), кратко расскажу лишь виденное мной.
Правда, поляки знали лишь две России: царскую, участвовавшую в дележе Польши и чинившую ненужные национальные ущемления, против которых русское прогрессивное общество боролось, и Россию большевистскую, а потому нельзя требовать от обывательской массы, не учитывающей настроения русской интеллигенции, любви к России. Но здоровый эгоизм должен был бы подсказать польским государственным деятелям и политикам, испытавшим на себе недостатки русской политики, пагубность не только повторения, но и углубления ее недостатков в области культурной, церковной и национальной. Националистическая, шовинистическая политика дает всегда обратные результаты.
Впоследствии в Бессарабии я убедился, что и политика Румынии грешит теми же, если не большими недостатками.
В большие праздники по новому стилю, введенному правительством при помощи автокефальной церкви, все церкви на Волыни пусты, а в будничную службу, в дни праздников по старому стилю – переполнены. Страсти в защите Тихоновской церкви и старого церковного стиля против автокефалии разгорелись до того, что архимандрит застрелил митрополита Георгия за введение им автокефалии и отделения от Тихоновской церкви, и, horribile dictu, большинство русских было на стороне убийцы.
Как я мог убедиться на Волыни, из казенных учреждений сплошь увольняются все русские, православные, которые, лишенные заработка, устремляются в Россию. Среди перебежчиков в России я встречал железнодорожных рабочих, например семью из Нежина, некоторые из которых работали десятки лет и теперь остались без места. Большевики же щеголяют тем, что принимают на службу и поляков, и евреев. В связи с этим и другими политическими и экономическими условиями большевистский режим в пограничном районе представляется населению земным раем и очень многие переходят границу. Поляки – хорошие пропагандисты для большевиков.
Когда я рассказывал премьеру Грабскому мои впечатления о Волыни и о путешествии в Россию, он два раза меня с интересом выслушал и соглашался с моей оценкой недостатков польской окраинной политики, которая и в сейме, и в прессе тоже сильно критикуется. Он указывал на трудности молодой государственности и на то, что им предпринято для устранения недостатков. Зная Грабского как умного и широкого политического деятеля, я ему верю. Но и тут повторяется старая история: поляков в Петербурге, бывало, встречали всегда крайне любезно, обещали устранить несправедливые стеснения и виновных в них лиц, а на местах на действиях местной администрации это ничуть не отражалось.
Я прожил еще и отдохнул в конце лета полтора месяца на Волыни у Штейнгеля в его старой усадьбе на острове в десять десятин на запруженной реке. Я ходил с ружьем на уток по зарослям речки в холмистых берегах, покрытых дубовым лесом, с белыми мазанками и селами, ездили мы на именины к соседнему батюшке, на пикник, словом – вспомнил старую русскую жизнь.
Из Варшавы я выехал в Париж в конце сентября, когда Саксонский сад и чудные парки Лозенки и Бельведер уже позолотились.
На этот раз в Париже пришлось в последний раз и ненадолго остановиться в посольстве и на милом левом берегу, который я полюбил за эти годы беженства. Вскоре состоялось признание Францией (Эрио) большевиков и сдача им посольства со всем его имуществом. Одного массивного столового серебра было на много сотен тысяч, которое большевики все равно должны были ликвидировать из-за литого государственного герба на нем. Вывезен был только архив за последние семь лет с делами, на которые у большевиков не имелось в Петрограде в министерстве копий. Серп и молот и красный флаг заменили государственный герб и флаг на старом особняке аристократической улицы Гренель…
А парижская общественность все объединялась и возглавлялась, а М.М. Федоров все хлопотал…
Вопрос о возглавлении беженства великим князем Николаем Николаевичем длится уже годами. Его политическая фигура растет благодаря его нескольким интервью с действительно национальной, надпартийной платформой, всецело восприявшей лозунги Добрармии, и благодаря мудрой его позиции, отклоняющей суетню около его особы правых и частью военных, желающих провозгласить его вождем с безоговорочным ему подчинением, то есть произвести его в диктаторы в безвоздушном пространстве эмиграции. Лавры Голицыных-Муравлиных не дают, очевидно, многим покоя, и они стремятся ко второй «Кириллиаде». Великий князь Николай Николаевич, благосклонно, как ему и подобает, принимая всех, в то же время отклоняет «до России» предложения не в меру услужливых друзей и говорит то же, что и гоголевская невеста, но в более вежливой форме: «Отойдите… господа!» От этого его политический облик отнюдь не умаляется; напротив. И правые своей немудрой политикой сыграли, пожалуй, положительную, но неблагодарную роль – repoussoir'a[18] для его мудрой политики.
Если бы в Англии случилось что-либо подобное русской революции, то вождем, вероятно, у них был бы не принц Валлийский или Йоркский, а генерал Китченер или другой генерал.
В Германии и монархисты оказались умнее русских монархистов. Они оставляют Гогенцоллернов пока в покое, и вождями монархистов и националистов являются не кронпринц или Эйтель-Фридрих, а генералы Гинденбург и Людендорф. Мало того, монархист Гинденбург делается президентом республики.
У нас, к сожалению, не выдвинулся генерал, за которым пошли бы все военные и преобладающее большинство эмиграции. Таковым явился великий князь Николай Николаевич. Вспомним еще раз, что нам писал Щепкин в 1919 году из Москвы перед своим расстрелом: «…если за этой властью идут войска, то, какова бы она ни была, она должна быть признана всеми».
И потому мы готовы признать власть Николая Николаевича, когда наступят время и условия, о которых он сам говорит, несмотря на то что он великий князь, тогда как монархисты признают его, потому что он великий князь. Мы его приемлем, веря в его национальную надпартийность, ценя его мудрую, осторожную позицию, которая зачастую раздражает правых.
Монархист Гинденбург совершенно для него неожиданно оказался президентом и корректным слугой Германской республики. Для него – Deutschland, Deutschland Über Alles.
Таковым же мы приемлем и монархиста Николая Николаевича, для которого тоже Россия, Россия превыше всего, который готов отдать свою жизнь за освобождение Родины, независимо от того, будет ли в ней монархия или республика. Три года уже я провожу эту линию по отношению к Николаю Николаевичу в Национальном комитете, и большинство его, как мне кажется, теперь придерживается тех же взглядов. А сколькие топорные политики говорили, что я иду против Николая Николаевича и армии!
В конце лета 1925 года стало выходить «Возрождение» под редакцией нашего старого друга – Струве, газета наиболее близкая к лозунгам армии и Национального комитета. Одно имя Струве гарантирует, что эта большая газета будет чистой и культурной, и я очень надеюсь, что она станет неофициальным органом армии. «Возрождение» заполнило пробел между «Последними новостями» и монархическими листками, в чем ощущалась насущная потребность.
Но, приветствуя появление «Возрождения», редактируемого товарищем председателя Национального комитета Струве, во избежание недоразумений президиум Национального комитета счел нужным отмежеваться от газеты и заявить, что она отнюдь не является его официозом. Так как Струве не пожелал этого сделать в «Возрождении», то я, тоже товарищ председателя Национального комитета, сделал это в рижской газете «Слово».
В чем же различие? Во-первых, «Возрождение» имеет явный уклон к монархизму в своей идеологии, тогда как Национальный комитет строго надпартиен. Индивидуалист Струве со своей газетой является лишь одним из течений, представленных в коалиционном Национальном комитете. Струве сузил политический диапазон «Возрождения» сравнительно с более широким объединением Национального комитета. Отсюда разница и в вопросах тактики. Так, например, Струве считает уместным и полезным настойчиво подчеркивать происхождение Николая Николаевича от «царского корня», факт и без него всем хорошо известный. Этим подчеркиванием он только суживает сферу влияния Николая Николаевича. Он его представляет эмиграции не русским Гинденбургом, а каким-то Эйтель-Фридрихом, то есть скорее умаляет его фигуру.
Вот некоторые из главнейших, не особенно для широкой публики осязательных расхождений наших с «Возрождением», газетой действительно национальной и не узкопартийной.
Я пробыл на этот раз в Париже вследствие моей бедности безвыездно полтора года. Ни разу в жизни столько не прожил на одном месте. Уехал я по личным делам в начале марта, когда часть эмиграции очень уж рьяно и с большими чаяниями готовилась к… объединению и возглавлению на зарубежном съезде.
После роскошного дворца посольства за эти полтора года я жил и в хорошей комнате у родственников, и в маленькой гостинице на пятом этаже, а последнюю зиму в пятидесяти-франковой холодной мансарде с керосиновым освещением и отоплением, на седьмом этаже, поднимаясь по крутой черной лестнице, совершенно темной.
Один из немногих моих приятелей, рискнувших подняться ко мне, тяжело дыша, говорил, что и высоко же я забрался. На это я ему показал из моего круглого окна в скате крыши чудный вид на кишащую внизу авеню, на Триумфальную арку и Эйфелеву башню вдали и сказал, что в беженстве я поднимаюсь все выше и выше, а не опускаюсь.
Князь Павел Аолгоруков
Кишинев, 1926 г.
Часть вторая Десять Пасх
Москва, Москва, Екатеринодар, Сочи, Константинополь, Белград, Париж, Варшава, Париж, Кишинев – вот где мне пришлось встретить последние Пасхи, вот как пришлось скитаться в беженстве!
1917 год. В Московском Кремле. Несмотря на неудачную войну и Февральскую революцию, Москва в последний раз встречала праздник с обычной торжественностью. Масса народу в соборах и на площади, гул колоколов, обилие света от свечей и плошек. На Святой я вместе с другими поехал от Государственной думы на фронт, который уже в значительной мере стал разлагаться, беседовать с войсками. Мою речь я начинал с «Христос воскресе!» с приветом от Москвы, гул колоколов которой еще у меня в ушах… Сотенная или тысячная толпа солдат отвечала мне: «Воистину воскресе!»
1918 год. Опять Московский Кремль. Зимой я был арестован и сидел с Шингаревым и Кокошкиным в Петропавловской крепости. Вышел я из крепости уже один. Кремль держался на запоре засевшими в нем большевиками. На Пасху они его открыли для публики. Но Светлая ночь почему-то была совершенно темна в Кремле, и площади его не были освещены. Народу было очень мало, в соборах и на соборной площади совершенно просторно. Площадь во время крестного хода была освещена несколькими плошками на Иване Великом и редкими свечами в руках людей. Было мрачно и зловеще. Об обычной торжественности и помину нет. Даже колокола московские, казалось, менее весело, как-то глухо перекликались. Разговлялся я у овдовевшей недавно М.Ф. Кокошкиной.
1919 год. Екатеринодар. Собор переполнен, трудно войти. На площади ожидаем крестного хода. Теплая южная ночь благодатной Кубани. Много московских друзей, здешние новые приятели. В склепе величественного собора прах Алексеева, впоследствии вывезенный, а на возвышенном берегу Кубани около Екатеринодара белеет деревянный крест над могилой Корнилова у фермы, где он был убит снарядом. Перед приходом большевиков тело его перенесли в другое место, но оно было ими найдено и подверглось поруганию на улицах Екатеринодара… Но в эту тихую пасхальную ночь мы не предвидели страстных седмиц, которые пришлось нам вскоре пережить; положение наше окрепло, летом мы перебрались в Ростов; вышли на большую московскую дорогу. В эту благостную южную ночь мы надеялись через год услышать другие, далекие пасхальные колокола, теперь еще более далекие…
1920 год. После оставления Ростова и злополучной эвакуации Новороссийска я перед Севастополем пробыл месяц в Феодосии и жил в одном доме с французской военной миссией. Перед Пасхой французы получили распоряжение послать транспортное судно в Сочи за беженцами. Так как в Сочи находился мой брат с семьей, которому пора было эвакуироваться, то я прикомандировался к молодому лейтенанту в качестве переводчика и помощника. В Великую субботу мы выехали. Море было совершенно спокойное. Мы с лейтенантом были одни, ехали как бы на своей яхте. Стреляли в кувыркающихся дельфинов. К Сочи подъехали в Пасхальное воскресенье на рассвете. Кавказское побережье агонизировало. Отступающие от Туапсе войска разрозненными группами тянулись по шоссе. В гостинице «Ривьера» мы посетили генерала Шкуро, принявшего командование над этими войсками. Затем у него разговление с выпивкой. Тут же духовенство приходит с крестом и поет «Христос воскресе!». Показал молодому французскому лейтенанту характерную русскую бытовую картину. Приняв на борт более тысячи беженцев, мы в тот же вечер отплыли на Ялту.
1921 год. После падения Севастополя Босфор в изумрудных берегах и мы в изгнании. Полтора года пришлось прожить в шумливом, красочном Константинополе, с его чудным Стамбулом, Золотым Рогом и живописными панорамами Босфора и Принцевых островов. Немало беды перевидало здесь русское беженство и армия в Галлиполи и на Лемносе. В пасхальную ночь маленькая посольская церковь переполнена. Стоят на лестнице, во дворе, усердно молятся о скором (!) возвращении. Свежая ночь. Ветер задувает свечи. На этом посольском дворе целыми днями толпятся беженцы, много военных, не выдержавших или побоявшихся галлиполийского испытания. Ветер, задувающий наши свечи, колышет последний Андреевский флаг на маленьком «Лукулле», на котором живет Врангель. Но скоро и этому флагу суждено было опуститься со своей мачтой на дно Босфора, а вследствие бесправия русских на чужбине виновники этого злодеяния средь бела дня даже не были привлечены к ответственности.
1922 год. В Белграде пришлось прожить тоже полтора года. Сюда приехал из Константинополя Врангель со своим штабом. Вид русского губернского города. Русская ширь. Слияние у города Савы с Дунаем, напоминает Нижний. В маленькой русской церкви на старой «гробле» (кладбище), которое теперь посереди города, идет пасхальная заутреня. Большинство стоит вокруг церкви. Через открытые низкие окна слышно богослужение. Ветра нет, и свечи не гаснут на воздухе. Впоследствии в эту церковь перенесено было большинство знамен, с русской честью вывезенных из России. Теперь они оберегаются там днем и ночью почетным караулом от Союза офицеров. Немало в этой церкви мы отпевали наших друзей и товарищей, которых приняла в свое гостеприимное лоно старая гробля за городом… Армия и беженство томятся на чужбине и в Светлую заутреню молятся о воскресении России.
1923—1925 годы. Первую Пасху я провел в Париже, когда на два месяца приезжал по общественно-политическим делам из Белграда и остановился у Маклакова в посольстве. Хорош Париж весной, с его чудными парками и авеню. В Светлый праздник верхняя и нижняя церкви не могут вместить всех молящихся и двор полон народу. И в обычные воскресные дни во время обедни здесь толпится много народу. Здесь встречаются знакомые, разговаривают, а потому двор этот прозван «брехаловкой», которая войдет в историю русского беженства. В Светлую ночь в церкви и на дворе «весь Петербург», «вся Москва». Париж все более и более притягивает к себе беженство, Берлин и Балканы пустеют, и в 1925 году это уже «вся Россия», это деловой, рабочий, финансовый, политический, культурный и церковный центр, это зарубежная русская столица. Теперь переполнение еще более, но церковная жизнь сосредоточивается не только на улице Дарю, «Христос Воскресе» раздается и в маленьких церковках в пригородах Парижа, близ заводов, на которых работают беженцы. И их обходят маленькие, но торжественные крестные ходы с мерцающими огоньками. И в самом Париже пасхальная служба совершается в недавно учрежденном Сергиевском подворье, в его величественном, стильном, древнерусском по росписи храме. Против церкви на улице Дарю во время заутрени бойко торгуют предметами разговения русские гастрономические магазины и ресторанчики. Ближайшие улицы de la Neva и Pierre le Grand полны автомобилей и автобусов. Пасху 1925 года мне пришлось уже жить в скромной комнате, так как большевики, признанные Францией (Эрио), заняли перед Рождеством посольство.
1924 год. Четыре весенних месяца я провел в Польше, подготовляясь к моему путешествию в Россию, и на Пасху я был в Варшаве. С православного собора только что начали снимать обшивку куполов. Величественное здание трудно поддавалось разрушению, и затем еще потребовалось для этого два года. Разрушена тоже хорошенькая церковь Гродненского гусарского полка. Пасхальная служба происходила в старом соборе на Праге и в домовой церкви на Медовой.
Народу очень много. С введением автокефалии православной церкви в Польше введен и новый стиль церковный. Борьба за старый стиль велась здесь отчаянная. Дошло до того, что архимандрит, сторонник Тихоновской церкви и старого стиля, застрелил митрополита Георгия, совместно с польским правительством вводившего автокефалию польской церкви и новый стиль. И, horribile dictu, большинство русских сторонников патриарха Тихона сочувствовали убийце! Заставить крестьян перейти на новый церковный стиль оказалось не так-то легко. Как в пасхальную заутреню, так и в другие праздники церкви пусты, а на обедне очередному святому в дни праздников по старому стилю церкви полны. Я прожил близ советской границы на Волыни несколько месяцев среди чисто русского, малороссийского населения и наблюдал эту упорную его борьбу за старый стиль, с которым принуждены были считаться в конце концов и администрация, и церковное начальство. Среди духовенства эта мера внесла раскол. Тех, которые в угоду начальству не служили в будни, когда по старому стилю были праздники, население стало бойкотировать и ездить в соседние приходы…
Варшава со своими скверами и парками, особенно Лозенки и Бельведер, весной красива и нарядна.
1926 год. Кишинев. Вопрос о новом церковном стиле в Бессарабии, введенном румынской автокефальной церковью, также остро воспринимается русской публикой, как и в Польше. В русских церквах требуется пение и произнесение нескольких молитв по-румынски! Когда в большинстве русских церквей Пасха была уже отпразднована, на Страстной неделе по старому стилю было опубликовано распоряжение нового министерства генерала Авереско о невчинении препятствий справлять праздники по старому стилю. Епископ Гурий, подчиняясь автокефальному синоду, не разрешал этого. Произошло смятение и смешение. В некоторых церквах произошло вроде двойного отправления пасхалии. В двух маленьких домашних церквах, одна против другой, в которых Пасха по новому стилю не справлялась, – торжественное служение по старому стилю. Сначала крестный ход из одной церкви, потом из другой. Так как церкви крошечные, то заутреня служится на улице, перед приютской церковью. Тысячная толпа заполняет всю улицу. Погода теплая и совершенно тихая. Свечи горят, как в комнате. Эта заутреня на улице, обсаженной начинающей распускаться белой акацией, удивительно торжественная и живописна.
Как и на Волыни два года тому назад, здесь чувствуешь себя как бы в России. И радостно, и тяжело.
1927 год. Одиннадцатая Пасха и последняя[19]. «Харьков, ГПУ. Чернышевск. ул. 9/V, 27. Христос Воскресе! Поздравляю Вас всех с Праздником. Получил 7/V твое письмо от 10/IV. Открытку не получал до этого. Морально чувствую себя хорошо, но желудок в последние месяцы испортился, вроде колита. У меня сломалась искусственная челюсть, что затрудняет жевание, главным образом хлеба (серого). Что касается платья, то хотя у меня ужасная рвань, но, пока я здесь, мне ничего другого и не требуется. Относительно моей участи еще ничего не знаю. Недавно я получил из Москвы через Политич. Красный Крест (Е.П. Пешкова) ватное пальто и белье, которого у меня теперь достаточно. Два раза получил оттуда же и припасы, что оч. приятно. Мне здесь сказали, что за границей в газетах появилось известие о моем расстреле в Москве. Сообщи родственникам и друзьям, что я считаю известие о моей смерти по меньшей мере преждевременным. Много читаю. Знакомлюсь с новыми писателями, с наслаждением перечитываю Л. Толстого, Мамина-Сибир., Чехова, Лескова…»
Князь Павел Долгоруков
Часть третья Князь Павел Дмитриевич Долгоруков (Биографический очерк, написанный его братом Петром Дмитриевичем Долгоруковым)
…Мужественная душа инстинктивно ищет жертвы, случая пострадать, духовно крепнет в испытаниях.
Из «Записок» свящ. о. Ал. ЕлчаниноваГлава 1 Детство, гимназические и студенческие годы
Эти отрывочные воспоминания не могут претендовать на полную биографию моего покойного брата, ни со стороны фактической, ни с точки зрения освещения его душевного склада, так как мы жили вместе лишь в детстве и учились в разных средних учебных заведениях, а затем на разных факультетах Московского университета. И так как я никогда не вел никаких записок и писал эти воспоминания лишь в 1941 году, когда мне было уже 75 лет и прошло более полстолетия со времени нашей молодости, то многое улетучилось из моей памяти и «не много лиц мне память сохранила» и тем менее дат. Кроме того, у меня под руками почти не было печатного материала. Поэтому в первой части моего очерка мне пришлось более описывать бытовую обстановку и общественную атмосферу, среди которых складывалась и протекала жизнь моего брата.
Мы с моим братом Павлом Дмитриевичем были близнецы. Родились мы в Царском Селе 9 мая 1866 года. По внешности мы были очень похожи друг на друга, нас и потом посторонние часто смешивали, а новорожденных нас невозможно было различить. После крещения, как гласит семейное предание, Петру была над коленкой повязана красная шерстинка, но шерстинка эта потом будто бы развязалась и незаметно упала на пол. Увидавшая это кормилица, испугавшись, не знала, с которого из младенцев она упала, и повязала ею первого попавшегося. Таким образом, мы, может быть, всю жизнь носили не принадлежавшие каждому из нас имена.
Когда нам было всего несколько месяцев, родители наши переехали в Москву, в купленный старинный большой двухэтажный особняк, около строившегося тогда храма Спасителя. Дом этот со своими толстыми стенами и сводами нижнего этажа, уцелевший от пожара двенадцатого года, был с многими надворными постройками, двумя большими дворами и огромным садом, выходящим на три улицы. Приблизительно в те же годы переехали из Петербурга в Москву и некоторые другие семьи, нам родственные или близкие. В конце шестидесятых и в семидесятых годах в известных придворно-гвардейских кругах высшего петербургского общества вообще наблюдалась некоторая тяга в Москву, как центр русскости и славянофильского течения. В начале семидесятых годов вызвала много шуму статья Ивана Сергеевича Аксакова под заглавием «В Москву», которая говорила о желательности возвращения столицы из Петербурга в Москву и являлась протестом против западничества и оторванности от народа петербургского периода русской истории. Можно вообразить, как перевернулся бы в гробу Аксаков, если бы мог узнать, что его призыв был осуществлен большевиками! Коренными москвичами были и идеологи только что проведенных великих реформ: братья Самарины, князь Черкасский, Кошелев, с которыми и с их семьями, а равно и с эпигоном славянофильства И.С. Аксаковым наша мать, урожденная графиня Орлова-Давыдова, поддерживала дружественные отношения. Будучи детьми, мы забегали иногда на так называемые «швейные вечера» моей матери. Один раз в неделю по вечерам у нее собиралось несколько десятков дам шить для отправляемых в Сибирь семейных арестантов, из находящейся около нашего дома пересылочной тюрьмы. Обыкновенно во время работы что-нибудь читалось вслух. Помню, как И.С. Аксаков однажды читал отрывки из только что написанной им поэмы «Бродяга»: «Приди ты, немощный, приди ты, радостный, звонят ко всенощной, к молитве благостной…» Читал он нараспев, немного в нос, кадансируя и подражая благовесту. В эту тюрьму, называемую Колымажным двором, вследствие того что там помещались когда-то колымаги, то есть экипажи паря Алексея Михайловича, наша мать имела постоянный доступ и оказывала отходящим в Сибирь и звенящим кандалами и с наполовину обритыми головами каторжанам материальную и духовную помощь. Вместе с ней работала очаровательная старушка монахиня мать Маргарита из Вознесенского монастыря, находившегося в Кремле, который был также от нас недалеко. На месте Колымажного двора выстроен был впоследствии музей императора Александра III. Мы все детство с матерью посещали кремлевские старинные церкви, особенно прелестную церковь Спаса на Бору, а на Страстной неделе кремлевские соборы с их уставными богослужениями и чудным синодальным хором. На Святой заутрене мы бывали в дворцовой церкви Рождества Богородицы возле старинной Грановитой палаты, откуда смотрели на кишащую народом сначала темную соборную площадь, а затем, когда в полночь раздавался гулкий удар в колокол на Иване Великом, на который сразу откликались звоны сорока сороков московских церквей и вся площадь заполнялась огоньками тысяч зажженных свечей, – на гирлянды крестных ходов вокруг соборов и многочисленных замоскворецких церквей. Наша мать воспитывалась в строго религиозной православной семье, но с некоторым протестантским уклоном, идущим от одной из наших прабабок – графини Келлер, создательницы благотворительных полумонашеских городских и деревенских женских общин. По переселении в Москву наша мать вошла целиком в московскую церковно-православную жизнь и посещала, часто вместе с нами, богослужения некоторых священников, например известного тогда своим красноречием о. Ключарева, впоследствии харьковского епископа Амвросия. Особенно близки мы были с умным и сердечным о. Иоанном Иванцовым-Платоновым, нашим духовником, профессором Московского университета и настоятелем церкви Александровского военного училища. Припоминается его чтение 12 Евангелий, когда он и сам и многие из стоящих рядом юнкеров, и из многочисленной публики плакали.
После разных бонн и гувернеров, главным образом прибалтийских немцев, у нас много лет был гувернером коренной москвич, очень образованный и пропитанный славянофильской идеологией П.И. Шаповалов.
Лет до девяти ходили мы в русских рубашках, а зимой в тулупчиках и меховых шапках. Летом мы ездили в наше родовое подмосковное майоратное имение Волынщина, Рузского уезда. Там стены комнат нижнего этажа старинного дома были увешаны портретами наших предков по долгоруковской линии, исполненными большей частью известными французскими портретистами. В доме и на дворе были выставлены отличия и военные трофеи наших предков. А в приусадебной церкви, находящейся возле самого дома, возвышались их грандиозные надгробные памятники, начиная со сподвижника Екатерины князя В.М. Долгорукова-Крымского. В Волынщине мы играли с крестьянскими мальчиками, по будням в бабки, а по воскресеньям устраивали сражения со штурмом двух враждующих крепостей, устроенных на обрывах находящегося в парке оврага. Осенью мы обыкновенно ездили в подмосковное имение нашего деда Орлова-Давыдова Отрада, Серпуховского уезда. Там в огромном дворце екатерининских времен были плафоны, изображающие морские победы графа Орлова-Чесменского, разные фамильные реликвии и в семейном склепе могилы пяти братьев графов Орловых. Дедушка граф Владимир Петрович Орлов-Давыдов воспитывался в Оксфордском университете и был англоманом не только по воззрениям и привычкам, но и по наружности. Читал постоянно огромные листы Times. Он был хорошим хозяином и одним из крупнейших русских землевладельцев. В сороковых годах он подавал императору Николаю I записку о желательности освобождения крестьян от крепостной зависимости, но по английскому образу, то есть в качестве безземельных арендаторов. За эту записку его было предложено выехать на несколько лет из России.
Тринадцати лет я поступил в находящуюся близ нашего дома 1-ю Московскую классическую гимназию, где раньше учился и наш старший брат, в то время уже студент историко-филологического факультета. Он находился под влиянием славянофильского течения, дружил, как и мы, с младшим поколением Самариных и во время Русско-турецкой войны, будучи студентом 1-го курса, поехал с товарищем своим по гимназии и университету П.Н. Милюковым санитаром в московский лазарет на Кавказском фронте. Брат же Павел не захотел изучать классических языков и поступил в очень хорошую частную реальную гимназию Фидлера. И надо сказать, что он ничего не потерял, не поступив в казенную классическую гимназию, которая незадолго перед тем претерпела реформу министра графа Д.А. Толстого, заключавшуюся, между прочим, в том, что из ее программы было исключено совсем естествознание.
Между тем брат имел тяготение как раз к естественным наукам. Для того чтобы иметь возможность поступить в университет на естественный факультет, он по окончании реального училища подготовился в течение года к сдаче экзамена зрелости, занимаясь древними языками с двумя отличными преподавателями славившейся тогда в Москве частной гимназии Поливанова Никольским и Колосовым. Они оба были русские, в отличие от большинства преподавателей древних языков – чехов, наводнивших тогда казенные гимназии. В большинстве премилые люди, чехи, однако, придерживались немецкого схоластического и грамматического метода преподавания в ущерб ознакомлению учащихся с красотами античной культуры. Эта так называемая «гимнастика ума» должна была дисциплинировать мозги молодежи и заглушать в ней вольнодумство.
В университете мы – 18-летние юноши, после смерти матери и отъезда отца на постоянное житье в имение, – очутились на полной свободе, обладая притом достаточными средствами. Это повлияло отчасти на то, что мы отдали, может быть, слишком много нашего времени на 1-м курсе традиционному московскому студенческому буршеству с его Татьяниными днями, «Стрельнами,» «Ярами», цыганскими хорами и тройками. Это был первый год только что введенного нового университетского устава, долженствовавшего также дисциплинировать молодежь при помощи инспекторов, педелей, форменных тужурок, мундиров и шпаг. Но молодежь продолжала бурлить, и студенческие истории стали еще чаще, с закрытием на некоторое время университета, с пощечиной инспектору Брызгалову на студенческом концерте в Благородном собрании, с шумными и многолюдными студенческими сходками, с загоном студентов казаками в находившийся против университета экзерциргауз (манеж) и с избиением студентов мясниками Охотного ряда, находившегося также около университета. Мы с братом держались в стороне от студенческого движения и были скорее зрителями или свидетелями его. И хотя нам претили нововведения нового университетского устава, но нам противна и жалка была и разъяренная распропагандированная студенческая толпа с большой примесью нестуденческого элемента, пользующегося ею как пушечным мясом. И как понятно нам было то, порою очень острое раздражение против студенческой толпы, которое позже, почти через двадцать лет, испытывал первый, со времени введения нового устава, выборный ректор Московского университета, князь С.Н. Трубецкой, жизнь свою положивший за университет и его автономию в борьбе с тупой революционностью снизу и реакцией сверху. Помню, как однажды бывший в наше время попечителем Московского учебного округа граф Капнист вызывал к себе нас с братом наряду с некоторыми другими студентами для выяснения причин беспорядков. Вряд ли из этих достаточно-таки бесплодных разговоров удалось ему что-либо выяснить. Да, пожалуй, и нам самим тогда не вполне была понятна природа парившей среди нас неурядицы. Если, очевидно, и была идущая извне пропаганда, преследующая на почве академических беспорядков свои политические цели, то она находила почву среди зеленой, восприимчивой и экспансивной молодежи, как это бывает всегда, когда отцы не могут в нормальных условиях заниматься политикой, критикой и легальной оппозицией и быть, что называется, «оппозицией его величества», а не «его величеству». А например, в Англии студенты занимаются учением и между прочим подготовлением к серьезному занятию политикой посредством практики в ораторском искусстве, устройства показательных парламентских заседаний и т. п. Свободное же время и избыток молодых сил они употребляют на гребной и другие виды спорта. Мы с братом из области спорта увлекались только что появившимися тогда английскими велосипедами с большим передним колесом и маленьким задним.
В учебном отношении естественный факультет, в отличие от историко-филологического, на который поступил я, почти не потерпел от введения нового университетского устава. Состав профессоров был очень хорош. Особенно славился тогда профессор ботаники Тимирязев. На старших курсах брат сосредоточился главным образом на занятиях по зоологии, по преимуществу у приват-доцента Мензбира, а также у профессора Богданова и специально у профессора Зографа по ихтиологии. Под руководством последнего он основал на Анофриевском озере, находящемся вблизи от нашего подмосковного имения, научную ихтиологическую станцию, функционировавшую до самой большевистской революции. Не знаю, функционирует ли она и теперь. И самые последние шаги брата на родине, перед оставлением ее с врангелевской эвакуацией из Севастополя, случайно связаны с ихтиологией, так как вследствие царившей тогда в Севастополе жилищной тесноты он ютился в сыром нежилом помещении научной морской ихтиологической станции, находящейся близ Графской пристани, откуда отчаливали все отходившие суда и катера. Из нашей студенческой жизни вспоминается одна наша проделка. Пользуясь нашим сходством, я дважды на протяжении одной недели держал экзамен по богословию, один раз за себя, другой за брата – у протоиерея Сергиевского, читавшего свой курс для студентов всех факультетов, одинаково почти не посещавших его лекций. Он не только никогда никого не проваливал на экзаменах, но даже не ставил отметки ниже четверки тем, которые почти ничего не могли ответить.
В студенческие годы мы с братом в летние каникулы предприняли несколько поездок для изучения России. Так, мы ездили на пароходе по Волге, по лесистой Каме и по живописной быстрой Чусовой, а потом по железной дороге через Урал в Екатеринбург, где в то время была промышленная выставка. Из Екатеринбурга мы ездили на Тагильский и Исетский металлургические заводы и любовались чудными уральскими лесами. Во время этой поездки мы тоже выкинули одну студенческую проделку. Вскоре по отходе парохода из Нижнего нас, юнцов с еле пробивающимися бородками, пригласили какие-то типы играть в винт «по крупной». Увидев это, буфетчик сжалился над нами, отозвал одного из нас и шепнул, что это известная шайка пароходных шулеров. В винт они нам проиграли более 300 рублей, может быть нарочно, и потом старались вовлечь нас в азартную игру, но мы после полученного предупреждения забастовали и таким образом перехитрили шулеров. В Казани вся эта компания поодиночке вышла, причем один, имевший южный тип, надел большие темные очки. Однажды летом мы отправились на Кавказ. (Нижеследующее описание поездки через Главный Кавказский хребет я привожу по случайно сохранившемуся у меня моему черновому наброску, сделанному для писавшейся тогда истории Нижегородского драгунского полка.) Находясь на Минеральных Водах, мы сошлись с офицерами этого полка. Командир его князь Васильчиков предложил нам принять участие в качестве «военных корреспондентов» в военной поездке 15 офицеров и 75 нижних чинов. Мы должны были пройти из Кисловодска в Сухум с перевалом через Главный хребет по первобытным вьючным тропам для рекогносцировочного исследования, в целях проложения шоссейной дороги на Сухум через Главный хребет. За десять лет до этого, во время Русско-турецкой войны, Сухум, лежащий на побережном шоссе и окруженный горами, подвергся обстрелу турецких судов и, не имея путей сообщения внутрь страны, был отрезан от подвоза снарядов, войсковых подкреплений и провианта. Тогда еще не было Военно-Сухумского шоссе, для проведения коего впоследствии, вероятно, воспользовались исследованиями нашей экспедиции. Мы купили двух верховых лошадей и одну вьючную. Отряд сопровождал известный тифлисский фотограф Ермаков с несколькими фотографическими аппаратами. На одной из вьючных лошадей везли заряды с пироксилином для взрыва непроходимых скал. С нами ехал проводником пожилой отставной полковник-осетин в черкеске и папахе, на муле, знавший эту часть Кавказа. По мере продвижения мы брали еще местных проводников. Путь до Сухума продолжался десять дней. Сначала мы ехали по недурным каменистым проселочным дорогам холмистого предгорья чрез осетинские аулы. При приближении к Главному хребту горные кряжи поднимались все выше, а в глубине долин журчали быстрые потоки. На вершинах лесистых гор стали попадаться развалины старинных православных церквей и монастырей особого кавказского стиля. Начал чувствоваться Лермонтов. Переправившись вброд чрез верховье Кубани, на которой стоял сравнительно большой аул с остатками Тибердинского укрепления, мы вошли в узкую долину ее горного притока реки Тиберды. Селений больше не встречалось. Сначала изредка попадались отдельные жилища, а затем лишь шалаши пастухов, пасших коз и овец. По мере того как мы поднимались на Главный хребет, природа становилась все суровее. Дремучий и высокий лес с поваленными могучими гниющими стволами и вывороченными корнями стал редеть, мельчать, перешел в низкий кустарник и наконец совсем исчез. Ночевали мы под открытым небом, кутаясь в бурки, зажигая костры, пока был лес. Небольшой запас сучьев для согревания чая мы везли последние два дня с собой. По мере того как мы поднимались, воздух все свежел. Вдалеке, в горных складках, стал виднеться снег. Плохая и узкая проселочная дорога перешла в тропу, по которой мы большею частью шли пешком, ведя в поводу лошадей и перескакивая с камня на камень. И только наш проводник невозмутимо ехал на своем муле, почти не слезая с него. Наша тропа то шла вниз по ущелью вдоль клокочущего и заглушающего человеческий голос потока, то круто поднималась, иногда зигзагами, на большую высоту, и тогда мы пробирались по узкому карнизу между отвесной скалой и крутым обрывом, на дне которого еле виднелся поток, казавшийся бесшумным ручейком. В нескольких местах для расширения пешеходной тропы или для устранения слишком больших камней приходилось прибегать к пироксилину. В одном месте сорвалась вьючная лошадь фотографа с одним из аппаратов и с частью негативов, и мы видели, как она летела в пропасть, перевернувшись несколько раз в воздухе. Альбом сохранившихся чудных видов, вероятно, пропал при разгроме нашего имения большевиками.
Взятая нами провизия стала истощаться, осталось лишь несколько бурдюков кахетинского вина. И вот, наткнувшись на последнюю стоянку пастухов, многие из нас, как солдаты, так и офицеры, бросились доить коз, а кроме того, запасаться козьим сыром и кукурузными лепешками. Дальше и травы не стало, и мы шли по голым скалам, порою скользким от налетавших ливней или от тающего снега. Поражала полная тишина и отсутствие шума деревьев или птичьего щебетания. Наконец мы вступили в область вечного снега. Мы шли то по довольно широкому снеговому полю горного кряжа, то сравнительно узким ущельем, утопающим в глубоком снегу и с блестящими ледяными сосульками на выдающихся скалах. Порою приходилось пробивать путь в снегу и льду лопатами и кирками, раз проделали туннель в большом снежном обвале. 14 июля мы достигли самого высокого пункта Клухорского перевала около 9600 футов высоты, с небольшим Тибердинским озером, из которого среди снегов и под снеговыми туннелями водопадом низвергалась река Тиберда. По озеру плавали льдины. При ослепительном солнце снег не таял. Со времени вступления в область снегов большинство офицеров надевало для предохранения глаз дымчатые очки, а солдаты по старому кавказскому обычаю обводили глаза темно-серыми кругами пороха, что придавало им какой-то трагический и устрашающий, театральный вид. Это будто бы притягивало к себе, а от глаз рассеивало ослепляющие солнечные лучи. При продолжающейся мертвой тишине, при ясной солнечной погоде и при отсутствии какой бы то ни было растительности в пейзаже были лишь три очень определенные краски: белый сверкающий снег, обнаженные части скал, кажущихся от снегового контраста черными, и темное-темное синее небо. Невольно вспоминались строки из «Мцыри»: «Небесный свод так чист, что ангела полет прилежный взор следить бы мог, он так прозрачно был глубок, так полон ровной синевой!» К этим основным трем цветам присоединялся здесь темно-изумрудный цвет прозрачной воды глубокого Тибердинского озера. После короткого привала мы тронулись по довольно длинной снежной котловине и затем стали спускаться на южный склон Главного хребта вдоль верховья Цебельдинского потока, прорывающегося среди массы снега и снеговых глетчеров и обвалов. Те же путевые трудности, что и при подъеме, только по мере спуска и усиления действия солнечных лучей ноги людей и лошадей стали то скользить по мокрым скалам, то тонуть в рыхлом снегу. Скоро снега прекратились, стала появляться растительность, но уже совсем другая, более яркая, буйная и разнообразная, с массой вьющегося плюща и каких-то других лиан. В зелени деревьев щебетало много птиц с ярким оперением. Через несколько часов, ниже, мы прошли через остатки деревни, покинутой, судя по развалинам минарета, магометанским населением. Большинство населения этого края, девять лет тому назад, после Русско-турецкой войны, ушло в Турцию. В запущенных садах были спелые плоды слив, персиков и грозди зреющего уже винограда, которые мы срывали, не слезая с лошадей. Ночевали мы уже в небольшой абхазской деревне, откуда на следующий день пошли более отлогой проселочной дорогой для двухколесных арб, запряженных большею частью рогатым скотом. Шли мы целый день, спускаясь среди буйной и казавшейся нам тропической растительности, большая часть которой была вечнозеленая. Но край был опустевший, и не только от последствий войны и вероисповедных разногласий, но и от другого бича этого, казалось бы, земного рая: массы мошкары и зловредных комаров – распространителей губительной малярии, называемой здесь сухумской лихорадкой. Несколько человек нашей экспедиции заболело этой изнурительной болезнью, и двое офицеров впоследствии даже умерло. Идя по долине все той же речки, мы вышли наконец к берегу Черного моря и, поднявшись немного на север по шоссе, вошли в Сухум, носивший еще следы разрушения от обстрела с морских судов в 1876 году. Из Сухума мы совершили поездку в расположенный на берегу моря Ново-Афонский монастырь, произведший на нас благоприятное впечатление своей культурной хозяйственной деятельностью и, между прочим, замечательным фруктовым садом, достигшим в десятилетний срок удивительных размеров. После нескольких дней отдыха в Сухуме экспедиция двинулась в обратный путь, но уже другим маршрутом для исследования удобопроходимости другого перевала. Мы распростились с нашими военными друзьями и продали им наших трех лошадей, которые им заменили погибших или пострадавших в походе. На обратном пути мы посетили Батум, Абас-Туман и Тифлис. В Тифлисе мы накупили восточных ковров, подушек и разного оружия, украшавших потом кабинет моего брата в нашем московском доме. Из Тифлиса мы поехали до Владикавказа по Военно-Грузинской дороге, на которой тогда еще не было автомобилей и по зигзагам и крутым поворотам горного шоссе лихо неслись перекладные почтовые тройки, содержимые богатой татаркой. По окончании нами университета в 1889 году я поступил вольноопределяющимся в Нижегородский драгунский полк, знакомый нам по сухумской экспедиции, а брат был освобожден от воинской повинности, так как одним глазом почти ничего не видел вследствие отложения сетчатки, случившейся у него неизвестно по какой причине. Для определения болезни его положили почему-то на несколько дней в военный госпиталь и одели даже в казенное белье и халат.
Глава 2 Общественная и политическая деятельность до 1918 года
По настоянию отца, происходившего из петербургской придворной семьи и бывшего в молодости кавалергардом, брат по окончании университета поступил чиновником в Государственную канцелярию при Государственном совете, чтобы следовать, таким образом, традициям служилого дворянства. Это был привилегированный рассадник и первая ступень для будущих петербургских чиновников и сановников. Прослужил он там недолго, кажется, не более одного или полутора года, и, выйдя в отставку, переехал в Москву, в наше родовое подмосковное имение Волынщина Рузского уезда.
В 1891 году нам обоим пришлось работать по борьбе с разразившимся тогда самарским голодом. Я пробыл в разных местах Самарской губернии до весны, заведуя продовольственно-санитарными отрядами, оборудованными на частные средства, а брат в самой Самаре до лета 1892 года. Он принимал участие совместно с его предшественником по предводительству в Рузском уезде Московской губернии князем А.Г. Щербатовым и с нашим родственником князем А.А. Ливеном, предводителем дворянства в Бронницком уезде Московской губернии, в заведовании работами по возведению и укреплению огромной дамбы при впадении реки Самары в Волгу. Главным уполномоченным по «голодным» работам всего Волжского района был генерал Анненков, известный своими оросительными сооружениями в пустынях Средней Азии. Не знаю, насколько технически самарская дамба была целесообразно задумана и исполнена и достигла ли она намеченной цели – урегулировать устье реки Самары, но главная цель заключалась в том, чтобы дать голодающему народу заработок вместо деморализующей иногда даровой помощи. В нескольких местах губернии были организованы более мелкие и простые работы, как, например, заготовка лесных материалов или выравнивание снежных ухабов на транспортных дорогах, по которым шло огромное количество продовольственных обозов. Работы эти давали заработок нескольким десяткам тысяч голодающих.
Вскоре после работы по самарскому голоду мой брат стал принимать участие в земских и дворянских рузских уездных и московских губернских выборах и собраниях. В Москве он жил в своей квартире в половине сводчатого нижнего этажа нашего московского дома, а в Волынщине поселился в одном из четырех одноэтажных полукруглых флигелей, стоящих кругом двора этой старинной усадьбы екатерининских времен. Отец занимал другой флигель, а на лето переходил в большой дом. Волынщина находилась в шести верстах от г. Рузы, на живописных берегах реки Озерны, вытекающей из Анофриевского озера и впадающей в реку Рузу, приток Москвы-реки. В конце зимы брат стал ежегодно до самой мировой войны ездить за границу, главным образом в Италию, а оттуда в Париж с заездом в Монако, где кроме рулетки интересовался и богатейшей океанографической станцией. Затем целый ряд лет мы сравнительно мало виделись с братом, так как я поселился в своем имении в Курской губернии, стал там хозяйничать и втянулся в земскую работу. Только на Рождество и на Пасху съезжались мы к старику отцу в Волынщину. Так что в следующий десятилетний период до начала земских съездов у меня сохранилось мало воспоминаний о жизни и деятельности Павла Дмитриевича.
После ухода князя Щербатова из предводителей дворянства Рузского уезда на эту должность был избран мой брат, пробывший в ней пять трехлетий. Он купил у своего предшественника деревянный дом в Рузе, в котором принимал по установившемуся обычаю членов земских собраний, судебных съездов и т. п. Там же он устраивал совещания учителей и учительниц начальных школ. Тогда злободневным вопросом была выработка школьных сетей для достижения всеобщего обучения. Ввиду расселения большинства сельского населения Московской губернии небольшими деревнями, иногда на большом расстоянии от школы, много внимания в Рузском уезде уделялось, особенно на время распутиц и снежных заносов, устройству ночлегов при школах с так называемыми приварками теплой пищи, а также налаживанию очередных подвод для подвоза детей из отдаленных деревень. Брат принимал ближайшее участие в работе и Московского губернского земства и близко сошелся с выдающимся земским деятелем, председателем Московской губернской земской управы Д.Н. Шиповым и с некоторыми его ближайшими сотрудниками как по выборам, так и из так называемого третьего элемента. Мне не привелось быть на московских губернских земских собраниях, но мне передавали, что брат не отличался красноречием и не претендовал на него, но все его выступления носили деловой и искренний характер. Впоследствии же его общественно-политические выступления, большею частью сжатые и краткие, отличались конкретностью и силою убеждения. Главная же его работа в губернском земстве была в разных закрытых комиссиях.
Позже, когда он был уже председателем Центрального комитета партии Народной свободы, кто-то пустил про него довольно злую шутку: Lieder ohne Worte (Песня без слов), над которой он сам добродушно смеялся. Мне передал один очевидец сцену на Московском дворянском собрании, произведшую на него большое впечатление. Обсуждался вопрос об исключении из Дворянского собрания Ф.Ф. Кокошкина за его участие в подписании Выборгского воззвания. Павел Дмитриевич хладнокровно читал по карандашному наброску свою речь в его защиту, не обращая внимания на неблагоприятное для него настроение собрания, резко враждебного в отношении Ф.Ф. Кокошкина, на собрании не присутствовавшего. Но когда кто-то позволил себе грубую реплику, касавшуюся Милюкова, Павел Дмитриевич вдруг вскипел, стукнул кулаком по столу и заявил, что недостойно так выражаться о лице, ничем не запятнанном, хотя и находящемся в другом политическом лагере, чем оратор. Бедный Павел Дмитриевич не предвидел, как ему впоследствии, уже в эмиграции, придется разойтись с Милюковым по программным и особенно по тактическим вопросам. У него, впрочем, политические разногласия не переходили в личную неприязнь.
В самом начале XX столетия брат принимал деятельное участие в организации учительских обществ и союзов. Так, он председательствовал на I съезде учительских обществ взаимопомощи, происходившем в Москве на рождественских каникулах 1902—1903 годов. Во время своего предводительства брат мой получил придворное звание камергера.
Одновременно с общественною деятельностью Павел Дмитриевич стал заниматься и своими хозяйственными делами, причем показал себя достаточно практичным и предприимчивым хозяином. Главным образом он развил в наших имениях лесное хозяйство, особенно в большом лесном имении на севере Костромской и на юге Вологодской губернии в уездах Чухломском и Галичском. Имение это было запущено, далеко от железных дорог, и в нем издавна хозяйничали крестьяне, отпущенные на оброк, а дешевый лесной материал, продаваемый за бесценок, сплавлялся по реке Костроме. Брат построил большой лесопильный завод с выделкой паркета и некоторых других деревянных изделий. Особенно поднялась ценность этого имения при прохождении близ него вновь выстроенной Петербургско-Вятской железной дороги. Доходы с него шли главным образом на содержание дачи-богадельни на Охте у Петербурга, в которой содержалось около 15 старых наших фамильных служащих пенсионеров. Заведовал и привел ее в порядок также мой брат. В Волоколамском уезде, верстах в 30 от Волынщины, он приобрел близ строящейся Московско-Виндавской железной дороги большое лесное имение, из которого доставлял в Москву дрова и в котором построил также лесопильный завод. Уже будучи в эмиграции, он написал из Белграда письмо в Times, напечатанное там 5 октября 1923 года и перепечатанное в «Руле» от 12 октября, в котором он протестует по поводу появившегося в английской торговой газете перечня лесного материала в России, годного для отправки в Англию. Среди перечисленных там 26 лесных складов указан и его лесопильный завод в Костромской губернии с готовым материалом на 600 тысяч золотых рублей. В своем письме он заявлял, что при постройке завода он под него сделал в банке долг, который он или его наследники должны будут со временем заплатить. В конце письма он обращался к известной честности и порядочности англичан в торговых делах и предостерегал от покупки награбленного имущества.
В своей деревенской жизни брат отдавал дань некоторым традиционным помещичьим занятиям. Так, он завел в Волынщине охоту с гончими, а во время моих приездов туда на Пасху мы увлекались поэтической весенней охотой – тягой вальдшнепов и тетеревиным током. Затем он завел недурную конюшню, состоящую из нескольких рысаков и троек, бравших призы на немудреных бегах, устроенных им в Рузе во время своего предводительства. В девяностых же годах брат принимал ближайшее участие в зарождении и деятельности Московского Художественного театра, занявшего столь видное место в тогдашней жизни Москвы и в русском театральном деле вообще. Он состоял и пайщиком этого акционерного предприятия. Там он сошелся и с такими интересными лицами, как Вл. И. Немирович-Данченко, артисты Станиславский, Качалов, Москвин и др., а также встречался с Чеховым, Горьким, Леонидом Андреевым. Привлек его к этому театру наш родственник А.А. Стахович, бывший адъютант великого князя Сергея Александровича в бытность его московским генерал-губернатором. Большой театрал, Стахович впоследствии, уже будучи генералом, выступал в небольших ролях на сцене этого театра. Во время господства в Москве большевиков он, будучи и раньше очень нервным, стал всего опасаться и между прочим боялся, когда Павел Дмитриевич, скрывавшийся тогда от большевиков по разным квартирам, посещал его поздно вечером. После того как пришли реквизировать его квартиру, он так расстроился, что повесился на дверной ручке. Может быть, через семейство Стаховичей, близких к графу Льву Толстому, брат познакомился с ним и его семьей. Изредка он бывал у Толстых в их доме в Хамовническом переулке, а раз как-то зимой ездил в Ясную Поляну для открытия там по поручению Московского общества грамотности народной библиотеки. Существует фотография, как по глубокому снегу гуськом идут Толстой, мой брат и Александра Львовна, все в тулупах и меховых шапках.
Особое место в деятельности брата занимало его участие в пацифистском движении. И странное дело! Увлечение этой идеей явилось у нас обоих одновременно, несмотря на то что мы в продолжение довольно долгого времени перед этим не видались. Так как мы оба получили некоторые аналогичные побуждения извне, то в данном случае это явление можно объяснить случайностью, но зарождение одновременно одинаковых мыслей и желаний еще с детства наблюдалось у нас довольно часто; это будто бывает вообще нередко у близнецов. Неизвестно, действуют ли тут какие-то неисследованные флюиды, или, может быть, у близнецов вместе с внешним сходством бывают иногда и одинаковые нервы или мозг, расположенные к тождественным восприятиям и проявлениям. В начале девяностых годов я прочел нашумевший тогда и переведенный на все языки пацифистский роман баронессы Берты Зутнер «Долой оружие!», который произвел на меня такое впечатление, что я, будучи в Вене, счел нужным познакомиться с жившей там авторшей романа и расспрашивал ее о формах и достижениях пацифистского движения в разных странах. А брат, будучи почти в то же время в Париже, познакомился там с некоторыми сторонниками пацифизма, из которых один, Пуанкаре, посетил его через некоторое время в Москве. Съехавшись, по обыкновению, на Рождество в деревне, мы решили попытаться заложить пацифистское общество в России. Затем в Москве мы образовали инициативную группу, в которую кроме нас двоих вошли еще двое: профессор международного права граф Комаровский и профессор психологии Абрикосов из семьи известных фабрикантов кондитерских изделий. Выработанный устав общества мы представили в Петербург на утверждение. В этом уставе, в отличие от учения некоторых сект и отчасти Льва Толстого, было сказано, что целью общества является лишь пропаганда идей разрешения международных конфликтов мирным способом и соответствующее воздействие на законодателей, а не сопротивление существующим законам и не отказ от исполнения воинской повинности, пока таковая существует. В Петербурге мы встретили сочувственный прием у архиепископа Финляндского Антония, впоследствии митрополита Петербургского, известного широтою своих взглядов. Я надеялся, что он или примкнет к инициативной группе, или хотя бы в одной своей проповеди или статье выскажет свое сочувствие, чтобы духовенство, молящееся о мире всего мира, примкнуло к этому движению. Но он нам объяснил, что при тогдашнем положении русской церкви ничего не может предпринять в этом направлении, пока этого не одобрит Синод и его обер-прокурор, а эти последние должны руководствоваться взглядами на этот предмет правительства. Менее сочувственный прием встретили мы в Министерстве внутренних дел, от которого, собственно, зависело утверждение устава. Приблизительно через полгода мы получили письменное уведомление, что министр внутренних дел признает возбуждение этого вопроса преждевременным. Вскоре после этого император Николай II предложил образовать международный трибунал для рассмотрения и разрешения международных конфликтов, и в Гааге был основан Дворец мира. Таким образом, при бывшем тогда в России авторитарно-бюрократическом строе для подобного дела не было признано нужным допустить содействие общественного мнения, а дело было двинуто сверху посредством правительственного и дипломатического аппарата. Но Гаагский трибунал, по замыслу заслуживающий всякого сочувствия, расцвел пышным, но кратковременным, пустоцветом, и, может быть, именно потому, что оказался преждевременным без достаточной подготовки общественного мнения всех стран. А бедному инициатору его суждено было вести две кровопролитные, неудачные войны, приведшие к гибели и династию, и Россию. Через несколько лет моему брату удалось-таки основать в Москве небольшое Общество мира, не успевшее, однако, развить своей деятельности, так как его пришлось закрыть при возникновении мировой войны. В выпущенном им, как председателем этого общества, по этому поводу воззвании он призывал всех к исполнению своих гражданских повинностей, раз война объявлена, но, писал он, «ничто не может изменить идеологии, являющейся частью духа известного человеческого типа; придет время, когда гуманитарная идея, сила всечеловеческих чувств, стремящихся к солидарности народов, начнет побеждать». Против царившего одно время увлечения милитаризацией детей, посредством организации «отрядов потешных», этой игрой в солдатики, брат напечатал в газете «Утро России» (2 ноября 1910 года) статью, в которой между прочим писал: «Не надо приучать ребенка к убийству человека; пусть уже взрослый исполняет свой тяжелый долг. Некоторые говорят, что это печальная необходимость, что надо приучать детей к борьбе с внешними врагами. Но неужели, чтобы бороться с внутренней смутой, надо играть в потешную казнь, покупать игрушечную виселицу?» Далее он приводит желательный пример организуемых в Канаде юношеских пожарных дружин, воспитывающих в молодежи дисциплину, отвагу и в то же время хорошие чувства. В начале столетия Павел Дмитриевич участвовал и даже председательствовал на мировом пацифистском конгрессе в Стокгольме. К сожалению, у меня не сохранилось текста его выступлений на этом конгрессе. Будучи идеологом пацифистского движения, он, однако, во время и японской, и Великой войны был уполномоченным по отрядам Красного Креста, причем в последнюю состоял во главе санитарного отряда Всероссийского союза городов на Галицийском фронте в армии генерала Радко-Дмитриева. Этот последний незадолго перед тем, как был со многими другими расстрелян большевиками в Пятигорске, рассказывал, как он вместе с моим братом обходил передовые позиции под Тарновом, недалеко от Кракова, обстреливаемые тяжелыми снарядами из дальнобойных германских орудий, называемых «Бертами», и удивлялся, что, когда при звуке летящего снаряда все, даже самые храбрые военные, невольно нагибались, брат стоял на самом виду как ни в чем не бывало. Может быть, здесь не было подвига храбрости, а просто какое-то физическое свойство отсутствия страха. Другие свидетели говорили, что только двое, стоявшие рядом, не нагибались: он и Радко-Дмитриев. Во время борьбы в Москве с большевиками в 1917 году мой брат все время был в обстреливаемом Александровском училище, находящемся около нашего дома, и там всячески поддерживал героев-юнкеров, с оружием в руках погибавших в неравной борьбе. Затем он проделал у генералов Деникина и Врангеля всю Кавказскую и Крымскую кампанию Белого противобольшевистского движения, усиленно работая и словом, и пером, и личным примером поддерживая героическую духом, но слабую числом и материально Добровольческую армию. При новороссийской катастрофе мой брат, будучи уже пожилым человеком, до последней минуты носился по отступающим частям Белой армии и убеждал не складывать оружия и биться до конца, пока наконец один французский офицер не убедил его, ввиду угрожающей опасности, сесть на отходивший катер. Вот что говорится про эти дни в книге В.Х. Даватца и Н.Н. Львова «Русская армия на чужбине»: «Когда слышались разговоры вроде того, что кадетизм несколько испортил свое лицо, вспоминался старый князь в отрепанной одежде, на дырявом диване, в тесной промерзлой каморке, где-то в закоулках Новороссийска. Норд-ост врывался ураганом в каменную яму, куда были брошены люди. Сыпной тиф вырывал то одного, то другого из близких людей. Разнузданные солдаты, посланные отогнать зеленых в горы, перебили своих офицеров и ушли в горы. На вокзале площадная ругань и драки между пьяными офицерами. А старый князь все с тем же упорством настаивает, что нужно идти в Крым и биться до конца».
Наконец, уже за рубежом, он, начиная с Константинополя, состоял в Русском совете при генерале Врангеле, ездил в Галлиполи, где сошелся с генералом Кутеповым, продолжал состоять членом Русского совета и в Белграде, а по отъезде оттуда генерала Врангеля переехал в Париж. Там он резко разошелся с прежним своим соратником по Конституционно-демократической партии П.Н. Милюковым, и не столько вследствие вызванного так называемой неотактикой распада партии, сколько вследствие его недоброжелательного отношения к остаткам Добровольческой армии. Но вот какую газетную заметку написал мой брат в 1923 году в Белграде, то есть в самый разгар его работы при остатках Добровольческой армии за рубежом и после всего пережитого им с этой армией на юге России и в Галлиполи. Заметка эта переведена на французский язык и предназначалась, очевидно, для помещения в иностранных газетах, но неизвестно, удалось ли это осуществить. «После потрясений войны человечество в смятении. Но это временно. Человечество нельзя вогнать в тупик, и мысль человеческая, сама природа человека пробьется в конце концов. В исторической перспективе человечество медленно, но неуклонно движется вперед. В это не только надо верить, но надо и работать в этом направлении. Вера без дел мертва. Я, лишенный Родины, испытывающий превратности беженства, верю в прогресс человечества, даже после такого смятения, таких потрясений, безумия и преступления, как мировая война. Необходимо подчинять частное общему, политические страсти, законы человеческие подчинять высшим, вечным законам истины и справедливости. В частности, необходимо моральное осуждение всеми цивилизованными народами и подавление ими воинствующего социализма, коммунизма и очага его – русского большевизма. Без уничтожения этого очага насилия и регресса мира на земле быть не может и эволюция человечества задерживается. А при дальнейшей эволюции человечества культурные национальные единицы дадут сочетание, в котором международные границы утратят теперешнее их политическое значение и угрозу миру. Необходимо здоровое национальное развитие государств. Я, убежденный пацифист (но отнюдь не антимилитарист), полагаю, что после кровопролитных войн, когда и победителям не сладко, проповедь пацифизма плодотворна. Но, считаясь с современной государственностью, с современным человечеством с его тысячелетними навыками и пережитками, пацифизм должен быть строго эволюционный, без всяких ломок и нивелировок, ведущих к большевизму и регрессу».
Царствование императора Николая II с самого начала прошло в нарастании общественного движения против начавшегося в царствование Александра III усиления бюрократическо-авторитарного строя с ежегодно возобновляемым положением об усиленной охране и с урезыванием Великих реформ императора Александра П. Роковое разделение русских, по выражению, кажется, министра Кривошеина, на «мы» и «они», то есть на бюрократию и земщину, становилось все резче. К первой справа примыкали реакционно-черносотенные круги, а ко второй слева радикально-революционные. В центре находились элементы, которые могли бы быть связью между правительством и обществом, но при всем желании продуктивно работать и быть полезными оставались как бы между двумя стульями, как это часто бывает с умеренными элементами во время обостренной борьбы крайностей. Достаточно упомянуть фамилии нескольких лиц, которые и по своим убеждениям, и по социальному положению при правовом строе были бы просвещенными, но отнюдь не черносотенными и не реакционными консерваторами. По выражению, кажется, князя Вяземского, современника Пушкина, возрожденному ныне П.Б. Струве, «они были бы либеральными консерваторами». В условиях же тогдашнего режима они не смогли свои гражданские и патриотические чувства и устремления применять к работе в государственном аппарате и быть посредниками между «мы» и «они» при постепенном «спуске на тормозах» существовавшего строя. Они могли бы быть этими полезными тормозами, своего рода необходимыми, задерживающими центрами и для прогрессивных течений. В описываемое же время они вместо строительной и созидательной работы были отброшены или в общественное небытие, или же в ряды оппозиции. Вот некоторые имена: профессор Б.Н. Чичерин, бывший в самом начале восьмидесятых годов XIX столетия московским городским головой и от этой должности устраненный, затем в начале XX столетия князь С.Н. Трубецкой, бывший ректором Московского университета, и кратковременные: обер-прокурор Синода А.Д. Самарин и два министра внутренних дел – князь П.Д. Святополк-Мирский и князь Н.Б. Щербатов. Со всеми ними связывали нас или личные знакомства, или дружба наших семей. Мы и многие наши приятели, работавшие по преимуществу в земстве в качестве предводителей и председателей земских управ, чувствовали, что земское самоуправление, уездное и губернское, есть, как тогда говорили, здание без фундамента (мелкая земская единица и всесословная волость) и без крыши (земский собор). И при этом тогда, то есть в девяностых годах прошлого столетия, подход к этому вопросу был не столько политический, сколько деловой. Чувствовалась необходимость обмена мнений и информации по разным вопросам земского хозяйства, получившего тогда значительное развитие. Естественно, что мысль о необходимости иногда съезжаться возникла в Москве, и не только от того, что там, как в центре России, сходились 10 железных дорог, но и потому, что многие земцы приезжали в Московское губернское земство, богатое и составом деятелей, и средствами, получаемыми с обложения города Москвы, знакомиться с некоторыми образцово поставленными сторонами земского хозяйства. И вот мы: брат мой – предводитель дворянства Рузского уезда и я – председатель Суджанской уездной земской управы Курской губернии, в самом начале этого столетия как-то случайно, без определенно созданного плана, с двумя тоже общественными деятелями: ярославским земцем князем Д. И. Шаховским и звенигородским уездным предводителем дворянства Московской губернии графом Павлом С. Шереметевым – образовали инициативную группу, которая понемногу «обросла» еще несколькими близкими нам столичными и провинциальными общественными деятелями, которые решили съезжаться в Москву раза два или три в год, чтобы сговариваться насчет более успешного ведения некоторых отраслей земского хозяйства. Через год нас было уже более двадцати человек. Вот их перечень: граф В.А. Бобринский – председатель Богородицкой уездной земской управы Тульской губернии, князь Н.С. Волконский – председатель Рязанской губернской земской управы, граф П. А. Гейден – предводитель дворянства Опочевского уезда Псковской губернии, Ф.А. Головин – член Московской губернской земской управы, впоследствии председатель 2-й Государственной думы, князья Павел и Петр Долгоруковы, М.Д. Ершов – земец Богородицкого уезда Тульской губернии, Ф.Ф. Кокошкин – член Московской губернской земской управы, впоследствии член Учредительного собрания, убитый большевиками в петербургской тюремной больнице, князь Г.Е. Львов – председатель Тульской губернской земской управы, впоследствии глава Временного правительства, Н.Н. Львов – председатель Саратовской губернской земской управы, В.А. Маклаков – привлеченный к кружку в качестве секретаря, А.А. Муханов – черниговский губернский предводитель дворянства, Ю.А. Новосильцев – предводитель дворянства Темниковского уезда Тамбовской губернии, граф Д.А. Олсуфьев – предводитель дворянства Камышинского уезда Саратовской губернии, граф М.А. Олсуфьев – председатель Дмитровской уездной земской управы Московской губернии, В.М. Петрово-Соловово – земец Тамбовской губернии, Р. А. Писарев – земец Тульской губернии, А.А. Свечин – председатель Черниговской губернской земской управы, А.А. Стахович – предводитель дворянства Елецкого уезда Орловской губернии, М.А. Стахович – орловский губернский предводитель дворянства, Н.А. Хомяков – земец Смоленской губернии, впоследствии председатель 3-й Государственной думы, М.В. Челноков – член Московской губернской земской управы, впоследствии городской голова г. Москвы, князь Д.И. Шаховской, граф Павел С. Шереметев, Д.Н. Шипов – председатель Московской губернской земской управы, Н.А. Шишков – земец Самарской губернии. (В.М. Петрово-Соловово и Ю.А. Новосильцев, оба женатые на дочерях князя А.А. Щербатова, бывшего московского городского головы, были учениками и последователями Б.Н. Чичерина, принимавшего также участие в земстве Тамбовской губернии. Позже в московском особняке Новосильцева, унаследованном им от князя Щербатова, происходили иногда земско-городские съезды. На третьей дочери князя Щербатова был женат князь Е.Н. Трубецкой, так же как и его брат Сергей Николаевич – профессор-философ и талантливый публицист.) Потом число участников было более 30.
Никакого устава наш кружок не имел, и задачи его не были формально определены. Было лишь установлено: новых членов принимать по единогласному выбору записками. Ко времени написания этих строк, то есть в 1941 году, большинства членов этого кружка уже не было в живых. В России были живы, насколько известно, лишь Ф.А. Головин, князь Д.И. Шаховской и граф П.С. Шереметев, а в эмиграции – В.А. Маклаков и я. Название кружку было дано «Беседа», и решено было так же назвать и издательство сборников на общественные темы. По мере нарастания оппозиционного политического настроения в стране, и в частности в земстве и в «Беседе», все более стало выявляться конституционное течение. Желательный строй его для России рисовался нам конституционно-монархическим. Кружок был отчасти зародышем земских съездов, а большинство его вошло в Конституционно-демократическую, или кадетскую, то есть К.-Д., партию, она же партия Народной свободы, а несколько членов в более правую партию «мирного обновления», лидерами коей в 1-й Государственной думе были граф П.А. Гейден и М.А. Стахович. Самым правым членом кружка можно считать Д.Н. Шипова, большого идеалиста, придерживавшегося славянофильской идеологии единения царя – помазанника Божия – с народом посредством совещательного народного представительства. По своему темпераменту и по своим политическим убеждениям он был человеком очень умеренным и выделялся главным образом как выдающийся земский работник. Но тем не менее он был впоследствии устранен министром Плеве из председателей Московской губернской управы. Некоторые члены «Беседы» вошли перед образованием Конституционно-демократической партии в коалиционную организацию «Освобождение». В этой организации члены «Беседы» и будущие конституционалисты составляли ее правое крыло, а она коалировала и с более радикальными группировками республиканцев и правых социалистов (как, например, фабианцев, народных социалистов и т. п.), добивавшихся социальных реформ мирным, конституционным путем. Из видных земских деятелей и будущих основателей, как Союза освобождения, так и Конституционно-демократической партии, в «Беседу» не вошли, например, такие лица, как И.И. Петрункевич и В.Е. Якушин, внук декабриста, хотя и близкие многим из нас, но слишком радикально настроенные по отношению к средней ее линии. После образования политических группировок и партий «Беседу» в некоторых кругах стали шутливо называть «палатой лордов». И в самом деле, в ее состав входили почти исключительно представители дворянства, родовой аристократии и крупного землевладения. Но сословно-эгоистического и реакционного духа западных аграриев в ней не было. «Беседа», как и образовавшиеся потом конституционные партии, была завершением того стремления русской интеллигенции всего XIX столетия увидеть в России правовой строй и представительный образ правления, которое началось с декабристов и даже ранее. И роковым несчастьем для России было то, что введение этого строя запоздало и пришло не данное добровольно сверху, а добытое требованиями снизу. Будь эта коренная реформа дана раньше, быть может, многих бед Россия могла бы миновать. И виною этому были и верхи, не сумевшие вовремя и смело пойти на политические реформы и уступки, и низы, революционно и террористически действовавшие и приведшие к роковым катастрофам 1825 и 1881 годов, повлекшим за собой такие же роковые реакции и задержки.
«Беседа», после того как она сыграла известную роль хотя бы в некоторых слоях, в смысле оформления политических настроений и партий, просуществовала до 1905 года и за последние два года своего существования продолжала главным образом издательское дело. Один перечень заглавий изданных ею сборников уже рисует отчасти характер ее деятельности. Надо сказать, что эти сборники имели у публики большой успех и имели также, надо полагать, известное воспитательное влияние на тогдашнее общество. Успешному выполнению своих задач наше издательство было обязано удачному объединению в нем практических земских деятелей, так сказать, голоса земли, с живой и энергичной редакцией недавно народившегося тогда в Петербурге юридического журнала «Право», состоящей из выдающихся молодых ученых юристов-теоретиков В.М. и И.В. Гессенов, Набокова, Петражицкого, Лазаревского. По мере нарастания прогрессивно-политических настроений этот поначалу специально юридический орган приобрел и политическое значение и имел большое распространение. При помощи редакционно-издательского опыта вышеупомянутых лиц, ведших журнал «Право», «Беседа» издала несколько сборников, из которых некоторые были в два тома. Первый сборник носил название «Мелкая земская единица». Для нахождения авторитетных авторов статей, главным образом профессоров, в эту эпоху реакции, не могущих преподавать в русских университетах, пришлось мне объехать чуть ли не пол-Европы. Для описания местного самоуправления в Германии был приглашен известный берлинский корреспондент «Русских ведомостей» Г.Б. Иоллос, впоследствии член 1-й Государственной думы, убитый крайними правыми, профессор Эрисман – для Швейцарии, профессор М.М. Ковалевский – для Франции, П.Г. Виноградов, тогда профессор Кембриджского университета, – для Англии. Историю местного самоуправления в допетровской Руси вместо уезжавшего тогда для чтения лекций в Америку П.Н. Милюкова пришлось поручить инспектору одного из московских женских институтов, молодому историку М.Н. Покровскому, давшему нам очень дельную статью без всякой марксистской подкладки, позже социал-демократу и не доброй памяти комиссару народного просвещения большевистского правительства. Затем были еще изданы сборники «Нужды деревни», «Аграрный вопрос». Подготовлен к изданию был сборник «Общественное призрение в России и в других странах». Последним появился сборник «Государственный строй европейских стран». Редактором сборника «Аграрный вопрос» и автором его основной статьи был приглашен М.Я. Герценштейн, домовладелец особняка в Гранатном переулке в интеллигентско-дворянском квартале Москвы, ученый экономист и в то же время финансовый деятель-практик. Как политик, он вошел потом в Конституционно-демократическую партию и, принадлежа к ее правому крылу, был одним из главных авторов ее аграрной программы. Вскоре после роспуска 1-й Государственной думы, в которую он вошел депутатом от Москвы по настоянию Павла Дмитриевича, уступившего ему, как специалисту по первостепенному для России земельному вопросу, свою выдвинутую партией кандидатуру, он был убит темными личностями, подосланными крайне правыми организациями. Вскоре после него был убит и Г.Б. Иоллос, его друг детства. По своей природе и убеждениям они оба были мирные, культурные и умеренные прогрессивные люди буржуазного толка. После их смерти была воспроизведена трогательная их фотографическая группа, когда они были 17-летними приятелями-гимназистами Одесской гимназии. Может быть, не без влияния на их трагическую судьбу было то, что они оба по происхождению были евреями.
Кажется, в 1904 году стал выходить в Москве маленькими синенькими книжками небольшой политический журнал «Московский еженедельник», издаваемый и редактируемый братьями князьями С.Н. и Е.Н. Трубецкими. В каких-то совещаниях по этому изданию, не помню, организационных или программно-редакционных, принимали участие и мы с братом.
В политической организации «Освобождение» мой брат принимал ближайшее участие в так называемой группе А (так как вся организация была разбита на маленькие группы, рассеянные по столицам и по всей России). Группа А находилась в Москве и отчасти исполняла вместе с одной петербургской группой функции Центрального комитета. В состав ее входили кроме нас двоих князь Д.И. Шаховской и профессора П.И. Новгородцев, В.И. Вернадский и С.А. Котляревский. Официальным органом этой организации, как известно, был журнал того же наименования, издававшийся сначала в Штутгарте, а затем в Париже эмигрировавшим тогда П.Б. Струве. Мой брат был в числе основателей и членов центральных комитетов как Союза освобождения, так и Конституционно-демократической партии. Он был патриотом последней, настаивая, как это видно и по его воспоминаниям, на сохранении ее уже в эмиграции, когда партия стала распадаться, и упорно называл происшедший в ней раскол, произведенный главным образом Милюковым, отколом. И хотя не следует преувеличивать удельного веса эмиграции вообще, но, разумеется, значение русской так называемой политической эмиграции могло бы быть больше и ее роль активнее, если бы в ней удалось создать сплоченное национальное государственное коалиционное ядро, оставив роскошь политических оттенков и разногласий, и то в минимальных пределах, до времени возвращения к реальной политике на родине в связи с существующими там силами и настроениями.
Во время Русско-японской войны брат ездил на Дальний Восток во главе пяти санитарных отрядов. Я мало знаю про этот период деятельности брата. У меня не сохранилось о нем письменного материала, и рассказов брата о его работе во время Русско-японской войны я также не припоминаю. Во-первых, мы мало в то время виделись, а затем главное наше внимание было поглощено нарастающими общественными настроениями внутри страны. Меня выписала тогда в Петербург наша родственница графиня. Е.В. Шувалова, снаряжавшая на свой счет санитарный отряд на Дальний Восток и предложившая мне стать во главе его. Но я отклонил это предложение, предпочтя продолжать мою работу в качестве председателя земской управы. На такое решение, очевидно, повлияло то, что эта несчастная война, долженствовавшая завершить естественный рост и Drang nach Osten России, но легкомысленно и несвоевременно вызванная предпринимательской авантюрой небольшой клики петербургских дельцов и проведенная без достаточной подготовки и осведомленности, не создала в стране достаточного подъема.
Про земско-городские съезды и их роль в политической жизни России того времени достаточно писалось. Упомяну лишь про участие в них моего брата и про некоторые характерные эпизоды. Брат все время был деятельным членом организационного комитета, часто председателем съездов и предоставлял для большинства заседаний бельэтаж нашего московского дома. Эти съезды, доходившие под конец до 200 человек и более, подобно предшествовавшим совещаниям «Беседы», хотя официально и не зарегистрировались, но не были конспиративными и имели организационно-инициативный орган. Про них говорилось на земских собраниях, писалось в газетах, на них съезжались лица, совсем между собой незнакомые. В одной из комнат был расставлен большой стол с продажей политической легальной литературы, главным образом сборников «Беседы» и многочисленных ростовских брошюр Парамонова. Продавались и некоторые иностранные сочинения по государственному праву. В другой комнате был платный буфет с чаем и закусками. Некоторые заседания сняты на фотографиях, между прочим, на одной из них изображена группа участников съезда, снятых на балконе. На другой фотографии снят момент, когда председательствовавший тогда брат, стоя, что-то говорит. На третьей – когда в зал заседания явился полицеймейстер Носков, стоящий около председателя и предлагающий собранию разойтись, а В.А. Маклаков что-то горячо возражает и жестикулирует. На одном из этих заседаний выдвинулась и позднейшая кандидатура в председатели Государственной думы С.А. Муромцева. Обыкновенно президиум сидел вместе с организационным комитетом за длинным столом на одном уровне со всем залом. Иногда, особенно при неопытных председательствующих, многолюдные собрания принимали несколько хаотический характер. Когда председательствующим был намечен С.А. Муромцев, то он, невзирая на нетерпеливость некоторых из участников съезда, торопившихся кто по делам, кто на поезд, потребовал, чтобы для председателя было устроено возвышение. Прошло минут двадцать, пока бегали в дворницкую и по сараям, достали несколько пустых ящиков, чем-то их покрыли и водворили на них кресло и столик председателя. И вот на этом подиуме возвысилась величавая фигура Муромцева, который тихим голосом и неторопливой, но внушительной манерой говорить так овладел собранием, что без всяких с его стороны внешних проявлений власти, напоминаний или звонков можно было слышать, как муха пролетит, и все голосования и резолюции проходили быстро и в полном порядке. При обсуждении вопроса об автономии Польши на земско-городском съезде в начале сентября 1905 года Павел Дмитриевич сказал следующее: «Для меня польский вопрос не есть только вопрос политический, но является и моральной проблемой, и делом народной совести России. Не вижу возможности половинчатого решения вопроса. Единственный выход, на котором можно согласиться, – есть восстановление независимой Польши».
Для того времени подобное заявление даже для прогрессивной среды являлось очень смелым.
Брат был также участником депутации (в июле 1905 года), посланной земско-городским съездом к государю, к которому князь С.Н. Трубецкой обратился со своей замечательной речью, умолявшей его, не опираясь на отдельные сословия, внять голосу всей страны и провести некоторые необходимые реформы, которые дали бы возможность царю вместе с народом мирно вести страну по пути преуспеяния. Я хотя и был тоже избран в эту депутацию, но не поехал, предугадывая бесплодность этого шага ввиду слабоволия бедного государя и ежедневного давления на него его ближайшего окружения в противообщественном направлении. И хотя мой прогноз, к несчастью, отчасти оправдался, но с тактической и политической стороны поведение брата в данном случае было правильнее. Надо было, хотя бы для очищения нашей совести, людям в нашем положении сделать все шаги, хотя бы кажущиеся почти безнадежными, для достижения мирного разрешения надвигавшегося кризиса. Как известно, жизнь пошла по иному пути. Разразилась всеобщая забастовка, реформа была вынужденной, и только после этого созваны были «лучшие люди», как назвал в своей приветственной речи в Зимнем дворце государь прибывших в Петербург членов 1-й Государственной думы.
Последним многолюдным собранием земско-городских съездов было, кажется, то, которое происходило в октябре 1905 года во время всеобщей политической забастовки в темной Москве без газа и электричества. В большой зале нашего дома, еле освещенной несколькими свечами и керосиновыми лампами, в первом часу ночи царило нервное выжидательное настроение. Вдруг в залу вбегает, запыхавшись, сотрудник «Русских ведомостей» А.Н. Максимов и громко заявляет, что только что восстановлена телефонная связь с Петербургом и получено сообщение, что дана конституция. И к концу его слов, как будто по нарочитому мановению какого-то театрального «начальника эффектов», в зале вдруг засветились все электрические люстры и канделябры. Поднялся гром голосов, председательствующий прокричал несколько слов и с трудом немного успокоил собрание. Последовало несколько кратких речей, и почти все направились в литературно-художественный кружок, тогдашний центр общественной и артистической Москвы.
В 1906 году при выборах депутатов в 1-ю Государственную думу брат, как выше было сказано, снял свою кандидатуру, выдвинутую Московским городским комитетом, в пользу М.Я. Герценштейна. Сейчас же после выборной кампании в 1-ю Государственную думу, задержавшей его ежегодную весеннюю поездку за границу, брат на этот раз поехал лишь на две недели и, как обычно, в Италию и затем через Ривьеру в Париж, где пробыл всего четыре дня. Здесь он встретился с В.А. Маклаковым, прямо приехавшим в Париж тоже после московских выборов. Тут они сделались жертвой неправильных слухов, будто они оба, и даже от лица Конституционно-демократической партии, противодействовали заключавшемуся в Париже русскому правительственному займу накануне созыва Государственной думы. Эти слухи затем расширились в Петербурге и сделались предметом не только случайно возникающих сплетен и пересудов, но отчасти и злостных нападок со стороны противников партии справа и слева по мотивам прямо противоположным. Правые обвиняли кадетов в противогосударственных действиях, а левые в недостаточной оппозиционности. Я считаю нужным остановиться на выяснении этого вопроса более подробно, так как он, несмотря на его давность, имеет и некоторый исторический интерес, давая в свое время врагам К.-д. партии возможность обвинять ее в негосударственности. И этими слухами были введены в заблуждение некоторые авторитетные люди, оперировавшие неверными сведениями уже в эмигрантской печати и тем их закрепившие. Я же, кроме того, считаю своим долгом выступить в защиту моего брата, так как он сам этого не делал, когда это были лишь слухи и сплетни, а когда они получили закрепление в печати, его уже не было в живых. Вот что пишет В.А. Маклаков в своей статье «Из прошлого» в № 66 «Современных записок» о легенде кадетского противодействия займу 1906 года: «В свое время об этом было много рассказов неточных и фантастических. Зная, что он ни в чем не повинен, Долгоруков равнодушно и даже насмешливо слушал, какую напраслину на него распускают, не спорил и никому не отвечал. А между тем он еще до поездки своей за границу председательствовал на московском заседании Центрального комитета К.-д. партии, на котором было решено отнестись отрицательно к предложению более радикальных группировок участвовать в кампании против займа».
Брат случайно ехал в одном поезде с Маклаковым до Варшавы. Вот что последний пишет в вышеупомянутой статье: «Мы расстались в Варшаве. Долгоруков собирался позднее приехать в Париж, и я оставил ему свой адрес. Разговора о займе у нас с ним не было. Мы собирались отдыхать от всякой политики… Тут (в Париже) мне сообщили, насколько здешняя эмиграция поглощена вопросом о займе; что образовался франко-русский комитет для противодействия займу; что здесь все удивляются, почему кадеты в этом вопросе стоят в стороне».
Затем В. А. Маклаков рассказывает, как этот комитет настаивал, чтобы он посетил министра финансов Пуанкаре, вместе с членом комитета Жильяром. Когда же он отказывался вследствие отрицательного отношения его партии к участию в агитации против займа и вследствие хотя бы того, что время для такой агитации пропущено, ибо заем тогда уже был заключен и уже печатались заемные листы, то они уверяли, будто французам важно познакомиться с приехавшим из России членом партии, только что победившей при выборах в Государственную думу. Маклаков, однако, колебался, тем более что Жильяр внезапно уехал из Парижа и ему пришлось бы ехать на назначенный прием одному. Но как раз в тот день, когда было назначено посещение Пуанкаре, к нему неожиданно входит только что приехавший в Париж Павел Дмитриевич, раньше знавший Пуанкаре по пацифистским конгрессам, который даже посетил брата в свою бытность в Москве. Брат согласился на просьбу Маклакова поехать к Пуанкаре. Визит их был короток, и Пуанкаре удивил их неожиданным для них сообщением, что Совет министров решил поставить условием, чтобы получаемые по займу деньги могли расходоваться лишь с разрешения Государственной думы. Это, собственно, было понятно само собой, так как воспользоваться займом до созыва Государственной думы нельзя было успеть. Но понятен был интерес, который проявляли члены французского правительства к членам либеральной партии, которая будет составлять большинство Думы, тогда как до сих пор во Франции знали больше радикальную и революционную русскую эмиграцию обыкновенно социалистического направления. В этом же убеждает и бывший перед тем у Маклакова длинный и интересный разговор с тогдашним министром внутренних дел Клемансо, который касался всевозможных политических тем и менее всего вопроса о займе. Из слов, сказанных Клемансо, что теперь, когда заем уже заключен, не имеет смысла агитировать против его реализации, можно было заключить, что тогдашняя русская эмиграция обращалась к нему с таким предложением. В. А. Маклаков пишет: «Жильяр (член франко-русского комитета) за два или три дня до отъезда из Парижа пришел с новым предложением. Так как правительство (французское) решение уже приняло, то с этой стороны нечего было делать. Но комитет задумал обращение к обществу путем воззвания в газетах и расклейки афиш. Нас Жильяр спрашивал, согласны ли мы присоединиться к воззванию и дать наши подписи не от себя лично, а от партии. А если мы не захотим подписать общее с комитетом воззвание, то согласимся ли написать его отдельно. Конечно, мы не хотели».
Между прочим Клемансо сказал: «Банкиры сумеют всучить его (заем) публике. Я сам советовал своей прислуге подписаться на этот заем. Не может же всякий консьерж по поводу займа делать политику».
Есть основание думать, что представителям франко-русского комитета удалось проникнуть не только к Клемансо и Пуанкаре, но и к президенту республики Фальеру. В.А. Маклаков не отрицает, что члены К.-д. партии, как, вероятно, и многие русские, интересующиеся политикой, жалели, что заключение займа не было отложено до созыва Думы. После того как в беседе с Клемансо о займе было сказано лишь несколько слов, разговор касался других интересующих обе стороны вопросов и часть его передана в вышеупомянутой статье Маклакова.
Насколько неверные слухи о противодействии в Париже заключению займа со стороны Маклакова и брата были распространены, свидетельствует то, что даже такое лицо, как тогдашний лидер Конституционно-демократической партии П.Н. Милюков, который, казалось бы, должен был знать дела партии и имел собственноручно написанное объяснение брата, поверил этим слухам. Тем более простительно, что этим укоренившимся слухам поверило и еще более напутало такое лицо, как Эрио, который в середине тридцатых годов в палате заявил, что русские либералы, как, например, Милюков, грозили в свое время непризнанием займа. Вполне понятно, что Эрио в этом давнишнем и чужом деле не слишком разбирался и не делал различия между теми или другими представителями кадетской партии и членами франко-русского комитета. Ведь даже П.Н. Милюков вот что пишет через тридцать лет после описываемых событий в своей статье «Русские либералы и заем 1906 года», в «Последних новостях» от 5 марта 1936 года: «Мне пришлось ответить г. Эрио печатно, что ни я, ни партия Народной свободы не вели подобной пропаганды, но, напротив, партия дезавуировала (как позже будет видно из слов профессора Н.И. Кареева, такого факта дезавуации никогда не было. – П. Д.) некоторых своих членов, когда были получены сведения, оказавшиеся, как увидим дальше, неверными, что эти члены агитируют в Париже против признания займа. Я пояснил в интервью, данном газете Liberte, что речь идет о двух членах партии: покойном Павле Дмитриевиче Долгорукове, расстрелянном впоследствии большевиками, и В.А. Маклакове. Должен признать, что и сам я до последнего времени разделял мнение, что такая пропаганда с угрозой неплатежа действительно велась обоими этими членами в Париже. Но теперь появились подробные объяснения В.А. Маклакова (в только что вышедшей книжке «Современных записок»), и мне удалось найти в моих старых бумагах краткое, но точное и обстоятельное объяснение князя Долгорукова, которое показывает, что я был не прав по отношению к моим партийным товарищам и что они в данном случае вполне разделяли мнение партии». Это откровенное публичное признание П.Н. Милюкова своей ошибки нельзя не оценить как весьма почтенный и честный акт. Лучше поздно, чем никогда. Кстати, приведу здесь дальнейшие строки из той же его статьи, рисующие отношение К.-д. партии к вопросу о дезавуации правительственных займов вообще: «К факту заключения займа перед самым созывом Думы, как к попытке освободиться от ее политическиго воздействия на правительство, мы все относились отрицательно. Но отсюда еще далеко до той заграничной кампании против займа и (буду говорить словами тогдашней моей статьи в «Речи») до тех прямых и формальных угроз банкротством, которых требовали от нас группы более левые. Нечего и говорить, что все толки о каких-то прямых дипломатических переговорах о займе между партиями и иностранными правительствами – толки, так усердно распространявшиеся с целью дискредитировать партию, – есть сплошная ложь и клевета. Я указал тогда же, что требования левых «финансового бойкота» правительства не новы: уже с 9 января 1905 года они обращались сначала к земским и городским съездам, потом к К.-д. партии, но что многочисленные посетители митингов партии Народной свободы должны хорошо помнить ее всегдашнюю аргументацию против непризнания долгов. А затем я формулировал точку зрения партии следующим образом: «Партия всегда считала, что ни одно правительство не может отказаться от исполнения обязательств, принятых на себя предыдущим законным правительством; и как бы высоко ни поднимались волны партийной полемики, эта аксиома политической азбуки не забывалась представителями партии».
И насколько эти слова П.Н. Милюкова по отношению к партии верны, настолько же его тогдашние утверждения о дезавуировании партией В.А. Маклакова и Павла Дмитриевича Долгорукова не соответствуют истине, что видно из напечатанного в сборнике «Право» отчета кадетского съезда в апреле 1906 года, то есть после их заграничной поездки. Председателем съезда предложен был князь Павел Дмитриевич Долгоруков, и Н.И. Кареев от лица Петербургского городского комитета мотивировал это такими словами: «За последнее время это уважаемое имя трепалось, делались попытки облить потоками грязи, мы все очень рады возможности протестовать против этого. Мы должны заявить, что нашим председателем должен быть князь Долгоруков».
Предложение Кареева было принято при общих рукоплесканиях. Если даже Милюков сам был введен и ввел других в заблуждение, то тем более простительно, что такое лицо, как тогдашний министр финансов граф В.Н. Коковцов, ведший в 1906 году в Париже переговоры о займе, стоявший далеко от русских партийных дел и не имевший ни нужды, ни желания в них разбираться, стал жертвою ходивших потом слухов по поводу эпизода, в общем незначительного и для него никакого значения не имеющего. Вот что он пишет на стр. 155 и 156 т. I своих воспоминаний, изданных им уже в эмиграции, более четверти века после событий, им описываемых, и семь лет спустя после смерти брата. Во время посещения им президента республики Фальера последний сказал: «Но вы должны быть готовы к тому, что это (то есть заключение займа. – П. Д.) пройдет не совсем гладко, потому что здесь находятся ваши соотечественники, которые ведут самую энергичную кампанию против заключения займа».
Затем приводится рассказ Фальера, как он, благодаря посредничеству Анатоля Франса, принял русских, которые неожиданно для него заговорили о займе. Имен их он графу Коковцову не назвал.
«Из слов президента республики я понял, что визит к нему был сделан после того, как попытка этих русских людей добиться свидания с министром финансов (Пуанкаре) не увенчалась успехом. Впоследствии имена этих двух лиц стали всем известны: князь П.Д. Долгоруков и граф Нессельроде. В бытность мою в Париже я нигде не встречался с ними, но впоследствии в заседаниях Думы мне не раз приходилось публично выступать по этому поводу, и всякий раз на мое заявление об этом печальном эпизоде со скамей оппозиции неизменно раздавалось: «Опять министр финансов рассказывает басни, которых никогда не было».
Благодаря авторитетности автора этих строк и категоричности его утверждения у читателя получается впечатление, что мой брат был у президента Фальера, и притом после того, как ему не удалось добиться свидания с министром финансов Пуанкаре. А между тем брат был только у последнего и, как выше было сказано, случайно и короткое время и после того, как заем был уже заключен. А на стр. 152 граф Коковцов говорит как раз про Пуанкаре: «Его содействию я обязан главным образом тем, что не уехал из Парижа с пустыми руками».
У президента же Фальера брат совсем не был и свидания с ним не добивался. Надо полагать, что во время посещения графом Коковцовым Фальера брата еще не было в Париже, так как Фальер говорил о могущих встретиться затруднениях для заключения займа, тогда как ко времени приезда брата в Париж заем уже был заключен. После появления воспоминаний графа Коковцова ко мне стали обращаться его читатели, а иногда обращаются и до сих пор, с недоуменным вопросом, каким образом Павел Дмитриевич мог участвовать в таком акте? Было даже несколько случаев, когда лица, думавшие, что это я противодействовал в Париже заключению займа, упрекали меня в этом антигосударственном образе действий. Я должен оговориться, что из чтения воспоминаний графа Коковцова и, главное, из моей с ним переписки я вынес впечатление, что он, по-видимому, с полной добросовестностью отнесся к своему освещению данного эпизода так, как он ему действительно представлялся, и лишь случайно и главным образом благодаря авторитетности своего имени подкрепил циркулировавшие в свое время неверные слухи.
Вот что пишет граф В.Н. Коковцов в своем письме ко мне, написанном 4 сентября 1941 года: «Из страницы 156 (моих воспоминаний) с очевидностью выясняется, что в бытность мою в Париже я не имел никакого понятия о том, кто именно из русских общественных деятелей находился в Париже во время заключения этого займа и кто из них посещал президента республики Фальера».
И далее: «Указывается совершенно определенно, что президент не упомянул мне ни одного имени. Слухи о волнующем Вас событии, конечно, ходили. Из думских кругов они неизбежно переходили в так называемые «кулуары», а из них перекочевывали и в газетные круги».
В. А. Маклаков 6 октября 1941 года пишет графу Коковцову: «Насколько я понимаю, ему (Петру Дмитриевичу Долгорукову) больно, что Вы как будто продолжаете думать, что именно его брат вел кампанию против займа и с этой целью был у Фальера. Ему хотелось бы слышать от Вас, что Вы теперь этого не думаете. В Вашем письме ко мне Вы пишете: «Истинное восстановление истины принадлежит целиком Вам, а вовсе не мне». Если эту фразу можно понять так, что мой рассказ о том, что делал Долгоруков в Париже, считается истиной, которую я восстановил, то это Ваше суждение и было бы для него тем самым успокоением, которое он так хотел получить».
Мне же В.А. Маклаков пишет от 9 октября 1941 года: «Я позволил себе указать графу Коковцову, что если мой рассказ о происходившем в Париже он считает «восстановлением истины», то это было бы для Вас очень дорого, и просил его разрешения сообщить Вам его. На это я получил ответ, который кончается такими словами: «Не разрешите ли мне вернуть Вам всю мою переписку с князем Долгоруковым и просить Вас ответить ему так, как Вы сами наметили в Вашем последнем письме ко мне. Я всецело присоединяюсь и к Вашему объему ответа, и к его формулировке». Рад, что я (то есть В.А. Маклаков), который больше всех виноват в том, что Павел Дмитриевич оказался как бы замешанным в это дело, смог, хотя и поздно, опровергнуть распущенную про него неправду».
В 1907 году брат был выбран от города Москвы во 2-ю Государственную думу, которая собралась в феврале и просуществовала всего 3 х /'г месяца, будучи настроена еще непримиримее к правительству, чем 1-я Дума. Во 2-й Думе Конституционно-демократическая фракция, в которую входил брат, уже не составляла ее большинства, как в 1-й Думе. Усилились левые группы, и появилась партия правых. Вся сессия прошла в непрерывном остром бое между «мы» и «они», то есть между правительством и оппозицией. Особенно бурлили и резко выступали социал-демократы со своими темпераментными кавказскими ораторами и социалисты-революционеры, вместо прежней более неопределенной фракции трудовиков. Мне пришлось быть лишь на одном заседании этой Думы, происходившем в аванзале Таврического дворца, вследствие обвалившегося ночью потолка в зале заседаний. Брат не выступал в Думе с речами; он только вносил несколько раз разные деловые предложения, и по большей части от имени Конституционно-демократической фракции, например о порядке перехода к очередным делам, о проектах резолюций и т. п. Между прочим он говорил по вопросу об отправке приветственной телеграммы Финляндскому сейму. Он вообще не был речист и не претендовал на роль оратора. А для обостренной, часто митинговой атмосферы этой Думы он совсем не подходил. Он по своим наклонностям был, безусловно, политиком в настоящем и буквальном смысле этого слова, происходящего от греческого πολίζ – город, то есть гражданином, государственником, а не тем, что у нас иногда подразумевается под этим словом, а именно политиком, играющим в партийные бирюльки. Нужно оговориться, что политиком у нас можно было быть лишь настолько, насколько русская действительность это позволяла. И нельзя было равняться, например, с такой страной, как Англия, в которой политическая свобода слова завоевана уже давно, где имеются целые династии политиков – государственных деятелей, где в университете преподается ораторское искусство и устраиваются показательные парламентские заседания. А у нас в младенческие годы представительного образа правления политическими ораторами являлись главным образом представители интеллигентских профессий, в которых наиболее приобреталась привычка к публичным выступлениям, как, например, адвокаты, профессора, земские и городские деятели. Вследствие того что представительный образ правления у нас был недавно завоеван снизу, большинство думских ораторов было оппозиционно настроено и к ним примкнули радикальные и в большинстве малокультурные митинговые ораторы левых секторов. У многих наших политиков того времени не могло быть достаточно государственных навыков, а иногда и государственного смысла, вследствие отсутствия у них привычки к ответственной, созидательной государственной работе. Эти навыки, переходившие порой в рутину, были у чиновничества, а требования жизни, проявляющиеся иногда в бурливой форме, у земщины. Рознь между «мы» и «они» в первых Думах не только не уменьшалась, но, напротив, увеличивалась, и отношения обострялись.
К моему брату, по его политической ориентировке, подходило определение «консервативного либерала», то есть определенного и стойкого либерала, но умеряемого достаточным количеством задерживающих центров. Сторонник социальных реформ, он был противником социализма с его классовой борьбой и обобществлением орудий производства. Будучи истинным демократом, опять-таки в правильном смысле этого слова, он не был снобом радикализма, чем грешили у нас некоторые представители буржуазии и промышленности. Он не был ни народником, ни кающимся дворянином, ни толстовцем-опрощенцем. В нем были одновременно с искренним демократизмом некоторые характерные черты русского барина. Очень показателен для его политической физиономии тот факт, что никакого участия не только в подготовке, но и в разговорах о предполагавшемся дворцовом перевороте он не принимал, что видно из книги СП. Мельгунова «На путях к дворцовому перевороту», в которой автор книги отмечает «большое для того времени беспристрастие князя П.Д. Долгорукова».
В начале 1911 года Павлу Дмитриевичу пришлось оставить и должность предводителя дворянства. Так как я в то время жил с семьей почти безвыездно в своем курском имении и почти не видался с братом, то и тогда, вероятно, не знал сути и подробностей, сопровождавших это обстоятельство, а позже, во всяком случае, забыл их. Поэтому привожу в качестве свидетельских показаний письма двух запрошенных мною по этому вопросу лиц уже после смерти брата. Вот что писал мне 21 апреля 1928 года из Сербии покойный М.В. Челноков, бывший московский городской голова: «Против Павла Дмитриевича поход открыл губернатор, привлекши его к ответственности за «превышение власти» по статье, лишающей права участвовать в выборах. Обвинение было нелепое. В Московской губернии во всех уездах всегда крестьяне засыпали семена, а весной их для посева разбирали без разрешения губернского присутствия, а с согласия уездной земской управы и предводителя. Понятно, Павел Дмитриевич следовал общему порядку и разрешал семена разбирать. В Московской губернии хлебные магазины всегда служили только для хранения семян, а продовольственные запасы хранились в процентных бумагах. Поэтому крестьяне, не трогая продовольственных средств, на семена смотрели как на свою собственность и сдавали их в магазин для удобства – на хранение; даже не допускалась мысль, чтобы возможно было отказать в выдаче. Павел Дмитриевич, получив запрос от губернатора, ответил ему, что разобрать семена он разрешил, как делал всегда и как делается испокон веку во всей губернии. В ответ на это последовало привлечение его к ответственности. Уездная земская управа, которая должна была бы разделить ответственность с Павлом Дмитриевичем, была оставлена в покое, так же как двенадцать остальных предводителей и уездных земских управ, поступавших совершенно так же, как Павел Дмитриевич. В этой постыдной истории интересно отношение князя Павла Дмитриевича к своим коллегам по Дворянскому собранию. Князь остался совершенно спокоен, сохранил лично хорошие отношения с предводителями и только иногда над ними иронически подшучивал».
В конце 1940 года я запросил проживающего в Париже нашего знакомого москвича В.Ф. Малинина, не помнит ли он что-нибудь об этом деле. Вот что он мне написал: «По вопросу о вашем брате князе Павле Дмитриевиче могу Вам сообщить, что, будучи членом Московской городской управы от 1907 до 1917 года, я отлично помню свое участие в составе особого присутствия Московской судебной палаты с сословными представителями при разборе дела о Павле Дмитриевиче вместе с несколькими другими лицами по обвинению в сообщничестве по подстрекательству крестьян Рузского уезда к неисполнению ими каких-то обязанностей, каких – точно не помню. Отлично помню, как Павел Дмитриевич отказался от защитника и защищался сам. Князь был признан виновным, наказание же состояло в отчислении от должности предводителя по суду, что по закону лишало Павла Дмитриевича возможности занимать вообще выборные должности. Этого, конечно, и добивались не столько дворяне, сколько правительство. Я, как Вы знаете, будучи не левым, чувствовал искусственность процесса, как способа изъятия Павла Дм. из общественной деятельности, и поэтому остался при особом мнении».
Следствие и дело тянулись очень долго. Начались перед выборами в 3-ю Государственную думу, в которых он, как подследственный, не мог участвовать, и закончились в декабре 1910 года. «Возможно, – добавляет В.Ф. Малинин, – что в связи с этим приговором последовало и лишение придворного чина камергера». Я не имею никаких данных утверждать, чтобы этот приговор с формальной стороны был неправильным. Однако надо иметь в виду, что в общем специально введенный для политических процессов суд с сословными представителями по своей объективности был ниже суда присяжных и более способен поддаваться административному давлению, как и вообще суд времен министра юстиции Щегловитова. А что касается лишения придворного звания, то не надо забывать, что подобной каре подверглись в ту эпоху и такие лица, как черниговский губернский предводитель дворянства А.А. Муханов и В.Д. Набоков, которые, будь в России правовой строй, были бы консерваторами чистейшей воды и вернейшей опорой трона.
Во время Великой войны мы с братом оказались в двух соседних армиях на Галицийском фронте: он в 3-й армии генерала Радко-Дмитриева на Краковском направлении, в качестве начальника санитарного отряда Всероссийского союза городов, а я в 8-й Брусиловской на Перемышльском направлении, призванный в качестве прапорщика запаса армейской кавалерии. Несколько раз до меня доходили похвальные отзывы о деятельности санитарного отряда, действовавшего под его начальством. Раз только съехались мы с ним весной 1915 года на два дня во Львове в военно-тыловой обстановке. Припоминается мне посещение нами нашего хорошего знакомого Н.А. Хомякова, председателя 3-й Государственной думы, в то время главноуполномоченного российского Красного Креста. Помню, с каким интересом он расспрашивал нас, приехавших с фронта, о настроениях армии. Тогда уже началась тревога, связанная с недостатком боевого снаряжения, с огромными нашими потерями и с дрогнувшим уже кое-где настроением наших солдат. О полном развале армии в конце войны и о гражданской войне брат пишет в своем очерке «Великая разруха».
Этот период жизни брата хотя и косвенно, но достаточно ярко изображен в его статье, написанной тогда же, но нигде не напечатанной, воспроизводимой ниже полностью.
Пасха на фронте
«Зимой 1914/15 года передовой отряд Союза городов, коего я был уполномоченным, работал в пяти верстах от фронта (р. Дунаец) в г. Тарнове, в Галиции, при 3-й армии, командиром которой был болгарин генерал Радко-Дмитриев, расстрелянный впоследствии в Пятигорске большевиками. Всю зиму немцы, подкреплявшие австрийский фронт, обстреливали нас из 16-дюймовой «Берты», снаряды которой, почти в рост человека, вырывали воронки сажени в три диаметром, разрушили вместе с вокзалом нашу амбулаторию и, взметая из воронок камни и землю, обсыпали ими нас и раненых, разбивая стекла в окнах.
Мы ездили на фронт, снабжая стоявший там Ровенский полк книгами из Московского общества грамотности, подарками и гостинцами, присылаемыми из России. Офицерам привозили также пиво, солдатам табак.
При многомесячной позиционной в этом месте войне обстрел обыкновенно был вялый. Мы оставляли автомобиль в халупе-штабе, в лощинке, и, идя прорытыми ходами, кое-где перебегая открытое место, раздавали подарки в передовых окопах. С нашего возвышенного берега в бинокль хорошо можно было видеть австрийцев и их окопы на другом, низменном берегу Дунайца. Налево виднелся разрушенный шоссейный мост, а вправо, вдали, мост железной дороги на Краков, одна из ферм которого свисала над рекой. Изредка пропоет на высоких нотах вражеская ружейная пуля.
Иногда же бывал сильный, порой ураганный орудийный огонь, на который мы, за недостатком снарядов, почти не отвечали. Например, когда я привез приехавшего после Пасхи на фронт священника Востокова, я не узнал местности, изрытой воронками. Снаряды ложились по сторонам шоссе, халупа, в которой мы так часто пили чай у ровенцев, была разнесена и догорала. Штаб укрылся в цементной широкой трубе под шоссе, куда поспешили и мы. В этой трубе о. Востоков отслужил краткий пасхальный молебен с «Христос воскресе!». В передовые окопы нас не пустили. И тут во второй линии окопов люди зарылись в них, но снаряды нередко разрушали их. О потерях ничего нельзя было знать, так как телефон был порван.
В этом году наша и заграничная Пасха совпадали. Не полдню, каким образом, но как-то само собой, без инициативы командования, установилось перемирие на первые три дня праздников. Кажется, инициатива исходила от австрийского летчика, сбросившего листки с призывом прекратить стрельбу на три дня.
Приезжаем мы с праздничными подарками и идем христосоваться в передовые окопы. Там, где мы обыкновенно быстро перебегали или шли в ходах согнувшись, идем совершенно спокойно и стоим во весь рост на поверхности окопов.
К Дунайцу, неширокому в этом месте, после обеда начинают подходить наши и австрийские солдаты; моют белье, перекрикиваются.
Я прошу у офицера разрешения тоже пойти к реке. Он колеблется, говорит, что не имеет права разрешить, что это самочинно солдаты ходят и что не отвечает, что установившееся перемирие не нарушится в любой момент. Тогда я решаюсь тоже самочинно спуститься к Дунайцу.
Подхожу к солдатам на берегу. На другом берегу офицер садится и что-то пишет. Солдаты весело перекликаются через реку на разных языках, не понимая друг друга. Да и трудно на расстоянии разобрать слова. Потом офицер, привязав записку к камешку, перебрасывает его мне через реку.
На записке по-немецки написано: «Г. русскому доктору» (у меня на рукаве была повязка Красного Креста). Потом стихи такого содержания: «Мы военные враги, уничтожаем друг друга. В дни великого Праздника пусть мы хоть на несколько дней будем братьями; пусть в эти великие дни замолкнут пушки. Потом мы опять сцепимся в жестоком бою, и под конец – Gott strafe England.[20]
Англия недавно присоединилась к Антанте, и центральные союзники были особенно обозлены на нее. Этот возглас повторялся у них всюду.
Я пишу ответ в прозе; радуюсь тоже, что во время праздника у нас установились человеческие отношения и т. д. Так как он задел наших союзников, то в конце считаю нужным приписать: «Doch Gott strafe Deutschland – истинную виновницу войны». Подписал я полной своей фамилией, как пацифист, председатель Общества мира в Москве, и, завернув в записку камешек, перебросил его.
У наших солдат появилась гармошка. Они поют, приплясывают. Австрийцы не захотели отстать. Видно, как к окопам бежит солдат, и скоро у них появляется чудная гармоника, на которой виртуозно играют венские вальсы…
И эти человеческие отношения, прорывающиеся у врагов среди смертоносной борьбы, как весенняя травка, пробивающаяся среди камней на берегу Дунайца, обнадеживают, что по окончании борьбы оба народа мирно будут жить в добрососедских отношениях и что в конце концов и человечество дойдет до того, что международные споры не будут разрешаться человеческой бойней. Но это, увы (!), еще будет не скоро, и атавизм потребует еще обильные людские гекатомбы.
Но и в будничные дни человеческие отношения чередуются с человеческим озверением.
Между Тарновом и Дунайцем мне пришлось быть в окопах, которые отстоят от австрийских окопов всего на 40—50 саженей и между ними течет ручеек. Ясно слышен простой разговор из вражеских окопов. Днем стоит только высунуть голову, чтобы моментально вас «сняли». А вечером, когда перестрелка кончается, солдаты с обеих сторон ходят к ручью за водой, беседуют, угощают друг друга табаком.
Когда солнце стало склоняться, пришел приказ офицера вернуться от Дунайца за линию окопов, и я вежливо распростился с поэтом и другими офицерами, козырнув друг другу, и все разошлись в разные стороны.
Из халуп на шоссе близ моста высыпали женщины, дети, которые как-то ухитрились в них жить между вражескими окопами под ураганным огнем.
По ту сторону шоссе находился разрушенный дом и исковерканный воронками парк графини Тарновской.
Когда я шел из окопов к автомобилю открытым полем, то осмотрел большое дуплистое дерево, все изрешеченное пулями. За этим деревом мы стояли с Радко-Дмитриевым, когда он, обходя позиции, не захотел идти к окопам через ложбину и траншеями, а пошел напрямик через бугор, и мы были жестоко обстреляны.
Следующие два дня перемирие строго соблюдалось, и я привозил смотреть окопы персонал отряда и сестер милосердия.
Вскоре мы были переведены в Карпаты за Ясло и к Дуклинскому перевалу. В обстреливаемую ураганным огнем Горлицу я мог проникнуть только ночью, когда огонь стихал, но не прекращался.
Через несколько дней здесь произошел горлицкий прорыв нашего фронта, повлекший за собой злополучное галицийское отступление.
Князь Павел Аолгоруков
Май 1915 года»
В начале второй главы своего очерка «Великая разруха» брат рассказывает о посещении им уже после революции казачьей дивизии под командой генерала Краснова. А вот что последний пишет об этом в своем рассказе «На внутреннем фронте» (Архив русской революции, т. I, стр. 97—98):
«10 апреля 1917 года к нам в дивизию приезжал князь Павел Долгоруков, член К.-д. партии. Он смотрел собранную для этого случая Донскую бригаду – 16-й и 17-й Донские полки и сказал весьма патриотическую речь. На речь отвечали я и начальник штаба IV кавалерийского корпуса, генерал-майор Черячукин, а затем один урядник 16-го полка, который от имени казаков клялся, что казачество не положит оружия и будет драться до последнего казака (с немцами), до общего мира в полном согласии с союзниками. Князь Павел Долгоруков ездил со мною в окопы, занятые пластунским дивизионом. Он присутствовал при смене пластунов с боевого участка, видел их жизнь в окопах и был поражен их выправкою, чистотою одежды, молодцеватыми ответами и знанием своего дела. Все это он мне высказал в самой лестной форме и потом задумчиво добавил: «Если бы это было так во всей армии!» – «А что?» – спросил я. Мы на позиции были далеки от жизни. В гости к нам никто не приезжал, письма политики не касались, газеты были старые. Мы верили, что великая бескровная революция прошла, что Временное правительство идет быстрыми шагами к Учредительному собранию, а Учредительное собрание к конституционной монархии с великим князем Михаилом Александровичем во главе.
«Я видел Московский гарнизон, – сказал князь Долгоруков. – Он ужасен. Никакой дисциплины. Солдаты открыто торгуют форменного одеждою и дезертируют. Армия вышла из повиновения. Спасти может только наступление и победа». – «И наступление не спасет, – отвечал я, – потому что такая армия победы не даст».
После свидания во Львове следующий раз мы встретились с братом, и опять-таки на два дня, на Московском государственном совещании в августе 1917 года, на котором я был еще в военной форме. Сидели мы с ним рядом в зале Большого театра, в котором происходили заседания совещания, слушали интересные горячие речи ораторов и чувствовали всю безнадежность положения… На Театральной площади стояли десятки вагонов забастовавшего трамвая. Чувствовалось приближение катастрофы. Принимали мы с братом участие также в соединенном заседании бывших членов четырех Государственных дум, происходившем в здании нашей alma mater.
О жизни Павла Дмитриевича с момента этого нашего свидания в Москве и до следующей встречи уже на юге России я знаю лишь по его рассказам, так как, живя в это время в разных местах, мы с ним не виделись. В дополнение к тому, что он сам рассказывает в «Великой разрухе» о всем им пережитом в это время, приведу лишь выдержку из его очень характерного письма к графине С.В. Паниной по поводу отсутствия представителей К.-д. партии на открытии Учредительного собрания (5 января 1918 года). Письмо это было написано им из Петропавловской крепости 9 января 1918 года. Вот что он между прочим писал в своем письме:
«Пожалуйста, доведите до сведения Петроградского и Московского отделений ЦК, что единственный день, что мне действительно было неприятно быть на запоре, – это 5 января, потому что никто из К.-д. фракции не явился в Учредительное собрание, и я не мог восполнить этот пробел. 6-го на прогулке я сказал об этом А.И. и Ф.Ф. (Андрею Ивановичу Шингареву и Федору Федоровичу Кокошкину. – П. Д.), и они оба нашли также, что это была ошибка. По-моему, следовало бы по крайней мере 2 из петроградских и московских членов Учредительного собрания явиться и постараться от фракции прочесть краткую декларацию из 2 пунктов – по вопросу о суверенной власти Учредительного собрания и по вопросу о мире и восстановлении прочности союзов. Почему никто не явился? Бывают моменты, когда надо дерзать. Тем более что можно было предвидеть, что сессия будет краткая. Всего хорошего. До скорого (?) свидания».
Глава 3 Участие в белом движении и работа для Белой армии за границей
Во время борьбы Добровольческой армии с большевиками мне, заболевшему после войны довольно острой формой сердечной болезни, пришлось лечиться и спасаться от большевиков сначала в Ессентуках и Кисловодске, а затем в Сочи. За все это время мне удалось лишь два дня провести вместе с братом в Екатеринодаре во время пребывания там Ставки генерала Деникина. Павел Дмитриевич был в разгаре своей общественно-политической работы, направленной к поддержке населением армии. Все дни его уходили на писание газетных статей, на разные совещания, публичные заседания и лекции и на переговоры с отдельными лицами, как штатскими, так и военными. Небольшая убогая комнатка его, в которой на диване помещался обыкновенно еще кто-нибудь, была вся завалена кипами газет, листовок, гранок, афиш, карикатур. Все время дверь отворялась и беспрерывно чередовался ряд посетителей, между которыми были и его прежние столичные сотрудники и знакомые. Через день после моего пребывания в Екатеринодаре он должен был ехать на фронт с какой-то специальной миссией. Личные условия жизни Павла Дмитриевича в Екатеринодаре и Ростове были очень тяжелы. Вот что, вспоминая об этом времени, писала в своем письме ко мне от 28 ноября 1941 года из Нью-Йорка графиня С.В. Панина: «…а потом Юг, где он ходил в костюме, сшитом из дерюжного мешка, а сапоги свои шнуровал белыми тесемками. Я помню, как чернилами красила эти тесемки и вечно зашивала дыры его костюма и рубашек…»
В конце февраля 1920 года, уже будучи в Новороссийске, Павел Дмитриевич, как он об этом кратко пишет в своих воспоминаниях, вместе с профессором А.В. Маклецовым и другими создал общество формирования боевых отрядов. Цель общества – пополнение Добровольческой армии. Говоря о настроениях, царивших в Новороссийске перед эвакуацией, начальник так называемого Освага, то есть осведомительно-агитационного отдела Добровольческой армии, профессор К.Н. Соколов пишет в своей книге «Правление ген. Деникина» (стр. 355): «Проще всех смотрел на вещи и бодрее всех держался, конечно, князь П.Д. Долгоруков. У него было очень ясное и твердое решение, несмотря ни на что, идти до конца с Добровольческой армией».
В Феодосии, где брат прожил некоторое время после переезда в Крым, он составил для городской управы проект обращения последней к генералу Врангелю, о чем он пишет в «Великой разрухе», в котором управа говорила о необходимости связи населения с армией и выражала готовность оказывать ей всяческое содействие.
В последний раз в России встретились мы с Павлом Дмитриевичем уже в Севастополе, глубокой осенью 1920 года перед самой врангелевской эвакуацией. Я месяца полтора работал там в Союзе городов, развившем довольно широкую деятельность в привоенных гражданских учреждениях. Жили мы в неотапливаемом помещении морского аквариума, в котором и мыться можно было лишь проведенной туда морской водой. Приблизились последние дни Крыма. Царили неимоверная дороговизна, квартирная теснота, недоедание, очереди. И среди общего смятения планомерно подготовлялась по прозорливой мысли генерала Врангеля, отстаивавшего каждую пядь русской земли, удивительная эвакуация более 100 тысяч чинов армии и гражданского населения на 150 судах, русских и иностранных. Скудно продовольствовались мы в жалких столовых. Семья моя, вывезенная мною с большим трудом из Алушты за неделю до эвакуации, последние две ночи тоже провела со мной в сыром подвальном помещении аквариума, находившегося близ Графской пристани, что, при невозможности достать подводу, было очень важно. Ночью по нашим ногам бегали крысы и кого-то из нас укусили.
Это были дни эвакуационной суматохи, бесконечных верениц обозов к пристани в пять рядов с часовыми остановками, а в последние сутки с большими пожарами складов Красного Креста.
Пребывание моего брата в Севастополе, переезд в Константинополь, жизнь его там и потом в Белграде и Париже описаны в его воспоминаниях, и потому я ограничусь лишь описанием тех немногих отдельных черт или сцен из тогдашней его жизни, свидетелем которых я был и которые могут дополнить его очерк и оживить его образ.
В Константинополе он, очень стесненный в средствах, ютился в маленьких, убого меблированных комнатках узеньких греческих домов, довольно примитивных. Почему-то он часто менял квартиры. Обедал он в русских столовых, а ужинал обыкновенно овечьим сыром и оливками. Однажды он при мне стал было раскладывать привезенный им из России холщовый мешок с теплыми вещами, и из него посыпалась труха изъеденных молью вещей, так что все содержимое пришлось выбросить, по тогдашнему константинопольскому обычаю, прямо на улицу. Но, несмотря на свою бедную эмигрантскую и холостяцкую жизнь, он умел как-то уютно и интимно устраиваться в кругу своих товарищей по службе и по партии или старых московских друзей, а также в семейных домах новых знакомых. Не имея собственной семьи, он родственно относился к моей и, чем мог, материально помогал нам, главным образом обмундированием, получаемым в Константинополе от американцев, а позже из Парижа ношеным платьем некоторых лучше устроившихся наших знакомых и родственников. В Константинополе он баловал моих малолетних детей, угощая их тамошними чудными фруктами и дешевыми восточными сластями. В тогдашнем дореформенном и еще неевропеизированном Константинополе и его окрестностях он отдал дань своим туристическим наклонностям. К этому периоду его жизни относится и прекрасный, очень похожий, написанный женой хирурга И.П. Алексинского Алексинской-Лукиной пастельный портрет брата с трубкой во рту, в коричневой холщовой куртке, кажется выданной американским Красным Крестом, и с бурцевским «Общим делом» в руках. В Константинополе брат продолжал свою гражданскую работу при врангелевской армии и вместе с тем работал в Союзе городов в его культурно-просветительном отделе в городе, в лагерях и на островах. В обеих этих отраслях нам пришлось тогда работать вместе. В это время генерал Врангель, после удачно проведенной эвакуации армии, стремился посредством крупных военных лагерей в Галлиполи, на Лемносе и в Чаталдже сохранить дух армии и оградить ее чинов от хаотического распыления с угрозой для них подвергнуться нужде и опусканию, а с другой стороны, подготовлял план группового расселения с трудовыми и учебными целями. И то и другое ему удалось успешно осуществить. Работа была живая и интересная, но соединенная с многими осложнениями и огорчениями как со стороны не вполне нас понимавших и не всегда к нам дружелюбных иностранцев, так и внутри самой эмиграции. В ней развивалась тогда столь вредная и беспочвенная политическая дифференциация с групповыми препирательствами. Брат мой, неизменный и ярый сторонник идеи единения эмиграции, всеми силами боролся с этим разбродом, впоследствии столь повредившим достоинству и престижу эмиграции, а может быть, и некоторым ее возможным практическим достижениям. В Константинополе у русских еще живо было чувство только что покинутой родины, не остыл еще пыл недавней борьбы с большевиками, и налицо были остатки армии и олицетворяемой ею государственности. А потому возможна была коалиционная работа в таких организациях, как Политический объединенный комитет (так называемый ПОК) и Центральный объединенный комитет (так называемый ЦОК). Последний состоял из представителей Земского союза, Союза городов и российского Красного Креста, занимавшихся просветительной и благотворительной помощью русскому беженству. Благодаря авторитету этого объединения русским в Константинополе и его окрестностях удавалось получать большую и организованную помощь от французов и, главным образом, от американцев. Но уже в Константинополе стал чувствоваться парижский крен части эмиграции налево, а в Белграде направо. И уже там стали проявляться некоторые признаки обыкновенного для всех эмиграции превращения политической эмиграции в обывательскую массу со стремлением к самоустроению по преимуществу и с забвением единого на потребу. И очень может быть, что уже тогда в душу брата начало болезненно проникать разочарование в эмиграции, этом, казалось по идее, наследнике Белого движения.
Как в России он в Белой армии видел единственную противобольшевистскую национальную силу, так и в заграничных ее организованных остатках он видел тот государственный, национальный и надпартийный элемент, который поможет поддержать в эмиграции дух, с тем чтобы со временем чинам армии сообразно с обстоятельствами или идти с оружием в руках на освобождение родины, или, обладая приобретенными знаниями и навыками, быть полезными работниками по воссозданию России. Впоследствии мне галлиполийцы, уже в других странах, рассказывали, какое впечатление производили на них выступления брата во время его приезда на несколько дней в Галлиполи. Ведь он был первым общественным деятелем, посетившим этот лагерь. Тогда некоторые слабые элементы армейских контингентов, тяготившиеся скудостью жизни и строгостью дисциплины, начали покидать Галлиполи и, за исключением некоторых устроившихся, сильных волею индивидуалистов, увеличили собой толпы русских безработных на базарах, на папертях мечетей и в ночлежных благотворительных приютах Константинополя. Стала проникать и идущая из Парижа пропаганда, говорящая, что генералы искусственно и вопреки желанию иностранцев закабаляют воинских чинов в несуществующую армию, что это, мол, какая-то кастовая игра в солдатики и т. п. И поэтому, по словам моих собеседников-галлиполийцев, очень ценно было некоторым начинавшим колебаться услышать авторитетное слово штатского человека, известного общественного деятеля, говорившего убежденно и убедительно о необходимости существования в эмиграции сплоченных сил или организаций как для русского национального дела вообще, так и для самих военных.
Вот что писал Павел Дмитриевич из Галлиполи 24 декабря 1920 года о положении русских воинских частей: «Я думал, что Галлиполи в Турции, и, только приехав сюда, по греческим флагам узнал, что попал за границу и что Галлиполи уступлено Греции. Я вложил персты в зияющие еще раны воспрянувшей армии. По приезде представлю подробный отчет, что здесь пережил и перестрадал, глядя на страдания десятков тысяч русских людей, заброшенных на этот пустынный полуостров и в город, большинство домов которого – развалины после бомбардировки при форсировании Дарданелл и землетрясения. Теперь лишь вкратце пишу, кричу о здешних бедствиях, чтобы и все вы о них кричали, чтобы крик наш был услышан в Константинополе, в Европе, в Америке. Время не ждет, зима в разгаре. Всякое промедление не подобно смерти, а неминуемо есть смерть многих людей».
Затем идет описание яркой картины страшного недостатка во всем: в жилищах, в одежде, обуви, одеялах, в пище, в топливе, в деньгах на мелочные расходы, в медицинской помощи, в банях («Развиваются ревматизм, тифы, цинга»), в газетах, в книгах, руководствах для изучения языков, в словарях.
«Я присутствовал на смотру войск генералом Врангелем. Трогательно было смотреть на стройные дисциплинированные остатки русского войска, выстроившиеся без оружия, в лохмотьях перед своим вождем».
В представленном по возвращении из Константинополя после недельного пребывания в Галлиполи докладе Павел Дмитриевич писал:
«Это военный лагерь, а не беженский. При благоприятных условиях это кадр будущей военной мощи или же сообразно с требованиями времени резерв дисциплинированных и жертвенных работников при воссоздании России. Но, присмотревшись ближе и лично переговорив, мне стало ясно, что при теперешних условиях армия висит на волоске и может легко обратиться в беженцев, в банды, распылиться… После смотра генерал Врангель в палатке долго беседовал с генералитетом и командирами полков. Устранив из палатки прочих офицеров и пригласив меня присутствовать при этой интимной, чисто военной беседе по устройству и заданиям войска в столь тяжелых и необычных условиях, генерал Врангель как бы демонстративно подчеркнул желательность тесной связи войска с общественностью.
Между прочим он говорил, что при реконструкции армии надо более дорожить ее качественным составом, чем количественным, и что известный отбор неизбежен. По окончании беседы генерал Врангель благодарил меня за мой интерес к армии и разрешил мне вести беседы с офицерами по материальным вопросам и общеполитическим и передать им наш взгляд на задачи армии в эмиграции, наши чаяния, прибавив, что он очень сочувствует ознакомлению через меня общественности с положением армии. После выяснения материальных нужд в каждом полку мной велась с офицерами общая политическая беседа. Некоторые полковые командиры сначала в разговоре со мной относились скептически к политической беседе, говоря, что армия должна быть вне политики, но по окончании беседы в государственно-национальном духе они жали мне руку, благодарили и просили вновь приезжать ввиду пользы такой информации и полной неосведомленности войска».
Будучи горячим и убежденным сторонником сохранения армии и призывая общественность к поддержке Галлиполи, брат говорил, однако: «Пусть сомневающиеся, упавшие духом отойдут от армии», считая, что от этого только выиграет единство и духовная целость тех, кто в Галлиполи останется. Свой доклад он заканчивает так: «Нужно постоянное общение между остатками армии и общественными организациями. Надо видеть то внимание, с которым слушали мою информацию, горячие рукопожатия и слезы слушателей, их благодарность, слышать просьбы вновь приехать, массу, в общем, вопросов, которыми они меня забрасывали, и в общих беседах и в частных разговорах, к которым они так стремились. Прием, сделанный мне в Галлиполи генералом Врангелем, штабом корпуса и, наконец, самой армией, свидетельствует о благоприятных условиях для объединения русской общественности с армией, которое должно послужить фундаментом будущей русской государственности».
Через год, в середине декабря 1921 года, брат приветствовал от Русского национального комитета, представленного в Константинополе Политическим объединенным комитетом, проезжавшего с воинскими частями из Галлиполи через Константинополь в Болгарию генерала Кутепова речью, в которой между прочим сказал: «Ровно год тому назад я посетил Галлиполи. Тогда многие здесь говорили: «Армии нет и не может быть». Тогда я, вернувшись, удостоверил: «Армия существует, но висит на волоске. Необходимо ее морально и материально поддержать… Но и при скудной нашей моральной и материальной поддержке вы из тонкого волоска скрутили жгут, прочный канат и не только сохранили, но твердой рукой поставили вверенные вам части на необыкновенную во всех отношениях высоту, высоту национальной армии. Национальный комитет зовет всех русских людей встать на надпартийную национальную высоту для борьбы за Россию, для работы над воссозданием в ней государственности».
Тогда брат мой не мог еще предвидеть, что пребывание русских вне родины затянется надолго и что из двух задач, поставленных генералом Врангелем остаткам русской армии за рубежом: 1) сохранение военных кадров и добровольческого воинского духа дисциплины и жертвенности и 2) групповое расселение на трудовых и учебных началах, с сохранением того же духа, – первая будет отходить на второй план, а вторая приобретет преобладающее значение и так блестяще удастся.
Заложенный в окрестностях Константинополя в русских воинских частях закал помог многим и многим русским людям в эмиграции не опуститься при неблагоприятных беженских условиях и достойно провести годы ожидания возможности вернуться в Россию и плодотворно в ней работать.
Брат и потом постоянно призывал к возможно тесному единению всей эмиграции с остатками армии. В.Х. Даватц («Годы», стр. 37) пишет: «Мы знаем почти трогательное отношение к армии, которое продолжал выявлять частным образом такой крупный деятель кадетской партии, как профессор П. И. Новгородцев; но из видных партийных лидеров только один князь Павел Долгоруков имел мужество открыто встать на ее сторону и в полном смысле этого слова связать себя с ее судьбою».
Особенно необходимость ближе связаться с остатками армии как со стержнем русской национальной идеи в эмиграции Павел Дмитриевич ощутил, когда во время своих поездок в Париж все больше стал разочаровываться в возможности ее самой объединиться. Из Константинополя летом 1921 года он едет в Париж для участия в образовании Русского национального комитета, председателем коего был А.В. Карташов, а деятельным членом М.М. Федоров. В числе товарищей председателя был и Павел Дмитриевич, принимавший потом участие в работах белградского отделения комитета. Одно время он возлагал было надежды на объединительную работу этого комитета и впрягся в нее, но с течением времени, по-видимому, стал в ней разочаровываться.
Начиная с Константинополя и кончая Парижем брат много времени и внимания отдавал политическим задачам русской эмиграции. Он продолжал быть большим патриотом Конституционно-демократической партии и болезненно переживал все бывшие в ее среде разногласия и отколы, но все же в общей противобольшевистской борьбе он умел становиться выше узкопартийных позиций. Характерным в этом отношении является его доклад в заседании константинопольской группы этой партии 24 сентября 1921 года. Из этого доклада, между прочим, выясняется и позиция брата как «непредрешенца» относительно формы правления или, скорее, относительно способа возглавления будущей власти в национальной России, построенной на правовых основах. Надо сказать, что некоторые относились презрительно к термину «непредрешенец». Он же убежденно считал себя таковым, не боялся вообще ходячих жупелов, как, например, будучи либералом, открыто признавал себя сторонником кутеповщины. Вот существенная часть его доклада, касающаяся предложения софийской группы объявить партию стоящей за монархический образ правления, в противовес принятому еще в России решению партии после падения династии объявить себя республиканской, поддержанному в эмиграции новой тактикой Милюкова: «Мы не должны в переживаемое тяжелое время забывать главную нашу задачу: борьбу с большевизмом – и поэтому в настоящий момент ошибочно выдвигать такой сложный программный вопрос, как монархия или республика, который неминуемо приведет к дальнейшему нашему расслоению и ослаблению противобольшевистского фронта. Софийские наши товарищи берутся предугадать волю сограждан, оставшихся в России. Я отношусь не только скептически, но и совершенно отрицательно к подобного рода попыткам партии, как таковой, ибо, с моей точки зрения, во-первых, нет достаточно данных для исчерпывающего прогноза, во-вторых, самый метод признания монархии в угоду требований широких якобы масс – метод в условиях эмиграции не столько демократический, сколько демагогический. Если вам интересно знать, монархист ли я или республиканец, – то лично за себя скажу, что я в принципе за республиканскую форму правления, ибо это, по-моему, более совершенная политическая форма. Конечно, если бы обстоятельства потребовали восстановления монархии, то я, как полагаю, и все мы независимо от наших персональных симпатий и убеждений по вопросу о форме правления подчинились бы этому. Должен сказать, что «тоски по монархии» я лично не ощущаю, скорее у меня ощущение «тоски по городовому», то есть по твердой власти. Мой прогноз, что и в России, у всего народа растет «тоска по городовому». Разумеется, говоря в переносном смысле этого слова. Гораздо важнее, чем та или другая форма власти, чтобы власть эта была твердая, во всеоружии принудительного военно-полицейского аппарата для восстановления порядка и элементарной государственности в стране значительно одичавшей, где царит вражда и анархия, где разрушены все устои и господствует разнузданность, расхлябанность и деморализация. Как реакция, все более и более будет расти тоска по порядку. Лозунг «Земля и воля» будет заменен лозунгом «Земля и порядок», как демократический и для нас вполне приемлемый. Мой прогноз сводится также к тому, что нам предстоит длительный период диктатуры, может быть, смены диктаторов. Вообще я считаю, что России будет нужна твердая, в первое время даже жестокая власть для восстановления порядка. Я полагаю, что целесообразнее, чтобы этот твердый порядок известное время насаждался властью диктатора и чтобы монарх, если нам такового не избежать, или республиканское правительство не были вынуждены неизбежно жестокими мерами восстанавливать гражданский мир и правопорядок, возбуждая против себя озлобление различных групп. Пусть это выпадет на долю диктаторов. Вообще, для нас – ка-де, отдающих себе ясный отчет в относительной, с точки зрения правового порядка, ценности форм правления, не забывающих о существовании, с одной стороны, южноамериканских «республик» с огромной властью правительств и президентов, а с другой стороны, норвежской («мужицкой») и английской монархий с их властными парламентами, – недопустимо совершать в настоящий момент такой тактический промах. Мы присутствуем на пожаре здания, надо его тушить, надо спасать, что можно, а тут совладельцы вместо дружного отстаивания последних стен, готовых рухнуть, и последнего своего имущества затевают ожесточенный спор о стиле будущего здания. Я все эти три года неуклонно призываю не увлекаться программными вопросами, а к надпартийным объединениям, к сплочению. Я указывал, что только те политические группировки целесообразны и государственны, которые, не отрекаясь от своих программ мирного времени, в моменты национальных потрясений строят свою платформу на надпартийных общенациональных лозунгах. Меня называют правым ка-де; мне это совершенно безразлично, мне смешно это слушать. Вообще надо оставить банальное и нелепое деление на левых и правых. Я считаю, что софийская группа предприняла такой же губительный по отношению к партии шаг, как в декабре сделал Милюков, ибо если Милюков ведет партию в объятия с. – р-ов, то софийская группа влечет ее в Рейхенгалл. Что касается меня, то, если партия потянулась в эти две стороны, я предпочел бы при этих условиях уйти из партии и объявить себя врангелевцем или даже кутеповцем и продолжать служить армии, так как она ведь стоит на более надпартийной национальной позиции. Хотя я уверен, что командование и большая часть офицерства монархисты, но вывел же, по свидетельству Карташова, Кутепов в Галлиполи по приказанию Врангеля из употребления «Боже царя храни». И, считаясь с психологией офицерства, вывел постепенно, не приказанием, а путем убеждения в нецелесообразности проявления армией монархической партийности, когда в ее рядах умирали за целость России и монархисты, и республиканцы, всем надо быть сплоченными в предстоящей борьбе».
В 1922 году я проездом из Константинополя в Прагу заезжал на две недели в Белград и остановился там у брата на окраине города в маленьком деревянном домике мелкопоместного типа, среди большого сада с фруктовыми деревьями. Из прежних своих друзей он тогда ближе всего сошелся с бывшим московским городским головой М.В. Челноковым, ранее членом Московской губернской земской управы, этим интересным и одаренным самородком и самоучкой из купцов-старообрядцев, имевшим у сербского правительства по делам русской эмиграции большой вес. Жил в Белграде и наш друг детства Н.Н. Львов, наезжал и останавливался у Павла Дмитриевича граф Д.А. Олсуфьев. Обедали обыкновенно всей компанией, доходившей человек до 15, в частной столовой у квартирохозяйки Челнокова. Часто игрывал мой брат со своими друзьями в шахматы. Некоторую дань своему прежнему умеренному сибаритству он отдавал, купаясь в реке Саве с ее чудным песчаным многолюдным пляжем, с недурным ресторанчиком при ее впадении в Дунай. Мне показывали нарисованную на него карикатуру, изображающую его довольно тучное тело, лежащее на песке с газетой, кажется «Общим делом», в руках. Дань же своему артистическому и туристическому духу он имел возможность отдать при посещении для сдачи и частичной ликвидации так называемой серебряной казны живописного адриатического побережья, переполненного остатками столь любимого им итальянского средневековья.
В Белграде эмигрантская общественная атмосфера для работы Павла Дмитриевича в интересах русских воинских частей была очень тяжелая. Как говорит в своей книге «Русская армия на чужбине» (стр. 52) В.Х. Даватц:
«Одно имя князя П. Долгорукова, представителя К.-д. партии, было ненавистно для правых…»
Напротив, с генералом Врангелем у него установились близкие и доверчивые отношения. О них свидетельствует целый ряд писем к нему генерала Врангеля. В Константинополе они начинались обращением: «Ваше Сиятельство» или «Милостивый Государь», затем в Сербии сначала: «Глубокоуважаемый», потом «Глубокоуважаемый и дорогой», а под конец просто – «Дорогой». Вот некоторые выдержки из этих писем:
«Всемерно ценя Ваш большой государственный и жизненный опыт, Ваше неизменно горячее и искреннее участие в судьбах русской армии и русского беженства, я прошу Вас продолжать Вашу исключительно полезную работу в Русском совете на прежнем основании» (яхта «Лукулл», 20 сентября 1921 года). «В стремлении привлечь широкие круги общественности к контролю над расходованием сумм, находящихся в распоряжении главного командования, я предполагаю учредить особую для этой цели комиссию и пригласить к участию в ней общественных деятелей. Глубоко ценя ту неизменную нравственную и деловую поддержку, которую Вы оказывали мне, и Вашу духовную связь с армией, я прошу Вас не отказать в любезном согласии на вхождение Ваше в эту комиссию» (Сремски Карловцы, 10 сентября 1922 года). «С большим сожалением я осведомился о Вашем решении оставить непосредственное участие в работах Финансово-контрольного комитета и покинуть Белград. Я всегда крайне ценил Вашу деятельность на пользу армии, с которой Вы связаны неразрывными узами с первого года вооруженной борьбы за освобождение России. Вы были в Екатеринодаре и Ростове, оставались до самой последней минуты в Новороссийске, а затем работали в Крыму. Ваши труды на армию не прекратились ни в Константинополе, ни в Белграде. В обоих этих городах работа гражданских и общественных учреждений осложнялась исключительно тяжелыми условиями, в которые ставила армию и главное командование не поддававшаяся никогда точному учету международная обстановка, скудость средств, непонимание частью нашей общественности лежавших на ней обязательств по бережному отношению к последней нашей национальной ценности. Вы принадлежали к той небольшой горсти наших общественных деятелей, которые и умом и сердцем понимали значение армии, несостоятельность предъявлявшихся к ней с разных сторон требований и линию поведения, которой надлежало относительно ее держаться каждому человеку, любящему Россию.
Вы много потрудились для армии, пренебрегая тягостными личными неудобствами, которые, вероятно, Вам удалось бы избегнуть в других местах. В Русский совет Вы принесли с собой обширный жизненный опыт и Вашими суждениями, всегда беспристрастными, без примеси малейшей партийности, значительно способствовали разрешению вопросов в строгом соответствии с интересами армии и русского дела. Наконец, не могу не отметить, что, несмотря на скудость средств, Вы бюллетенями, издаваемыми совместно с Н.Н. Львовым, своевременно и полно осведомляли общественное мнение о жизни армии, напоминая русским людям, что армия по-прежнему жива. Я с чрезвычайным удовлетворением узнал о Вашем желании не терять связи с армией и о Вашей готовности содействовать получению реальных возможностей для ее существования» (Сремски Карловцы, 8 ноября 1923 года). «Сижу в занесенных снегом Карловцах и предаюсь невеселым думам. За внутренними распрями, интригами, борьбой мелких самолюбий об общем враге, кажется, совсем забыли. А между тем сейчас, по-видимому, враг сам переживает тяжелую внутреннюю борьбу, а следовательно, почва для работы наиболее благоприятна. Вы пишете о желательности моего переезда в Париж. Я сам это учитываю в полной мере» (12 января 1924 года). «Прежде всего хочу высказать Вам глубокое преклонение перед тем, что Вы сделали. (Дело идет, очевидно, о первой попытке проникнуть в Россию. – П. Д.) Я не говорю о Ваших друзьях, но и политические враги Ваши, как бы ни смотрели они на Вас, все те из них, кто честен, не может не отдать должное Вам. Рад был узнать из Вашего письма, что Вы успели приехать в Париж к национальному съезду. Как близкий армии человек, Вы еще раз имели возможность сказать, что эта армия из себя представляет, как далека она от того, что пытаются приписать ей и Милюковы и Марковы». (Сремски Карловцы, 14 сентября 1924 года). «Последние скудные наши достояния на исходе, и все мои усилия направлены к тому, чтобы окончательно поставить на ноги всех моих соратников. Начатая мною 5 лет тому назад работа по переходу армии на трудовое положение, по переводу ее на основы самообеспечивания в настоящее время уже закончена». (Сремски Карловцы, 18 октября 1925 года).
В одном из писем, посылая Павлу Дмитриевичу книгу «Казаки на Чаталдже и на Лемносе», генерал Врангель заканчивает свое письмо словами: «Примите эту книгу как искреннюю благодарность мою и моих соратников за Ваше неизменное сочувствие и помощь нам в нашем правом деле».
Из Белграда брат заезжал в конце 1922 года проездом в Париж на короткое время ко мне в Прагу для содействия устройству там русских военных в высшие, а их детей в средние учебные заведения, для чего он привез мне письмо от генерала Врангеля. Он рассказывал тогда, какие козни творят против Врангеля и его окружения белградские русские крайне правые элементы, в борьбе с коими Врангелю пришлось издать наделавший в свое время большой шум приказ № 82, запрещавший воинским чинам вступать в какие-либо политические организации. Уже тогда Врангель начал тяготиться белградской атмосферой и стал подумывать о необходимости переехать в другое место. Но, будучи для части русской белградской эмиграции слишком левым или, скорее, слишком культурным и здравомыслящим, для довольно значительной части парижской русской эмиграции он был слишком правым или, пожалуй, слишком военным. И вот в 1925 году он переехал в Брюссель, а брат еще в 1923 году в Париж, который стал все более играть роль русского эмигрантского центра, особенно после того, как туда переселилась значительная часть русской эмиграции из Берлина. Остановился тогда брат, как и в первую свою поездку в Париж, в доме русского посольства на rue de Grenelle у В.А. Маклакова, жившего там до признания Францией большевиков и до передачи им посольского дома. С Маклаковым его связывали не только приятельские отношения, установившиеся между ними на общественно-политической почве, но и давнишние московские воспоминания, так как брат в детстве и юношестве лечился у его отца, известного московского окулиста. Это было в последний раз, что брат в эмиграции пользовался культурной и комфортабельной обстановкой. Но во всем остальном это пребывание в столь любимом им когда-то Париже было ему очень тяжело. Сербия ближе была русской эмиграции, чем Франция, не только большей географической близостью к России, но и близостью расовой и религиозной и тем, что русская эмиграция, состоящая главным образом из чинов армии и из участников Белого движения на юге России, играла более видную и почетную роль в Сербии, с большей благодарностью помнившей спасительную жертвенность России во время Великой войны, чем Франция. Но главное разочарование вызвала в брате сама эмиграция, разрозненная и ушедшая в значительной своей части исключительно в заботы о своем устройстве. В одном из своих тогдашних писем Павел Дмитриевич писал: «Здесь много обывателей, а граждан мало. Патриотизм русских эмигрантов в Париже еще менее действенен, более импотентен, чем на Балканах (сестро-чеховский: «В Москву, в Москву!»). Необходимостью активной работы в России мало интересуются. Собрал на это небольшую сумму, главным образом среди инородцев, живших в России, шведов и армян. На собранные деньги в Россию на активную работу могут отправиться лишь 3—4 человека, то есть работа будет партизанская, кустарная. Чтобы отправить большую партию людей и литературы, вообще хорошо все обставить и оборудовать, денег нет. В самоотверженных людях для отправки недостатка нет».
Покойный Н.И. Астров, видевший Павла Дмитриевича в то время в Париже, рассказывал потом, как его возмутила картина, когда в его присутствии два приятеля брата, значительно моложе его, развалившись один на мягком кресле, другой полулежа на диване, критиковали так называемые активистические настроения и снисходительно смотрели на бедно одетого старика, в волнении ходившего перед ними из угла в угол и убеждавшего их в необходимости для политической эмиграции иметь объединяющее, одушевляющее и по возможности информированное ядро.
Глава 4 Первое путешествие в Россию
По возвращении в Белград из своей первой рекогносцировочной поездки в Париж Павел Дмитриевич уже определенно задумал проникнуть в Россию и узнать о царящих там настроениях, чтобы эмиграция могла из этого сделать нужные заключения для дальнейшей своей тактики. А кроме того, как говорил он впоследствии: «Надо, чтобы кто-нибудь из нас, стариков, показал пример активности, а то не можем же мы лишь на словах призывать к ней молодежь и подбивать ее, может быть, на напрасные жертвы».
Несмотря на житейские невзгоды, к которым он относился с философским равнодушием, он углублялся и закалялся в своем гражданском и нравственном миросозерцании. Об этом он как бы сам свидетельствует в конце своих воспоминаний, когда воспроизводит сказанные им со свойственным ему юмором слова по поводу замечания кого-то о высоте его последней парижской квартиры на 7-м этаже: «В беженстве я поднимаюсь все выше и выше, а не опускаюсь». Но может быть, наиболее характеризующей его настроения и даже больше, – если и не изменение, не отказ от своего прошлого, то углубление его мировоззрения, – является одна фраза из его некролога убитого В.Д. Набокова: «Известную фразу Набокова о власти исполнительной и законодательной смело можно вложить в его уста с такой перефразировкой: законы человеческие да подчинятся законам Божеским…»
В последний раз мы виделись с братом в 1924 году, когда он был на два дня в Праге по дороге в Варшаву, куда он ехал, чтобы через польскую границу проникнуть в Советскую Россию. Между прочим, он читал мне тогда письмо, которое он оставлял тем нашим родственникам, находившимся в эмиграции, что обладали еще некоторым остатком средств, о необходимости для тех, кто не может действовать лично, хоть деньгами жертвовать на русское национальное дело и тем давать пример другим и иметь возможность с достоинством обращаться с просьбой о пожертвованиях как к русским, так и к иностранцам. Надо сказать, что у него всегда, как в частной жизни, так и в общественной, была склонность к нравоучениям и преподаниям советов, к чему молодежь, с которой он общался, не всегда относилась с подобающим вниманием и почтительностью. Внешность свою он тогда еще не изменял. Был бодр и спокоен. Решение идти в Россию у него было окончательное и непоколебимое. Никакие доводы с сомнениями и предостережениями на него не действовали. Всех конспиративных подробностей его планов мы в наших разговорах не касались. Но, как потом обнаружилось, была произведена большая и тщательная подготовительная работа. Все было разработано до мельчайших подробностей, будущая роль странника, под видом которого он потом проник в Россию, была тщательно подготовлена и разучена. К своим прежним мотивам необходимости для него идти в Россию он прибавил еще и то, что он холост и, следовательно, что он рискует лишь собой. Полагаю, что этот мотив был вызван его желанием деликатно снять с меня, как с семейного, упрек в недостаточной активности. Насколько он предвидел все и был готов к наихудшему, видно из его тогдашних распоряжений на случай смерти или ареста. Он оставил мне составленное им незадолго перед тем духовное завещание. Между прочим он сказал, что в случае его ареста не следует верить никаким его словам или отречениям, которые могут быть оглашены от его имени большевиками, даже за его подписью, что показывает, что он предвидел не только возможность расстрела, но и вымучивание каких-нибудь признаний и показаний. И тем не менее он, видимо, шел на все со спокойной решимостью. А затем помимо других решающих и основных причин и целей в нем, безусловно, была сильна ностальгия. Тоска по родине так ярко выступает в тех строках помещенного им в газете «Руль» описания первой его попытки проникнуть в Россию, в которых он касается чувств, вызванных у него русской природой и русской деревней, среди которых он вдруг очутился. С. Яблоновский уже в некрологе Павла Дмитриевича («Борьба за Россию», № 30 от 18 июня 1927 г.), вспоминая свою встречу с ним в Новороссийске, пишет: «Граф Петров, бывший священник, депутат, литератор, многолетний мой сотрудник по газете «Русское слово», встретился со мной в Харькове и вписал мне в тетрадь: «Рожденные летать не должны ползать». Граф Петров. Харьков, 6 окт. 1919 г.». Этот перифраз горьковского афоризма, отнесенный графом Петровым к большевикам, увидал у меня князь П.Д. Долгоруков в Новороссийске. Он взял перо и быстро написал под словами Петрова: «От хорошей жизни не полетишь! Не хочется улетать. Хоть бы поползать, да в России». Князь Павел Аолгоруков. 13 февр. 1920 г.».
Не чувствуется ли в этих словах брата страстная привязанность к родине, делающая столь трудным расставание с ней? Отсюда такое цепляние за Новороссийск и такое отстаивание им там последней пяди родной земли. Отсюда же и настойчивое стремление его проникнуть из эмиграции в Россию для выяснения возможностей скорейшего ее освобождения от антинациональной власти.
И не этой ли любовью к своему родному государству объясняется его привязанность на чужбине к остаткам русской армии, как к символу российской государственности и как к устойчивому хребту и связующему цементу русского рассеяния. Этим же, может быть, объясняется и то разочарование, которое вызвала в нем неспособность русской эмиграции объединиться и выделить из своего состава активный и авторитетный центр для руководства ее тактикой в целях достижения единого, что, по мнению брата, есть нам на потребу. Из этих душевных глубин, столь почвенных, исходила его единоустремленность, которая в глазах поверхностных и равнодушных наблюдателей могла даже казаться донкихотским маньячеством!..
О том, как брат готовился к своему первому путешествию и каковы тогда были его настроения, очень ярко рассказывает в своем письме барон Ф.Р. Штейнгель, в имении которого и до и после своего проникновения в Россию жил Павел Дмитриевич:
«Мы с Павлом Дмитриевичем хотя и были прежде знакомы, но были довольно чужды друг другу, а последнее время, когда он прожил у нас почти весь 1924 год, мы так с ним сдружились, что он, уезжая, оставил мне свою карточку, на обратной стороне которой написал, перефразируя известную пословицу: «Новый друг лучше старых двух», а на лицевой стороне: «Отец Павел. Городок. 1924 г.» (Очевидно, здесь имелся в виду облик странника, который он тогда принял. – П. Д.). Приехал к нам первый раз Павел Дмитриевич скоро после нашего Рождества (1923 г.), то есть, кажется, в январе 1924 г. Приехал он в ужасном виде: ободранный, весь в заплатах, вроде какого-то бродяги. Но вид его тем не менее, как всегда, был и в таком наряде представительный, и, как всегда, он держал себя с большим достоинством, но также и с большим смирением. Любопытно, что во всей фигуре Павла Дмитриевича было что-то, что, несмотря на его оборванный вид, внушало всем какое-то особое почтение. Его осанка, его руки, вообще вся манера себя держать сразу показывали, что этот человек в лучшем смысле слова «барин». Когда он в первый раз пришел в нашу церковь, мы были уже в церкви и стояли на своем месте, на котором я стою уже 49 лет. Павел Дмитриевич опоздал и скромно стал сзади в уголке. И тотчас церковный староста крестьянин принес ему коврик и подал большую почетную свечу. (Это у нас обычай стоять в известные моменты службы с большими свечами.) Никто не говорил крестьянам, кто это, а по виду его можно было принять за нищего. В каком восторге он был от всего в деревне. Была хорошая зима, много снега. Все ему напоминало родину. Он с наслаждением кушал наши давно им невиданные блюда, и наш обед казался ему таким обильным, что он говорил, что даже забыл, что так едят. Он все говорил, что мы живем по-старинному и что это так успокаивает – видеть, что жизнь как будто не переменилась и что есть еще такие вот старые помещики, как мы, которые даже все старые традиции соблюдают. Наступила весна; как он радовался, как восхищался чуть ли не каждой травкой! Особенно, помню я, он любил в жаркий день, когда я, стоя под вербой, ловил рыбу на удочку, лежать около меня на траве; он будто бы читал что-то, но на самом деле, я бы сказал, созерцал природу, находя то тот, то другой вид похожим на Ваши места. Он говорил: «Ваши малороссийские белые хатки хороши, но мне дороже бревенчатые избы (серые)». И так как амбары (клуни) крестьян именно такие, то, смотря издали на эти амбары среди зелени на холме (внизу протекает речка), он вздыхал и все повторял: «Как хорошо, совсем как у нас!» Помню также, как мы всей семьей и с ним ездили на заливные луга во время сенокоса. Тут эта ширь, эта даль, река Горынь привели его прямо в восторг. Он пел полным голосом разные песни. У нас была большая веранда; около нее было целое море сирени очень высокой; росли также волоцкие орехи и большая ель. Вот на этой веранде любил Павел Дмитриевич сидеть иногда подолгу один. Любил он также вид из окна своей комнаты на меловые горы и лес, любил свою комнатку, и когда пришлось ее покинуть, то за вешалкой с полотенцем после его отъезда обнаружили карандашную надпись, что в этой комнате счастливо провел столько-то времени такой-то. Бывали мы с ним и у наших знакомых: у соседнего священника, у нашего мельника-еврея (очень порядочного) и его жены на их празднике – Пурим. Он и там держал себя очень просто, и все его любили. Особенно нравилась всем его удивительная простота в обращении и вместе с тем что-то в высшей степени благородное. С самого его приезда жена моя непременно хотела привести его костюм в порядок, но это было трудно, так как он не давал, и приходилось тихонько, пока он спал, брать его платье, и жена моя латала это платье, насколько было возможно. Белья у него было всего две смены, и он не хотел давать его нам в стирку. Ранней весной он ездил по каким-то делам на короткий срок в Варшаву. С весны мы стали замечать у Павла Дмитриевича какие-то странности. Всякий раз, что ему заштопывали платье, на следующий же день опять все было разодрано. Волосы и бороду он не стриг и поэтому совсем оброс. К обеду приходил с руками совершенно вымазанными глиной, и когда его спрашивали, то уверял, что лечит так ревматизм. Наконец, он позвал меня как-то в свою комнату и, заперев дверь, сказал, что должен серьезно поговорить со мной, но чтобы я дал слово никому не говорить того, что он мне скажет. И тут он мне рассказал свой план перейти границу, бывшую недалеко от нашего имения, и отправиться в СССР переодетым не то дьячком, не то странником-богомольцем. План его был очень наивен, что я и стал ему доказывать. Деньги у него были, но он не считал их своими. Я спрашивал, какая же цель толкает его на такой шаг? Он ответил, что «тот, кто посылает людей на смерть, должен и сам показать пример, когда его туда зовут идти, тем более что я одинок, уже стар, надо показать пример молодым». Я стал прямо со слезами умолять его отказаться от этого плана. Он был непреклонен. Тяжело было слушать его, но мы видели, что переубедить его невозможно, и в глубине души преклонялись перед его спокойной решимостью пожертвовать собой для родины. Я спрашивал его, почему он не посоветуется с друзьями. Он отвечал, что, кроме меня, знают еще только два человека – один в Париже, другой в Варшаве. Этот другой, впрочем, приезжал к нему сюда, и мы вместе пытались удержать его, но напрасно. В конце июня по старому стилю он ушел. 29 июня н. ст. (хотя мы церковные праздники празднуем по ст. ст.) мы праздновали (он сказал, что празднует свой день Ангела по н. ст.) его именины. Был и традиционный пирог и все прочее, как полагается. Павел Дмитриевич был очень тронут. Когда наступил день, который он себе назначил для отъезда, он пришел ко мне в спальню, где я лежал (я был болен). Мы крепко обнялись, целовали друг друга; он попросил меня благословить его, что я со слезами и сделал. Как произошел его переход границы, Вы знаете из его статей в «Руле». Не помню сейчас, сколько времени его не было, но вдруг подъезжает к нашему двору возок и на нем Павел Дмитриевич в виде странника. Конечно, мы все очень удивились и очень обрадовались. Пошли, разумеется, расспросы. Он кратко сказал только, что его вывезли обратно. Потом он нам подробно рассказал, как все было, и сказал, что будет для наглядности рассказывать одетый так, как он там ходил, и говорить будет тем говорком, которым там говорил. Одет он был в длинный подрясник, какой носят монахи (его сшили ему в Ровно); через плечо висела котомка, он был в очках; в руке палка; вообще он выглядел странником-дьячком. Писал он свои статьи для «Руля» у нас в Городке. Павел Дмитриевич сидел у окна и писал, и я, как сейчас, вижу его согнутую над столом фигуру. Он говорил мне, что не унывает от неудачи, что многому научился и теперь повторит свое намерение в другом месте и немного погодя. Он согласился еще погостить и пробыл у нас до 1 сентября. В этот день мы окончательно простились, и сердце у меня сжималось от мысли, что мы на этот раз расстаемся навсегда, хотя мы знали, что он едет в Париж. Он взял с собой черный деревенский хлеб, кое-что из деревенского обихода и цветы. Мы очень сдружились с Павлом Дмитриевичем за время его пребывания у нас, он стал как бы членом нашей семьи. Сначала Павел Дмитриевич писал нам ласковые письма и вдруг затих. От одного знакомого я узнал, что он жил в Париже в мансарде, где даже печки нет, совсем нищим, обросшим, и я понял, что он снова отправился в свой последний путь. Здесь все его искренне любили, и, когда мы служим по нем панихиды, все горячо молятся об упокоении души «убиенного болярина Павла». Батюшка наш поминает его на всякой ектении».
После неудачной и, как оказалось, столь рискованной попытки проникнуть в Россию можно было думать, что брат не станет больше туда стремиться. Особенно в этом всех убедил появившийся вскоре в «Руле» ряд его статей, в которых он подробно описал эту попытку. Но, как оказалось, он немедленно же задумал предпринять новую и стал к ней готовиться. Непонятное в таком случае опубликование своего путешествия, чем он не мог не привлечь на себя внимания большевиков, можно объяснить, пожалуй, тем, что он именно этим думал их обмануть, исходя из того предположения, что и они подумают, что он уже не рискнет, будучи на виду, на новую попытку. Но можно дать этому и другое объяснение. Приготовление и организация нового путешествия были еще сложнее и дороже, чем первого. Люди, занимавшиеся нелегальным переводом через советскую границу, рисковали многим и брали за свои услуги очень дорого. Они уверяли, будто они должны были в случае неудачи откупаться от красноармейцев. Своих средств у брата почти не было, а доставать их на политические цели от других, как это видно из его воспоминаний, было очень трудно. И вот он решился напечатать свой очерк за хороший гонорар, который он получил из «Руля».
В Париже, после возвращения из Польши, он встретил у некоторых скептический, но у других восторженный прием. Вот, например, что писал ему его феодосийский знакомый С.С. Крым из своего имения на юге Франции с большими фруктовыми садами и виноградниками: «Прочитал первую часть Ваших статей в «Руле» и не могу удержаться, чтобы не передать Вам всего моего восхищения и уважения перед Вашим подвигом. Это не революционный порыв, а то, что нам всем так не хватает: подвижничества. Если бы Вы вздумали отдохнуть в нашем уголку, наш дом к Вашим услугам».
Но брат не воспользовался этим приглашением и жил в Париже в очень тяжелых моральных и материальных условиях. Последнее свое полуторагодовое пребывание там в 1924 и 1925 годах он был занят главным образом подготовлением вновь задуманного путешествия в Россию и изысканием необходимых для этого средств, что сопровождалось многими хлопотами, переговорами, перепиской и часто разочарованием. И хотя он интересовался предстоящим зарубежным съездом и в письмах своих убеждал меня принять в нем участие, но, как это видно из его воспоминаний, он уже не верил в возможность объединения эмиграции. В этот период жизни брата всех ближе была к нему очаровательная, умная и живая старушка А.В. Голыптейн, проживавшая постоянно в Париже, ненамного пережившая Павла Дмитриевича. Она относилась к нему с родственной, можно сказать, материнской теплотой и была посвящена в большинство его планов. С ней он поддерживал переписку из Кишинева и из России до тюрьмы включительно, и от нее я получил большинство документов, касающихся этого времени жизни брата. Жил он в этот приезд почти все время в чрезвычайно бедной, чисто беженской обстановке. Мне пришлось через два года жить в занимаемой им тогда комнате, о которой он говорит в заключительных строках своих воспоминаний. Это была комната, вероятно для прислуги, в 7-м этаже, в которую надо было подниматься по крутой винтообразной круглой каменной лестнице, абсолютно темной. Брату, довольно тучному по комплекции, было тогда уже 58 лет, и, кроме того, он страдал одышкой. Вероятно, ему приходилось тратить не менее пяти минут и делать несколько остановок, чтобы добраться до своей комнаты. Комната освещалась керосиновой лампой и отапливалась керосиновой грелкой. А дело было зимой. Меблировка: старая деревянная кровать, стол, твердый стул и табурет. И по-видимому, он, судя по его собственным рассказам и по рассказам очевидцев, как тогда, так и в Белграде, в Константинополе и во время Гражданской войны на юге России, совершенно просто и благодушно относился к невзгодам внешней обстановки и с каким-то равнодушным достоинством носил в беженстве поношенное или дареное старье.
Он говаривал: «Il y avait avant «des nouveaux riches» et nous sommes maintenant des «nouveaux pauvres».[21]
Надо сказать, что ему удалось вывести в эмиграцию гроши и никаких ценных вещей он с собой не имел. А раньше, по своим привычкам, он не чужд был известного барского сибаритства как в России, так и в своих ежегодных заграничных поездках. Был довольно частым посетителем лучших столичных ресторанов. Его московская квартира, квартира старого холостяка, была хорошо и уютно обставлена. Он был долголетним членом Московского английского клуба, хотя никогда не играл в карты, а любил лишь, и это со студенческих годов, бильярд и шахматы. Был даже членом фешенебельного петербургского яхт-клуба и нередко останавливался в имевшихся при нем комнатах для приезжающих. Но яхт-клуб ему пришлось оставить после того, как он был лишен придворного звания. Это его некоторое сибаритство никогда, однако, не было у него преобладающей чертой, а соединялось с более возвышенными стремлениями. Так, его любимая страна была Италия с ее искусством. Он изъездил ее вдоль и поперек. В Москве он увлекался Художественным театром и был посетителем литературно-художественного кружка. В Монако он интересовался океанографической станцией, в Париже – Лувром, в Константинополе – византийской стариной, на Адриатике – природой и итальянской стариной.
Глава 5 Второе путешествие и пребывание в Харькове до ареста
О предстоящих намерениях Павла Дмитриевича и его планах проникновения в Россию, на этот раз через Бессарабию, я знал еще меньше, чем при первом путешествии, перед которым мы виделись. Он и на этот раз хотел по дороге заехать ко мне в Прагу, чтобы передать мне некоторые документы и подробно переговорить и, может быть, проститься. Но в последнюю минуту ему пришлось почему-то переменить маршрут, и он проехал через Вену, не заезжая в Прагу. Известил он меня об этом кратким письмом, в котором говорил, что более подробное письмо, а также и некоторые документы, которые он не хотел доверять почте, будут мне доставлены одним верным лицом. Не знаю, что он написал или хотел написать, но получил я некоторые касающиеся его документы лишь после его смерти.
В письмах своих из Кишинева, откуда он предпринял свою вторую поездку в Россию, он касался главным образом возмутительных приемов румын в насильственной денационализации русских, живущих в Бессарабии. Перед своей первой попыткой проникнуть в Россию и после нее он так же страдал душой при виде насильственной полонизации в восточной части Польши.
Как и перед первым путешествием в Россию, в Кишиневе нашлись люди, очень тепло отнесшиеся к брату, при помощи которых он готовился в путь. Вот что писал об этом периоде Ю.Ф. Семенов в «Возрождении» (от 15 июня 1927 года) уже после смерти Павла Дмитриевича: «Там он познакомился и подружился с одной большой семьей, где душа его была согрета вниманием и любовью четырех поколений. Старый князь, такой большой, грузный, в Париже столь вялый и неподвижный, тут, на русской границе, накануне ее перехода весело играл с маленькой девочкой в мяч, шутил, смеялся, говорил стихи и даже пел. И маленькая девочка, когда ее большой друг ушел в неизвестность, молилась каждый вечер в своей кроватке «за дядю Павлика».
О семье этой с любовью пишет и сам Павел Дмитриевич в конспективном описании своего второго путешествия, озаглавленном им «Материал для воспоминаний». В нем он рассказывает, как он готовился к своему путешествию, описывает переход границы и все те сорок дней, которые он провел на свободе уже будучи в СССР. Набросок этот был составлен им в Харькове, когда он, находясь на нелегальном положении, скрывался там под чужой фамилией. Помечен он 3 июля 1926 года, следовательно, он был закончен всего за десять дней до ареста брата. Нелегальным способом этот набросок был доставлен за границу. И хотя по понятным причинам на нем было написано: «конфиденциально», но, очевидно, он предназначался со временем для дальнейшей разработки и опубликования. Конечно, написание его и особенно пересылка за границу представляли большой риск. Можно думать, что причины, побудившие Павла Дмитриевича на этот риск, были следующие. Считая, с одной стороны, очень важным, чтобы его очерк дошел до друзей и стал известен в эмиграции, а с другой стороны, не будучи уверен, что ему удастся вернуться за границу и даже более, боясь, что при обыске или аресте документ может попасть в руки большевиков, брат считал меньшим риском, не только для себя, но прежде всего для других, доверить свой очерк своему спутнику по путешествию в Россию, чем оставлять этот очерк у себя на руках. Действительность в полной мере оправдала этот его на первый взгляд такой рискованный шаг.
В письме от 5 мая 1926 года Павел Дмитриевич писал: «Т. к. живу инкогнито, то почти никого не видаю. После 25-го, вероятно, начну передвижение».
3 июня он писал в Париж: «Думаю сегодня отправиться в путешествие. Если осенью не вернусь в Париж, то обращусь, вероятно, зимой, перед Рождеством относительно присылки с. – хоз. орудий, для чего Ю.Ф. и Мих. М-а убедительно прошу согласно оставленной мной инструкции похлопотать для общего дела убежденно и рьяно, как М.М. умеет». (Дело шло, очевидно, о денежных средствах. Ю.Ф. и Мих. М-а – Ю.Ф. Семенова и М.М. Федорова. – П. Д.)
До своего ареста Павел Дмитриевич пользовался для переписки несколькими заранее условленными именами. Первая лаконическая открытка была получена от него из Одессы от 9 июня 1926 года: «Дорога была очень тяжелая. Приехал благополучно. Привет друзьям. Mux. Петров».
В чем именно заключалась эта тяжесть, видно из его уже упоминавшегося выше очерка «Материал для воспоминаний», который и приводим здесь полностью. (Тремя звездочками в тексте этих «Материалов» обозначены имена целого ряда лиц, как проживавших в Румынии, так и находившихся в России.)
Материал для воспоминаний. 1926 г. 3 июля. Харьков
«Неудача поездки в Совдепию из Польши в 24 г. Решил все-таки осуществить. Полтора года безвыездно в Париже. «Объединение и возглавление». Подготовка к зарубежному съезду. В начале марта выехал в Бухарест, предварительно списавшись с ***. Взял с собой тот же багаж и те же старые вещи костюма простолюдина, что и в Польшу. 3 недели в Бухаресте в плохонькой гостинице. С *** у ***. Очень любезен. Выдал свидетельство на имя Долгова, мои документы остались в… Меня узнал ***, пристав моего участка в Москве, к-й закрывал в Москве собрания. Бухарест – среднее между Будапештом и Белградом, ближе к последнему. С середины февраля начал отпускать бороду. В конце марта в Кишинев. Переполненный поезд. На вокзале встретил меня ***. С ним ***. Оч. милые старики. Пригласили остановиться у них. Прожил три дня. Потом хорошая комната с чудным пансионом у ***. Премилые люди – 3 женских поколения. Окраина города. Маленький парк. Красивый вид на холмистые окрестности. До 5 – 6 ч. сидел дома, писал воспоминания. Вечером гулял по парку у ***. Никого, кроме родственников моих хозяев и ген. ***, к-ые знали, кто я, не видал. Удивительно милые люди, стойкие русские патриоты, носители семейных-дворянских традиций, религиозно-нравственных устоев. Красивая порода, типы тургеневской женщины, хотя нет русской крови.
Попал в интернационал – греко-молдаво-грузинский. Г-жа ***, дочь, внучка 4 л., есть еще и прабабушка (4-е поколение), поклонником к-ой был в 77 году в. кн. Н.Н. 4 поколения, 4 сестры и брат. Мужчины живут и работают в оставленных им по аграрному закону 110 гектаров земли и виноградников в разгромленных усадьбах. Семьи – в Кишиневе. Ужасные сцены, пережитые при разгромах большею частью нашими разложившимися войсками. Убийства, грабежи, разрушенные дворянские гнезда. Кишинев летом, благодаря садам, бульварам и хорошей посадке на улицах, выигрывает. Пушкин (?) «Город грязи, город галок и ворон, где диктатор… Кишиневский Цицерон» (разыскать все стихотворение). Весной на бульварах масса сирени. Сады, спускающиеся к речке и лугу с сочной травой. Совсем русская деревня. Соловьи. Чудные запахи. Несколько красивых прогулок при закате солнца. В городе все говорят по-русски. Надписи – по-румынски. Неприязнь моих друзей и вообще русских к румынам. Их близорукая националистическая политика с обруснением, как в Польше. Та же история с автокефальной церковью и новым стилем. Сельское население и часть городского придерживается старого стиля. Недоразумения со Страстной и Пасхой. Новое министерство Авереску во время Страстной недели объявило о свободе справлять службу по старому стилю, а Синод и еп. Гурий требовали по новому стилю. Смятение. В некоторых церквах по старому стилю, в некоторых – по новому, в некоторых смешанно. Пасхальная ночь по старому стилю в маленькой домашней церкви. Масса народу, а потому заутреня на улице перед церковью. Оч. красиво. Тепло, тихо, свечи не гаснут. Разговлялись у *** до 7 ч. утра. Выборы в парламент: удивительное давление правительства. Стеснение передвижения по ж. д. в дни выборов. По общим отзывам – коррупция в Румынии процветает, население тяготеет к России, даже большевистской. Оброс бородой, как два года тому назад. В последнее время ряд прощальных ужинов у моих новых друзей, с обильной едой и выпивкой. Жил в Кишиневе в большом довольстве материальном сравнительно с моим беженским бытом и морально согретый радушием, как бы родственным тоном моих хозяев и новых друзей. Гораздо теплее отношения, чем у большинства действительных родственников. Несмотря на стеснения, сравнительно с прежним, материальное состояние (ютятся в маленьких комнатках), почти ничего с меня не взяли за пансион и всей семьей собрали еще мне на мое путешествие более 10 000 лей. Трогательное отношение, к которому не привык в Париже среди друзей и родственников, и личное отношение ко мне и патриотический порыв. Если бы вся эмиграция была такова, как мои новые интернациональные друзья. Тон по отношению ко мне дала *** тургеневская женщина. В последние дни приехала милая *** с мужем, с которой у меня связаны чудные римские воспоминания в 10—11 гг. Последние 4 дня переехал на квартиру радушного ***. Все члены семьи по нескольку раз в день посещали меня, вечером ужинали. Провизия в дорогу. *** израненный, скромный герой георгиевец. Мой попутчик в Харьков офицер *** 30 лет, рекомендованный ***. Читал несколько раз моим друзьям написанные мои воспоминания 1917—1926 гг. с успехом. После трогательных напутствий и благословений (образочки) 5 июня в 5 часов утра выехал по жел. дороге в г. Бельцы. Кроме *** едет с нами офицер ***, специалист по переправе через Днестр. Страшные ливни размыли путь. Ползем, стоим в поле, пока чинят путь. Опоздали в Бельцы на 4 часа, и наш поезд ушел. Пришлось ночевать. *** пошел в город за 3 версты за извозчиком. Проехали через весь город на окраину, еле двигаясь в грязи. Остановились у двух радушных хохлушек, жен русских офицеров, работающих каменщиками в Яссах. Они работают в поле. Маленький домик, удивительное радушие. Вареники. Одна оч. хорошенькая. Чудные голоса – контральто и сопрано. Гитара, мандолина, мандола. Прекрасно поют украинские песни. Концерт и выпивка до 1 ч. ночи. Во все время пути порядочно выпивали для бодрости. 6-го в 5 час. утра встали и выехали по жел. дор. на Резину, на Днестр. Подъезжаем к Днестру, гористая, каменистая местность, туннель. Ж. д. мост взорван. Резина – маленькое местечко. Еврейская корчма. Комиссар – румын (у нас бумаги от ***). На другом тоже возвышенном берегу – Совдепия, тоже местечко. Видны вагоны, люди, долетают крики. Хорошее местное вино. Переночевали. Кроме багажа везем еще немного (долларов 50—60), контрабанды (духи, пудра, шелков, чулки), так как выгоднее, чем размен валюты по твердому курсу на червонцы. Надеемся выручить в 5 – 7 раз. 7-го едем впятером в повозке – я, ***, комиссар, капрал пограничн. стражи – по живописному берегу Днестра часа 31/2. Высокие каменистые берега вышиной с рейнские, но немного отступя.
Вследствие ливней местами потоками нагромождены камни. Идем пешком. Повозка с трудом берет препятствия. На противоположном конце взорванного моста красноармеец смотрит на нас в бинокль, а потом в подзорную трубу. Деревушки хохлацкого вида на обоих берегах, но ограды сложенные из камня, почему вид заграничный. Завтракаем на пограничном посту (пикете). Обильная провизия из Кишинева, мамалыга, овечий сыр, лук, вино. Приезжаем к месту назначения, где предстоит переправа – тоже пикет. Высокие горы на обоих берегах. Видна тропинка наискось, по которой мы должны взобраться. Говорят, ее завалило тоже камнями. Жарко, сплю под яблоней. Ужин. Осмотр наших вещей и бумаг капралом. *** везет пропаганду. *** недоволен. Лодка маленькая, дубовая, волнение. Большевистские часовые стоят на расстоянии версты друг от друга, 2 раза в сутки проходит конный патруль человек в 5. Все дело в том, чтобы переправиться между часовыми, не наткнуться на патрули. Зимой переходят по льду. Мы выбрали время, когда луна всходит в 2 часа, а до того – ночи темные. К сожалению, ветер стих (удобнее ехать на лодке и идти, когда деревья шумят) и было совсем тихо. Около 10 ч. спустились тихо с пикета на берег. Около часа сидели на берегу. Налево в местечке на противоположном берегу звуки стихают. Я вздремнул на берегу. *** совсем голый, на случай броситься в воду, бесшумно подвел лодку. Сажусь. У меня на плечах сумка 20—25 фунтов, у *** мешок с моими и его вещами пуда 21/2. Сижу один минут 20 в лодке, слышен шепот на берегу – «л о д к а». Посреди реки в темноте ничего не видно, но слышен всплеск весла. Слышно, как румынские пограничники щелкают взводимыми курками. Окрик. Оказывается – рыбаки с румынского берега 2 лодки. Громкий разговор капрала, комиссара. Я сижу в лодке один и ничего не понимаю. Капрал почему-то стегает плеткой пограничника, тот кричит (оправдывается). На другом берегу слышно, как кто-то громко мяукает, вдали ему отвечает другое мяуканье. Очевидно, часовые, услышавшие наш шум. Досадно на румын, что так нашумели и испортили дело (я уверен, что сегодня переправа не состоится). Потом все стихло. Через 1/4 часа *** подводит две маленькие рыбацкие лодки с двумя рыбаками, я пересаживаюсь в одну, *** садится в другую, и, сцепившись, мы отчаливаем. Темнота и тишина. Еле слышно всплескивают два весла-лопаты. Едем затаив дыхание, кажется, 3 – 5 минут, *** остался на берегу. Как оказывается, он после нашего отъезда намеревался шуметь на берегу, чтобы отвлечь внимание, но мы ничего не слышали. Мы, кажется, переплыли почти поперек, а не наискось, к началу тропинки, как предполагалось, и это было причиной наших злоключений. Очевидно, впопыхах не объяснили толком рыбакам. Уткнулись около берега в мель. Бесшумно с *** сошли в воду и вышли на берег. Пробежали саженей 10 плоского берега до кустиков и камней, где начинается бугорок. Пошли, прислушиваясь, потихоньку вверх, меж камней, стараясь не шуметь. Пройдя холмик, подошли к крутой горе. Стали подниматься. Ливни навалили камни, которые постоянно срываются. Совершенно темно и, к сожалению, совершенно тихо, не шелохнет. У нас башмаки с резиновыми подошвами для тишины. Слышны соловьи и лягушки на Днестре. Ясно слышен лай собаки на румынском берегу. Поднимаемся наискось вправо среди мелкого кустарника и хаоса камней. Тропинку, которая оказалась значительно правее, которую ясно было видно с того берега и по которой легко сравнительно выйти, так и не нашли. То подымаемся, то, подойдя к крутизне, спускаемся. Начинаем выбиваться из сил и изредка присаживаемся. Справа – круча. По расчету внизу у берега – пост пограничника. ***, идущий впереди, умоляет меня не дышать так громко. А у меня клокочет в груди, с трудом удерживаюсь от кашля. Даже уткнуться в землю, как в Польше, для кашля, здесь негде. Вдруг слышу, как будто шагах в 30 позади нас шаги. Думаю, что нас услышали и идут вслед. Останавливаю палкой ***, который из-за контузии не слышит на правое ухо. Он тоже слышит шаги, но, как потом говорил, думает, что они были на берегу. Минут 15 притаились. Потом опять карабкаемся. Все насквозь пропотело, даже сумка на спине. *** отчаивается найти тропинку и понятия не имеет, где мы находимся. Если заберем слишком вправо, то выйдем в лощину с местечком, что будет пагубно. Уже идем значительно более часа. Все чаще присаживаемся. По нескольку раз падаем. Ползем по отвесным скалам, хватаясь руками за скалы и кустарники. Луна должна взойти в 2 часа, а конца горы, поднимающейся, как казалось, отвесной скалой, не видно. Я с моими 71/2 пудами пыхчу, кувыркаюсь, опять карабкаюсь. Не видно, куда ступает нога. Почти каждый шаг приходится ощупывать, твердая ли почва, не движется ли камень, нет ли обрыва. Небо стало бледнеть со стороны луны. Т. к. поднялись очень высоко, то при остановках осмеливаемся перешептываться. Т. к. почти выбились из сил, а луна всходит, а затем скоро и рассвет, то является предположение, что придется на день остаться здесь, прилегши в камнях и мучаясь от жажды. Снизу от патрулей сравнительно безопасно. Но сверху пастухи могут пасти коз и наткнуться на нас. Над кровавым Днестром, поглотившим столько жертв, да и теперь еще поглощающим, поднимается туман. (Чиновник сигуранци в Бухаресте, когда отговаривал меня идти, говорил, что большевики недавно расстреляли 8 перешедших границу, привязали к трупам мешки с газетами, ругающими румын, и бросили в реку напротив к румынскому берегу.)
Поют петухи и заливаются соловьи, но я не наслаждаюсь природой. ***, которому 30 лет, т. е. вдвое моложе меня, решается с отчаяния взять в лоб остающуюся скалу. Удивительно, как он со своим тяжелым мешком выдержал. Ползем прямо вверх. Руками работаем не менее, чем ногами. К счастью, кустарник прочный, редко обрывается. Все же я еще два раза сорвался и задержался о другой кустарник и скалы. Минут 15 прокарабкались 20—25 саженей. Еще совсем темно. Потом, к счастью, почувствовали под ногами полоску земли, идущей вкось наверх. Вероятно, козья тропка. Пробираясь по ней, вдруг вышли, к нашему восторгу, на вершину горы, где начиналось плоскогорье. Приятная минута. Луна, вышедшая на короткое время за горой, уже зашла. Восток уже заметно светлел. Мы почти вышли к сторожке, где должны были ночевать, т. е. около 1 1/2 версты левее тропы, которую так и не нашли. Всего вместо 25—30 минут шли 21/2часа. Поскорее отошли от обрыва, чтобы наши силуэты с мешками на рассвете не были замечены снизу, и свободно пошли к сторожке. ***, несколько раз ходивший здесь, говорит, что днем не решился бы взобраться напрямик. К нашему огорчению, ее обитателей не было, она была пуста, на запоре, никто не откликался. Внутри слышались часы. Крыша была разрушена. Что случилось с хозяевами? (Как впоследствии оказалось – разрушение от урагана.) Пришлось идти к ним в деревню (версты 3). Идем преимущественно полем, не дорогой, чтобы не встречать никого.
Восток алеет. Светает. У большой деревни (с советом, комсомольцами и т. д.) идем дорогой, спешим, чтобы прийти ранее, чем деревня встает и пойдут на работу. Солнце встает. Совсем светло. Встречаем одного старика, потом другого. Здороваемся. Ответ: «Пошли Бог здоровья». Проезжает телега. Запоздали. Лают собаки. Выгоняют скотину. Наконец подходим к дому, почти на краю деревни. Я захожу за сарай. *** идет на рекогносцировку, все ли благополучно с хозяевами. Оказывается все благополучно. Нас радушно принимают. Сельский интеллигент. Яичница с салом. Есть ничего не мог. Но выпил два стакана чая с лимоном и 8 – 7 стаканов местного вина. Какой восторг после пересохшего горла. Матрац на полу. Уснул как убитый. 8 июня. Встал в 12 часов дня. С наслаждением умылся. Меня, а также и *** всего ломит три дня. На плечах опухоли от сумки. Особенно ноет в коленях, где у меня было ранее растяжение жил. Левая рука в кости болит, в правой была палка, ею преимущественно цеплялся и на нее падал (вправо круча). На всем теле, преимущественно в ногах (и у ***), ссадины, кровоподтеки, синяки. Подмазали йодом ранки. Вчера ничего не замечали. Пообедали – чудный борщ, жареная, домашняя колбаса, рисовая каша, сотовый мед, домашнее винцо. У бедного *** через неделю оказалась от натуги грыжа, и ему предстоит операция. Он несколько раз туда переходил, но в первый раз пришлось так туго и идти без тропы. Поехали парой на трясучей повозке. Урожай, как в Бессарабии, чудный. Море хлеба, почти уже в рост человека. Все время трепещут жаворонки и падают с выси в пшеницу. Несколько русских и молдавских сел малороссийского типа, но более камня. Мы в Молдавской республике. В леску, в овраге, известном бандитизмом, *** приготовляет револьвер. Трясемся на повозке. Тело от вчерашнего ноет. Перепадает дождь. Покатые холмы. У станции еврейская корчма. Сплю. В 11 час. поезд на Одессу. Хозяйка любопытствует, откуда едем. Отмалчиваемся. 3-й («жесткий») класс. Забираюсь наверх, расстегиваюсь. *** говорит, что я храпел на весь вагон и что ночью комендант поезда и агент ГПУ, обходя, уставились на меня, покачали головой и ушли. У меня до Харькова никакого документа (на всякий случай вместе с биографией придумана целая история). Порядки. 9 июня утром Одесса. В гостиницу. Т. к. без ночевки, то документы не спрашиваются. Часа за два до нас выпал небывалый град с куриное яйцо, шел полтора часа. Масса повреждений, и по всему городу выбиты стекла. Пожарные оттаивают на улицах, на низких местах град, слепившийся в аршин толщиной. Мы выехали в 5 час. дня, и град еще лежал, несмотря на жару, в некоторых местах кучами, очевидно, не растаял и к ночи. Пешее большое движение, экипажного почти нет. Редкие народные белые автобусы (единственное белое движение, которое до сих пор заметил). В толпе, как в Харькове, косоворотки, темные и белые рубахи с ремешками, рабочие фуражки, татарские парчовые ермолки. Многие с портфелями – служащие различных учреждений. Обедали на Приморском бульваре. Порт совершенно пуст, без пароходов. Вообще впечатление от Одессы – замирания. Очевидно, вследствие кризиса портовой жизни. Многих рабочих и служащих увольняют. Выехали в маленьком купе «мягкого» вагона. Приятно было растянуться, т. к. мы одни в купе, то и безопаснее, чем в «жестком» вагоне. Рядом с нами в купе – комендант и ГПУ. Порядок и чистота большие. Проводник отбирает билеты и дает квитанцию. В дороге не беспокоят. За бросание окурков в вагоне и на станциях – штраф. Мост в Кременчуге через Днепр охраняется. Окна затворяются. На одной станции тысяч 50 шпал. Поезд ползет более суток. Скорые, говорят, плохо ходят (от Харькова в Москву и Севастополь 16 часов). Вечером, когда *** пошел на станцию, слышу, в соседнем купе спрашивают у двух евреек документы наши соседи. Нет. «Как же в дороге и нет документов?» Уверен, что и меня спросят. К счастью, не спросили. И еврейки как-то доехали до Харькова. В Кременчуге и в Полтаве ел на вокзале. Чай в купе. В Харькове 10-го вечером. Встретил вызванный по телеграфу офицер. Привез в гостиницу «Красная Москва». В тот же вечер раздобыли мне паспорт на 59-летнего Сидорова. Вздохнул свободнее. Комната хорошая, чистая, но без умывальника. *** поехал к жене и матери. 11-го июня. Едем с *** по Сумской. Меня узнает проф. ***, бывший у меня лектором в Севастополе в 20-м году. Поражен. Я недоволен, что сразу узнал. Пригласил обедать. Год был в командировке в Берлине.
Намеревался остаться за границей. Но эмиграция и особенно монархисты произвели на него такое удручающее впечатление своей оторванностью и неспособностью, нежеланием понять, что происходит в России, что предпочел вернуться, несмотря на гнет и придавленность интеллигенции (политическая информация особо). Переполнение и оживление в Харькове страшное. 380 тысяч жителей. Порядок. Хорошие быстрые автобусы ходят с парижской регулярностью. Движение огромное. Та же рабоче-демократическая толпа, портфели, ермолки. Столовые переполнены. Квартирный кризис. Трамваи переполнены. На каждом шагу полуправительственные магазины, кооперативы, «Ларек» и др. Всякого товару и снеди масса, но дороговизна страшная. Жизнь (не говоря про мануфактуру) раза в три дороже парижской. Милиция, внешний порядок. На галерке, стоя в театре. Гастроли Московс. Мал. театра, знакомые артисты. Пьеса Островского. Молодой человек уступил мне сидячее место. После случая с опознанием меня проф. *** ношу на улице очки и кое-что еще изменил в обличье. К хорошо знакомому доктору. Не узнал меня. Минут 10 выслушивал. Кроме эмфиземы, склероза и миокардита (ослабление сердечн. мышц), что было найдено у меня 2 года тому назад в Словуте, когда я был арестован ГПУ, нашел еще расширение аорты. Запретил курить (продолжаю) и предписал водовое лечение. Отложу до обоснования на месте. Потом я ему открылся. Поражен. Как проф. *** говорил, что после встречи со мной не мог сосредоточиться на экзамене, так и доктор сказал, что ему трудно было потом принимать больных. Через день имел с ним интересную беседу. Удивился, что при моем сердце, тучности и летах мог проделать такой трудный переход. Не рекомендует повторять. Из моих земско-кадетских знакомых – почти никого в Харькове не осталось. Придавленность и гнет страшный. Шпионаж вовсю. Прозябание. Несколько времени, как террор усилился, масса арестов и ссылок на Соловки. Доктор говорит, что если б я знал, какой теперь террор, то наверно не рискнул бы приехать (?). Пока лишь общее впечатление от виденного и слышанного и от 3—4 разговоров с лицами. С офицерами (нашими) почти еще не говорил. В деревне не был. Намереваюсь посетить украинскую деревню и великорусскую. Выписал одного человека из Москвы, чтобы подготовить пребывание там и квартиру, так как там мне гораздо опаснее. Как только будет подготовлено, выеду туда и в Петроград. Хотел посетить Волгу, Кубань и Дон, но из-за дороговизны вряд ли придется, если паче чаяния не получу подкрепления из-за границы. Дороговизна убивает меня, т. к. курс доллара искусственно поддерживается в 1 р. 94 к., а размен на черной бирже почти невозможен. Чувствую себя превосходно. Отдохнул от перехода еще в Одессе и на железной дороге. Тело более не болит, ссадины заживают. Желудок хорошо работает, так как двигаюсь, а в Кишиневе слишком много ел и совершенно не двигался из-за конспиративности и отсутствия цели хождения. Правильно сделал, что решился во что бы то ни стало побывать в России, даже после моей неудачи 2 года тому назад. Необходимо личное общение эмиграции с Россией. Как оживились те немногие, с которыми пришлось видеться. Один назвал меня первой ласточкой (это я-то ласточка!). Через несколько месяцев после моего отъезда (вероятно, придется уехать за границу, т. к. при затяжном процессе здесь пребывать и работать мне небезопасно, да и нельзя) я уполномочил и принял меры к более широкой огласке здесь моей информации через некоторое время после моего выезда из России, о наших центральных эмиграционных течениях, в отличие от партийно-монархических, которые приносят огромный вред эмиграции, превращая ее в Кобленц, обрекая на отчуждение от противобольшевистской здешней публики, которая совершенно отрицательно относится к партийности. Хотя милюковская, республиканская партийность не менее вредна, чем монархическая, но она здесь менее заметна. А монархическая партийность придает колорит всей эмиграции. То, что нам было ясно и в эмиграции, отсюда еще нагляднее представляется, а именно, что те, кто теперь не могут подняться на национально-надпартийную высоту и играют в монархические игрушки, обрекают себя на вечную эмиграцию и вредят делу слияния эмиграции со здешней противокоммунистической публикой. О зарубежном съезде и «Возрождении» советские газеты довольно много писали. И то, что по этим газетам и по редким доходящим слухам публика здесь узнала, она в съезде и в позиции Струве разочарована. Объясняю здесь всюду мудрую позицию в. кн. Н. Н. – ча. О нем знают, но как о чем-то очень отдаленном и реально-проблематичном, мало интересуются. Это все мои первоначальные, еще поверхностные впечатления. Могут впоследствии быть коррективы. Войны и интервенции никто не хочет. Добрармия оставила здесь плохие воспоминания (командование Май-Маевского, ген. Шкуро). О Врангеле лучшего мнения, чем о Деникине, как более властном и упорядочившем, по слухам, фронт и тыл. Его в 20-м году ожидали с нетерпением. Теперь более верят в эволюцию, в финансово-экономический кризис, в падение червонца. Желают экономической блокады Европой. Боятся положительных результатов франко-советских переговоров. Надо все сделать, чтобы повлиять на французов, предостеречь общественное мнение. Все политические организации должны этим заняться. Недостаточно делается. Задача момента. Привет друзьям от лимитрофов.
Задержался в Харькове, т. к. не удалось еще связаться с Москвой и кое-что еще здесь доделать (организовать). Уже более трех недель живу здесь все в гостинице (хорошей), что и дорого, и с конспиративной точки зрения плохо. Вообще пора переменить место. Кроме проф. ***, узнавшего меня на улице в первый день, по слухам, меня узнал еще один господин, знавший меня в Севастополе. Может быть, еще и другие узнали. Неприятно бывает, когда вглядываются, оглядываются на меня. Правда, вид у меня – обросший, необычный – среднее между К. Марксом и богом Саваофом. Днем на людных улицах и в трамваях стараюсь менять обличье (очки, прихрамываю и пр.). Был раз в театре, 2 раза в кино «Коллежский регистратор», Пушкинский «Станционный смотритель» с переделанным концом, очень хорошие русские, зимние пейзажи, тройки ямщицкие, деревни, лес и пр. Народа всюду масса, оживленная жизнь бьет ключом, несмотря на дороговизну (в 3 – 31/2 раза дороже Парижа). Хороши трамваи, автобусы, милиция, пригородные поезда в дачные местности. Плохи тротуары и поливка. Пыль. Жара и духота. Замечателен молодой (лет 25) загородный парк – подражание лесу с березовыми, хвойными и лиственными рощицами и лужайками. Запущен. Полная иллюзия натурального леса. Часто бываю в нем, лежу, читаю. В Троицын день за небольшую плату – гулянье. Десятки тысяч. Переполнен. На свидания для разговоров езжу туда же. Арест милиционером какого-то субъекта и отобрание у него револьвера. Другой раз арест на улице несколькими милиционерами сопротивлявшегося ломовика. У конных милиционеров – хорошие лошади жандармского типа. На базаре арест крестьянки, торговавшей без свидетельства. Она удачно упиралась и сопротивлялась двум милиционерам, которым, кажется, так и не удалось ее арестовать. Рынок старый, крытый, благоустроенный, чистый. Вокруг лавки ларьки, латки и телеги крестьян. Продуктов масса, как и в магазинах, но все на валюту страшно дорого. Обед в маленькой столовой из двух блюд (хороший) 65—80 коп. Милиционеры подают знак свистком, и извозчики и ломовики беспрекословно сворачивают. В столовых, на улицах почти все одеты бедно, демократично: рубахи белые или темные, толстовки, косоворотки, молодежь – много рабочих и под рабочих в кепках или татарских ермолках (на это теперь идет парча), с засученными рукавами, с открытым воротом, с решительным видом. У очень многих – портфели, т. к. все служат. Очень распространено радио. На массе домов – радиоприемники. На некоторых площадях вечером – громкоговорители. Часто слушаю таким образом популярные лекции, музыку. На бульварчике вечером на «горке». Изредка видаю *** в больничном саду и *** у него (с женой). Раз к вечеру поехал на дачу к ***. Дожидался на скамье часа полтора. Узнал. Обрадовался. В дачных поселках – водопровод и электричество. Немного поговорили. Условились видеться в Харькове (в противоположность *** сменовеховцу ***, говорит: «Власть стоит вверх ногами, все на обмане»). В Полтаве рабочие беспорядки недавно были, пришлось им прибавить, милиция не могла ничего сделать и т. п. Но гнет и запуганность страшные. Дачные поезда (канун Троицы) отходили из Харькова переполненными. Поезда – аккуратно. Порядки. Чистота в вагонах. Троица по ст. ст. 22.VI. В приходской церкви – мало народу. В трех соборах (Благовещенский на базаре, кафедральный и украинский) народу много. Величествен, своды. Во всех трех пение превосходное, в одном лучше другого. Не уступают лучшим московским хорам. Потом часто ходил в эти соборы на всенощную и к обедне в воскресенье. Сидел на скамейке и наслаждался чудным пением (склонность к концертам) и наблюдал молящихся. Есть молодежь, но немного. Как будто свобода религии. Церкви открыты, колокола гудят на главных улицах. А служащие в некоторых учреждениях и, например, студентки боятся ходить, чтобы не потерпеть. В церкви видел вновь старую Россию, степенный староста с тарелкой, седой сторож-мужичок в кафтане с седой бородкой, истово крестившийся, на вид старый чиновник, ставящий свечи, прикладывающийся ко всем иконам, молодой рабочий или приказчик в серой блузе с симпатичной женой в платочке и 3 сыновьями 4—6 лет в таких же блузках, которых они заставляют хорошо стоять, наклонять головы и т. п., более пожилых женщин. Усердно молятся. В соборе служит митрополит, в хоре поют солисты из оперы. На Украине автокефальная церковь. Среди духовенства полный раскол, много живоцерковников. Духовенство оказалось не на высоте: плохой отпор большевикам. В украинском соборе – службы по-украински («нехай будэ благословение Божие на Bcix вас», «нехай прiидэ царствiе Твое» и т. п.). В конце всенощной поется молитва – гимн украинский за спасение Украины. Большинство становится на колени. До чего разлад и падение духовенства: утверждают, что один архиерей – чекист. Т. к. в Троицу столовые и булочные открыты, то в понедельник – Духов день по ст. ст. попался: все было закрыто. Провизией не запасся. Даже кипятку нельзя достать. Наконец надоумили пообедать на вокзале, где купил и хлеб. Оказывается, в Духов день теперь празднуется День отдыха. По вечерам хорошие концерты на площадях, громкоговорители. 22.VI в 5 час. на главной площади демонстрация против английского меморандума. Хорошо организовано. Принуждены все служащие в учреждениях идти, как и от сбора в пользу английских забастовщиков нельзя отказаться, так что то и другое – принудительный характер. Часа полтора стоял в толпе. Масса красных знамен с золотыми надписями. Картонные плакаты (5 – 7 тысяч). С балкона Дворца труда главари украинской республики и профессиональных союзов – речи. Аплодисменты, ежеминутно – Интернационал (проф. союзн. оркестры). Резолюция принимается поднятием руки. Я руки не поднимал и фуражки не снимал во время Интернационала. В Полтаве были на днях рабочие беспорядки. Милиция и войска не могли или не хотели с ними справиться, и рабочим прибавили плату. Слухи, что в Москве крупные рабочие беспорядки (проверить). В газетах, разумеется, ничего. Евреев очень много в Харькове (80 000?). Во всех учреждениях доминируют. Антисемитизм очень силен среди интеллигенции и, говорят, среди крестьян. В воскресенье на ту же дачу по ж. д. Народу масса. Все время страшная жара (36°). Перепадают небольшие дожди, грозы. И ночи душные. Пообедав у ***, пошел с ним к ***. Интересный разговор о местных настроениях. Все (и жены и дочери) служат в различных учреждениях. Жена *** из Чернигова, знала Николу (нашего старшего брата. – П. Д.). Пьем чай, кофе, вино в саду. Потом с *** и ребятишками идем по хорошей лощинке с хатами к пруду, где купаемся. Огромное наслаждение. Живописное место. Покос в разгаре. Чисто малороссийский пейзаж. Затем присутствовал на домашнем концерте, *** отличный пианист. Со скрипкой и виолончелью – трио Аренского и Чайковского. Потом ходил с *** по рельсам и разговаривал. Говорят, что крестьяне ругают большевиков, но пассивны. Мои прогнозы как будто верны. Поезд и трамваи переполнены. Философское восприятие. Разговор с проф. *** в парке. Выясняется его окончательное сменовеховское пасование пред большевиками, как пред стихией, отсутствие национального чувства, трусость (сваливает на жену). Просил больше у него не бывать. Дороговизна устрашает меня. За доллар, который в Париже представлял большую величину, здесь дают всего 2 р. 20 коп., т. е. в день минимально надо истратить 6 – 8 руб… Вероятно, весь план поездки поэтому не придется выполнить; Волгу, Кубань отставить, а жаль, раз что я уже здесь. Телеграфировал в Париж… Семенову, еще переслать 150 дол. Скоро мой фонд истощится. На улицах полное отсутствие войск и военной музыки. Может быть, в лагерях? Томлюсь в гостинице. Ремонт. Грязь и вонь. Прислуга отвратительная: 5 раз горничная совсем не убирала. Надеюсь завтра съехать на квартиру.
Целыми днями иногда нечего делать. Информационная и организационная работа идет своим чередом, но туго. Масса препятствий. Конспиративность и запуганность. Меня, как нового человека, боятся. Связался с офицерским кружком и с некоторыми другими лицами. Много разговору, результаты малые. Необходимо более частое и живое единение с эмиграцией. Много потерял времени на связь с Москвой (для организации приезда туда), но пока безуспешно. Еще 14-го написал *** с просьбой, чтобы он приехал сюда, или ***, или ***. До сих пор нет ответа. Поручил 20-го офицеру побывать от моего имени у *** и спросить ответ. Он пишет, что адресат испугался при его приходе и захлопнул дверь. Поручил другому (вчера) разыскать *** или ***. Досадно. Придется завоевывать Москву. Очевидно, запуганы и лучшие друзья, которые в 18-м году самоотверженно мне помогали спастись из Петропавловской крепости и бежать из Москвы, а теперь трусят и смотрят на меня как на пришельца с того света. При таком отношении и запуганности лучших и надежнейших друзей трудна будет организационная деятельность. Если числа до 7-VII не удастся связаться и подготовить приезд (квартиру, ночлег, документ я имею), то придется ехать уже так и самому там устраиваться, хотя в Москве это мне не легко и днем на улице там мне вряд ли много можно показываться, раз что в Харькове меня узнавали. Плохой симптом гнета и пришибленности, если с 18-го года с людьми произошла такая метаморфоза. Очень это меня огорчает. Писал я со всеми предосторожностями и вполне конспиративно. И не только не приехали в Харьков, чтобы повидаться, но даже ни строчки. Осторожность необходима, но трусость, особенно у мужчин, противна. Мало гражданской доблести, оттого и проигрываем. Разочарован в этом отношении в интеллигенции и больше вижу мужества у военных, у военной молодежи. Они полны жертвенности идти по первому призыву. Но инициативы в революционной работе и у нее мало. Рад видеть Россию, русскую природу, русских людей, но подобное возвращение и пребывание на родине, очевидно, будет не радостное. Морально не весело постоянно быть начеку, видеть в каждом «товарище» возможного врага, а приятели… в кусты. Посмотрим.
Извозчиков много на дутых шинах. Характер толпы (опрощенной, часто нарочито демократической) совсем иной. Вывески совершенно непонятны, кроме сокращений – украинизация. Рад, когда прочитаешь – парикмахер, папиросы… Говорят все по-русски, всюду, хотя для службы требуется для всех, даже профессоров, сдача экзамена украинского языка. Через два года собираются в университете преподавать по-украински. Профессора в отчаянии. Прочел в газетах, что в Ровно (в Городке) убит сподручный Петлюры атаман Оскилко. Я его хорошо знал и видел чуть не каждый день у Штейнгеля в Городке, где его жена была в школе учительницей. Он был щирым самостийником и придерживался из тактических соображений польской ориентации, издавая в Ровно газету «Дзвин» с польской субсидией».
Какова же была цель этого второго путешествия брата в Россию, предпринятого с таким трудом и с таким риском? После первой неудавшейся попытки проникнуть в Россию он сам старался выдвинуть чуть ли не главной побудительной причиной ностальгию, желание на старости лет еще раз взглянуть на родину. После его ареста в Харькове его заграничные друзья также выдвигали этот мотив на первый план, желая смягчить его участь или, по крайней мере, не ухудшить ее. Теперь, по прошествии пятнадцати лет после его смерти и по ознакомлении с некоторыми материалами, нельзя не признать, что главною и почти единственною целью его стремления в Россию была цель политическая. Но, зная и его политическую зрелость, и его темперамент, нельзя предполагать, чтобы он пошел на какую-нибудь легкомысленную авантюру. Он не имел намерения приступать к немедленной организации какого-нибудь переворота и еще менее террористического акта. Чувствуя оторванность русской политической эмиграции от России, он хотел освежить у русской эмиграции чувство Родины. Сознавая отсутствие организованной связи между нами и антибольшевистски настроенной частью русского народа, он считал необходимым завязать и укрепить эту связь. Он понимал, что и эта задача трудная и длительная. Окончательные выводы из своих впечатлений и из его рекогносцировочно-информационного путешествия он сделал бы позже. И лишь потом он, на основании этих выводов, приступил бы сам к выработке тактического плана или предоставил бы это другим. Затем он считал необходимым кому-нибудь из старшего поколения показать другим пример труда, подвига и жертвенности, нужных для активной работы по спасению России. Может быть, наконец, он своим появлением из заграницы в СССР и отчасти предполагавшимися и ведшимися беседами хотел побудить находившихся «там» к большей активности; хотел расширить политические перспективы у дезориентированных и запуганных многолетним террором людей, напомнив им о гражданском долге и призвав их к работе по спасению родины.
И даже большевистскому следствию, продолжавшемуся в течение его одиннадцатимесячного сидения в тюрьме и готовившему материал для громкого политического процесса, не удавалось в его действиях найти состава преступления. Только уже после расстрела Павла Дмитриевича в большевистской прессе наряду с другими ложными сведениями о нем, как, например, о том, будто он был руководителем русских эмигрантских монархических организаций, появилось сообщение, что он намеревался устроить какую-то организацию пятерок. О том, что состава преступления в действиях Павла Дмитриевича не найдено, свидетельствует и тот факт, что арестованные в Харькове в связи с его делом четыре его знакомых земца и члены кадетской партии, с которыми он в Харькове общался, вскоре были выпущены на свободу без всяких для них последствий. И наконец, о том же говорят и полученные через одно лицо, ныне уже умершее, заверения назначенного Павлу Дмитриевичу правозаступника, а именно, что его жизни опасность не угрожает и что самое большее, что его ожидает, – это ссылка куда-нибудь на север за незаконный переход границы.
Арестован был Павел Дмитриевич 13 июля 1926 года, когда он пробирался в Москву после почти двухмесячного пребывания в Харькове. Когда, собственно, он был опознан большевиками и когда началась слежка за ним, установить невозможно. Существовало у некоторых, правда немногочисленных, лиц предположение, что ГПУ было в курсе его планов еще до перехода им советской границы и что оно все время за ним следило. Но эта версия никакого подтверждения в дальнейших фактах не получила. Брат принимал всевозможные меры для законспирирования своего предприятия. Например, он изменил свою внешность, имел фальшивый паспорт и пользовался условными словами и несколькими фамилиями. Но надо признать, что трудно найти человека, менее его подходящего для конспирации, как по своей наружности, так и по своей смелости, доверчивости и неосторожности. Вот два бывших с ним в Харькове случая, рассказы о которых дошли до меня. Один человек, который хорошо знал меня в России, но брата никогда раньше не видал, встретив его, принял его, несмотря на измененный вид, за меня, вследствие сохранившегося у нас до последнего времени сходства, и воскликнул: «Петр Дмитриевич, вы ли это? И в таком виде и здесь!» На это брат, застигнутый врасплох, ответил незнакомому ему человеку на людной улице среди белого дня: «Нет, я Павел Дмитриевич». А вот другой случай. Он был однажды на каком-то представлении в театре и сидел на галерке. Когда после представления во время игры или пения Интернационала все встали, он не встал и не снял шапки. Сидевший с ним рядом пожилой человек, думая, что это деревенский простолюдин, стал его подталкивать, но он спокойно отвел его руку и продолжал сидеть как ни в чем не бывало. Тогда тот прошептал: «Что ты, дедушка, Толстой, что ли, с того света пришел?»
Его пребывание в Харькове затянулось на много дольше, чем он хотел, и он сам считал это опасным с конспиративной точки зрения. Он считал также нежелательным трехнедельное проживание его в гостинице. Причин этой задержки было две. Первая – это запуганность тех лиц в СССР, на помощь которых он рассчитывал и которая его не менее огорчала, чем равнодушие эмиграции в Париже. Вторая причина – недостаток денег, главным образом из-за принудительного низкого курса привезенных им с собой долларов, а также из-за страшной дороговизны. Это заставило его прибегнуть к такому неосторожному шагу, как посылка в Париж телеграммы, хотя и под вымышленным именем, с просьбой о переводе ему полутораста долларов. Недостаток денег тоже заставил его, как он писал, действовать более кустарно, чем он раньше намеревался, а кроме того, сократить свой маршрут, не побывав, например, как он предполагал, в Волжском районе. В начале июля брат решился наконец ехать в Москву, хотя принять все необходимые меры предосторожности не оказалось возможным. Как видно из одного его письма в Париж еще из Кишинева, он просил содействия в устройстве ему одной конспиративной явки недалеко от Серпухова. Эта комбинация не удалась, и он, по-видимому, решился идти в находящийся верстах в десяти от станции Лопасня женский монастырь, игуменьей и основательницей которого была наша родная тетушка престарелая мать Магдалина, в миру графиня Орлова-Давыдова, ныне уже покойная. Шаг опять-таки рискованный, так как, если бы даже тетушке удалось при неожиданной встрече с ним и, может быть, в присутствии других не выразить удивления, он все же мог быть узнан другими. Из монастыря он, неизвестно каким способом, хотел пробраться до Москвы. На станции Лопасня он был арестован и отвезен обратно в Харьков, где и был заключен в тюрьму ГПУУ (Украины) на Чернышевской улице.
Глава 6 Одиннадцатимесячная тюрьма и расстрел
Большевики продолжительное время не объявляли об аресте Павла Дмитриевича, и за границу в течение нескольких месяцев проникали разные, иногда противоречивые сведения относительно места его заключения. По одним сведениям, он содержался в Харьковской тюрьме, по другим – в Москве во «внутренней» тюрьме. Я еще в декабре получил письмо от редактора «Руля» И.В. Гессена, в котором было сказано: «Получил печальную весть об аресте Павла Дмитриевича. По-видимому, это сообщение исходит от одного индуса, который просидел пять лет в разных советских тюрьмах и теперь, наконец, отпущен и прибыл в Ригу».
Через пять дней тот же И.В. Гессен пишет: «Павла Дмитриевича предполагают судить. Представьте себе, что за него чрезвычайно рьяно хлопочет известный большевик Рязанов и надеется добиться ликвидации дела без суда. Во всяком случае, жизни его опасность не угрожает».
А вот что писала мне 31 декабря 1926 года Е.Д. Кускова: «Очень, очень хорошо, что за него хлопочет Рязанов. Между прочим, Рязанов состоит директором Института Маркса и Энгельса, помещающегося в московском особняке Павла Дмитриевича».
Затем выяснилось, что официальные справки о брате можно получать через Международный политический Красный Крест и, в частности, через работающих в нем Е.П. Пешкову (жену Максима Горького) или через Веру Фигнер и что через это же учреждение можно оказывать заключенным материальную помощь. После долгого состояния неизвестности о положении брата при уверенности, что он арестован, но без официальных данных, которые бы давали возможность если и не хлопотать о нем, то оказать ему помощь, в начале декабря 1926 года, наконец, мной были получены и таковые. Это дало возможность вступить с ним в переписку. 22 февраля 1927 года Е.П. Пешкова в письме из Варшавы (по дороге в Сорренто) сообщила, что судьба брата решится на днях и что она «перед отъездом получила заверение, что ничего страшного П. Д. не грозит. Дело будет разрешено судебным порядком. Когда мне давали справку о Пав. Долгорукове, мне сказали, что при содержании его обращено внимание на его возраст. Посылаем ему белье от нас и продуктовую посылку на 20 р., внесенные двумя его прежними знакомыми».
16 января 1927 года мне писал А.В. Карташов из Парижа, что ему пишут из Риги от 2 января: «Только что приехал из Харькова мой хороший знакомый. Он рассказывал, как арестовали князя Долгорукова и еще четырех лиц. В настоящее время все, кроме князя, выпущены, но выпущены они такими, что стали походить не на живых людей, а на какие-то движущиеся скелеты. По сведениям опытных людей, Павлу Дмитриевичу ничего трагического не угрожает, так как ничего компрометантного, по-видимому, нет! Но все же он сидит и будет сидеть до суда».
Из тюрьмы брат написал мне несколько открыток и закрытых писем с обратным адресом на верху письма: «Харьков, Чернышевская улица, ГПУУ». По этому адресу я ему все время и писал.
Еще 1 августа, уже находясь в тюрьме, брат написал кому-то в Харькове до востребования нелегально посланное им из тюрьмы письмо, написанное карандашом на клочке бумаги, измененным почерком и по новой орфографии, подписанное «Ив. Савельев». Письмо это впоследствии было доставлено за границу также, конечно, нелегальным способом. Большую часть этого законспирированного письма понять трудно. Дело шло о неудавшейся поездке в П. (вероятно, в Полтаву), откуда пришлось вернуться в X. (в Харьков) с вокзала, не побывав в городе и не попав в родной К. (?) В письме говорилось о каком-то коммерческом предприятии, об оконченной оценке и приеме товара, о несостоявшемся заседании правления… В конце письма брат писал: «Коммерческие дела Михаила Петрова не важны. В минуты откровенности он сознается, что дело рушится, но его не оставляет надежда на дальнейшее будущее, надеется, что через несколько времени (лет?) дело еще наладится. Он совершенно бодр и спокоен относительно своей участи и относится к ней философски. Единственно, что его мучает, – это то, что он подвел своим крахом компаньонов, которые потерпели из-за доверия к нему. Материально (еда, помещение) он пока обставлен вполне удовлетворительно благодаря жизни у мачехи. Иски в суде будут рассматриваться в X., вероятно, не ранее декабря. Разумеется, от этого суда нельзя ожидать ничего хорошего. Но он спокойно к этому относится, сознавая, что в коммерческом деле без риска нельзя, и считал бы себя даже счастливым человеком, если бы не убытки доверившихся ему компаньонов. Если вернетесь восвояси, то постарайтесь передать поклон брату и сказать ему, что он может обо мне не заботиться, теперь я чувствую себя вполне хорошо. Я пролежал около 3 недель в больнице, теперь устроился в доме отдыха, очень хорошем».
Под «домом отдыха» явно подразумевалась тюрьма; адресатом Павла Дмитриевича был, вероятно, его спутник по походу в Россию, офицер-эмигрант. А явная и даже неудачная иносказательность этого письма видна хотя бы из того, что «коммерсант», сообщая о постигшем его «крахе», говорит в конце письма, что он счастлив! (Счастлив, очевидно, от чувства исполненного им своего долга.)
Тюрьма, в которой брат провел одиннадцать месяцев, была, по-видимому, действительно относительно хорошая. Это объясняется тем, что она являлась для СССР образцовой и была показной: в ней содержались арестованные иностранцы и она посещалась консулами соответствующих государств. Все письма брата из тюрьмы отличаются спокойствием и бодростью. Он благожелательно отзывается даже о тюремных надзирателях. Вряд ли это можно объяснить тем, что он принужден был так писать или лишь желанием успокоить этим своих близких: скорее это следует приписать действительно его спокойному темпераменту и жертвенному стоицизму. Характерно для его настроения в тюрьме письмо его от 17 февраля 1927 года, в котором он писал: «Получил твое письмо от 31/ХП. Был страшно обрадован. Чувствую себя очень хорошо. Здоровье по возрасту хорошо. Материально обставлен вполне удовлетворительно и ни в чем не нуждаюсь. Хотя у меня только летняя рвань, но франтить не перед кем. К счастью, я привык к холодной одежке еще с Москвы и, когда менее 10°, гуляю по двору в летнем. Да и в эмиграции я не избалован и последнюю зиму жил в Париже в мансарде без печи и электричества. Теперь я живу в бельэтаже, электричество, центральное отопление. В камере оч. тепло. Стол улучшенный, гигиенический, вполне сытный. Итак, по обстоятельствам, относительно обставлен хорошо. Я совершенно спокоен и бодр. Ведь я шел на это, сознавая, что мало шансов не быть узнанным, особенно в Москве. Я прожил в Харькове на свободе и был опознан и арестован 13/VII уже под Москвой. Обращение чинов ГПУ вполне корректное и предупредительное (разрешение лампы, улучшенного стола, обливание теплой водой, ежемесячное омовение и проч.). Всего более имею соприкосновения с надзирателями (из красноармейцев). Тут достижение огромное: не только со мной, но и со всеми без исключения заключенными (а есть и беспокойные) обхождение вежливое, гуманное и я за 7 месяцев ни разу не слышал (по коридору) ни одного окрика или грубости. Со мною, как со стариком, даже иногда трогательно внимательны и стараются по возможности облегчить мою участь. С некоторыми из надзирателей готов был бы прямо подружиться при других обстоятельствах: такие славные парни! Читаю много. Наслаждаюсь чтением. Выбор книг довольно удовлетворительный. День проходит удивительно быстро. Вчера получил чрез Пешкову (Горькая), которую я знал по Художественному театру, из Москвы 10 р. от Политического Красного Креста. До решения моей судьбы на суде мне ничего не нужно. Желаю всем быть столь же бодрыми, что и я».
В другом письме он парадоксально утверждал, что в тюрьме он наслаждается свободой от текущей суеты, срочных обязательств, ответственных шагов. Интересно, что при заключении в Петропавловскую крепость в ноябре 1917 года, как он пишет об этом в «Великой разрухе», он испытал то же чувство свободы – освобождения от всех забот и жизненной суеты.
Несмотря на то что компетентные люди из СССР сообщали, что суд должен состояться в скором времени, следствие все затягивалось. Доходили слухи, что готовится громкий политический процесс. Но вероятно, не удавалось напасть на достаточно интересные данные для обвинительного акта. Понятно, что по мере затяжки дела тревога среди родственников и знакомых заключенного росла. В конце февраля в иностранных и русских заграничных газетах появилось известие о расстреле Павла Дмитриевича, изо дня в день повторявшееся. После нескольких тревожных дней я решился послать в Москву Е.П. Пешковой телеграмму с оплаченным ответом. 2 марта последовал от нее следующий ответ: «Communication fausse hier regu lettre votre frere remerciant argent».[22]
Советская пресса откликнулась на сообщение о расстреле позже и вот в каком пошло-фельетонном стиле. 9 апреля 1927 года в советских официальных «Известиях» появилась статья под заглавием
Знатный путешественник, или как застрял в Харькове князь Павел Долгоруков
«В 1924 году этот бодрый старик (ему около 60 лет) перешел нелегально границу, желая «поработать» в СССР. Но принужден был экстренным порядком поворотить назад оглобли.
В 1926 году он повторил свою попытку. Добыв документы на имя Ивана Васильевича Сидорова, он проживал некоторое время в Харькове. Князь все время устраивал свидания со «своими» людьми. Все это были давно утихшие старички и старушки, бывшие земские деятели, увядшие либералы, засохнувшие кадеты. Когда Долгоруков перед этими «мощами» выкладывал свои планы, они отмахивались от князя всеми имевшимися в их распоряжении руками и ногами.
В свое время в белой печати сообщали: «В Харькове арестован прибывший туда нелегально из-за границы князь Павел Долгоруков и приговорен к смертной казни». Через неделю прибавили: «Приговор над князем Долгоруковым приведен в исполнение». Вслед за этим специально приспособленные «очевидцы» и «собственные корреспонденты» описывали подробности казни Долгорукова. Какое мастерство! Какая сила воображения! Получился, как говорится у Чехова, сюжет, достойный кисти Айвазовского. «Глубокой ночью (моросил мелкий дождик, луна была заблаговременно спрятана за темные большевистские тучи) чекисты в кожаных тужурках, обвешанные кинжалами и пулеметами, увели князя далеко за город… На холме (под которым зарыты тысячи большевистских жертв) князь стоял с гордо поднятой головой и провозглашал лозунги за «единую, неделимую». Перед самым расстрелом князь нечаянно обронил слезу, она упала на жилет, с жилета на штиблет, с штиблета на национализованную землю…» А дело обстоит совсем иначе. Князь действительно «застрял» в Харькове, находится в учреждении, которое ввиду преклонного возраста князя заботится о том, чтобы он сидел на одном месте. Но о смерти князь не думает».
А сам князь писал в своем письме из Харьковской тюрьмы 9 мая, то есть ровно за месяц до своего действительного расстрела: «Мне здесь сказали, что за границей в газетах появилось известие о моем расстреле в Москве. Сообщи родственникам и друзьям, что я считаю известие о моей смерти преждевременным».
Писал он это с присущим ему спокойным юмором, который в данном случае, когда знаешь о происшедшем потом, звучит так трагично пророчески. В эмиграции некоторые предполагали, что эти слухи о состоявшемся будто бы расстреле Павла Дмитриевича пущены самими большевиками с провокационной целью добыть, наконец, какой-нибудь обвинительный материал для предстоящего процесса ввиду слишком затянувшегося следствия. Известие о смерти будто бы развяжет многим языки, и конспирация сделается менее осторожной. Возможно и другое объяснение. Слишком естественным является вообще появление разных неверных слухов, а в данном случае особенно, при столь затянувшемся следствии и при нервном напряжении стольких лиц, следивших за исходом дела. Вполне возможно, что это сенсационное известие впервые появилось на страницах какой-нибудь эмигрантской русской газеты.
Н.И. Астров в письме своем от 1 марта 1927 года, еще до получения мною успокоительной телеграммы от Е.П. Пешковой, как бы подготовляя уже меня к тому, что может случиться с Павлом Дмитриевичем в будущем и что действительно и случилось, писал: «Я все же хочу сохранить надежду, что сообщенное в газетах известие ложно. Но душа болит, сознавая нашу беспомощность. Мы непостижимо молчим и бездействуем. Когда мои братья были убиты в Москве большевиками, Павел Дмитриевич пришел ко мне в Ростове и сказал, что в наших условиях борьбы мы не можем и не должны искать утешения в печали. Я понял его слова и запомнил их».
В советском официозе «Правда» от 19 апреля 1927 года телеграммой ТАСС из Харькова напечатаны следующие сведения, сообщенные корреспонденту «председателем тамошнего ГПУ товарищем Балицким о бывшем князе Павле Долгорукове: он был членом Государственного совета в 1905 г. Были даже разговоры, что в случае свержения монархии Долгоруков будет президентом республики, в 1917 г. он бежал и, как активный враг советской власти, декретом Совнаркома, был объявлен вне закона. После этого Долгоруков связал свою судьбу с монархической эмиграцией. Летом 1924 г. Долгорукову, перешедшему границу со стороны Польши и задержанному советской пограничной стражей, удалось вскоре бежать за границу».
Тут что ни слово, то неправда, обнаруживающая легкомысленную неосведомленность или заведомое желание дезинформировать.
Между тем наступила и прошла весна. Следствие все тянулось, и за границу все поступали известия, что вот-вот будет назначено дело, которое должно окончиться легким сравнительно наказанием за нелегальный переход советской границы. Но 7 июня произошло в Варшаве убийство советского посла Войкова, участника екатеринбургского злодеяния, гимназистом Борисом Ковердой. А в ночь с 9 на 10 июня в СССР были расстреляны 20 человек, и в том числе Павел Дмитриевич, находившиеся в разных местах, между собой незнакомые и никакого отношения к варшавскому убийству не имевшие. Некоторые из них были арестованы по другим делам и долго сидели в тюрьмах. Другие, как, например, Б.А. Нарышкин, инвалид Великой войны, ходивший на костылях, сын бывшего сенатора и товарища министра земледелия, находились на воле и были арестованы непосредственно перед расстрелом. Вот список 19 расстрелянных вместе с братом: Эльвенгрен, Малевич-Малевский, Евреинов, Скальский, Попов, Щегловитов, Вишняков, Сусалин, Мураков, Павлович, Нарышкин, Попов-Каратов, Микулин, Лучев, Карапенко, Гуревич, Мазуренко, Анненков, Мещерский. Против каждой фамилии стояла «мотивировка» приговора. «Мотивировка», касающаяся Павла Дмитриевича, была следующая: «Долгоруков Павел, бывший князь и крупный помещик, член ЦК кадетской партии, который после разгрома белых эвакуировался с остатками врангелевской армии в Константинополь, где состоял членом врангелевской финансовой контрольной комиссии, затем переехал в Париж, где являлся заместителем председателя белогвардейского Национального комитета в Париже, принимал руководящее участие в зарубежных монархических организациях и их деятельности на территории СССР; в 1926 году нелегально пробрался через Румынию на территорию СССР с целью организации контрреволюционных, монархических и шпионских групп для подготовки иностранной интервенции».
Сообщение о приговоре заканчивалось следующей фразой: «Приговор приведен в исполнение.
Председатель ОГПУ Менжинский
Москва, 9 июня 1927 года».
Так долго готовившийся суд над Павлом Дмитриевичем не состоялся, и «высшая мера наказания» применена по бессудному постановлению ОГПУ. Таким образом, обнадеживающее предсказание, якобы сделанное большевиком Рязановым, что дело, может быть, обойдется без суда, исполнилось, только не в лучшую сторону, а в худшую. В № 30 «Борьбы за Россию» от 18 июня 1927 года, почти целиком посвященном расстрелу 20, было напечатано: «Инициаторами расстрела, по данным московской рабочей группы, весьма осведомленной обо всем, что происходит в Кремле, являются Орджоникидзе, Уншлихт и растерявшийся Сталин. Часть членов коллегии ОГПУ вместе с Менжинским были против массового расстрела, и князь Долгоруков был включен последним в список подлежащих расстрелу после продолжительного совещания членов коллегии ОГПУ и Политбюро».
А в обнародованных списках его имя всюду поставлено было первым.
Тогда как известие об аресте брата проникло за границу лишь через несколько месяцев, сообщение о расстреле двадцати было немедленно же разнесено телеграфом по всему свету, хотя о большинстве бессудных расстрелов, как единоличных, так и групповых, большевики обыкновенно умалчивают. По-видимому, в данном случае имелось в виду не столько наказание или месть, сколько устрашение, предупреждающее террористические акты против большевистских агентов. Выбраны были, вероятно, более или менее заметные люди, расстрел которых мог произвести наибольшее впечатление в тех или других кругах. Неизвестно, были ли они раньше намечены в качестве заложников, но об этом ни им, ни кому-либо другому не было заранее объявлено. Таким образом, эта расправа не подходит даже под такое сомнительное юридическое понятие, как заложничество.
Согласно большинству частных и газетных сообщений, расстрел всех 20 лиц был произведен одновременно в Москве. Так как, безусловно, брат находился в заключении в Харькове, то, следовательно, надо предположить, что все намеченные жертвы были спешно привезены в Москву из разных мест и там вместе расстреляны. Сообщались и такие подробности, что «князь Долгоруков держался мужественно и ободрял других». Передавали, будто «кн. Долгоруков перед расстрелом потребовал, чтобы ему дали умыться, и красноармейцы хотя и исполнили его просьбу, но смеялись над ним, не зная, очевидно, что таков старинный русский обычай: по возможности прийти в могилу чистым. А в данном случае нельзя было думать о омовении тела после смерти».
Вот что писала латвийская газета «Саргс» в номере от 18 июня 1927 года: «Все приговоренные к смертной казни уже утром 9 июня были переведены из Бутырской тюрьмы во внутреннюю тюрьму ГПУ. От обреченных не скрывали ожидающей их участи. Наиболее хладнокровно к этому отнеслись князь Долгоруков и Нарышкин. Приговоренный Коропенко лишился разума, и его пришлось отвезти на место казни связанным. Во внутренней тюрьме ГПУ смертники были помещены в общей камере. Некоторые из них выразили желание написать прощальные письма своим близким. Им в этом было отказано. Несколько лиц, настаивавших на своем праве написать письмо, были выведены в соседнее помещение и там избиты. Расстрел 20 жертв красного террора был совершен в ночь на 10 июня в подвальном помещении ГПУ. В расстреле участвовали чекисты Маги, Вейс и Карпов. После убийства трупы были сложены на грузовик и отвезены в сторону Воробьевых гор, где они были брошены в заранее приготовленные могилы».
Тождественное – в смысле указания места расстрела – сообщение было мной получено от лица, заслуживающего полного доверия и жившего в то время в Москве. Процитирую отрывок из соответствующего письма ко мне этого лица, так как он очень характерен в смысле представления о поведении Павла Дмитриевича: «Про рассказ ***, служившей в Институте Маркса и Энгельса в Вашем доме, Вы знаете: будто бы накануне расстрела ее сослуживца, проходя через переднюю, увидела швейцара, страшного наглеца, стоявшего навытяжку перед каким-то высоким господином; и когда господин ушел, то швейцар сказал, что это бывший владелец, и эта барышня поделилась тотчас же с секретаршей института, которая немедленно куда-то о сем позвонила».
Но приходили за границу и другие сведения. Так, в газете «За свободу» от 1 июля 1927 года сообщалось: «По данным московской рабочей группы, осведомленной о всех мероприятиях вождей компартии, князь Долгоруков был расстрелян в Харькове, а не в Москве, как сообщалось иностранной прессой. В середине мая князю Долгорукову был вручен обвинительный акт, но срок судоразбирательства сообщен не был».
В одном позднейшем письме Е.Д. Кускова, ссылаясь на очень осведомленных лиц, находившихся в то время в СССР, также сообщала, что Павел Дмитриевич был расстрелян в Харькове.
Итак, где именно был расстрелян брат и где находится его могила и вообще, существует ли она, – неизвестно.
Доходили слухи, неизвестно, насколько верные, будто и в России известие о гибели брата произвело сильное впечатление. Сообщалась между прочим такая фраза: «Наконец-то мы видим, что эмиграция не забыла нас, не забыла Россию».
Впечатление за границей от полученного известия было огромное, и не только в среде русской эмиграции, но и у иностранцев, и притом не только в буржуазных и либеральных кругах, но даже среди социалистов и рабочих. Может быть, впечатление это усилилось неожиданностью известия про бессудную расправу, распространенного самими большевиками с такой поспешностью. Как раз в предшествующие годы не было массовых казней, сопровождающихся их оглаской. Хотя большевики и продолжали уничтожать своих врагов, но делали это в тайниках подвалов чеки, поодиночке, и преследуемое лицо большей частью пропадало бесследно, а говорить или печатать об этом воспрещалось. Это относительное карательное затишье совпало с объявленной еще Лениным экономической передышкой, называемой НЭПом. Эти большевистские уступки дали повод всем, кто не видел единственного выхода для освобождения России от большевизма в определенной борьбе с ним, надеяться на его эволюцию. И это течение было не только распространено у значительной части иностранцев, но и среди части русской эмиграции стало развиваться «мирнообновленческое» и у некоторых даже соглашательское направление, у одних, может быть, вполне искренно, у других же оно прикрывало иногда бессознательно обывательские беженские настроения. А потому и самый факт расстрела 20 лиц без предъявления им каких-либо не только мало-мальски основательных, но правдоподобных обвинений, и способ нарочито поспешной и демонстративной огласки этой расправы сделали то, что эффект получился как от разорвавшейся бомбы. Ведь это уже не было время так называемого военного коммунизма 1918—1920 годов. И уже трудно было, как это делали защитники большевиков раньше, оправдывать или извинять массовый расстрел заведомо невинных людей после покушения на Ленина и убийства Урицкого тем, что это был период еще неустановившейся революционной власти. За десять лет существования этой революционной власти жизнь, казалось бы, могла уже войти в нормальную колею. И пожалуй, этот расстрел не столько произвел ожидавшееся от него устрашающее впечатление, сколько вызвал омерзение к варварскому режиму и сочувствие к его противникам. А жертвенный порыв молодых людей, уходивших из эмиграции в Россию на дело спасения Родины, в конце двадцатых годов скорее усилился. Вот что писал П.Б. Струве в «Возрождении» (№ 739) по поводу расстрела двадцати: «Советской власти нужно произвести психологический эффект, нужно проявить силу и решимость и возможно большее число людей запугать. На самом деле такой образ действий обнаруживает, наоборот, полную слабость и даже растерянность большевистской верхушки. И эта слабость советской власти еще более подчеркивается ее невероятной лживостью».
Глава 7 Отклики на смерть Павла Дмитриевича: панихиды, речи на собраниях протеста, статьи, соболезнующие письма, некрологи
В некоторых больших пунктах скопления русской эмиграции состоялись заседания протеста против бессудной расправы большевиков со своими политическими противниками, а панихиды служились в сотнях городов всех материков до Австралии включительно. Как о собраниях, так и о панихидах печатались сообщения и в иностранных газетах. Из кипы мною полученных писем, вырезок из русских и иностранных газет, некрологов, из коих многие были с портретом покойного Павла Дмитриевича, отчетов о заседаниях приведу некоторые выдержки. (Как это ни странно, но наше сходство, дававшее повод к смешиванию нас с первых дней рождения, повело к тому, что к некоторым некрологам, например в польской газете Swiat, был ошибочно приложен мой портрет.)
«В Париже в церкви на рю Дарю состоялась панихида по князе П.Д. Долгорукове и 19 с ним убиенным. Служил митрополит Евлогий, сказавший прочувствованное слово, пел хор Афонского. Кто запоздал, тому уже не пробраться. Церковь, украшенная к Троице березками, была полна молящимися, как в богослужения, совершаемые в большие праздники. Никогда эмиграция не была представлена так полно, как на этой исторической панихиде. Сошлись республиканцы, монархисты, народные социалисты и просто социалисты, православные и не православные, христиане и не христиане. Среди собравшихся руководители эмигрантских организаций, представители посольств окраинных государств, чины сербского, болгарского и греческого посольств, члены кавказских делегаций и украинских союзов, президиум русско-еврейской общины «Огель Иаков». «В Берлине в русской церкви была отслужена торжественная панихида по 20 казненным в Москве. Церковь была настолько наполнена молящимися, что некоторые не могли войти в храм и принуждены были оставаться на улице. Во время пения «Вечной памяти» в церкви раздались рыдания. В редакцию газеты поступило несколько анонимных писем от лиц, называющих себя советскими служащими, с выражением сожаления о том, что по своему положению они не могли присутствовать на панихиде».
В Латвии, вероятно, вследствие политической обстановки и боязни недоразумений с советским представительством, что ясно видно из приводимой ниже газетной заметки, панихиду пришлось отслужить в более скромной обстановке: «Трагическое впечатление произвела панихида, отслуженная при огромном стечении народа в Рижском кафедральном соборе. Ее служит один отец Василий Руперт, без диакона, без хора, без полного освещения – ведь устроители не намерены были делать из панихиды никакой демонстрации и перед панихидой обратились к очередному священнику, желая только исполнить религиозный долг – помолиться за погибших братьев… Но от скромности обстановки впечатление было еще сильнее – не на праздник собрались молящиеся, а на великую скорбь… И совершенно неожиданно звучит прекрасное стройное пение тут же организованного хора. Здесь и певцы отдельных хоров, и учащаяся молодежь обоего пола». «В старинном и крошечном университетском городке Юрьеве, в Эстонии, также была отслужена в Успенском соборе панихида по жертвам красного террора. Церковь была полна молящимися, а во время пения «Со святыми упокой» и «Вечной памяти» все преклонили колена». «В Ревеле на панихиду по князе П.Д. Долгорукове и всем с ним убиенным в Александро-Невском соборе явилось огромное количество молящихся, не только русских, но также много немцев и эстонцев».
В славянских странах торжественные панихиды были отслужены в больших городах русскими, а иногда и местными епископами; служились панихиды и во многих мелких пунктах, причем часто присутствовало по преимуществу местное население. «Трогательная молитва» – так озаглавило белградское «Новое время» свою маленькую заметку: «В Банатском Новом Селе по собственному почину сербского священника о. Чедомира Урицкого отслужена панихида по убиенном князе Павле Долгорукове и 19 с ним». «В Рущуке (Болгария) по инициативе местного отделения Общества галлиполийцев отслужена панихида «по старом, верном друге армии Павле Долгорукове и по жертвам красного террора Советской России». «Церковь была переполнена молящимися русскими и болгарами». «С огромной чуткостью отозвался Харбин на призыв помолиться за убиенных большевиками в Москве: Свято-Николаевский собор был переполнен. Там молящиеся стояли плечом к плечу. Масса публики толпилась в церковной ограде». «На Восточно-Китайской железной дороге рабочими и служащими была отслужена панихида по расстрелянным в Москве 20 патриотам».
Русский Национальный комитет в Париже издал протест, обращенный «к правительствам и общественному мнению цивилизованных наций», за подписью председателя А. Карташова и товарищей председателя М. Федорова и В. Бурцева. Протест этот был переведен на иностранные языки и разослан в наиболее влиятельные газеты, поместившие его по большей части на видном месте. В заключительной его части говорится: «Псевдорусское правительство охотно пользуется желанием европейцев играть с ними в международное право, но обращается с правом по-готтентотски. Юного убийцу убийцы русской царской семьи оно требует казнить по всей строгости формального закона, а само уже казнило 20 лиц, неповинных в данном деле, несмотря на лживые характеристики некоторых из них, хорошо известных всей России, как, например, известного республиканца и одного из основателей Конституционно-демократической партии, князя Павла Долгорукова, обманно названного сейчас большевиками «лидером монархистов».
В Праге по случаю московского расстрела был созван партией славянских социалистов митинг протеста. Вот выдержка из газетного отчета об этом чешском собрании: «После ликования коммунистического «Руде право» по случаю бессудных казней и тягостного двусмысленного молчания по этому поводу крупных социалистических газет с их повышенным негодованием по поводу убийства Войкова значение этого митинга особенно велико. Были приглашены в качестве гостей представители различных политических группировок из среды русской эмигрантской колонии. Большой зал народного дома был переполнен. Редактор партийного органа Ф. Шварц между прочим сказал: «В Праге бывали собрания протеста против насилия австро-венгерских властей над русским населением Галиции, против преследования социалистов в Советской России, но никогда общество не было так потрясено, как ныне при возобновлении террора над русским народом и применением большевистским правительством бессудных казней над своими политическими противниками». Докладчик посвящает несколько слов памяти убитого П.Д. Долгорукова и указывает, что «он был не монархист, а русский демократ, боровшийся с самодержавием». И. Стшибрный, бывший министр, член парламента и лидер партии, сказал в своей речи: «Обязанность социалиста и демократа энергично протестовать против гнусных действий советской власти, тяжко компрометирующих социализм. Мы протестуем против всякого убийства, делается ли оно против Бога, цезаря или во имя массовой диктатуры». От русской эмиграции говорил П. Юренев, указавший прежде всего, что эмиграция не вмешивается в местные партийные споры и он сам, будучи здесь чужим (возгласы по всему залу: «Вы не чужой, вы наш брат!»), выступает лишь для того, чтобы сказать правду о рабоче-крестьянской власти в России. Правительство, не признающее за рабочими права на стачки, не дающее им свободы слова, расстреливающее крестьян и рабочих, может только прикрываться в своих преступных действиях их интересами. Ложь большевиков давно понял русский народ, теперь ее начинают понимать в Европе. Слабые попытки местных коммунистов сорвать собрание выкриками и распространением зловонных газов были быстро ликвидированы, немедленно были открыты большие окна, и бесчинствующие были выведены из зала».
Парижская лига прав, во главе которой стоят лидеры социалистов и левых демократов, приняла следующую резолюцию: «Полагая, что ни в какой стране политическое убийство не может оправдать кровавых репрессалий против лиц, заведомо неответственных за это убийство, Лига протестует против не поддающегося извинению преступления, каковым являются массовые расстрелы противников строя со стороны чеки».
М.М. Федоров писал в «Борьбе за Россию» в номере от 18 июня 1927 года: «Я только что получил трогательное письмо от одного голландца, стоящего во главе одного из крупнейших мировых предприятий в Лондоне. До глубины души возмущенный позорным «бестиальным» убоем в Москве ни в чем, кроме горячей любви к родине, не повинных русских патриотов, я предлагаю принять на свое содержание двойное (то есть 40) число русских юношей, чтобы дать им возможность, завершив образование, послужить в свое время своей великой родине».
Известный русский публицист, народный социалист СП. Мельгунов писал в статье «Борьба идет» в «Борьбе за Россию»: «Мы не можем не отнестись с критическим осуждением к акту, совершенному в Варшаве Ковердой. Революционный акт должен иметь место только на территории той страны, с деспотией которой ведется борьба. Подвергая критической оценке подобные террористические акты со стороны целесообразности, мы не можем, однако, не проникнуться психологией убийцы Войкова. Не надо быть «монархистом», дабы с омерзением относиться к кровавой бойне, устроенной большевиками царской семье. Печать принесла сообщение, что за убийство Войкова в Москве расстреляно 20 человек. В опубликованном списке первым стоит П.Д. Долгоруков – «руководитель монархических организаций за границей». Нет, не «монархистом», мечтающим о восстановлении старого, был князь Павел Долгоруков, а благородным русским патриотом».
«Иллюстрированная Россия» № 25 от 18 июня 1927 года значительную часть посвятила расстрелу двадцати, а главным образом Павлу Дмитриевичу. На обложке дан (помещенный выше) снимок Павла Дмитриевича в Ясной Поляне. В тексте – его последний парижский портрет и интересная фотография, изображающая многолюдное заседание Общества мира, состоявшееся в Москве, в здании городской думы в феврале 1910 года под председательством Павла Дмитриевича. Заседание было созвано по случаю визита французских парламентариев к русским народным представителям. Павел Дмитриевич изображен стоящим на трибуне, рядом с ним председатель французской парламентской делегации Эстурнель Констан. Позади них – большая статуя императрицы Екатерины П. В тексте журнал дает ряд отзывов общественных и политических деятелей по поводу расстрела, а именно: Н.Д. Авксентьева, М.Л. Гольдштейна, графа В.Н. Коковцова, В.А. Маклакова, П.Н. Милюкова, Г.Б. Слиозберга и П.Б. Струве. Ниже приводятся выдержки из заявлений трех лиц, говорящих по преимуществу о Павле Дмитриевиче:
Н.Д. Авксентьев: «Из казненных я знал только князя Долгорукова, к которому относился всегда с величайшим уважением и с которым вместе делил роль узника в Петропавловской крепости, куда мы были заключены после Октябрьского переворота. Несмотря на грозившую ему опасность, он вел себя мужественно, проявлял поразительную беспечность, совершенно не думая о себе. Зато вспоминаю, как он рыдал, узнав об убийстве Шингарева и Кокошкина».
П.Н. Милюков: «Бессудный расстрел вызвал негодование общественной совести всего человечества и, несомненно, создаст единый моральный фронт против советской власти. Князь Павел Долгоруков, которого я близко знал, был кристально чистым человеком. Более безобидного и незлобивого человека трудно встретить. Его заслуги перед освободительным движением, которого сами коммунисты не отрицают и памятники которого они теперь так тщательно собирают, делают это преступление еще более бесчестным, еще более мерзким».
П.Б. Струве: «Расстрел двадцати с незабвенным князем П.Д. Долгоруковым во главе есть в данной психологической атмосфере не просто гибель отдельных людей. Это событие может оказаться многообещающим семенем общенародного освободительного подвига. Лично князя Павла Дмитриевича я любил и ценил за его душевное благородство и беззаветный свободолюбивый патриотизм».
Наконец процитирую еще и весьма характерную статью – отклик на совершенное ими убийство – большевистской «Правды» от 28 июня 1927 года, тем более что статья эта Сталина:
«Недавно был получен на имя Рыкова протест известных деятелей английского рабочего движения Ленсбери, Макстона и Брокуэя по поводу расстрела двадцати террористов и поджигателей из рядов русских князей и дворян. Я не могу считать этих деятелей английского рабочего движения врагами СССР. Но они хуже врагов, так как, называя себя друзьями СССР, они тем не менее облегчают своим протестом русским помещикам и английским сыщикам организовывать и впредь убийства представителей СССР. Они хуже врагов, так как они своим протестом ведут дело к тому, чтобы рабочие СССР оказались безоружными перед лицом своих заклятых врагов. Они хуже врагов, так как не хотят понять, что расстрел двадцати «светлейших» есть необходимая мера самообороны революции. Недаром сказано: «Избави нас Бог от таких друзей, а с врагами мы сами справимся». Что касается расстрела двадцати «сиятельных», то пусть знают враги СССР, враги внутренние, так же как и враги внешние, что пролетарская диктатура в СССР живет и рука ее тверда».
Европейское общественное мнение, осудившее было поступок Коверды, сразу изменило свое отношение к советской власти и к поступку Коверды после расстрела 20 человек, находя, что этот поступок стал психологически понятен. Приведу выдержки из некоторых тогдашних иностранных заграничных газет:
«Таймс»: «Акт мести в отношении людей, сидевших месяцы в тюрьме без предъявления к ним обвинения, вызывает омерзение во всех цивилизованных государствах». «Вестминстерская газета»: «Державы, подписавшие Локарнское соглашение, должны немедленно установить единую политику в отношении СССР». «Кельнская газета»: «В эту ночь расстрела советская власть сама уничтожила все результаты предпринятого ею морального наступления». «Берзен Курьер»: «Советской политикой руководит палач». Социалистический «Форвертс»: «Во всем культурном мире раздается крик ужаса и возмущения против варварского правительства». «Локаль анцейгер»: «В ужасном избиении в Москве проявилась после периода некоторого спокойствия истинная природа большевизма. Государство, которое расстреливает без суда двадцать своих граждан, ставит себя вне цивилизации. Все обвинения, предъявлявшиеся в свое время царизму, бледнеют в сравнении с этим позорным преступлением». Болыпевизанствовавшая «Фоссова газета»: «Расстрел двадцати привел к тому, что советская власть сразу потеряла моральный престиж». «Пти Паризьен»: «Подобные приемы вызывают против советской власти негодование цивилизованного мира». Официальный «Тан»: «Московская трагедия создана тиранами, которые мечутся в страхе и отчаянии, предвидя поражение, в то время когда их осуждает здравый рассудок, когда их отвергает человеческая совесть. Если советский строй вернется к тем отвратительным деяниям, которые покрыли несмываемым позором время 1918—1920 годов, если он будет только утверждением дикого варварства и сам себя поставит вне права, пред всеми народами встанет вопрос, возможно ли поддерживать какие-либо сношения с такою властью». «Журнал де деба»: «Казни русских якобы «царистов» нигде не поднимут престижа советского правительства». «Виктуар» и «Авенир» требуют немедленного разрыва отношений.
Отдельные вырезки из газет Северной и Южной Америки, Китая, Японии, Персии, Южной Африки заставляют думать, что пресса почти всего мира отозвалась на московские расстрелы.
Приведу выдержки из некоторых соболезнующих писем, полученных мною по случаю смерти Павла Дмитриевича. Наша двоюродная сестра княгиня А.П. Аивен писала: «Я только что вернулась из церкви. На панихиде было столько народа, что в нашем обширном соборе было тесно. Служил митрополит, пел большой хор. «О плачущих и болезнующих» тоже помолились. Может быть, не напрасно погиб наш брат. Может быть, эта безобразная и бессмысленная месть вновь откроет притупившиеся, привыкшие к большевистским зверствам глаза. Я уверена, что он был прост до конца».
Из письма А.В. Гольштейн: «Вчера должны были признать, что безвозвратное совершилось. Вчера же с горькими слезами перечитали известную Вам рукопись и еще ясней поняли его великую душу. Мало кто из нас может с ним сравняться… Величие его духа выявляется в необыкновенной простоте: ни одной громкой фразы, ни малейшего самовозвеличения. Он совершил свой подвиг с каким-то нечеловеческим забвением своей личности. Ни возвеличения, ни ложной скромности: для него его подвиг какое-то очередное дело. Деловая оценка и тут же какой ел борщ и вареники. А ведь смерть он принял сознательно: еще в 24-м году, когда шел в Россию в первый раз, в своих, как он говорил, «инструкциях» несколько раз говорится: «в случае моей смерти».
Письмо генерала Врангеля: «Нет слов выразить чувства негодования перед совершенными палачами русского народа преступлениями, перед трусливым раболепием мировой «демократии», остающейся безучастным свидетелем этого. Ваш покойный брат был один из немногих, деливших с родной мне армией весь ее крестный путь, оставшийся ей верным в несчастье. Наша совместная с ним работа в Константинополе и Белграде дала мне возможность оценить и искренно полюбить его. В его лице «белое» дело теряет верного и испытанного друга».
Князь В.А. Оболенский: «Павел Дмитриевич шел сознательно на мученичество и смерть. И он так просто пошел в Россию и наверно просто принял заключение и казнь. Был он ведь мужественный человек. Нам всем казалось тогда, что это ненужная жертва с его стороны, да и он, вероятно, считал ее нужной больше для себя, для своей совести, не мирившейся с бесцельным эмигрантским житьем. А вот оказалось, неожиданно для нас всех, что пожертвовал он собой не только для себя, а для России и что его смерть стала огромным событием. Все газеты всех направлений, русские и иностранные, полны негодующими статьями, а среди русских ощущается тоже какой-то единый порыв. Вчера на панихиде церковь не могла вместить огромную толпу. Затрудняюсь даже определить ее размеры. Во всяком случае, это были не сотни, а тысячи. За всю эмиграцию я не видел ни одной панихиды, привлекшей такую толпу. И были все. Павел Дмитриевич так скорбел при жизни о том, что мы все враждуем друг с другом. А вот его смерть всех объединила. И это объединение не было шаблонным обычаем почтить память покойного. Все пришли в церковь, объединенные общим чувством печали, любви и преклонения перед величайшим примером самоотверженности».
К.И.. Зайцев: «Павел Дмитриевич был рыцарем – редкое сейчас явление. Рыцарем он и ушел в тот мир. Его нельзя жалеть. Его прекрасная смерть как-то вложится и уже вложилась в дело освобождения – удел завидный для всякой мужественной натуры. В сонме мучеников, коими держалась и крепла идея России, будет блистать и его честное имя. Вечная ему память!»
Проникновение Павла Дмитриевича в СССР и его смерть вдохновили бывшего секретаря графа Льва Толстого В.Ф. Булгакова даже на написание драмы под названием «Рюрикович», весьма, впрочем, далекой от биографически верного изображения как характера, так и действий Павла Дмитриевича.
Приведу выдержки из нескольких некрологов.
М.М. Федоров («Борьба за Россию», № 30): «Князь Павел Дмитриевич Долгоруков – прямой потомок Рюрика – сохранил в себе величавые черты того аристократизма, который знаменует высокий культурный отбор, служение высшим идеалам и чистоту душевную, соединенные обычно с личной скромностью и простотой. Вся жизнь Павла Дмитриевича была направлена к действенному и бескорыстному служению родине и своему народу. Богатый земельный собственник, он был одним из основателей партии Народной свободы, которая во главу угла своей экономической политики положила разрешение земельного вопроса в России в полном соответствии с чаяниями русского народа».
Н. И. Астров, последний московский городской голова, кончает некролог следующими словами: «Прямой, нисходящий от Рюрика, потомок основателя Москвы, потомок князя Михаила Черниговского, умученного в Орде, князь Павел Долгоруков пал от руки московских палачей».
П.Б. Струве («Возрождение», № 739): «Когда-то богатый человек, привыкший к барскому довольству, он стоически переносил «эмигрантскую нужду» и жил только одной мыслью о России, ее освобождении и возрождении. Жертвенность князя Павла Дмитриевича и его одержимость мыслью о России внушала величайшее уважение и была прямо трогательна. Этот немолодой, грузный человек мужественно и как-то тихо-смиренно нес крест беженства, вперив свой умственный взор в столь далекую и столь близкую, в столь опасную и чужую и столь притягательную и родную Россию. И он ушел туда с какой-то заветной мыслью-мечтой о неотвратимой жертве, которой требует от него родина».
В нескольких статьях, речах и письмах Павел Дмитриевич называется «рыцарем без страха и упрека». Хотя это выражение и является несколько избитым, но оно, очевидно, напрашивается при воспоминании о том, как он отважно выступал на враждебно настроенном к нему Дворянском собрании, как стоял с генералом Радко-Дмитриевым под обстрелом во время Великой войны, как участвовал в Москве в 1917 году в отстаивании юнкерами от большевиков Александровского училища, как покидал одним из последних Новороссийск, как, наконец, решился проникнуть в СССР.
В заключение привожу почти полностью два некролога. Написаны они двумя лицами, хорошо знавшими Павла Дмитриевича и дружившими с ним, первый с самого детства, а второй близко стоял к нему под конец его жизни и был в курсе всех его приготовлений в Париже к последней поездке в Россию. Лицо это было знакомо и с «Материалом для воспоминаний».
Речь Н.Н. Львова на собрании в память Павла Дмитриевича 3-го июля 1927 года в Белграде
«Я помню с детских лет близнецов Петрика и Павлика Долгоруковых.
Помню, как будто я вижу перед собой, большой долгоруковский особняк в Москве среди широкого двора за чугунной решеткой. Помню старые, раскидистые деревья тенистого сада. Помню каждую комнату: прихожую с парадной лестницей, белый зал, где шумною гурьбою мы бегали детьми, играя в казаки-разбойники. А через много лет кабинет под сводами в нижнем этаже, где в товарищеском кругу мы горячо обсуждали общественные вопросы.
Помню земские съезды, большую залу, переполненную представителями земств, съехавшихся со всей России.
Все это прошло.
Воспоминания об этом прошлом связывают меня с Долгоруковым.
Как дороги для меня эти воспоминания о старой Москве… На нашу долю выпал светлый удел – светлое детство и светлая молодость. Детство в родном доме, детство, согретое любовью всех окружающих в тихом семейном укладе старой Москвы, детство с его молодостью, наивной радостью и красотой. Знают ли светлое детство современные поколения? Знают ли они молодость с чувством дружбы, с увлечениями, с ее порывом к возвышенному, с ее идеализмом? В сумятице все растоптано. Все светлое отлетело от земли. Несложная простая жизнь, жизнь замкнутая в своем семейном кругу, не городская, а деревенская жизнь, мирно протекала в дворянских особняках старой Москвы. Мы росли вдали от шума улицы. Мы не знали грубости, жестокости и злобы, не знали ненавистей. В этих комнатах старого дома, где веяло тишиной деревенской усадьбы, слагался особый русский идеализм.
В старой Москве в сороковых годах в дружном кружке Станкевича сходились и Герцен, и Белинский, и Киреевский, и Аксаков, славянофилы и западники, но люди одного и того же порыва русского идеализма. Герцен на чужбине, в изгнании с теплым чувством вспоминает об этом московском кружке. Так и для меня дороги воспоминания о таком же московском кружке на рубеже двух столетий, собиравшемся у братьев Долгоруковых и называвшемся «Беседой». В нем не было ничего революционного. Как далеки были мы от этих ненавистей, от этой мути, поднявшейся с низов… Как чужда была для нас классовая вражда… Все были одушевлены общественной деятельностью. Среди нас были люди разных политических взглядов, но не было ни одного карьериста. Мне хорошо известно современное отрицательное отношение к «дворянским гнездам», к этим «беспочвенникам утопистам».
На примере князя Долгорукова я покажу вам, на какую стойкость в борьбе был способен этот идеалист прошлого, этот благородный отпрыск старого русского княжеского рода. Я хотел бы нарисовать перед вами нравственный облик князя Павла Долгорукова. Рюрикович по происхождению, потомок московских князей, князь Павел Долгоруков и по своим родственным связям, и по своему богатству принадлежал к высшему кругу русской знати. Но в нем и тени не было княжеской спеси. Ничего деланого, выдуманного, надутого, никакой позы в нем не было. Я бы сказал, что он был по своим внутренним свойствам демократ, если бы слово это не было так извращено современностью. В нем не было никакого тщеславия, желания выдвинуться, покрасоваться. Он не искал для себя ни почестей, ни отличий. В общественной деятельности он не добивался первой роли. Он выполнял свой долг упорно и настойчиво, как бы он ни казался незначительным. Либерал по убеждению, он не был человеком громкой фразы, не был хрупким идеалистом. Он умел отстаивать свои убеждения и бороться за них. Но прежде всего князь Павел Долгоруков был русский. Я бы назвал его патриотом, если бы это иностранное слово могло бы передать тот особый уклад русской души, где любовь ко всему своему родному глубоко заложена в скрытых корнях, а не выявляется в одной наружной внешней окраске. Он был спокоен и мужественен. И эти моральные свойства его возвышались до подлинного героизма.
Представьте себе Новороссийск зимою 19-го года. Каменный подвал, куда врываются леденящие струи норд-оста. Старики, женщины, семьи с детьми, больные, раненые – все свалены в один подвал. Сыпной тиф выхватывает свои жертвы среди знакомых, близких, родных.
Умирает Зноско-Боровский, умирает Пуришкевич, князь Евгений Трубецкой… Грабежи в городе. Страх нападения зеленых. Отряд, посланный на усмирение восставших, перебил своих офицеров и ушел в горы. На улицах разнузданная солдатчина. На вокзале ругань и драки. Я помню в это время князя Долгорукова. Как сейчас вижу его на дырявом диване в сырой, темной каморке. Казалось, нет выхода. Люди кончали самоубийством. И я помню на собрании среди растерянных, упавших духом твердое заявление князя Павла Долгорукова: «Нужно идти в Крым и продолжать борьбу». Все спешили спастись из Новороссийска. Долгоруков остался. Он сошел с мола и сел на английский катер, когда красные уже вошли в город и шла стрельба на улицах. Имя Долгорукова неразрывно связано с армией. Пацифист по убеждению, он стал упорным поборником вооруженной борьбы против большевиков. В нем заговорило глубокое русское чувство. Он взял бы винтовку и стал бы рядовым, как и другие, если бы не его преклонный возраст. Он никогда не стремился выдвинуться, он был и остался рядовым. Да, как рядовой, он выполнил свой жизненный подвиг. Он мог бы уйти, как сделали это другие, и никто не осудил бы его. Его ближайшие друзья покинули армию. Долгоруков остается. И в Крыму, так же как в Екатеринодаре, при Деникине, так же и при генерале Врангеле, он отдает все свои силы на служение Белому делу.
Нелегка была его задача. Его обвиняли, что он связал себя с реакционным течением. А в Константинополе! Кто только не отвернулся в эти дни от русской армии, кто только не лягал ослиным копытом раненого льва? Спешили перебраться в другой лагерь подальше от тех, кто был обречен, казалось, на гибель в Галлиполи. Милюков объявил «новую тактику», порвал с Белым движением. На этой почве произошел разрыв. Морально Долгоруков не мог оставаться с Милюковым. Мы не забудем той травли, которой подвергался Долгоруков за свою верность армии, мы не забудем все эти издевательства и смешки, когда князь Павел Долгоруков приложил свою руку к продаже серебра ссудной казны. «Князь Серебряный» – издевались над князем Павлом Долгоруковым. Долгоруков узнал измену друзей, изведал «презренных душ презрение к заслугам». Многие здесь в изгнании опустились, сбились с пути, потеряли самих себя. Долгоруков морально вырос в этих невзгодах.
Перенеситесь мысленно в старую Москву прошлого века, представьте себе всю эту обстановку богатого княжеского дома, где вырос князь Долгоруков, представьте себе белую залу с колоннами Московского дворянского собрания, где появлялся молодой князь Долгоруков, рузский предводитель дворянства. Представьте себе роскошную подмосковную усадьбу Волынщина, родовое гнездо князей Долгоруковых, у парадного крыльца чугунные пушки, свидетели боевой славы князя Долгорукова, покорителя Крыма екатерининских времен. А после?.. Бродяга, старик с котомкой за плечами пробирается украдкой через русскую границу, скрывается во ржах, припадает и целует русскую землю… Представьте себе эту картину, и вы поймете всю трагедию русской жизни, вы поймете также, сколько любви к русской земле сохранилось в этом старом сердце… Отчего Долгоруков пошел в Россию? Ведь это безрассудство, скажут иные. Да, безрассудство. А разве не безрассудство остаться последним на новороссийском молу? Разве не безрассудство упорно отстаивать продолжение борьбы, когда все потеряно. Разве не безрассудство приложить руку к продаже катарского серебра и принять на свое имя ушат грязи? Все это безрассудство. Но без этого безрассудства человечество погибнет в болоте морального падения. Долгоруков мог бы уйти в частную жизнь. Он мог бы устроиться у своих богатых родственников в Париже. Но он не захотел. Для него невыносима была эта жизнь в вынужденном бездействии среди людей светского круга, столь чуждых всему тому, чем мучился Долгоруков. Он знал, на что он идет. Единственно, о чем он заботился, – чтобы большевики не запятнали его имя. Перед уходом он оставил письмо для опровержения большевистской клеветы.
В борьбе, которую мы ведем, нам нужны не декларации, не программы, нам нужен личный пример. Гнетет сознание ненужности нашей жизни и смерти. Кровь Долгорукова пролита не напрасно. До него столько было казней, убийств заложников – и общее равнодушие покрывало все эти злодейства. Теперь не так. Что-то совершилось в мире, и сквозь туман и мглу луч света промелькнул во тьме. Совесть пробудилась в людях.
Отныне два имени связаны неразрывно между собою: имя Бориса Коверды и имя князя Павла Долгорукова, и не по случайному совпадению по времени выстрела Коверды и смерти Долгорукова, а по внутренней их связи. В обоих было нечто героическое. Много раз я говорил вам: «Кубанский поход продолжается». Старый генерал Алексеев, одиноко идущий в степи, и мальчик-кадет. Не то же ли мы видим теперь? Князь Долгоруков, обрекший себя на смерть за Россию, и героическая решимость мальчика – Бориса Коверды.
Ужас заключается в том, что такая страшная трагедия великого народа происходит в среде маленьких людей. Трагизм всего происходящего даже не ощущается ими. «Жизнь налаживается», – говорят вам; «на базаре все купить можно». Вам говорят: «Нужно признать революцию…», «Большевизм эволюционирует…». Не то же ли это самое, что «на базаре все купить можно»? Примириться, склонить голову, наладить сожительство с большевиками… Нет, никогда – и раздается выстрел Коверды. И вспоминаются слова генерала Алексеева перед выступлением в Кубанский поход: «Нужно зажечь светоч, чтобы оставалась хотя бы одна светлая точка среди охватившей Россию тьмы». Этот светоч, угасающий светоч, вновь зажгли Борис Коверда и князь Павел Долгоруков…»
Некролог, помещенный в «Возрождении» от 9 июня 1928 года в первую годовщину смерти Павла Дмитриевича за подписью А. Баулера: «Не всякому выпадает счастье встретить на жизненном пути человека такой нравственной высоты, каким был покойный князь Павел Дмитриевич Долгоруков. Горько оплакивая его, люди, пользовавшиеся его дружеским доверием, не могут не чувствовать гордости и благодарности судьбе за эту встречу и это доверие.
Навсегда останется в памяти время, когда он готовился ко второй поездке в Россию. С непреклонной энергией, вопреки всему, он шел к своей цели. Приводил в порядок дела, писал распоряжения на случай своей смерти – он всегда ее предвидел, – тренировался гимнастикой и другими телесными упражнениями, зная по опыту, сколько физических сил надо затратить в предстоящем путешествии ему, далеко не молодому, грузному и больному человеку. Его отговаривали, его упрашивали – он все слушал, но все чувствовали, что его решение непоколебимо, что никакие слова не повлияют на его железную волю. У него было спокойствие человека, настолько уверенного в необходимости и справедливости своих действий, что говорить об этом уже совсем бесполезно. Все продумано, все ясно…
В день перехода через границу он написал нам письмо. «Думаю сегодня отправиться в путешествие», – пишет он. Затем целый ряд мелочей, точно он на дачу переезжал: отчего не внесли от него 10 франков на инвалидов. Отчего один из его знакомых не передал другому его знакомому каких-то стихов, которые он год тому назад поручил ему передать. «Кажется, он до сих пор не передал. Это безобразие. Когда будете мне писать (уж не сюда), то прошу написать – «стихи (не) переданы». Тут же просит передать брату из денег, заработанных в Париже, 100 франков на развлечения (а всех денег было 400 франков), причем с условием, чтобы брат пошел в определенную таверну; просит также, чтобы брата угостили гречневой кашей, как угощали его, Павла Дмитриевича… И все это в день перехода, когда компетентные люди уже там, у границы, предупреждали его о грозящей опасности. Возможность смерти была не за горами, а он хлопотал о передаче кому-то стихов.
Мучительное беспокойство переживали в течение многих недель те из его друзей, которые знали, что он в России, когда перестали приходить от него всякие известия. Неизвестность томила, одолевали мрачные предчувствия, страх за него холодом проходил по спине при всяком воспоминании о нем. Хотелось не помнить, хотелось не верить какому-то властному голосу, вдруг среди ночи шептавшему где-то внутри: «Погиб Павел Дмитриевич». Употребляли все усилия, чтобы узнать что-нибудь где-нибудь. Но плотно захлопнулись двери ада… Неужели надо оставить всякую надежду навсегда?
Страх оправдался – пришло известие об аресте Павла Дмитриевича. Горе было большое. Но все же он жив, содержится в Харьковской тюрьме. Горе осталось, а была надежда – может быть, безумная, – что и на этот раз не узнают, кто он, как не узнали при первой его поездке в Россию.
Кто он – узнали. Было страшно, но создалась новая надежда. Доходили сведения, что его будут судить за беспаспортный переход через границу, конечно, долго продержат в тюрьме – год-два – и сошлют. Неужели будут расстреливать старого человека за то, что он захотел побывать на родине? Разумеется, большевики изверги, но ведь есть предел зверству и извергов. Да и глупо с их стороны убить зря человека известного в Европе. Им выгодней держать его у себя и распускать о нем всякие слухи. Эту возможность, впрочем, Павел Дмитриевич предвидел и принял надлежащие меры заранее…
Шли месяцы. Брату его удалось посылать ему кое-какое пособие на улучшение пищи и даже получать от него из тюрьмы письма. О, эти душу надрывающие письма! Как они были покойны и просты, полны нежной заботы о родных, сопровождались по его привычке советами и нравоучениями.
Пришла и страшная весть о его смерти. Горе было острое, а к нему опять прибавилось чувство полной неизвестности. Когда казнят самого отчаянного злодея, весь мир знает все подробности о последних минутах его жизни. Он может написать своим близким, может, если верующий, исполнить долг христианина – словом, умирает ужасной смертью, но как человек, а не как бешеная собака. А тут двери плотно захлопнулись – никто ничего не знал и узнать не мог.
Все же мало-помалу кое-что сообщалось. Говорили неопределенно, что умирал Павел Дмитриевич мужественно. В его мужестве никто не сомневался и без известий. Потом от разных лиц узнавали более определенные сведения. Павел Дмитриевич, рассказывали, не только мужественно встретил смерть, но силой своего духа, своей неизменной бодростью поддерживал и утешал всех товарищей по несчастью. Перед расстрелом удивил всех: потребовал, чтобы ему принесли воды, и тщательно вымылся. Он пошел на смерть чистый не только своей благородной душой, но и телом.
Приходилось слышать мнение, что и поездка Павла Дмитриевича в Россию, и жертва жизнью – бесполезны. Разве может быть бесполезен пример высокой любви к отчизне, подвиг благородства и отважности? Красоту и величие характера князя Павла Дмитриевича, очевидно, еще не все поняли. Когда станет известна вся история его поездки, когда узнают, какое мужество и силу характера надо было иметь старому и больному уже человеку, чтобы вынести физическое и нравственное напряжение, необходимое для этого подвига, тогда поймут, что недостаточно ценили его, не понимали, с каким человеком нас столкнула судьба».
Заключение
Когда вдумываешься в душевный облик и в жизненный путь Павла Дмитриевича, во все высказанное им самим или другими о нем, то невольно вспоминается завещанное нам древнегреческим миром определение гармонического идеала человека «Κάλος κ αγαθος», то есть прекрасный и благостный. Что же касается последних лет его жизни, то надо сказать, что у многих лиц, знавших и любивших его, к чувству скорби после его преждевременной смерти и преклонению перед его памятью присоединялось какое-то чувство радости за него и даже беззлобной зависти к его судьбе. Ведь столь немногим дается счастье найти ясную и определенную цель жизни и так упорно и единоустремленно идти к ней, как это удалось ему. Его любовь к своей родине и к своему народу, и притом любовь действенная, его вдохновленность идеями непреходящей, вечной ценности дали ему силы для осуществления того, что он сделал, находясь все время в состоянии стоической душевной ясности и просветленности. Никто из знавших его не мог сомневаться в искренности того, что он писал из тюрьмы: «Я бодр и спокоен» и даже более того – «счастлив». Ведь труд и лишения, страдания и мучения при условии их осмысленности и добровольности являются не проклятием, а источником душевного спокойствия и высшей духовной радости. Подчиняя все единой цели, он как будто не замечал всех тягот беженской жизни. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии», – говорит его святой – апостол Павел (глава 4-я, стих 12-й Послания к филиппинцам). Шутливые слова Павла Дмитриевича, относящиеся к его последней парижской квартире, – «В беженстве я подымаюсь все выше и выше, а не опускаюсь», которыми он заканчивает свою «Великую разруху», – являются, в сущности, самохарактеристикой. И еще более широкие горизонты открываются, когда он, перефразируя известную фразу В.Д. Набокова, пишет: «Законы человеческие да подчинятся законам Божеским». Он понял, что самое страшное, что сделал большевизм в России, – это попрание образа и подобия Божия в человеке. И, как бы далеко глядя и видя вперед, он, будучи в то же время реальным политиком и русским патриотом, указал на единственный путь, могущий вывести человечество, и в частности Россию, из теперешнего тупика.
Князь Петр Аолгоруков
Прага, 1944 г.
Примечания
1
Но это очень хорошо (фр.).
(обратно)2
Дековилька – переносная железная дорога с вагонетками (по имени изобретателя, французского инженера Decauville).
(обратно)3
С.-р. – социалисты-революционеры, эсеры.
(обратно)4
С.-д. – социал-демократы.
(обратно)5
Так как у меня записей и никакого материала не имеется, то в сроках и числах могут быть небольшие неточности.
(обратно)6
Н.-с. – народный социалист. Трудовая народная социалистическая партия сформировалась в 1906 г. из правых эсеров.
(обратно)7
Или Босова – так в оригинальном тексте.
(обратно)8
Имеется в виду рояль фирмы «Бехштейн».
(обратно)9
К.-д. – конституционные демократы, кадеты.
(обратно)10
Организационная работа по подготовке зарубежного съезда в Париже показала, какой огромный труд требует междупартийное объединение даже в условиях свободной работы. Можно себе представить, как трудны были все эти перипетии при подпольной работе, без возможности конференции и при разобщенности. Вскоре Правый центр захирел и прекратил свое существование.
(обратно)11
Автор имеет в виду знаменитое «хождение в Каноссу» (конфликт между папой Григорием VII и немецким королем Генрихом IV).
(обратно)12
А через год я платил в Сочи тысячу рублей за десяток.
(обратно)13
Но что вы здесь делаете, мой друг? Такое время (фр.).
(обратно)14
И она будет жить! (фр.)
(обратно)15
Еспаньолы – испанцы.
(обратно)16
Министерство иностранных дел во Франции.
(обратно)17
Старейшина (фр.).
(обратно)18
Выделение по контрасту (фр.).
(обратно)19
Приводимые здесь строки взяты из письма со штемпелем «Харьковское ГПУ», написанного князем Павлом Дмитриевичем Долгоруковым его брату в Прагу из тюрьмы, после десяти месяцев заключения и за месяц до расстрела.
(обратно)20
Боже, покарай Англию (нем.).
(обратно)21
Было время, когда появились новые богатые, – теперь появились новые нищие (фр.).
(обратно)22
Сообщение ошибочно, вчера получено письмо Вашего брата, благодарящее за деньги.
(обратно)
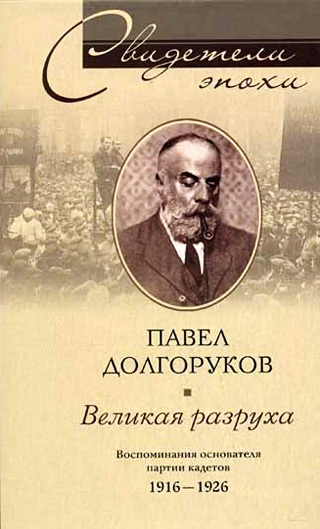




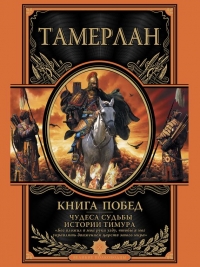

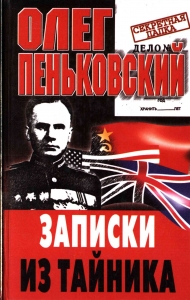
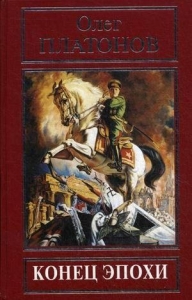
Комментарии к книге «Великая разруха. Воспоминания основателя партии кадетов. 1916–1926», Павел Дмитриевич Долгоруков
Всего 0 комментариев