М. Дубинский Женщина в жизни великих и знаменитых людей
Под редакцией и с примечаниями Л. И. Моргуна
По вопросам публикации и переиздания обращаться osteon-press@mail.ru
© Моргун Л. И. Редактирование, адаптация, примечания, 2014
© ООО «Остеон-Пресс», 2014.
Вместо предисловия
Не знаю, кто сказал, что женщина — всё. Может быть, это преувеличение. Но ведь в самом деле женщина как будто всё. Можно себе представить благоустроенную семью без детей, без родни, без знакомых, но возможна ли она без женщины? Она царит у домашнего очага, законодательствует в обществе и нередко держит в своих руках таинственные пружины, которыми приводятся в движете целые государства. Женщина везде. Лишенная прав, не имея законной возможности соперничать с мужчиною в наиболее существенных областях человеческой деятельности, она гордо поднимаешь голову над кропотливой возней своего тирана, и тот, кто считает себя её повелителем, покорно пресмыкается у ее ног, не замечая даже своего стыда и унижения. Разверните книгу прошлого, вспомните историю народов и царств. Где не играла она самовластной роли, эта униженная и оскорбленная, не обладавшая даже священнейшим из благ — свободою идти туда, куда влечет ее свободный ум? Мы знаем людей, которые не преклоняли гордой головы перед сильными мира, в то же время безропотно творя волю слабого создания, вся сила которого в его слабости. Самсон и Далила — не легенда, а символ. Это — олицетворение двух половин человеческого рода, из которых одна действует мощью своего физического существа, а другая мощью своего внутреннего обаяния. Не женщина ли украсила жизнь первого человека и не она ли отняла у него все, что составляло его силу, красу и величие? С самого начала бытия стала она около него, но не для того, чтобы быть его спутником, а чтобы властвовать над ним, подчинить его своему игу и увлечь в своем падении. И мужчина сам наложил на себя принесенные ею цепи и без спора уступил ей первородство, не получив взамен даже жалкой чашки чечевичной похлебки…
Не все разделяли это мнение. Вольтер готов был отдать двух жен тому, кто возьмешь у него третью, Конфуций прогнал свою жену, так как она мешала его занятиям. Говорят, что один философ древности три года не поднимал глаз, опасаясь, как бы они не остановились на женщине. Мусульманские мудрецы, опираясь на Коран и опыт, вынесенный из жизни, считают женщину низшим существом и советуют мужьям, желающим пользоваться семейным счастьем: «Если ты находишься в крайне затруднительном положении и не знаешь, что делать, собери друзей своих, угости их, изложи им все дело и поступи, как они тебе посоветуют. Если нет у тебя друзей, посоветуйся с первым встречным и исполни его совет. Но если около тебя нет ни друзей, ни мужчины, с которыми ты мог бы посоветоваться, тогда изложи обстоятельно все дело жене, попроси ее совета, выслушай терпеливо всё, что она тебе скажет, и сделай совершенно наоборот». И у нас во времена Домостроя — да и тогда ли только? — женщина считалась дополнительным существом, чем-то вроде домашней мебели. Ученые исследовали её мозг и нашли, что она самой природой предназначена к тому, чтобы играть подчиненную роль под властительной ферулою мужчины. Но может ли все это изменить общее положение? Женщина — все не только в положительном, но и в отрицательном смысле. Выйдите на улицу. Если навстречу идет пожилой господин с спокойным лицом и медлительными движениями, не говорите, что он богат, что у него прочное положение в обществе, что ему нечего волноваться, так как завтрашний день не принесет ему ни огорчений, ни забот. Нет, женщина создала ему спокойствие. Она навеяла на него думу о мирном бытии под мирными небесами. Если это не жена, то дочь, если не дочь, то подруга. Наоборот, если мужчина, которого вы встретили, растрепан, измят, развинчен, — о, смело поднимите указательный палец и воскликните: «Вот следы женского влияния.» Может быть, в жизни этого человека женщина никогда не играла роли, но в таком случае, «все», которое представляет собою женщина, и будет заключаться в отсутствии женского элемента.(Сколько погибло мужчин только потому, что на их жизненном пути не встретилось женщины, которая иногда любит, иногда ненавидит — это все равно, — но которая всегда придает жизни упругость, силу и движение! Благодаря ей, родились поэты, потому что разве слышали бы мы трели соловья, если бы недалеко от него не сидела на ветке другая птичка, для которой весь его восторг и песнопение? Прозаики-беллетристы, не создавали бы романов: где встретили бы они больше всего внимания, как не среди женщин, составляющих ядро в кругу почитателей его таланта? Есть писатели для детей, для юношества, для лиц известного сословия или класса, но нет писателей для женщин, потому что роман, написанный для женщин, написан для всех. А художники? Не одна ли только женская красота являлась для них путеводной звездой в океане чувств, с которыми они погружаются в бездонное море искусства? Можно смело сказать, что если бы не было женщины, не было бы поэзии, литературы, живописи, скульптуры, музыки, не было бы красок, звуков, слов, — ничего бы не было.
Можно было бы наполнить целые тома одними только восторженными отзывами и славословиями, которыми выдающиеся представители культуры наградили прекрасную половину человеческого рода. Гёте, который любил многих женщин и сам был любим ими, говорил: «Женщина — венец творения». Шиллер возвел поклонение женщине в особый культ, восклицая в минуты высокого душевного подъема: «Чтите женщин, они вплетают небесные розы в земную жизнь». Кальдерон ставил женщину необычайно высоко. «Женщина, — говорил он, — небо, но небо это так же далеко от мужчины, как. земля от небесного свода». Везде и повсюду выступает на первый план благоговейное отношение к женщине, везде ей курят фимиам и ставят жертвенники. Даже те, которые относились к ней отрицательно, делали это потому, что сознавали неотразимость ее власти. Они убегали от женщины, но она гналась за ними, как тень, неслышная, неосязаемая, но неотступная. Монтень восклицал: «Если бы все шло по моему желанию, то я не женился бы даже на самой Мудрости, хотя бы она пламенела ко мне огненной страстью. Но напрасна борьба, мужчина должен подчиниться». Тут дело идет о законном браке, но для каждого ясно, что брак только одна из многочисленных форм отношений к женщине. Они многочисленны, потому что многочисленны и разнообразны все сферы духа и естества, в которых повелевает женщина. Не всегда она вплетает небесные розы в земную жизнь мужчины; вместо роз иногда появляется и репейник, но радости бытия так многообразны, и мало ли поэтов смотрели на горечь отравы, которую подносили им женщины, как на небесный нектар?
Женщина не только накладывает отпечаток на всё существо мужчины, она во многих случаях составляет всё его содержание. Можно сказать, что мужчина — сумма отношений к женщине. Она дает ему жизнь — высшее благо, без которого были бы немыслимы всякие другие блага, а когда жизнь уже есть, она является к нему в виде любимой матери, для которой нет ничего, чем бы она ни пожертвовала, когда дело идет о её родном детище. Затем она приходит к нему в виде отдаленной мечты, бледной и неясной, озаряющей первые проблески его самосознания, когда он находится еще на школьной скамье, но увлекается уже мыслью в лабиринт чувств. О, как радужны и невинны эти мечты, окутанные дымкою запретности и тайны! А когда заря юности всходить в его душе, украшая ее самыми причудливыми узорами и красками, она становится на его дороге молодой очаровательной девушкой и дарит его нежным поцелуем, первым поцелуем, магическое действие которого он тщетно искал бы в поцелуе матери. Затем она сопровождает его на жизненном пути в виде жены, сестры, дочери, подруги. Она бережет его покой, подслушивает его заветные думы, охлаждает излишний жар, ослабляет излишний холод. Где тот мужчина, который, пройдя сквозь горнило женского влияния, не очистился бы сердцем и душой, если даже он порочен, и не захотел бы помириться с миром, не захотел бы любить, молиться и веровать добру, как захотел лермонтовский Демон после встречи с Тамарой? И разве не этот процесс духовного возрождения под влиянием женщины так ярко живописует Пушкин, который также много любил на своем веку, в маленьком, но удивительном по яркости и выпуклости стихотворении[1], кстати сказать, также посвященном женщине?
Я помню чудное мгновенье: Передо мной явилась ты, Как мимолетное виденье, Как гений чистой красоты. В томленьях грусти безнадежной В тревогах шумной суеты, Звучал мне долго голос нежный И снились милые черты. Шли годы. Бурь порыв мятежный Рассеял прежние мечты, И я забыл твой голос нежный, Твои небесные черты. В глуши, во мраке заточенья Тянулись тихо дни мои Без божества, без вдохновенья, Без слез, без жизни, без любви. Душе настало пробужденье И вот опять явилась ты, Как мимолетное виденье, Как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоенье, И для него воскресли вновь И божество, и вдохновенье, И жизнь, и слезы, и любовь.Есть прекрасная легенда. Я слышал ее еще юношей и не помню, какому народу она принадлежит; но она так ярко рисует значение женщины в жизни мужчины, что лучшую иллюстрацию для оттенения идеи в самой наглядной форме трудно найти. Это было во времена седой старины, когда Божество только что создало землю, треножник своего величия, и человека, который мог бы созерцать это величие. Он не был Адамом, потому что легенда относится к языческому народу, но он был одинок, как Адам, и блуждал по бесцветным полям пустынного Эдема, равнодушный и унылый, напрасно отыскивая, предмет, который чем-нибудь приковал бы к себе его глаз или ухо. Все было пустынно и мертво. Вселенная только что вышла из великой мастерской Божества и ничем не радовала его нетронутого сердца. Долго блуждал человек и, наконец, взмолился:
— О, Всесильный, Ты дал мне глаза, чтобы видеть, но все кругом так мертво и однообразно! Я устал смотреть на безжизненный простор полей, потому что в нем все серо и однообразно. Нет ни одной точки, на которой я мог бы остановить опечаленные взоры.
Не успел он вымолвить последнего слова, как около него показался незнакомый предмет. То была роза. Ея нежные лепестки как бы сложились в боязливую семью и с легким трепетом тянулись к устам человека. И человек ожил. Он был счастлив. Он обожал невиданный цветок всею силою первобытного чувства. Целые дни проводил он в созерцании неожиданного гостя, и уста его безустанно шептали слова благодарности Божеству, величественно восседавшему на своем треножнике.
Но недолго продолжалось это счастье. Человек устал в беспрерывном общении с неземным созданием, которое было прекрасно, но ничем не могло ответить ему на пылкое чувство. Ему нужно было существо, которое умело бы ласкать его слух, наполнять воздух звуками своего голоса, и он снова взмолился:
— О, Всесильный, Ты дал мне слух и создал во мне потребность не только говорить, но и слышать, как говорить другие. Неполно мое счастье, Всесильный.
И опять совершилось чудо: не успел он промолвить последнее слово, как около него запорхала птичка. Послышалось веселое щебетание. Переливы не слышанных раньше звуков задрожали в воздухе жизнерадостными аккордами, вливая в его сердце потоки нового, не изведанного чувства. Человек был опять счастлив. Дивные краски цветка ласкали его зрение, аккорды песни очаровывали слух. Он был полон блаженства и его уста шептали слова любви и признательности.
Но прошло много лет, и человек снова взмолился:
— О, Всесильный, Ты дал мне жизнь и блага жизни, но не дал существа, которое могло бы принять участие в моей радости. Ласка нужна мне, Всесильный. Я устал в созерцании безмолвной красоты цветка и не радует меня веселое чириканье птички, которая чуждается меня и улетает, когда я протяну к ней руку.
И вдруг — о, чудо! — не успел он вымолвить последнего слова, как появилась собачка. С радостным визгом и лаем подбежала она к человеку, вскочила к нему на колени, бросилась на грудь и начала лизать его лицо и руки. Какой восторг! Какое упоение! Да, только этого милого, доброго, преданного существа ему недоставало! Она не отходит от него ни на шаг, бережет его сон, согревает его любовным жаром. Теперь у него все. Больше ему ничего не нужно, ничего…
Но Божество, восседая на треножнике своего величия, земле, неспокойным оком созерцало радость первого человека и думало о судьба первенца, для которого не настала еще минута полного счастья. Оно видело, что человек не доволен еще жизнью, что около него нет предмета, который мог бы ему заменить все прежние, который цвел бы, как роза, чирикал бы, как птичка, и ласкался бы и был предан, как это маленькое доброе животное, никогда не отходящее от него ни на шаг. Оно знало, что человеку нужен еще разумный друг и сознательный товарищ и что до тех пор, пока не будет у него этого товарища и друга, он будет по-прежнему томиться и тосковать. И человек действительно взмолился вскоре.
— О, Всесильный, я всем доволен и благодарен за все. Но не преступен я, если сердце просить иного, лучшего. Ты дал мне разум и волю, Ты вселил в меня потребность стремиться и желать. Когда же успокоится мой тревожный ум? Когда же сам я скажу себе: «Довольно»?
И исполненным мольбою взором человек взглянул в ту сторону, где сидело Божество на своем величественном треножнике. О, чудо, Божества больше не было! Оно унеслось в беспредельные пространства Вселенной, а на Его месте, вся в цветах радуги, озаренная небесным сиянием, светлая, как улыбка младенца, и прекрасная, как мечта, сидела женщина.
Легенда прибавляет, что человек больше ничего не требовал…
М. Дубинский.Глава I Поэты
I. Греция
Анакреон. — Архилох. — Алкей. — Пиндар. — Эврипид.
Поэтам — мы отдаём первое место. Поэты всегда высоко ставили культ женщины. Они окружали ее ореолом, поднимали на высокий пьедестал, посвящали ей свои думы, для неё расточали пыл души, ей в жертву приносили лучшие мечты и надежды. Можно сказать, что поэзия родилась вместе с женщиною и в то время, когда праматерь Ева вышла из Адамова ребра, Адам уже был поэтом.
Нечего говорить, что в античном мире поклонение женщине было особенно сильно развито. Древний грек или римлянин умели лучше своих отдаленных потомков созерцать красоту в её первоисточнике — женщине. Все эти многочисленные произведения искусства, завещанные нам седой стариной, являются только ярким доказательством мощи, которою пользовалась тогда женщина, и как бы воскрешают перед нами идеи и чувства далекого прошлого. Недаром древние художники так усердно работали над воспроизведением красоты женского тела, недаром они считали высшей задачею искусства извлечение из мрамора божественных форм, которыми наградили женщин олимпийские боги, бывшие также большими поклонниками женщины. Мы говорим «женщины» в узком смысле этого слова, потому что древние ценили в женщине не её ум, не добродетель, не общественные таланты, а красоту, иными словами — чисто физическую сторону её существа. Чем это объясняется — известно. Женщина была побочной величиною. Она играла роль в семье, но не как равноправный член её, а как второстепенная единица, все функции которой заключались в рождении детей и уходе за хозяйством. Как остроумно выражается Шерр, говоря о спартанской женщине: «Супружеские отношения не шли дальше чисто животных потребностей, и это потому, что брак, но закону Ликурга, обращался в рационально устроенный завод для распложения людей».[2] Женщина пользовалась безусловным поклонением мужчины, но тот же мужчина держал ее за тремя замками в своем тереме, который не уступит нынешним гаремам в Турции, держал, как драгоценную вещь, которую прячут в ящик и вынимают только тогда, когда отправляются в многолюдное собрание. Впрочем, и в многолюдные собрания не выводилась древняя женщина, если не считать религиозных церемоний.
Вполне понятно поэтому, что в обществе должны были играть большую роль гетеры. Замкнутая, подчиненная, почти рабская роль древнегреческой или римской женщины делала ее существование незаметным. Между тем потребность в женском обществе была очень велика, так как женщина, как сказано, являлась главной носительницей высшего начала, перед которым преклонялся грек или римлянин, — красоты в её высшей, законченной форме. Вот почему, говоря о древней женщине, как о свободной представительнице общества, приходится иметь в виду только гетеру. Ей, этой легкомысленной, развратной, но прекрасной жрице чувства, ей, продававшей свою любовь за деньги, но в то же время умевшей вливать в душу созерцателя её красоты невыразимую радость и блаженство, — ставились статуи, воздвигались мавзолеи и курился фимиам не только в переносном, но, и в истинном смысле слова, потому что существовали храмы посвященные любви и страсти. Даже такой идеалист, как Платон не восставал против внебрачных отношений между представителями обоего пола. Все, что было знатного и талантливого, пресмыкалось во прахе перед гетерами и несло к их ногам славу, талант, богатство. Даже правосудие склоняло перед ними свое знамя, и когда адвокат Фрины, не находя достаточно сильных аргументов, чтобы повлиять на её судей, сорвал с неё покровы, — суровые, грозные, беспощадные судьи сменили гнев на милость и вместо обвинительного вынесли оправдательный приговор.
Анакреон и гетеры
Оглядывая мысленно длинную галерею поэтов, завещавших миру свои мечты и восторги, невольно останавливаешься на Анакреоне, этом древнейшем и пламеннейшем представителе науки страсти нежной, которую к тому же он довел до последнего слова. «В лице Анакреона, — говорить профессор Дублинского университета Дж. П. Магаффи, — мы видим утонченнейшего придворного, поклонника вина и любви, человека, исчерпавшего до дна все человеческие наслаждения и не знавшего никакого горя, кроме появления седин на его голове и пренебрежения статных юношей и красивых девушек к начинавшейся его старости. Он не вмешивался в политические дела, не давал серьезных наставлений по вопросам нравственности, стоял особняком от всех высших целей и стремлений его времени; он был по преимуществу „вольным певцом незанятого дня“, „любимым поэтом роскошного и чувственного двора“[3]. Резкие нападки на Артемона были, кажется, вызваны эротической ревностью; гимны к Дионису не имели религиозного характера, а просто являлись светскими произведениями. Это отсутствие серьезности проникало в самую глубь его натуры».[4] Вот на кого оказывала сильное влияние женщина. Вот поэт, творческая деятельность которого носит на себе яркий отпечаток огня, переполнявшего его сердце. Нет ни одного поэта во всемирной литературе, который довел бы до такой полноты и законченности культ женской красоты и сумел бы сохранить свое миросозерцание нетронутым до конца дней.
Славлю нежного Эрота: Он сильнее всех богов; Он царит в венце, сплетенном Из бесчисленных цветов. Смертных мощный укротитель, Он самих богов властитель.[5]Нечего говорить, что в своих стихотворениях он воспевает только гетер, господство которых особенно усилилось в царствование Пизистрата, захватившего власть в отсутствие сурового Солона и вместо строгих нравов насадившего Афины предметами искусства и легкими взглядами на жизнь. Называть имена женщин, которых любил Анакреон, бесполезно: их было много — во-первых, а во-вторых, он, может быть, вряд ли отличал одну гетеру от другой и во всяком случае мало печалился, если какая-либо из его возлюбленных не обращала на него внимания. Он сам указал на свое легкомысленное перепархивание от одной женщины к другой в грациозном полушуточном стихотворении, озаглавленном: «Любовницам»:
Все листья на деревьях Ты верным счетом знаешь, И на море широком Все волны сосчитаешь — Сочти ж моих любовниц! В Афинах для начатка Ты запиши мне двадцать И полтора десятка. Потом считай в Коринфе По целым легионам: Уступит вся Эллада В красе коринфским женам Теперь сочти в Лесбосе, В Ионии, в Родосе, И в Карии… пожалуй — Две тысячи… немного… Что скажешь? Отвечай же: Далеко до итога! Нисирским и канотским Не свел еще я счета… Да в Крите всеобильном, По городам Эрота, Где таинства уставил Любви законодавец. Сочти вдобавок к прежним, Души моей красавиц. Но как их сосчитаешь Спрошу тебя заране — За Кадиксом, за Индом И в дальней Бактриане?[6]Одну только «белокурую Эврипилу» Анакреон любил, по-видимому, глубоко, так как написал бранное стихотворение по адресу соперника, называя его бродягою и рассказывая, что прежде он носил дырявый плащ, истертую шапку и деревянные подвески, таскался с торговками и разгульными женщинами и позором добывал себе хлеб, а теперь он ездит в колеснице и носить золотые серьги и зонтик из слоновой кости[7]. Такая ругань в устах столь чистого эпикурейца, как Анакреон, несомненно свидетельствует о сильном чувстве.
Было бы, конечно, странно порицать Анакреона за жар души, растраченный в пустыне, или, что то же, за пылкую страсть к гетерам. Время было такое. Умный, красноречивый Пизистрат сумел уловить основную черту характера афинского народа и, увлечь его жизнью, свободной от стеснительных уз морально-политического кодекса, навязанного ему Солоном. Недаром последний так сильно негодовал, когда, вернувшись на родину, увидел, что все труды его напрасны, что от великолепного здания афинской гражданственности, выстроенного им искусной рукой, не осталось и камня на камне. Он мог излить горечь тоски своей в стихотворении «Бедствия афинян», в котором восклицал: «Афиняне, не приписывайте вашего бедствия богам: оно порождено вашим развратом! вы сами придали силу гнетущим вас рукам!»[8]. Этим отчасти объясняется также и развращенность нравов, заставлявшая даже наиболее светлых людей своего времени искать наслаждений в неестественных пороках, которые, впрочем, и пороками тогда не считались, так как создали целый контингент мужчин с женоподобными лицами, открыто торговавших своей красотою не хуже любой гетеры. Анакреон не был свободен от упрека в этом отношении, и можно смело сказать, что, если женщина играла в его жизни и поэзии огромную роль, то не менее огромную роль играли также и мужчины. Как и гетер, их было в то время очень много, и Анакреон увековечил их имена в своих стихотворениях, принадлежащих к перлам его вдохновения. Наиболее известные из них: Вафилл, Смердис, Клеобул, Симола. Читая песни знаменитого поэта, посвященные этим лицам, невольно удивляешься искренности чувства и нежности настроения, которое могло быть навеяно только глубокой привязанностью. Вот, например, маленькое стихотворение, озаглавленное: «Вафиллу».
Ляжем здесь, Вафилл, под тенью, Под густыми деревами, Посмотри, как с нежных веток Листья свесились кудрями. Ключ журчит и убеждает Насладиться мягким ложем. Как такой приют прохладный Миновать с тобой мы можем?[9]Современники Анакреона не только не находили ничего возмутительного в песнопениях Анакреона, посвященных красавцу-мужчине, но поставили даже бронзовую статую Вафилла в храме Геры в Самосе…
Мы пройдем мимо этих безобразных сторон человеческого духа, объясняемых только своеобразными взглядами на жизнь, и если упомянули о них, то только потому, что корень их кроется в том же стремлении к идеальной красоте, воплощением которой являлась женщина. Вафилл или Клеобул уже не были мужчинами в глазах Анакреона Описывая их в своих грациозных стихотворениях, он делает то же самое, что делают всякие поэты при описании цариц своего сердца, т. е. тщательно рассказывает, какие у него глаза, шея, волосы, цвет лица, руки. И проявления чувства были те же. Страсть и нежность чередовались с ревностью или охлаждением. Особенно поучительно в этом смысла отношение Анакреона к фракийскому мальчику Смердису. Тиран Поликрат, рассказывает Штоль[10], получил его в подарок от фракийских греков и питал к нему большую привязанность. Анакреон также проникся к нему нежным чувством. И вот между поэтом и тираном завязалась тонкая, но серьезная борьба: один старался привлечь к себе мальчика прекрасными песнями, другой — подарками. Озлобленный и ревнивый Поликрат приказать остричь роскошные кудри мальчика и тем обезобразил его. И Анакреон пишет по этому поводу прочувствованные стихотворения, в которых выражает и сожаление, и грусть.
Повторяем, только одним влиянием времени можно объяснить эту странную аномалию, которую так метко истолковал один из лучших иностранных переводчиков Анакреона Денне-Барон, когда писал: «Но что сказать о пылкой привязанности поэта к красавцу Клеобулу, к нежному Мемсту, к юному Вафиллу, этому идеалу всех совершенств? Мы можем сказать вот что: одни только целомудренный музы, одни во всей Греции, покраснели и опустили покрывала, когда на Олимпе, за трапезою Зевса, юный виночерпий Ганимед сменил девственную Гебу»…[11]
Архилох и дочери Ликамба
Не один только Анакреон из древних поэтов подчинялся чарам любви и не на одного только его поэтическое творчество влияли женщины. Об Архилохе, например, этом ярком представителе элегии, распространившейся из Ионии по европейской Греции (жил в VII веке до Р. X.), народное предание рассказывает, что он влюбился в младшую дочь одного паросца Ликамба, который сначала дал было согласие на брак его дочери с поэтом, но потом взял свое обещание назад. По свидетельству Штолля[12], Архилох, по-видимому, страстно любил красивую девушку «с ароматными волосами, которая могла бы свести с ума любого старика». Когда он видел, как она играла миртовой веткою и свежей розою и кудри ее волнами рассыпались по плечам, тогда «любовь вполне овладевала им, так что он, полумертвый, чувствовал боль во всем теле». Когда же отец её, может быть вследствие бедности молодого человека, а может быть и вследствие его неприятного для многих образа мыслей, «нарушил великую клятву, данную за дружеским хлебом-солью», тогда оскорбленный поэт, «который ничего лучшего не мог сделать, как отплатить злом тому, кто с ним зло поступил», в страшном гневе начал в стихах своих осыпать Ликамба и его дочерей такими позорящими насмешками, что несчастные со стыда и отчаяния все повесились.
Здесь мы видим один из ярких примеров любви, которая под давлением обстоятельств превращается в сильную ненависть, не только отражаясь известным образом на характере творческой деятельности поэта, но придавая ей совершенно другую окраску. Велико же должно было быть влияние любимой девушки, если из мягкого, светлого, элегического поэта Архилох сделался неумолимым мстителем и карателем предмета собственной страсти.
Алкей и Сафо
Может быть, не столь трагической, но во всяком случае столь же неудачной была любовь другого греческого поэта Алкея, современника Архилоха, к Сафо. Богатый аристократ, для которого были открыты все радости жизни, Алкей по натуре и роду поэтической деятельности очень напоминал Анакреона. Как и юношеский певец, который ничего другого не мог петь, кроме любовных чувств, и меланхолически восклицал, отуманенный винными парами:
Хочу я петь Атридов, И Кадмов петь охота, А Барбитон струнами Поет мне про Эрота[13].Так и Алкей воспевал Вакха и Афродиту, посвящая им большую часть своих поэтических порывов, и, конечно, такая изящная, красивая и богато одаренная талантом девушка, как Сафо, не могла не привлечь к себе его внимания и внушить серьезную страсть. Алкей и Сафо были несомненно близки между собою, но близость эта не перешла за пределы доброго товарищества.
Это видно из одного стихотворения Алкея, в котором, называя Сафо «пышвоволосою, величественною, приятно улыбающейся», поэт говорит, что хотел бы признаться ей в любви, но не может. «Сказал бы я, но мне стыдно».
На это Сафо отвечала: «Если бы то, чего ты желаешь, было хорошо, если бы то, что ты хочешь сказать, было не позорно, то стыд не смутил бы тебя и ты свободно высказал бы все свои желания»[14].
Пиндар и Коринна
Переходя от изнеженного, преданного наслаждениям Алкея к величавому Пиндару (родился в 522 г. до Р. X.), приходится отметить, что в области женского влияния нет разницы между легкомыслием и солидностью мужчины. Любви все возрасты покорны. Серьезный, задумчивый, глубоко религиозный, он не ускользнул от женских чар, хотя влияние это выразилось, насколько известно, только в постоянном антагонизме с поэтессою Коринной.[15] Встретился он с нею в своем родном городе Беотии (в Фивах), после того как, научившись стихотворному искусству и приобретя достаточно познаний в Афинах, он вернулся туда двадцатилетним юношей, чтобы всецело отдаться своим поэтическим наклонностям. Первоначально отношения между поэтом и Коринной были дружеские. Поэтесса даже играла роль наставницы по отношению к Пиндару и часто черпая из мифов темы для вдохновения, упрекала поэта за то, что он относится совершенно индифферентно к этому неиссякаемому источнику возвышенных дум и поэтического настроения. Пиндар послушался и написал гимн, в котором привел все известное ему из области мифологии. Коринна рассмеялась, когда ее поэтический ученик и приятель поднес ей свое стихотворение, и воскликнула: «Надо сеять горстью, а не целым мешком!». Очень может быть, что Пиндар послушался. Об этом история умалчивает, точно также как она умалчивает о дальнейших отношениях его к своей наставнице и подруге. Можно только догадываться, что окончились они далеко не благополучно. По крайней мере, имеются сведения, что между Пиндаром и Коринною происходили одни лишь ссоры. Так, известно, что она порицала Пиндара за пользование формами других диалектов и нежелание писать на чистом родном языке. Так как беотийцам было, конечно, приятнее читать произведения на собственном языке, то на поэтических состязаниях пальма первенства предоставлялась Коринне. Пять раз она одерживала над ним победу. Пиндар злился, негодовал, приписывал успехи не ее таланту, а красоте, и в конце концов прозвал даже «свиньею». Штолль старается снять с величавого Пиндара упрек в употреблении таких непозволительных в порядочном обществе слов указанием на то, что слово «свинья» не имело тогда того ругательного значения, какое принадлежит ему теперь; но сомнительно, чтобы свинья когда-либо пользовалась почетом.
Эврипид и Хирилла
Обобщал ли Пиндар свое чувство к Коринне, и иными словами, сделался ли он женоненавистником или, по крайней мере хулителем слабого пола, неизвестно, но другой великий поэт древности, Эврипид, им сделался. Благодаря неблагоприятным условиям семейной обстановки, жизнь его сделалась даже сплошной драмой. Один из величайших представителей древней трагедии, относительно которого Фукидид отозвался, что могилою ему служит вся Греция, а отечеством Афины и вся Эллада, пользовался большим почетом, как поэт и гражданин, но был очень несчастлив у себя дома. Обладая угрюмым, молчаливым характером, он любил уединение, чуждался веселья и, конечно, не ему было пленять сердца прекрасных современниц. Этим, может быть, и объясняется то, что первая жена его, Хирилла, стала ему изменять. Он развелся с нею, несмотря на то, что у него были от этой жены два сына. Судя по всему, это была легкомысленная женщина, не брезгавшая даже рабом Эврипида. Измена любимой женщины не могла не повлиять на мировоззрение великого поэта, и он выразил свои горькие чувства в драме «Ипполит», в которой сильно нападает на женщин и устами своего героя высказывает такие мысли: «О, Зевс, ты омрачил счастье людей тем, что произвел на свет женщину! Если бы ты хотел поддержать человеческий род, то должен был бы устроить так, чтобы мы не были обязаны женщинам своей жизнью. Мы, смертные, могли бы приносить в твои храмы медь или железо, или дорогое золото и взамен получать детей из рук божества, каждый сообразно со своим приношением; и эти дети вырастали бы в доме отца свободно, никогда не видя и не зная женщин. Ибо ясно, что женщина — величайшее бедствие».[16]
С тех пор Эврипид не перестал обнаруживать свои враждебные чувства при каждом удобном или неудобном случае. Даже в таких произведениях, как «Финикиянки», в которых злобному чувству к женщинам отведено меньше всего места, встречаются колкие замечания по адресу женщин вроде следующего:
Не попадай к подругам на язык — Ведь женщины всегда прибавить рады, И их уста злоречия полны, Когда они одна другую судят.[17]Впрочем, горе не исправило Эврипида. Он развелся с легкомысленной женой, но только для того, чтобы жениться на другой. Такова власть женщины. К сожалению, и вторая жена не оказалась на высоте своего призвания: она сбежала. Эврипид мог после этого дать полную свободу своему горькому чувству, и действительно, в своих дальнейших произведениях он громит женщину всеми бичами своего огромного таланта. Сохранился рассказ, по которому женщины, раздраженные дурными отзывами Эврипида, напали на него однажды во время празднества и даже хотели убить, но пощадили после того, как он дал обещание больше никогда не отзываться дурно о женщинах. Штолль считает этот рассказ вымышленным, полагая, что он был навеян комедиею Аристофана «Женщины на празднике Фесмофорий», в которой с свойственным Аристофану юмором передается, как женщины, собравшись на праздник Фесмофорий, где между ними царствует полное согласие, устраивают суд над поэтом, чтобы приговорить его к смертной казни; как Эврипид, опасаясь за свою участь, ищет кого-нибудь из мужчин, который, одевшись в женское платье, принял бы участие в собрании женщин и защищал бы там поэта; как эту роль берет на себя тесть Эврипида; как его узнают и привязывают к столбу, чтобы судить за незаконное вторжение в женское общество; как Эврипид бросается в храм и вымаливаете себе прощение обещанием больше никогда не поносить женщин. Но ведь и сам Аристофан мог написать свою комедию на основании действительного факта. По крайней мере, такой факт не заключает в себе ничего невероятного, если принять во внимание нравы времени, огромное значение, которым пользовались женщины, и выводящее из ряда вон женоненавистничество виднейшего представителя периода упадка греческой трагедии.
Впоследствии, через много веков, Эврипид нашел себе повторение в лице одного из представителей скандинавской литературы — Стриндберга. Как и Эврипид, Стриндберг ненавидел женщин, был два раза женат и впоследствии отрекся от своих первоначальных чувств. Новое доказательство того, что история очень мало изменила в отношениях между мужчиною и женщиною и что женщина действительно составляет в настоящее время все, как это было два тысячелетия тому назад…
II. Рим
Овидий. — Катулл. — Гораций.
Овидий
Если бы мы говорили о римских поэтах, как поэтах, то, конечно, прежде всего необходимо было бы провести параллель между ними и греческими поэтами. Тогда пришлось бы указать на разницу между характером творческой деятельности тех и других, указать на влияние времени, обстановки, житейских условий, общего показателя культуры. Но мы говорим о поэтах, как о людях, как о носителях известных страстей и влечений, а в этой области сглаживаются всякие различия и получают буквальный смысл слова: «несть ни эллин, ни иудей». Римские поэты любили, страдали, наслаждались, разочаровывались так же, как и греческие, как и всякие другие поэты, у которых слишком чувствительны нервы и впечатления быта переживаются более сильно и глубоко. Что делать? Страсти всюду роковые и от судеб спасенья нет.
На первом месте приходится поставить Овидия. Он близок нам. Его страдания в жизни и живительная поэзия, поэзия первого римского поэта, с которым мы знакомимся на школьной скамье, давно сроднили его с нами. К тому же Овидий — именно тот поэт, о котором Пушкин говорит устами старика в «Цыганах»:
Меж нами есть одно преданье: Царем когда-то сослан был Полудня житель к нам в изгнанье. (Я прежде знал, но позабыл Его мудреное прозванье.) Он был уже летами стар, Но млад и жив душой незлобной — Имел он песен дивный дар И голос, шуму вод подобный — И полюбили все его, И жил он на брегах Дуная, Не обижая никого, Людей рассказами пленяя; Не разумел он ничего, И слаб и робок был, как дети; Чужие люди за него Зверей и рыб ловили в сети; Как мерзла быстрая река И зимни вихри бушевали, Пушистой кожей покрывали Они святого старика; Но он к заботам жизни бедной Привыкнуть никогда не мог; Скитался он иссохший, бледный, Он говорил, что гневный бог Его карал за преступленье… Он ждал: придет ли избавленье. И всё несчастный тосковал, Бродя по берегам Дуная, Да горьки слезы проливал, Свой дальний град воспоминая, И завещал он, умирая, Чтобы на юг перенесли Его тоскующие кости, И смертью — чуждой сей земли Не успокоенные гости!Да, кости его действительно нуждались в успокоении. Живя в золотой век римской литературы, окруженный славою талантливого писателя, достигнув, наконец, высокого служебного положения, он должен был неожиданно не только расстаться с городом, в котором жил и был счастлив, но и уехать еще в далекую область, на край империи, в нынешнюю Констанцу, которая в то время была еще чужда культуре. Чем провинился Овидий — неизвестно. Говорят, что его стихотворения повлияли развращающим образом на дочь и внучку императора Августа. Во всяком случае любовный элемент играл несомненную роль в изгнании Овидия, как и во всей его жизни, переполненной примерами любовного экстаза. Он сам свидетельствует об этом в своей элегии «Tristiai», представляющей ни что иное, как стихотворную автобиографию:
Сердцем я мягким владел и стрелам Амура доступным, Повод ничтожный во мне чувство любви возбуждал.[18]«Чувственная любовь, которая у Тибулла прикрывается завесою стыдливости, а у Проперция является без покрова, как законное право мужчины, — говорить Вебер, — принимает характер сластолюбия у четвертого великого лирического поэта римлян, гениальнаго Публия Овидия Назона. Ни у кого из других поэтов не отражаются так ясно, как у него, основные черты начинающегося монархического времени, сладострастие и легкомыслие образованного блестящего общества, и никто из других поэтов не отдавался с таким открытым увлечением, как он, сластолюбию этой эпохи изящества».[19] Ничего, поэтому, нет удивительная в том, что Овидий сделался жертвою своей чувственности. Достаточно сказать, что он три раза был женат. В первый раз он женился в раннем возрасте на девушке знатного рода. Сделал он это, однако, не по собственному желанно, а по требованию отца, который думал этим путем вырвать сына из среды беззаботной молодежи, прожигавшей жизнь в безделье и культе любви. Отец ошибся. Овидий не расстался с прежними привычками и, будучи женат, находился в связи с женщиною, которую воспевать в своих стихотворениях под именем Коринны. В своей автобиографии, впрочем, он обвиняет не себя, а жену.
Чуть ли не мальчиком мне недостойную женщину дали В жены, но с нею мой брак краток, но счастию, был.Овидий развелся с женою и женился вторично, но и второй брак был неудачен. Почему — неизвестно. Овидий не считает ее виновной перед собою, следовательно, причину нужно искать в легкомысленности самого поэта, тем более что о разводе хлопотал уже не он, а родители жены, хотя от Овидия у неё было двое детей. В пользу этого предположения говорит также и то, что, расставшись со второй женой, поэт предался разгулу, проводя жизнь в обществе той же развращенной молодежи, среди которой занимал почетное место еще до женитьбы. Наконец, он женился в третий раз, и с этой минуты жизнь его переменилась. О прежнем разгуле не было и помину, и это нужно отнести всецело насчет его жены Фабии, которая была превосходной женщиной и преданной подругой, не изменившей ему до конца жизни. Принадлежа к знатному роду, она сблизила его со двором. Любя поэзию, она благоприятно влияла на его творческий гений и не мало гордилась его славою. До выхода за Овидия она уже была замужем и имела даже взрослую дочь, что, вероятно, также играло немалую роль в ее отношениях к мужу. Овидий говорит о ней с умилением при перечислении своих жен:
Третья, со мной неразлучно прожившая долгие годы, Ссыльного даже женой не отказалася быть.И затем, описывая сцену прощания с женою перед разлукою, впадает в нежно-слащавый тон, свидетельствующий о глубокой привязанности.
Овидий умер в изгнании, так и не дождавшись освобождения. Жена не последовала за ним, но только потому, что этого желал сам поэт. Ему, вероятно, хотелось иметь в Риме человека, который охранял бы его имущество от врагов, и Фабия верно исполнила свою задачу, как свидетельствует об этом Овидий:
Ты, как опора надежная, дом мой спасла от падения, Что не погиб я совсем, тем я обязан тебе: Многие счастьем разбитым моим поживиться желали, Ты только сделать могла, что я не нищ и не наг. Словно прожорливый волк, бичуемый голодом, жаждет Кровью упиться никем не стерегомых овец, Или прожорливый коршун, вперив свои взоры на землю, Высмотреть хочет себе труп, не прикрытый землей, Так и один человек, мне в несчастья моем изменивший, Жаждал достатков моих, но не позволила ты. С помощью верных друзей моих прочь ты его устранила. В силах ли выразить вам я благодарность, друзья?Удивительный пример Фабии стоит почти одиноко в жизнях великих поэтов древности. Немногие женщины до нее и впоследствии умели подняться на такую высоту самоотвержения и преданности. Но пример ее заслуживает внимания еще потому, что Овидий не принадлежал к числу мужей, которые могут приковать к себе преданностью, верностью, обходительностью. Уже одно то, что ему принадлежите поэма «Ars amandi» (Искусство любить) — название, которое так хорошо можно передать словами Пушкина «наука страсти нежной», свидетельствует о том, что приковать такого человека к семейному очагу было героическим подвигом. В этой поэме перечислены средства, с помощью которых мужчина может приобрести любовь женщины, а женщина — любовь мужчины, — произведение, которое, конечно, мог написать человек, слишком искусившийся в проповедуемой им науке, тем более что порок везде рисуется им в самой соблазнительной форме. Овидию же принадлежит и другая поэма, составляющая дополнение к первой — «Remedia amoris», т. е. «Лекарства от любви», в которой он учить, как избавиться от цепей Амура. Словом, это был человек, искавший в жизни одних только удовольствий, человек, для которого наслаждения составляли все содержание бытия. Приручить такого человека и удержать на высоте, на которую он поднялся на крыльях таланта, сделать это, повторяем, — подвиг величайшего героизма, и подвиг этот совершила его жена Фабия.
Катулл и Лесбия
Совершенно противоположный пример отношения женщины к великому человеку, с которым она находилась в связи, мы видим в жизни другого знаменитого римского поэта Валерия Катулла (87–54 до Р. X.). Как и Овидий, он ведь разгульную жизнь, вращаясь в кругу молодежи, которая всё прощала, потому что сама всё делала. Его песни дышат свежестью и безыскусственностью, которые не увяли в течение двух тысячелетий. «Для Катулла, — говорит его немецкий переводчик Прессель, — предмет поэзии только то, что он чувствует. Он пишет стихи под властью ненависти или любви, радости или печали, передает исключительно настроения своей души, хотя бы и мимолетные. Потому, от его стихотворений веет свежестью, они произведения минуты, не придуманные, безыскусственные. Изображает ли он порывы чувственности словами, откровенными до неприличия, бичует ли язвительными насмешками могущественных людей, как, например, Цезаря, — он всегда оригинален. В нем проявляются последние силы умирающего республиканского духа».[20] И вот этому именно человеку пришлось встретиться с женщиной, положившей глубокую печать не только на его литературные произведения, но и на весь склад его жизни.
Штолль подробно излагает историю этой несчастной любви.[21] Лесбия была знатная римлянка. Римские поэты обыкновенно не называли в своих песнях действительные имена воспеваемых красавиц, а сочиняли для этого подходящее имя. Таким-то образом и получилось, что настоящее имя возлюбленной Катулла было не Лесбия, а Клодия. Оно принадлежало сестре известного П. Клодия, преследователя Цицерона, женщине аристократического происхождения, известной но только красотой, но и безнравственной жизнью. Она бесстыдно предавалась пламенной чувственности и своими чарами завлекла в свои сети множество знатных легкомысленных юношей, хотя муж её, весьма почтенный Кв. Метелл Целер, был еще жив. Когда он внезапно умер во цвете сил, молва даже считала себя в праве распространять страшное подозрение, будто она ядом устранила неудобного человека со своего пути. Обладая тонким образованием и знакомством с греческой поэзией, делая и сама попытки в искусстве поэзии, она обратила свое внимание преимущественно на талантливых молодых людей и не пренебрегала никакими средствами, между прочим и материальной поддержкой, чтобы удержать их около себя. Далеко не бесчувственный к женским прелестям, Катулл также подпал ее обаяние, хотя был по крайней мере на 7 лет моложе нее, и предался ей с горячей страстностью, воображая, что он один пользуется ее благосклонностью. Когда поэт стал бывать у нее, их общим доверенным сделался любимый воробей Лесбии, которому поэт завидовал и смерть которого воспел в знаменитой песне, часто служившей предметом подражания для древних и новых поэтов. Наконец, отношения между поэтом и Лесбией дошли до той границы, за которою больше ничего уже не остается желать. Опьяненный блаженством, Катулл восклицает:
Жить и любить давай, о Лесбия, со мной! За толки стариков угрюмых мы с тобой За все их не дадим одной монеты медной! Пускай восходит день и меркнет тенью бледной: Для нас, как краткий день зайдет за небосклон, Настанет ночь одна и бесконечный сон. Сто раз целуй меня, и тысячу, и снова Еще до тысячи, опять до ста другого, До новой тысячи, до новых сот опять. Когда же много их придется насчитать, Смешаем счет тогда, чтоб мы его не знали, Чтоб злые нам с тобой завидовать не стали, Узнав, как много раз тебя я целовал…[22]Недолго, однако, продолжалось счастье Катулла. Поэт в одно прекрасное время узнал, что любимая женщина, находясь с ним в самых близких отношениях, поддерживала такие же отношения и с другими. Катуллу осталось бросить Лесбию-Клодию, но, продолжая любить преступную женщину, он долго колебался. Наконец, он решился порвать с нею и решение свое выразил в следующем стихотворении:
Бедняк Катулл, не будь ты более шутом, Коль видишь, что прошло, считай оно пропало. Светило солнышко тебе живым лучом Когда ты хаживал, как дева указала, Любимая тобой тогда, как ни одна. Какие игры тут бывали между вами: Ты их желал, от них не прочь была она. Живило солнышко и впрямь тебя лучами. Не хочет уж она, ты тоже не хоти, За убегающим ты не гонись, будь гордым, Душою тверд, сноси, волненья укроти. Прощай же, дева, ты. Уже Катулл стал твердым. Не станет он тебя отыскивать, молить; Как не пойдет никто, так станешь ты унылой, Преступная, увы! Придется тяжко жить! Кто за тобой пойдет? Кому казаться милой? Кого тебе любить? Кому назвать своей? Кого поцеловать? Кого куснуть больней? А ты, Катулл, терпи с незыблемою силой.[23]Но коварная Лесбия сумела удержать около себя Катулла и даже заставила любить опять по-прежнему, опять считать себя счастливым в ее присутствии. И действительно, в произведениях Катулла снова зацвела любовь. К несчастью, и этот возврат к прежним отношениям не был продолжительным: Лесбия опять изменила. И опять Катулл решил ее покинуть, на этот раз уже с твердым намерением не возвращаться. В стихотворениях, написанных им в эту пору, уже сквозит явное охлаждение к падшей женщине, хотя и тут по временам страсть вспыхивает в нем с прежней силой.
Таким образом, сердечный роман Катулла оказался неудачным. Нечего говорить, что он сильно повлиял на направление его поэтического творчества, до того сильно, что некоторые критики делят художническую деятельность Катулла на три периода: до встречи с Лесбией, во время связи с нею и, наконец, после разлуки; В произведениях, написанных в эти три периода, одинаково проглядывает крупный талант, но в то время, когда стихотворения второго периода дышат мягкой теплотой, изнеженностью и искренностью, стихотворения третьего периода носят мрачный характер. Любовь Лесбии окрасила творчество Катулла всеми цветами радуги, но она же накинула на него черный флёр, от которого поэт не освободился до самой смерти.
Гораций и гетеры
Но вот поэт, относительно которого можно сказать, что женщины составляли в его жизни все или ничего, — Гораций. Он не был женат, а что касается его возлюбленных, то их до того много, что остановиться на какой-нибудь из них, сказать, что та или другая занимала в его сердце больше места в сравнении с другими, — нет почти возможности. Они все были близки ему, он им всем пел восторженные гимны, и эротическая страсть, которою было проникнуто все его существо, как у настоящего представителя века Августа, мощным потоком катится по всей его творческой деятельности, одинаково омывая, очищая, облагораживая всех легкомысленных представительниц прекрасного пола, когда-либо приковывавших к себе его внимание.
Нужно ли говорить, что всё это были гетеры? В то время, когда жил Гораций, женщина, как и в Греции во времена Анакреона, играла весьма жалкую роль или, вернее, не играла никакой роли.
Одна только осталась у неё область, в которой она владела к царила, как полноправная хозяйка, — область любви и чувственности. Матроне-жене — места здесь не было, а если ей удалялось иногда нисколько блесток игривого чувства, то только в том случае, если она сама сходила с пьедестала матери, чтобы унизиться до разгула гетер. Таким образом, понятие «женщина» сливалось с понятием «гетера», и если мы в произведениях древних писателей читаем славословия по адресу женщин, по временам самые возвышенные и безгрешные, то должны все-таки помнить, что та, которой посвящались эти излияния, никогда не была безгрешной.
В кругу этих именно падших, но прекрасных созданий черпал Гораций материал для вдохновения. Был еще один разряд падших женщин, открыто торговавших своими прелестями на улицах и у цирка, но они не входили в категории гетер, которые представляли нечто вроде отдельного класса и занимали в обществе совершенно определенное положение. Обыкновенно это были женщины рабского происхождения, подготовлявшиеся с детства в будущему позорному промыслу, который, как уже сказано, тогда позорным ее считался. Существовали даже особые спекулянты, занимавшиеся воспитанием рабских девочек в расчете на то, что они со временем продажей своего тела окупали их расходы[24]. Расходы были немалые, так как для того, чтобы прельщать развращенных, но тонких знатоков красоты того времени, гетере нужно было стоять на высоте современной образованности. У них были настоящие салоны, и в этих салонах собиралось все, что было светлого и знатного в древнем Риме. «В славныя времена империи прелестница в Риме жила барыней-щеголихой, держала слуг, принимала гостей, давала обеды и ужины, сияла не только красотою, но и умом, грацией, образованностью, нередко пела прекрасно и сочиняла миленькие стихи, всегда могла поддержать занимательный разговор о литературе и искусствах. У нее собиралась вся модная аристократ. Нужно было иметь счастье, чтобы быть ей представленным, и обладать на это ясными правами — знатности, ума, славы или богатства. Некоторые из новейших актрис, прославившихся умом, красотою, роскошью своего дома, приятностью беседы, отборностью общества и непостоянством сердца, отлично напоминают собою этих древних барышень. Поэты, артисты, консулы, трибуны, ораторы, сенаторы, эдилы, князья из рода цезарей ухаживали за знаменитейшими прелестницами, добиваясь их милости и любви. У Пенелопы, со всей ее целомудренностью, конечно, никогда не было столько обожателей. По городу разгуливали они в щегольских носилках, заменявших кареты, жили в Эсквилине, имели в цирке и амфитеатре свои ложи, принадлежавшие к числу мест весьма порядочных и благородных, ходили в храм приносить жертвы, как все свободные люди, и пользовались даже правами римского гражданства, получая наследства, и часто огромные». В этих именно салонах и вращался Гораций.[25]
Из сказанного видно, что перечислять гетер, так или иначе приходивших в соприкосновение с Горацием, было бы таким же неблагодарным делом, как перечислять гетер, которые находились в связи с Анакреоном. Все они совершенно одинаковы, каковы бы ни были их имена. И Фидилия, и Лида, и Барина, и Филлида, и многия другие, которым Гораций посвящал свои поэтические досуги, все это были женщины, выкроенные на один лад и занимавшие одно и то же положение в обществе. Только по степени нежности, с которою Гораций расточает похвалы той или другой гетере, можно судить о глубине его привязанности к ней. Этими легкомысленными женщинами, к которым особенно благоволил римский поэт, были, по-видимому, Лидия и Барина. Вот удивительная по красоте и естественности чувства ода к Лидии, превосходно переведенная нашим поэтом[26]:
Гораций
Доколе милым я еще тебе казался, И белых плеч твоих, любовно горя, Никто из юношей рукою не касался, Я жил блаженнее персидского царя.Лидия
Доколь любовь твоя к другой не обратилась, И Хлои Лидия милей тебе была, Счастливым именем я Лидии гордилась И римской Илии прославленней жила.Гораций
Я Хлое уж теперь фракийской покорился, Её искусна песнь и сладок цитры звон; Для ней и умереть бы я не устрашился, Лишь был бы юный век судьбами пощажен.Лидия
Горю я пламенем взаимности к Калаю, Тому, что Орнитом турийским порожден; И дважды за него я умереть желаю, Лишь был бы юноша судьбами пощажен.Гораций
Что если бы любовь. Как в счастливое время, Ярмом незыблемым связала нас теперь? И русой Хлои я с себя низвергнув бремя, Забытой Лидии отверз бы снова дверь?Лидия
Хоть красотою он полночных звезд светлее, Ты ж споришь в легкости с древесною корой, И злого Адрия причудливей и злее — С тобой хотела б жить и умереть с тобой.Что касается Барины, то она, судя по одам Горация, отличалась постоянным вероломством и ветреностью, но зато и редкой красотой. Он расточает ей похвалы, но в то же время клеймит ее измены и говорить, что ни за что не поверит словам возлюбленной, разве только каждая ложь будет ей стоить безобразия в виде наказания. Тогда, конечно, Барина была бы искренна; но до тех пор он может наслаждаться только ее чувственностью, но не любовью.
Последней любовью Горация была, по-видимому, гетера Филида, но при всем желании указать на отличительные черты ее характера, нет возможности поставить ее в стороне от прочих гетер. Как и Лидия, она чувствует крупинку страсти к Горацию, но, как и та, она любит в то же время другого, и оба эти различные чувства как-то укладываются в ее душе, не мешая друг другу. Впрочем, и Горацию ничто не мешало любить в одно и то же время многих Филид.
III. Италия и Испания
Данте. — Петрарка. — Торквато Тассо. — Альфиери. — Леопарди. — Лопе де-Вега.
Данте и Беатриче
В истории отношений между женщинами и выдающимися представителями культуры вряд ли можно найти столь яркий пример пламенной и в то же время идеальной и платонической любви, какую великий итальянский поэт Данте питал к предмету своего сердца — Беатриче. Трудно даже назвать это чувство любовью. С тех пор, как существует человечество, взаимное тяготение между представителями и представительницами обоих полов выражалось в разнообразнейших формах. Люди разорялись, совершали растраты, расстраивали семейный мир, убивали, лишали себя жизни, но ни в одном из этих случаев любовь не достигала той силы напряжения, можно сказать, той выпуклости и упругости, который сквозят в отношениях Данте к дочери Фалько Портинари. Оттого-то долгое время не хотели даже верить, что Беатриче действительное лицо, и думали, что она плод фантазии, аллегорическое изображение идеальной женщины вообще, в которой воплощены все совершенства. Это тем более удивительно, что Данте ничего общего не имел со своей возлюбленной. Он почти не был с нею знаком, хотя она и удостоила его поклоном во время знаменитой встречи, отразившейся на всем существе и поэтическом творчестве пламенного поэта. Такой любви действительно не знало еще ни одно сердце, бившееся в груди великого человека. Она — единственная. И сколько ни рыться в истории людей, ознаменовавших свою жизнь подвигами добра или гения, другого примера, нет и никогда не будет.
Данте начал любить еще в детстве, но вполне понял свое чувство только спустя много лет, сделавшись зрелым юношей. Это произошло неожиданно для прочего мира, но не для великого поэта, в душе которого нежное чувство, вспыхнув слабою искоркой, начало мало-помалу разгораться сильнее и сильнее, ярче и ярче, пока, наконец, не превратилось в огромное зарево душевного пожара. В своей «Новой (или обновленной, как некоторые переводят) жизни» (Vita Nuova), этом благоуханном романе, в котором Данте сам рассказывает историю своей любви, не оставлено ни малейшего сомнения насчет времени зарождения его чувства. «Уже девять раз, — пишет он в самом начале, — со дня моего рождения небо с его светилами возвратилось на то же самое место, когда впервые предстала перед моими очами доблестная жена моих мечтаний, которой многие, не зная, как ее назвать, дали имя Беатриче. Она уже довольно прожила, чтобы в этот промежуток времени звездное небо успело перенестись к востоку на двенадцатую часть градуса, так что она явилась мне в начале своего девятого года, тогда как я его уже оканчивала. Она явилась мне одетою в красноватый цвет, величественная и скромная; способ, каким пояс поддерживал ее одеяние, совершенно подходил к ее ранней юности… Начиная с этой минуты, любовь сделалась властительницею моей души, которая тотчас и была ей обручена. И она взяла надо мною такую власть, что мое воображение дало ей на это силу, так что с того времени я чувствовал себя принужденным вполне ей повиноваться».[27] Полюбить в 9-летнем возрасте 8-летнюю девочку — факт исключительный и под знойным небом Италии. Немудрено, что чувство это приняло со временем такие колоссальные размеры и стоит одиноким в истории таких же чувств, внушенных другим светочам мысли или искусства.
С тех пор, как любовь проникла в сердце поэта, он стал чувствовать неотступную потребность видеться со своей возлюбленной. В течение многих лет он являлся в дом очаровательной девушки, но только для того, чтобы любоваться издали игрушкой природы. Ни одним словом не обменялся он с царицею своего сердца. Он даже голоса ее не слышал! Только тогда, когда поэту исполнилось семнадцать лет, девушка удостоила его при случайной встрече дружеским поклоном. Этот поклон имел решающее значение в жизни и литературной деятельности знаменитого поэта. Он стоит в центре всего его существования и, можно сказать, составляет поворотный пункт во всемирной литературе. «Когда, — говорит Данте, — прошла уже много дней после указанного явления этой весьма благородной особы, — исполнилось уже девять лет, — случилось, что эта дивная жена явилась мне одетою в платье ослепительной белизны; она стояла между двумя благородными женами несколько старше ее. Когда она проходила по улице, то повернула взоры к тому месту, где я стоял, исполненный благоговейного страха, и вследствие влияния ее невыразимой вежливости, за которую она имеет теперь свою награду на небе, она мне поклонилась; это произвело на меня такое действие, что мне казалось, будто я достиг крайних границ блаженства. Час, в который я получил такое приятное приветствие, был именно девятый час дня; и так как это было в первый раз, что ее слова донеслись до моих ушей, то я почувствовал такую сладость, что, как упоенный, бросился из толпы»[28].
Кто была эта чудесная девушка, один поклон которой мог осчастливить величайшего из поэтов Италии? Какое носил имя этот небесный ангел, встреча с которым послужила для поэта началом новой жизни? Сам Данте не только не дал ответа на этот вопрос, но принял все меры к тому, чтобы никто не мог на него ответить. Даже окружавшие его лица не знали, кто была девушка, овладевшая всем существом поэта, и только догадывались по волнении, которое он обнаруживал в ее присутствии. В своих произведениях он называет ее Беатриче (доставляющая блаженство) именно потому, что ее вид, ее слово, ее привет вливали в его душу бесконечное блаженство, но не потому, что она действительно носила такое имя. Многие биографы сомневались, чтобы это была Беатриче. Один из лучших немецких биографов его, Скартацини, прямо даже заявляет, что возлюбленная Данте «могла носить какое угодно имя, но только не Беатриче»[29], и ссылаясь на многие места из произведений самого поэта, он доказывает что квартал, в котором жила Беатриче, был не тот, где жил Данте, что возлюбленная, о которой он говорит, должна была несомненно ответить ему любовью, по крайней мере в некоторой степени, иначе непонятна его сильная печаль после ее смерти и еще более непонятно, как мог он сказать, что любовь вызывает взаимную любовь, между тем как житейский опыт учит как раз противоположному.[30]
Встреча Данте с Беатриче Портинари в 1274 году. С картины Данте Габриэля Росетти.
Скартацини указывать еще на то, что Беатриче, как известно, вышла замуж за Сисмонди Барди, между тем как в «Новой жизни» сам Данте говорит, что она не покидала родительского дома, т. е. осталась девушкой. Таким образом, настоящая Беатриче и та, которой великий поэт посвятил свое вдохновение, — разные существа. Другой знаток Данте, итальянец Перес, связывает идею Беатриче с католичеством, и, по его мнению, образ этот не реальное лицо, а блаженство непосредственного созерцания, приближающего нас к божеству, от которого отдалила его одно время ложная философская наука, эта другая дама его мыслей.[31] Конечно, странно выражать стремление к высшей сущности вещей в произведении, посвященном любви; но для Средних веков ничего странного в этом не было, так как и Песня песней, представляющая роман на чисто эротической подкладке, истолковывалась как чисто религиозное произведение. Как бы то ни было, но вопрос о том, существовала ли Беатриче на самом деле, решен в утвердительном смысле: она существовала. Дочь Фалько Портинари, она родилась в 1267 г., жила по соседству с Данте, в 1287 году вышла замуж, а в 1290 г. умерла, вскоре после отца, 23-х лет от роду. Это тем более вероятно, что трудно предположить такую страстную, исполненную самых пламенных восторгов любовь к вымышленному существу. Мы знаем, правда, что нечто подобное бывает. Шиллер, например, не одно стихотворение написал красавице, существовавшей только в его воображении. Поэты чувствуют слишком глубоко. Они могут иногда принять вымысел за действительный факт. Но дойти до такой глубины чувства, до какой дошел Данте, нельзя, если предмет страсти нарисован одним только пылом необузданной фантазии.
Выше упомянуто, что Данте тщательно скрывал имя девушки, поразившей его сердце. Когда однажды в церкви он устремил восторженные взоры в ту сторону, где была Беатриче, присутствовавшим, следившим по линии его зрения, показалось, что он смотрит на даму, находившуюся между ним и Беатриче. Это дало им повод заключить, что Данте влюблен в эту даму, и что же? Данте не только не постарался рассеять это заблуждение, но, наоборот, ухватился за него, как за камень спасения, и даже написал этой особе несколько стихотворений, лишь бы отклонить общее внимание от истинного предмета его любви. Обстоятельство это послужило причиной маленькой размолвки между Данте и его возлюбленной. Узнав, что поэт посвящает свои стихотворный излияния другой даме, Беатриче, в целомудренной ревности, решила отплатить легкомысленному юноше и при следующей встрече не ответила на его поклон. Это заставило Данте сильно раскаиваться. Он решил больше не испытывать своего сердца, но, увидев Беатриче через несколько дней на свадьбе одного гражданина, опять почувствовал сильное биениие сердца и изменился в лице. Его окружили, над ним начали насмехаться, смеялась сама Беатриче, что заставило его страдать еще больше. Свое горе он затем выплакал в звучных сонетах, исполненных тихой грусти и жалобы.
Когда умер отец Беатриче, Данте стал думать о том, что она и сама может скоро умереть. Этот странный факт многие объясняли различно, но Скартацини вывел из него любопытное заключение: возлюбленная Данте была слабого телосложения и болезненна.[32] Эта остроумная догадка объясняет многое. Беатриче прекрасная, но болезненная — да, к такой именно девушке можно проникнуться самой тонкой платонической любовью, такую девушку можно в действительности считать неземным существом, томиться, радоваться, горевать и быть счастливым в одно и то же время, потому что там, где болезнь и смерть, не может быть и мысли о низменных чувствах, там, где могильный мрак, нет места для брачного ложа… Предположение это тем более основательно, что Беатриче действительно вскоре умерла, умерла в расцвете лет — двадцати трех лет от роду! Жизнь ее не оборвалась сразу и неожиданно, потому что Данте нигде не говорит о болезни, поразившей его возлюбленную. Она просто таяла и сгорела, как свеча.
Данте долго оплакивал возлюбленную. Он был неутешен и горе свое выразил в превосходных сонетах, утешаясь мыслью, что напишет произведение, в котором выставит свою возлюбленную в таком свете, в каком никогда еще не была представлена ни одна женщина. И он написал «Божественную Комедию».
Было бы очень долго следить за отношением поэта, к Беатриче после ее смерти. Но нельзя не указать, что эта именно продолжительность чувства и, если можно так выразиться, непрерывность любовного экстаза являются самым замечательным в отношении поэта к царице его сердца. Иначе и не могло быть. Любовь — историческое наследие итальянского народа. По истории любви можно даже проследить все его прошлое и проникнуть во все тайники его культурного существования. «Если бы кто вздумал написать историю любви в Италии, тот рядом оживленных картин вполне определил бы характеристику ее каждого исторического периода», — говорит профессор Петербургского университета Пинто[33]. И действительно вся возмутительная дикая необузданность нравов и свирепость лангобардов VI века воплощаются в лице Розмунды, которая любить жестокого Альбоина, убийцу своего отца и дяди. Опьяненная страстью, она делается его супругою и пьет за его здоровье из черепа отца, как из заздравного кубка. Еще один век — и нравы смягчаются. Любовь уже не дышит первобытной грубостью. Она становится защитницею красоты и, поддерживаемая оружием, управляет общественным мнением. Еще позже — и чувство любви значительно облагораживается. Кроткая Эрменгарда, дочь короля Дезидерио, выходит замуж за Карла Великого, который через некоторое время отвергает ее и клевещет на нее самым недостойным образом, но она ему все прощает и продолжаешь любить нежною, покорною любовью. В X веке опять необузданные страсти, но все же страсти, сильные, упорные, продолжительные. Теодора и Мариция, две развратницы, силою красоты и богатства управляют Италией в продолжение нескольких лет. Безнравственность эпохи вполне отражается в образе жизни этих женщин, сообщниками которых являлись маркизы и простые солдаты, епископы и церковные служители низшего разряда, цари, конюхи и папы. Следующий век ознаменовался развращенностью духовенства, заставившею Григория VII прибегнуть к реформам. Затем нравы опять смягчились; отечество соединилось с церковью. Любовь сделалась спокойнее в своем проявлении. Тут-то и родилась любовь Данте к Беатриче. Потом опять перемена: дикая страсть заменяет спокойное проявление любовного чувства. В XV и XVI столетиях она нередко сопровождается убийствами и другими преступлениями. Известен знаменитый пир Вероники Чибо, которая, умертвив соперницу, подала мужу блюдо, приготовленное из ее сердца, а затем в виде десерта поднесла самую голову несчастной. Наконец, пример Лукреции Борджиа чего стоит, той именно Борджиа, которая, несмотря на троекратное замужество, была одновременно тайною женою своего отца и брата и в конце концов отравила сына!
При таких пламенных чувствах нисколько неудивительно, если Данте продолжал любить Беатриче и после смерти, любить, может быть, не столько как образ, как идею, сколько как реальное существо, несомненно существующее и за гробом. Недаром вся «Божественная Комедия» его представляет один сплошной порыв к небесному существу, только на время посетившему землю и затем вернувшемуся на свою первоначальную родину — в эмпиреи. Данте прошел ад со всеми его ужасами, прошел потому, что, лишившись путеводной нити после смерти Беатриче, запутался в тенетах жизни, но он прошел его для того, чтобы очутиться на горе чистилища и на ее вершине встретиться впервые после долгой разлуки с божественной женщиной, приковавшею его к себе когда-то при жизни. И вот он, выйдя из ада и добравшись подземным ходом до противоположной части земного шара, начинает подниматься на гору земного рая. Он проходит все круги, причем с его чела ангел каждый раз стирает одно из семи Р (peccato — грех), и когда исчезает последняя буква, свидетельствующая о запятнанности его души земными страстями, перед глазами его вдруг появляется образ дивного существа во всей красоте и величии, чтобы вознести его в воздушные пространства, в сферу звезд, третий и последний этапный пункт поэтического странствования великого флорентийца — рай.
Взглянув, я увидел; творенья Небесные эти бросать Цветы уже тут перестали, И там Беатриче видать Пришлось мне, стоящей лицом уж К Той Птице, и тут мне она Прекрасней еще показалась, Чем в жизни земной той была. И чувство раскаянья мною Настолько владело тогда, Что мне показалось, как будто Божественна даже она! И совесть настолько терзала Меня, что без чувств я упал…[34]С этой минуты собственно и начинается счастливая пора в жизни Данте. Он обрел блаженство, потому что обрел Беатриче. Пройдя ад, иными словами, пройдя земную жизнь с ее греховными страстями, он добрался до чистилища — сознания ничтожества этих страстей и стремления в полному освобождению от них, чтобы, очищенному и просветленному, удостоиться, наконец, лицезрения Беатриче — идеала высшей жизни.
С одной из иллюстраций Гюстава Дорэ к «Божественной Комедии» Данте.
Для нее он погрузился в ад желаний, для нее он прошел горнило очищения, но она же поднимет его в лучезарное небо, в далеким звездам, на которых живут праведники и где царит само Божество. В этом вся идея великолепного произведения Данте, но в этом также и вся история его отношений к любимой женщине. Данте любил и силой любви освободился от всех тревог и смрада жизни. В этом отношении он напоминает Гётевского Фауста, который также любил, также стремился и также очистился любовью. Недаром оба поэта — и Данте, и Гёте — заканчивают свои произведения словами, оттеняющими одну и ту же мысль, хотя и с различных точек зрения.
…Мои желания и волю Я отдал произволу той любви, Которой солнце движется и звёзды.[35]— говорит Данте в конце «Божественной Комедии», отражая в этих словах средневековое поклонение женщине, но в то же время обнаруживая всю силу собственного чувства и глубокую веру в мировое значение этого чувства. А в конце 2-ой части «Фауста» мистический хор (choros misticus) поет:
Das Ewig-Weibliche Zieht uns hinan —— вечно женственное, т. e. то, что составляет основной элемент существа всякой женщины, увлекает нас в высь, в небеса, в прямом или переносном смысла этого слова, смотря по степени веры, присущей человеку. У Данте вера была сильна и потому он действительно был убежден, что любовь к Беатриче вознесет его в кристальное небо, которое он описал такими неувядаемыми красками. Отгого-то, прежде чем проникнуть в сферу Божества, Данте встречается с апостолами: Петром, Иаковом и Иоанном, которые испытывают его в вере, надежде и любви, но и тут рядом с ним стоит Беатриче — олицетворение его нравственной поддержки даже в столь трудном и прозаическом искусе, как богословский.
А когда искус выдержан, поэт может смело подняться в высшие пространства для созерцания божественности в ее первоисточнике. На самом деле, как мы знаем из «Божественной Комедии», Беатриче и вознесла его в высшие пределы неба — рай начавшейся, впрочем, уже с той минуты, когда Данте покинул гору чистилища и поднялся в воздух, увлекаемый неземною улыбкою возлюбленной. Этот плавный, легкий, почти незаметный для самого Данте полет вслед за любимой женщиной, которая уносит его силою своей благодати все выше и выше, с одной звезды на другую, из одного неба в другое, и есть наглядное изображение очищающего и возвышающего значения любви, т. е. именно того, что кратко, но глубоко выражено в двух приведенных строках Гёте. Такая любовь должна непременно привести к полному блаженству, которое, по понятиям Данте и его современников, могло заключаться только в непосредственном созерцании Божества, — и поэт действительно увидел Божество и рядом с ним Беатриче, которая внезапно покинула своего друга, чтобы очутиться на ступеньках престола Всевышнего. Любовь — не только возвышающее чувство, она часть самого Божества. Отсюда понятно, что оно на самом деле «движет солнце и звезды».
Данте и Гемма
Тоска по Беатриче, впрочем, не помешала Данте жениться. Это был второй и последний роман в его жизни, если не считать любви к некоей Пьетре, которой он написал четыре канцоны, дышащие юношеской страстью, на этот раз уже чувственной.[36] Встретился он со своей будущей женою случайно: она предстала перед ним однажды в то время, когда он сидел опечаленный у окна. С этой минуты и завязалось их знакомство. Данте чувствовал, что поддается преступному влечению, преступному потому, что в сердце его должна полновластно царить только Беатриче, но он ничего не мог сделать и сам рассказывает об этом в «Новой жизни»:
«Частое свидание с этою донною довело до того, что мои глаза находили уже слишком большое удовольствие ее лицезреть. Вследствие этого я испытывал горе, я осуждал свою слабость и даже несколько раз проклинал суетность моих очей. Я им говорить в глубине моих мыслей: „Вы привыкли заставлять плакать всех тех, которые видели ваше грустное состояние; теперь же кажется, что вы хотите ее забыть для вашей донны, которая на вас смотрит, но только потому, что славная жена (т. е. Беатриче), которую вы привыкли оплакивать, тяготит ее. Удерживайтесь, пока можете, потому что я буду часто напоминать вам мою жену; проклятые глаза, слезы не должны были никогда переставать течь из вас, разве только после вашей смерти“.[37]
Данте пролил еще немало слез по этому поводу, но все-таки женился. Звали его жену Джеммою. Эго была дочь некоего Монетто, одного из представителей могущественного дворянского рода Флоренции — Донати. По словам Скартаццини, с ее братом Форезе Данте вел одно время довольно легкую жизнь, исполненную многих пикантностей. Джемма принесла Данте троих детей и пережила его на несколько лет. Какую роль играла она в жизни мужа, — трудно сказать. Данте о ней не говорит ни слова ни в одном из своих стихотворений — обстоятельство, свидетельствующее, что нежных чувств он к ней не питал, а смотрел, как на обыкновенную подругу жизни, с которою делят заботы и радости, больше всего заботы. Вот и все, что известно о роли этой женщины в жизни Данте. Конечно, странно, как это такая мещанская любовь могла уживаться рядом со столь возвышенным чувством, как страсть к Беатриче; но это объясняется своеобразностью средневекового рыцарского культа женщин, занесенного трубадурами в Италию из Прованса. Этот культ женщин не имел ничего общего с браком».
«Трубадур, — говорить Вегеле со слов Фориэля, который первый указал на это обстоятельство, — мог воспевать какую угодно женщину, только не собственную жену; для него было безразлично, была ли замужем или нет та дама, служению которой он себя посвящал, и нравилось ли ей или не нравилось это поклонение»[38]. Этим, между прочим, объясняется и то обстоятельство, что чувство Данте к Беатриче нисколько не изменилось после того, как она вышла замуж. Он носил этот образ в душе незапятнанным с той минуты, как в нем пробудилось сознание, и мог воскликнуть вместе с лермонтовским демоном:
В моей душе с начала мира Твой образ был запечатлен. Передо мной носился он В волнах туманного эфира.Петрарка и Лаура
От Данте до Петрарки[39] всего лишь шаг. И не только потому, что оба поэта принадлежат одному и тому же народу, что жили они почти в одно и то же время, что их связывают одинаковая любовь к поэзии, одинаковые понятия, одинаковое участие в политических событиях, одинаковое изгнание, но еще и потому, что оба любили совершенно одинаково, оба щедро осыпали своих возлюбленных цветами вдохновения и оба остались только платоническими рыцарями своего чувства, сердечные влечения которых не заходили дальше мечты и сладких вздохов. Наконец, как Беатриче Данте, так и Лаура Петрарки одинаково были замужем, что не мешало им остаться вечно девственными в глазах обоих поэтов. Дальше этого сходства, кажется, идти нельзя.
Кто была Лаура, оставшаяся в истории литературы вечным памятником женской красоты и грации? Долгое время думали, что и она представляет собою не что иное, как плод поэтического воображения, подобно тому, как это произошло с Беатриче. Для примера укажем хотя бы на Георга Фойхта, который, не отрицая того, что существовала какая-то Лаура, внушившая поэту минутное чувство, прямо заявляет, что со временем чувство это сделалось отвлеченным и Лаура превратилась в образ, к которому он приурочивал свои поэтические вымыслы. Один из современников и друзей Петрарки, Джакомо Колонна, превосходно знавший поэта, не раз говорил в шутку, что Петрарка выдумал прекрасное имя Лауры только для того, чтобы оно могло его прославить и чтобы все говорили о нем. Находились также люди, которые утверждали, что поэт выбрал это имя потому, что оно напоминает о лаврах[40]. Все это, конечно, не заключало бы в себе ничего невозможного, если бы в стихах знаменитого флорентийца не проглядывала истинная страсть — коварная предательница всякой любви к реальной женщине. К тому же, позднейшие исследования привели к заключению, что Лаура — живое лицо. Поэт в первый раз встретился с нею в церкви в Страстную Пятницу 1327 года и тотчас же страстно в нее влюбился. Была ли она в это время замужем? Одни говорят, что была, другие это отрицают. Вряд ли, однако, можно думать, что Лаура могла внушить Петрарке, такое сильное чувство, будучи женою и даже матерью нескольких детей, как утверждают третьи. Любовь к замужним женам, как мы увидим ниже, представляла во времена Петрарки вполне обычное явление, но она вряд ли могла сразу же проявиться в такой возвышенной, почти неземной форме, если бы поэт увидел предмет своего сердца в то время, когда Лаура уже была тронута неизбежным влиянием ласк, хотя бы и освященных браком. Он, несомненно, увидел ее девушкой, и если продолжал любить впоследствии, когда Лаура была матерью многочисленного семейства (по словам одних, у нее было девять, а по словам других — даже одиннадцать детей), то только потому, что чувство было слишком глубокое и сроднилось с его душою. Словом, повторилось то же самое, что мы видим на примере Данте.
Встреча произошла в Авиньоне, где поселился отец Петрарки после его изгнания из Флоренции, и вскоре весь город узнал, что Петрарка влюблен до безумия. Он не скрывал своего чувства (тогда поэты вообще не скрывали своих чувств и всенародно выносили их на суд публики). Наоборот, влюбленный молодой человек стал писать восторженные сонеты, в которых радовался, восторгался, плакал, жаловался в таких поэтических выражениях, что не обратить на них внимания нельзя было. Лаура, конечно, не осталась глуха к его излияниям. Ей очень льстило, что талантливый поэт мог увлечься ею, но она была слишком целомудренна для того, чтобы пользоваться своей властью над человеком, который никогда не должен был знать счастье разделенной любви, так как она была замужем. И вот началось то же самое, что произошло между Данте и Беатриче. Петрарка вздыхает, он следит за своей возлюбленной, подмечает все ее движения, запечатлевает в памяти каждое ее слово и с уст его в то же время льются восторженные гимны, полные любви и отчаяния:
Ты, чья душа огнем любви озарена, — Нет для тебя достойных песнопений, Ты вся из кротости небесной создана, Ты от земных свободна искушений. Ты пурпур роз и снега белизна, Ты красоты и правды светлый гений. Каким блаженством грудь моя полна, Когда к тебе в порыве вдохновений Я возношусь….О, если бы я мог Тебя прославить в звуках в этих строк На целый мир!.. Но тщетное желанье!.. Так пусть хоть дам, в стране моей родной, Где блещут выси Альп, где море бьет волной, Твердят Лауры нежное названье.[41]Нельзя сказать, чтобы чувства Петрарки были целомудренны. Как человек и идеалист, он стоял ниже Данте, и не мудрено, если его любовь, подогретая пылким темпераментом, вспыхнула вдруг ярким огнем ничем неукротимой страсти. Впрочем, понятия того времени не исключали полного наслаждения любовью, не исключали даже в том случае, если женщина принадлежала другому. Любовь к замужним женщинам была даже предпочтительнее любви к девушкам и — что более всего удивительно — мужья не только не возмущались настойчивыми ухаживаниями какого-нибудь поклонника его жены, но даже покровительствовали им, давали им возможность входить в довольно близкие отношения. И это весьма понятно: муж, открывавший другим доступ к своей жене, открывал тем самым также и себе доступ к чужим женам… Сладострастно было средневековое общество и недаром оно именно создало безграничный культ любви, доведя его до крайних пределов. Можно сказать, что рыцарь по отношению к женщине играл почти такую же роль, как вассал по отношение в ленному владыке. Когда последний отходил ко сну, вассал должен был находиться в его спальне; когда женщина собиралась идти спать, рыцарь также отводил ее в спальню. Это не скрывалось и считалось обыкновенным делом. Конечно, рыцарь должен был быть скромен. Служение любви, как служение искусству, не требовало суеты, и, по понятиям того времени, рыцарь должен был без страха и волнения присутствовать при том, как повелительница его сердца скидывает с себя платье, чулки, может быть, меняет белье и ложится в постель. Это был последний акт, по окончании которого рыцарю предписывалось удалиться, но он в то же время являлся коварным стимулом к обходу неумолимого предписания, заставлявшего покидать возлюбленную именно тогда, когда обладание ею было так близко и возможно. Вот почему впоследствии установился новый обычай, дававший женщине возможность допускать в свои объятия рыцаря на всю ночь, если он даст клятву не выходить за пределы дозволенного. Клятва, конечно, давалась, но не нарушалась ли она под влиянием запретной близости и бурных страстей? Об этом знали только темные завесы, как стражи, охранявшие уединенную постель средневековой женщины…
Лаура не принадлежала к категории женщин, признававших этот обычай. Да и культ любви, проникнувший в Италию с севера, принял там более облагороженную форму, о которой мы упомянули выше, говоря о времени появления «Божественной Комедии» Данте. Может быть, этим и объясняется непрерывность любовного экстаза Петрарки, удовлетворенная страсть которого, конечно, не заменила бы выразиться в упадке душевного напряжения, а вместе с тем и в понижении творческого полета. Тем же, по всей вероятности, объясняется и разнообразие чувства самого поэта, чувства, охватившего всю душу Петрарки, со всей ее сложной системою страстей, борьбы, разочарований. Сам Петрарка это превосходно выразил в одном из своих сонетов: «Любовь меня подстрекает и в то же время удерживает, придает мне бодрость и устрашает, жжет и холодит меня, ласкает и презирает, зовет и гонит, преисполняя иногда надеждою, иногда горем». И в другом: «Я не нахожу мира и нет у меня ничего, что заставляло бы меня воевать. Я витаю выше небес и ползаю по земле, никого не прижимаю к себе и держу весь мир в своих объятиях. Я смотрю без глаз. У меня нет языка, но я кричу. Я сгораю желанием погибнуть и требую помощи. Я ненавижу себя самого и люблю других».
К сожалению, прошлое скрыло от нас настоящий портрет Лауры, так как портреты ее, хранящиеся в Милане и Флоренции, и даже знаменитый барельеф дома Перудзи не могут считаться точным изображением красавицы, которой суждено было получить бессмертие в сонетах Петрарки. Во всяком случае, как эти мнимые или действительные портреты, так и изображения Лауры на стенах итальянских церквей, на миниатюрах рукописей, в мраморе, приписываемом Симону Мемми, дают понятие не столько о красавице, сколько о хорошенькой женщине с симпатичными, но далеко не классически правильными чертами лица. Она быстро отцвела, чему, конечно, не мало содействовало рождение нескольких детей, но Петрарка, как мы уже упомянули, встретил ее в расцвете молодости, когда она действительно могла приковать к себе сердца, даже и не столь пламенные, как сердце флорентийского поэта. Об этом свидетельствует и внезапность чувства Петрарки. До встречи с Лаурою он не признавал любви и даже издевался над нею, но, увидев в церкви Лауру, тотчас поддался ея влиянию. В нем происходит резкая перемена. Поэт, считавший себя свободным от любовных чар, вдруг делается беспокойным. Он плачет, когда не видит предмета своей страсти, а увидев, плачет еще сильнее, потому что робость не дает ему сказать, какая страсть обуревает его сердце. Ночь не приносит ему покоя. Он мечется в постели и бредит. У него остается одно средство излить свои чувства — стихи, я он пишет пламенные панегирики женщине, овладевшей его существом. Лаура, конечно, знает о его страсти, но не дает ей разгораться сильно. Оставаясь верною своему мужу, она, однако, не отталкивает поэта совершенно и только сдерживает его пламенные порывы. Может быть, это именно и дало повод Маколею несправедливо назвать Лауру «пошлой бездушной кокеткой» и даже приписать ее влиянию мнимо-извращенный вкус (цветистость слога), портящий будто бы эротические стихотворения Петрарки. Лаура не могла быть пошлой кокеткой[42], потому что никогда еще пошлые кокетки не внушали мужчинам с высоко развитым умом и художническими потребностями столь чистой и возвышенной страсти, как страсть Петрарки. Не забудем, что Петрарка не расстался с Лаурою, подобно Данте, в то время, когда она находилась во цвете красоты и прелести. Он знал ее уже состарившейся, когда ей было 35 лет — возраст, равный старости под знойным небом Италии, и тем не менее чувство его не ослабло. Кроме того, разве Лаура с самого начала не старалась совершенно удалить от себя влюбленного поэта? Она стала носить вуаль, желая этим устранить самый повод к пламенным порывам. Вуаль, конечно, не спас ее от любовных натисков поэта, но он во всяком случае сослужил хорошую службу: Петрарка понял, что ждать ему многого нельзя. Впоследствии Лаура стала снисходительнее к своему возлюбленному: она начала отвечать на его поклоны, сама однажды поклонилась первая, а увидев в одно прекрасное время поэта замечтавшимся в ее присутствии, она даже фамильярно закрыла ему лицо рукою. Во всем этом, конечно, можно усмотреть некоторую степень кокетства, если захотеть; но нельзя ведь отрицать, что и помимо кокетства есть много мотивов, которыми объясняется поведение Лауры. Наконец, история с перчаткою совершенно рассеивает всякие сомнения. Лаура как-то уронила перчатку в присутствии Петрарки; тот ее поднял и хотел оставить у себя, но она категорически запротестовала и взяла перчатку назад. Пошлая кокетка никогда не лишила бы себя такого верного орудия, как перчатка любимой женщины в руках влюбленного, и французский академик Мезьер, изучивший жизнь Петрарки на основании новых документов, уже куда более близок в истине, когда, не отрицая некоторого кокетства в Лауре, говорит, что это было кокетство, присущее всякой женщине, не исключая самой честной и благородной.
Был ли Петрарка безгрешен, подобно Данте? Мы видели уже, что целомудренность была ему чужда. Оттого-то возвышенность поэтического полета так часто заменяется у него жгучестью обыкновенной страсти. Он сам признается в этом, восклицая в своем послании к потомству: «Я очень бы желал иметь право сказать, что наслаждения любви были мне всегда чужды, но не могу этого сделать, так как мои слова были бы ложью, а потому скажу только, что, несмотря на свой темперамент, я в глубине души своей всегда относился с ненавистью к подобному унижению. По достижении же сорокалетнего возраста я старался освободиться даже от воспоминаний подобного рода, хотя и тогда еще был полон огня и силы». Даже в минуты самой пламенной любви к Лауре он не раз поддавался влечению своего сердца, и в то самое время, как появлялись его канцоны, в которых поэт говорил, что красота Лауры ведет его к небу и добродетели, сам поэт утешал себя за недоступное ему счастье обладать любимой женщиною каким-нибудь незаконным сожительством на селе или благосклонностью беспутной королевы Иоанны Неаполитанской. Этому способствовала скитальческая жизнь, которую он вел после того, как убедился, что Лаура никогда не ответит на его страсть взаимностью. Сжигаемый внутренним огнем, он переходил из одного города в другой, из одной деревни в другую, и немудрено, что случайные встречи с женщинами, менее Лауры дорожившими своей нравственной репутацией, находили в его горячей крови достаточный материал для превращения невольника платонической любви в усердного жреца греховных наслаждений.
Позднейшие исследователи с особенным старанием ухватились за эту слабую струну Петрарки и начали наигрывать на ней довольно пошлые мелодии. Оказалось, что певец Лауры был не только ценителем в знатоком женской красоты, но сластолюбцем и развратником. «У него были три возлюбленные!» восклицал итальянский критик Местока, несмотря на заявление самого Петрарки, что он посвящал свои сонеты только одной женщине. «Он любил не трех женщин, а множество!» взывал другой итальянский критик Чезарео. «Да это настоящий Дон-Жуан!» гремел Вальпи, недовольный скромными выводами своих предшественников. Нечего говорить, что все эти потуги оказались совершенно бессильными при первом же дуновении серьезной критики, а после исследования Энрико Сикарди, выпустившего свое произведение почти на днях, от них не осталось и следа. Петрарка не был ангелом (это доказывается тем, что у него были двое побочных детей), но он не был также и уличным ловеласом, заглядывающим под шляпку каждой женщине. Более пылкий в сравнении с Данте, он не мог укрощать в себе бури желаний, но столь же возвышенный, как и творец «Божественной Комедии», он умел быстро отворачиваться от источника греха и возвращаться к прежнему возвышенному, ничем не запятнанному культу женщины. Оттого-то он продолжал любить Лауру долгое время и после того, как чума свела ее в могилу. Греховность тела не мешала безгрешности мысли. Без преувеличения можно сказать, что Петрарка был Адамом, сумевшим остаться в раю и после грехопадения…
Торквато Тассо и Феррарские принцессы
На одном из холмов Рима красуется великолепный собор Сан-Онофрио. Каждый год 13 апреля тянутся туда жители вечного города с цветами и венками в руках, тянутся целыми толпами, старики и юноши, мужчины и женщины, чтобы еще раз увидать памятник, великого поэта, творца «Освобожденного Иерусалима», мученика песни и любви — Торквато Тассо.[43]
Предание говорит, что Тассо никогда не улыбался. Этим объясняются его отношения к женщинам. Человек, который никогда не смеется, может внушать к себе уважение, если он обладает большими достоинствами, восторг и поклонение, если он гениален, но он никогда не будет пользоваться искренней любовью женщины. Женщина сама — улыбка природы и сердце ее может открыться только для того, на чьем лице ей можно встретить свое собственное отражение… Может быть, оттого именно и был несчастен Торквато Тассо. Он слишком рано приобрел славу, слишком рано увлекся культом собственного гения и сделался нервным, раздражительным, больным. Серьезность не покидала его нигде, ни в поэзии, ни в жизни. Всегда восторженный, патетический, он умел пробуждать в женщинах благоговейное настроение, но не был способен зажечь в их душах огонь искренней любви, и нет ничего удивительного в том, что жизнь его представляла сплошной ряд душевных мук и разочарований, несмотря не общее восторженное отношение к его произведениям. Когда он из Падуи приехал в Феррару и занял место придворного поэта при дворе герцога Альфонса II, с наибольшим восторгом отнеслись к нему женщины. «Все дамы желали с ним познакомиться, — рассказывает его биограф Чекки. — Принцессы Лукреция и Элеонора, сестры герцога, были в восторге от того, что представилась возможность беседовать с ним». Поклонение дам превышало все, что можно было себе представить. Они окружали его веселым роем, читали его стихотворения, требовали сонетов. Он пишет стихотворения молодым фрейлинам, входит с ними в близкие сношения, гуляет в садах, пожимает им руки, но… не улыбается, и дамы чувствуют себя счастливыми, довольными, но… не влюбленными. Однажды он нечаянно прикоснулся к плечу одной красавицы и извинился.
Красавица, как рассказывает сам Тассо, не только не оскорбилась, но сказала: «Вы оскорбили меня не тем, что протянули ко мне руку, а тем, что отняли ее». Принцессы, сестры герцога, не отставали от других и всячески старались завоевать его внимание. Тассо имел право входить к ним в комнаты во всякое время и, благодаря им, одним из первых приглашался к герцогскому столу. Он читал им свои стихотворения, делился мыслями относительно поэзии, но голос его всегда сохранял величавую строгость поэта, которому суждено будет сделаться классическим, и на лице его никогда не играла улыбка. Принцессы увлекались его поэзиею и возвышенными взглядами на жизнь, но, расставаясь с ним, совершенно забывали о человеке, умевшем пробуждать в их сердцах сладкие чувства. Для красавиц феррарского двора существовал Тассо-поэт, но не существовало Тассо-человека.
Из двух принцесс, сестер герцога, Элеоноры и Лукреции, более, по-видимому, благоволила к поэту Элеонора. Восторженно набожная в противоположность светской и веселой Лукреции, она более ее поддалась влиянию Торквато Тассо, более усердно слушала его рассказы, переписывалась с ним и, несомненно, питала более искреннюю привязанность, но о какой-либо склонности к поэту не могло быть и речи.
Веселый двор Феррары был слишком предан удовольствиям, женщины его слишком понимали толк в светском лоске, чтобы Тассо мог пользоваться не только поклонением, но и женской любовью. К тому же при дворе начались интриги против Тассо, вызванные все тем же угрюмым, неуступчивым, непримиримым характером поэта и, конечно, его огромным успехом. Кто-то шепнул герцогу, чтобы он следил за отношениями Тассо к его сестре, и с тех пор герцог стал подозрителен, он охладел к поэту и даже приказал вскрывать его письма. Был ли Тассо влюблен? Несомненно, хотя, по мнению некоторых его биографов, он питал одинаковое чувство к обеим сестрам. Но зато можно сказать с уверенностью, что принцесса его не любила, так как, когда юная красавица Лукреция Бендидия зажгла в нем сильное чувство, Элеонора покровительствовала этой страсти. Известен, впрочем, случай, когда Элеонора как будто возревновала. Герцогиня Сантовале, приехав в Феррару, привлекла к себе поэта, слава которого давно уже обратила на него внимание красавицы. Тассо увлекся и стал посвящать ей пламенные сонеты. Это раздосадовало Элеонору и она удалила его от себя. Но от досады до любви еще очень далеко. Поклонение поэта льстило самолюбию принцессы и у нее было полное основание остаться недовольной, когда поэт стал посвящать свои поэтические восторги другой даме. Не холодным «прости» отвечает женщина, если человек, которого она любит, поворачивается к ней спиной.
Как бы то ни было, но охлаждение Элеоноры, за которым последовало также охлаждение ее сестры, герцога и всего двора, погрузило и без того мрачного поэта в еще более грустное настроение. К этому присоединилась необходимость расстаться с придворной жизнью, к которой Тассо сильно тяготел. Он уехал в Сорренто, но сердцем продолжал жить в Ферраре среди блестящих дам, из которых ни одна не отвечала ему взаимностью, в обществе любимых принцесс, для которых существовала только его поэзия, но не он сам. Это несчастье в любви отразилось на его поэзии. Страдания и неудовлетворенная страсть сделались любимой темой его вдохновения. «Освобожденный Иерусалим» может служить в этом отношении ярким доказательством. Сентиментальности тут нагромождены на сентиментальностях. Олинд, например, долго страдает от безнадежной любви, так как его возлюбленная мечтала только о небе, и в конце концов решается на мученическую смерть с нею, лишь бы быть вместе с предметом своего сердца. Рыцари его сплошь и рядом действуют, как юнцы, готовые клясться в любви всякой девочке, с которою они встретились. Сам Танкред не служить исключением. Он почти еще не видел прекрасной язычницы Армиды, но уже пылает к ней страстью, уже тоскует, уже изображает на своем лице печаль и меланхолию. Во время боя он опять встречается с нею, не узнает под панцирем, наносит ей удар, но когда шлем с нее сброшен и Армида предстает перед ним во всем блеске своей могучей красоты, сила его парализована. Он не способен бороться и сам даже хочет снять с себя броню, чтобы умереть от руки женщины, которую не успел даже хорошо рассмотреть. Тассо в жизни также влюблялся в первую встречную женщину, не заботясь о её внутреннем мире, взглядах, общественном положена. Оттого-то и любовные похождения его были столь же неудачны, как и любовь его героя.
Печален был конец Тассо.[44] Его заключили в тюрьму, где он пробыл целых семь лет и окончательно расстроил и без того расстроенное здоровье. Произошло это вот как. Он вернулся в Феррару, снова сблизился с двором, опять завоевал расположение принцесс, но забыл отрешиться от своих прежних взглядов и, главное, забыл, что надо улыбаться, разговаривая с женщинами. Говорят, он однажды вдруг обнял Элеонору и поцеловал. Это, конечно, произошло грубо, пошло, с оттенком некультурной разнузданности, которую так часто проявляют герои его бессмертной поэмы. Чаша была переполнена и герцог велел его удалить от света, в котором он был не на месте. Тюрьма оказалась могилою не только для гения Тассо, но и для его любви. Когда его выпустили на свободу, все было кончено. Певец «Освобожденного Иерусалима» уже больше не страдал. потому что не любил больше. Со струн его лиры еще срывались стройные песни, но в них уже не было прежней страсти и огня. Поэт, не улыбавшийся в течение всей жизни, так и умер без улыбки на устах, недоумевая и томясь неразрешимым вопросом, за что не любили его женщины.
Джакомо Леопарди
Торквато Тассо начал с оптимизма и кончил пессимизмом. Джакомо Леопарди[45] начал пессимизмом и остался ему верен до самой смерти.
У нас мало знают о Леопарди. Многие наверно не слышали его имени. Это общая участь всех представителей пессимизма, как доктрины, так как и Гартман, и даже Шопенгауер известны нам только по именам. Пессимизм никогда не был родственен натуре русского интеллигентного общества и, если встречал кое-где отголосок, то только как резкий диссонанс в стройном созвучии оптимистических учений. Оттого-то в истории нашей общественности можно насчитать много гегельянцев, много сторонников Фихте, Шеллинга, Канта, но нельзя указать ни одного истинного представителя пессимистической доктрины в том виде, как начертал ее наиболее яркий выразитель этого учения — Шопенгауер. Этим объясняется также и то обстоятельство, что Леопарди, которого переводят и усердно читают во Франции, Англии, Германии, у нас пользуется почти полной неизвестностью, так как из многочисленных его произведений на русский язык переведены всего несколько стихотворений и часть «Диалогов», в которых Леопарди[46] излагает свои философско-моралистические взгляды.
Между тем этот итальянский поэт представляет во многих отношениях не только интересную литературную величину, но и замечательную личность. Леопарди был пессимистом не только по доктрине, но и в жизни. В истории пессимизма явление это довольно редкое. В то время, когда Шопенгауер и в особенности Гартман представляли собою здоровые натуры, пользовавшиеся всеми благами, Леопарди вечно боролся с нуждою, болел, испытывал неудачи.
Он был несчастен во всем — и в отношениях к отцу, от которого всецело зависел, и в отношениях к прекрасному полу, которому был совершенно чужд. В этом отношении он сильно напоминает своего соотечественника Торквато Тассо. Как и он, Леопарди принадлежал к категории неудачников-воздыхателей. Женщины отворачивались от него с спокойным сердцем, несмотря на то, что, в противоположность Шопенгауеру, который, пресыщаясь женскими ласками, ненавидел и презирал женщин, Леопарди всегда питал к ним нежные чувства, всегда восхвалял их, всегда старался найти путь к их сердцу. Один из лучших переводчиков Леопарди на немецкий язык, Поль Гейзе, объясняет даже его пессимизм именно тем, что он не знал женской любви. «Он два раза любил, как только можно любить в Италии, и умер девственником», сказал про него его друг Раньери, и нежные, полные чарующей тоски стихотворения Леопарди, посвященные Сильвии и Нерине, вполне подтверждают эти слова.
Кто были Сильвия и Нерина, сумевшие внушить слабому, болезненному, вечно тоскующему, вечно недовольному жизнью Леопарди такое сильное и искреннее чувство? Биографы доказали, что это не вымышленные существа, являвшиеся только рамкой для его философско-поэтических взглядов на женщину. Сильвия и Нерина были две бедные девушки в Реканати, носившие только другие имена. Одну звали Марией Белардинелли, другую — Терезой Фатторини. Первая была дочерью кучера отца Леопарди, вторая — ткачихой. Все отношения итальянского поэта к этим девушкам сводятся только к нескольким словам, которыми он обменялся с ними, но это не мешало ему чувствовать к ним сильную привязанность, связанную с полной безнадежностью. Впоследствии он выразил свои чувства в большом стихотворении «Ricordanze», проникнутом от первой до последней строки не только сознанием тщеты всего окружающаго, но и безропотной меланхолией неудачника любви.
«Уже в первом возбуждении моих радостей, печалей и желаний, наполнявших юное сердце, — говорит он, — я не раз призывал смерть; я долгие часы проводил там, на берегу источника, с желанием потопить в нем мои надежды и мое страдание. Потом, ограниченный жизнью, постоянно угрожаемый неизвестным недугом, я оплакивал мою прекрасную юность и цвет моих бедных дней, так рано обесцвеченных. Часто в поздние часы, сидя на кровати, единственный свидетель своих слез, печально изливая мои стихи при бледном свете лампы, я оплакивал среди безмолвия ночи мою жизнь, готовую потухнуть, и, чувствуя слабость, пел самому себе похоронную песнь.
Кто без вздоха может вспомнить вас, о, первый расцвет юности, прелестные дни, непередаваемые, когда молодые девушки начинают улыбаться восторженному юноше! Все тогда улыбается ему: зависть молчит, усыпленная еще или снисходительная; точно кажется, что мир (о, чудо!) протягивает ему руку помощи, извиняет его ошибки, празднует вступление его в жизнь, точно принимая его за господина и приветствуя его этим титулом. Кратковременные дни!
Они исчезли, подобно молнии. И какой человек может обойтись без несчастий, когда он оставил уже за собою эту радостную пору, если это чудное время, если юность, увы, юность погибла?»
«О, Нерина! Разве не слышу я, как эти места мне говорят о тебе? Думаешь ли ты, что твое воспоминание исчезло из моей памяти? Куда ушла ты, моя милая подруга, если здесь я нахожу лишь воспоминание о тебе? Она не видит тебя, эта родная земля; это окно, из которого ты имела привычку говорить со мною и где печально светит отблеск звёзд, — оно пустынно. Где ты, если я не слышу твоего голоса, как прежде, когда, как бы далеко ни было, малейший звук, сбегавший с твоих уст, заставлял бледнеть мое лицо? Того времени уже нет. Дни твои уже прошли, моя любовь. Ты прошла. Другая теперь наступит и заселит эти благоухающие холмы. Но ты прошла скоро! Твоя жизнь была точно сновидение. Ты прожила ее, резвясь. На челе твоем светилась радость, во взорах твоих виднелось то доверчивое воображение, этот свет юности, в ту минуту, когда судьба потушила ее и похоронила в гробу. О, Нерина, в сердце моем все еще живет по-прежнему моя любовь. Если по временам я отправляюсь на какой-либо праздник, в какое-нибудь собрате, я говорю себе: „О, Нерина, ты не одеваешься уже на праздники и собрания: ты не ходишь на них“. Когда приходит май и влюбленные предлагают молодым девушкам зеленые ветки и песни, я говорю: „О, моя Нерина, для тебя нет уже ни весны, ни любви“. При каждом ясном дне, при каждом цветущем поле, которое я созерцаю, при каждом удовольствии, которое я испытываю, я говорю: „У Нерины нет уже удовольствий, ни полей, ни неба она уже не видит“. Увы, ты прошел, мой вечный вздох, ты прошел, и ко всем моим мечтам, ко всем моим нежным чувствам и печальным и дорогим движениям моего сердца я всегда буду примешивать это горькое воспоминание».[47]
Нерина, по всей вероятности, была одною из первых привязанностей, если не первой любовью Леопарди. Как и все, что поражает нас в юности, возлюбленная оставила в душе поэта надолго, на всю жизнь отпечаток, который не могли изгладить позднейшие встречи с другими столь же дорогими его сердцу существами. К числу последних относится, между прочим, его кузина, Гертруда Касси, приехавшая в Реканати, где жил поэт, на время. Он влюбился в нее до того сильно, что едва не сошел с ума, когда кузина уехала. В стихотворении «Il primo Атоге» и других он дает яркую картину своей любви. Чувство, охватившее его, было «зефиром, шелестящим листьями дерев». Возлюбленная его уехала и он видел ее в эту минуту, находясь за занавесками окна. Горькое сознание одиночества стеснило его сердце. Он почувствовал себя сиротою, бросился на кровать, закрыл глаза. Почему его любовь осталась смутным, неудовлетворенным, неразделенным стремлением? Он не сумел высказать ее, не сумел расположить к себе возлюбленную, не сумел растрогать ее, вызвать улыбку на устах, обменяться поцелуем.
Люблю, люблю тебя! Сто раз я повторяю: Ты сердишься и хочешь ты бранить Меня, что я любви моей совсем не знаю Ни высказать, ни выразить, ни в песнь излить, И будто в летаргии не имею силу Иной дать признак жизни, как сойти в могилу.[48]Леопарди, впрочем, утешился. Спустя некоторое время он познакомился во Флоренции с принцессой Шарлоттой Бонапарте, дочерью бывшего испанского короля и женою умершего в 1831 году старшего брата Наполеона III. Ей именно он посвятил несколько глубоко прочувствованных стихотворений, как «Aspasia» и «А se stesso», в которых воспел её грацию и красоту и оплакал свою неудачу. Существует, впрочем, мнение, что стихотворения эти посвящены не самой принцессе Шарлотте, а одной флорентийской замужней аристократке, с которою Леопарди встретился в доме принцессы и которая ввела его в заблуждение своим ласковым отношением. Поэт уже думал, что любим, и объяснился, в результате чего оказалось, конечно, грустное разочарование.
Можно вполне согласиться с Полем Гейзе, что неудачи в любви придали грустный колорит его мышлению и послужили главной причиной его пессимизма. «Я живу здесь безучастный и равнодушный ко всему, — пишет он брату в 1822 году из Рима, — в дамском обществе не бываю вовсе, а без женщин никакие занятия, никакие житейские обстоятельства не могут ни привязывать, ни удовлетворять». Ту же идею он проводит и в других письмах, объясняя повсюду свои неуспехи у женщин только своей некрасивой наружностью. «Я совершенно погубил себя, — говорит он в другом письме, — семью годами безумного и отчаянного учения в таком возрасте, в котором организму моему нужно было развиваться и крепнуть, Я погубил себя на всю жизнь, сделал свою наружность жалкою и тем уничтожил ту важную часть человека, на которую люди обращают столько внимания, и притом не только толпа, но всякий, которому хочется, чтобы внутреннее дарование не было лишено внешнего украшения, и который, найдя его ничем не украшенным, приходить в уныние и, уступая закону природы, едва имеет мужество любить того, у которого нет ничего красивого, кроме души». И, как бы развивая эту мысль, он восклицает в своем грустном, проникнутом нежной меланхолией стихотворении «Последняя песнь Сафо»: «Одной лишь только красоте дано небесами властвовать над человеческим сердцем. Для героизма и песен не цветет венок славы в бедной, скромной хижине».
Быль ли прав Леопарди? Конечно, не был. Красота мужчины не всегда служит необходимым условием женского расположения и мы не раз еще встретимся на протяжении этой книги с примерами мужчин, пользовавшихся любовью женщин, несмотря на свое уродство. Достаточно упомянуть пока хотя бы о том же Шопенгауере, наружность которого далеко не удовлетворяла требованиям изящного вкуса, но который тем не менее свободно пил из чаши любовных наслаждений. С этой точки зрения вполне справедлив приговор Руджеро Бонги, который, объясняя причину вечных неудач Леопарди в области любви, замечает: «Маленький, слабый, рахитический Леопарди не решался думать, что его может любить женщина, а уверенность в этом имеет своим неизбежным последствием то, что действительно ни одна женщина не любит. Ему было известно, что он некрасив, и он оплакивал это, как величайшее несчастье, не будучи в состоянии понять, что женщина узнает в некрасивом теле красивую душу и любит ее».
Альфьери и графиня Альбани
Если в истории всемирной литературы есть пример редкой по своему бурному и тревожному характеру связи между поэтом и женщиною, то это, конечно, связь Альфьери[49] и графини Альбани. С другой стороны, трудно также указать более яркий пример непосредственного влияния женщины на творчество поэта, пегас которого всегда нуждается в легких ударах хлыста, чтобы уносить своего повелителя в бездонные пространства поэзии.
Графиня Альбани была женой Карла-Эдуарда Стюарта, последнего из рода Стюартов, до самой смерти остававшегося претендентом на английский престол. Вышла она за него замуж при необычайных условиях. Карл-Эдуард был храбр и неустрашим. Имея всего 25 лет от роду, он в 1745 году высадился в Шотландии, во главе ничтожной группы приверженцев, и в короткое время собрал под свое знамя целую армию, овладел Эдинбургом и нанес поражение войскам короля Георга, чем сразу пошатнул его престол. Вскоре, однако, ему было нанесено решительное поражение и он бежал после многих приключений во Францию. Людовик XIV относился к нему радушно, но Людовик XV согласился по Аахенскому договору изгнать ею из своей страны. С этих пор начались бесконечные скитания английского претендента, единственным утешением которого была верная подруга, мисс Клементина Уакиншоу. Он сошелся с нею в Шотландии, после чего она родила ему дочь, которая, однако, послужила впоследствии предметом разлада между родителями. В одно прекрасное время мисс Уакиншоу покинула Карла-Эдуарда и претендент на английский престол остался без главной поддержки. Так как друзья также начали покидать его один за другим, то он с горя начал пьянствовать и в скором времени дошел до такого состояния, что приверженцы Стюартов с ужасом начали ждать времени, когда последний представитель династии сойдет в могилу, положив конец их надеждам на реставрацию. Тут-то неожиданно вмешалось в дело французское правительство. Потеряв надежду на то, чтобы Карл-Эдуард снова высадился в Англии или, по крайней мере, держал ее в страхе, оно решило обеспечить Стюартам потомство, так как продолжение этого рода и связанная с ним возможность смут в Англии могла быть только на руку Франции. Для этой цели Карл-Эдуард был вызван в Париж, где ему предложили жениться на молодой княжне Штольберг, взамен чего он будет получать 240.000 ливров пенсии. Само собой разумеется, что жалкий, истощенный неумеренной жизнью, потерявший всякие надежды претендент, которому к тому же был 51 год, согласился и в 1772 году был совершен брак в Париже.
Княжна Штольберг и была графиней Альбани (титул «граф Альбани» Карл-Эдуард стал носить спустя некоторое время, когда, как мы сейчас увидим, все попытки, его быть признанным кем-либо из европейских коронованных особ в качестве законного английского короля не увенчались успехом). Это была очаровательная женщина. «Немка по рождению и имени, — говорит Сен-Ренэ-Тальяндье, — она была совершенная француженка по образу мыслей и к ее очаровательным приемам присоединялась еще необыкновенная живость ума. Ученая без педантизма, страстно любящая искусство, Луиза Штольберг, казалось, была рождена для того, чтобы быть грациозной владычицею умственной аристократии своей эпохи в самых высших слоях образованного общества». Близость такой женщины должна была благоприятно отразиться на беспутном Карле-Эдуарде, и действительно, он сделался совершенно иным человеком. В нем проснулось прежнее достоинство и прежняя вера в свое династическое будущее. К несчастью, ни папа Климент XIV, ни великий герцог Тосканский, во владениях которого он поселился, не признавали его королем, и это заставило его снова погрузиться в прежний мрак отчаяния и опять отдаться вину, дававшему возможность забыть на время все невзгоды жизни. Здоровье его пошатнулось, силы ослабели. Жена должна была почувствовать к нему отвращение, тем более что Карл-Эдуард жестоко обращался с нею. Она долго томилась, ждала. Нужен был удобный случай, чтобы она решилась порвать со своим мужем, с которым она не имела ничего общего, не исключая даже возраста, и бежать из Флоренции.
В это именно время приехал во Флоренцию Альфьери[50], молодой тосканский дворянин и будущая звезда итальянской поэзии. Ему было всего 28 лет, и вполне понятно, что пылкий, восторженный, жаждущий славы поэт не мог пройти мимо великолепного цветка, оказавшаяся в куче мусора. Вот как он описывает впечатление, которое произвела на него графиня Альбани: «Только что я кое-как устроился во Флоренции, чтобы прожить там один месяц, как одно новое обстоятельство удержало и, можно сказать, заперло меня там на несколько лет. Это обстоятельство заставило меня, для моего же счастья, оставить навсегда мою родину, и я, наконец, нашел в золотых цепях, которыми сам себя добровольно опутал, ту литературную свободу, без которой я никогда не сделал бы ничего хорошего… В прошлое лето, проведенное мною во Флоренции, я часто и невольно встречал даму прекрасной наружности и с очень грациозными манерами. Иностранка была аристократического происхождения, этого невозможно было не заметить, а еще невозможно было, раз ее увидев, не плениться ею. Большая часть здешних аристократов и все сколько-нибудь значительные иностранцы были у нее приняты; но я, погруженный в мои занят и меланхолию, нелюдим и странный от природы, старался в особенности избегать женщин, отличавшихся красотою и любезностью, я потому не хотел в это лето быть ей представленным.
Однако ж, мне очень часто случалось встречаться с нею в театрах и на гулянье, и от этих встреч у меня осталось в глазах и даже в сердце первое очень приятное впечатление; темные и полные приятного огня глаза и к этому (что случается очень редко) удивительной белизны кожа и белокурые волосы придавали ее красоте такой блеск, что трудно было, увидев ее, не быть пораженным и побежденным. Ей было 25 лет. С ангельским характером она соединяла любовь к словесности и искусствам; сверх того, она пользовалась большим состоянием, но, несмотря на все это, вследствие некоторых обстоятельств, очень тяжелых. и грустных, не была счастлива. В ней было слишком много очарования, чтобы не привести меня в смущение. Такова была страсть, с этого времени нечувствительно развившаяся и взявшая верх над всеми моими привязанностями, над всеми моими мыслями. Она угаснет только с моею жизнью. Удостоверив через два месяца, что это была именно та женщина, которой я искал, — потому что она не только не была помехою моей литературной славы, как обыкновенные женщины, любовь моя не только не отрывала меня от полезных занятий, не суживала, если можно так выразиться, моих идей; напротив, она подстрекала, ободряла меня и представляла, собою пример всего прекрасного, — я узнал и оценил такое редкое сокровище и тогда страстно отдался ей. И я не обманулся, ибо после десяти лет, в минуту, когда я пишу эти строки, когда, увы, для меня настало время горьких разочарований, я более и более пылаю страстью к ней, а между тем время уничтожило в ней многие пустые преимущества скоро преходящей красоты. Каждый день мое сердце возвышается, смягчается, улучшается с нею, и я думаю и уверен, что и ее сердце, опираясь на мое, почерпает в нем новые силы».
Творческая деятельность поэта забила ключом. Он пишет стихи, в которых изливает свои чувства, или драмы, в которые вкладывает идеи любимой женщины. Чтобы иметь возможность запечатлевать свое поэтическое вдохновение на бумаге, ему приходится даже отказаться от отечества — Пьемонта, так как по пьемонтским законам писать вне пределов родины без разрешения цензоров запрещалось под страхом телесного наказания. Жертва эта была искуплена большой продуктивностью, так как ко времени пребывания Альфьери во Флоренции, бок-о-бок с графиней Альбани, он написал свои лучшие произведения. Оставалось сделать еще один шаг — освободить несчастную женщину из суровых тисков тирана. Но как этого было достигнуть? И вот составился заговор, в котором принял участие сам великий герцог Тосканский. Так как Карл-Эдуард не отпускал жены от себя ни на шаг, а уезжая, буквально запирал ее на ключ, то пришлось прибегнуть к хитрости, выманить ее вместе с мужем однажды на прогулку и путем искусной интриги дать ей проскользнуть в монастырь на глазах удивленного супруга. Карл-Эдуард хотел было последовать за нею, но его не впустили. Он начал сильно звонить, ему не отвечали. Наконец в форточке показалась игуменья и заявила, что графиня Альбани просила убежища в монастыре и теперь находится под покровительством ее величества великой герцогини. Конечно, Карл-Эдуард негодовал, просил, требовал, хлопотал… Все было напрасно. Молодая графиня Альбани перестала быть женою английского претендента, чтобы сделаться подругой знаменитого поэта.
Но, прежде чем сойтись окончательно, необходимо было обезопасить графиню от преследования разъяренного мужа и, если можно, добиться развода. Первое сделать было нетрудно. В один прекрасный день из монастыря выехал экипаж, на козлах которого сидел Альфьери, с пистолетом в руке на всякий случай, рядом с одним из своих друзей, принимавшим участие в заговоре. В экипаже была графиня, которая направлялась в Рим, где муж ничего уже не мог ей сделать. Нечего говорить, что вскоре туда приехал и Альфьери, и для влюбленной парочки началась счастливая жизнь. Они не жили вместе — этого не позволило бы общественное мнение, — но он часто посещал свою возлюбленную, слишком часто для того, чтобы вскоре не разнеслась молва об отношениях между поэтом и молодою женщиною. Опасаясь преследования со стороны общества и боясь приговора папы, который не замедлил бы изгнать его из Рима, Альфьери покинул вечный город и начал скитальческую жизнь, «рифмуя и плача». Это был длинный ряд пыток для знаменитого поэта, который мог быть прекращен только разводом графини Альбани. Но развод уже далеко не представлялся легким делом, и графиня так, вероятно, и осталась бы женою Карла-Эдуарда до самой его смерти, если бы в Рим не приехал шведский король Густав III, который, вмешавшись в дело очаровательной женщины, добился развода на выгодных для обеих сторон условиях. В апреля 1784 года Карл-Эдуард подписал документы о разводе.
Влюбленные оказались совершенно свободными и на крыльях любви полетали в Эльзас, где можно было пить радости жизни вдали от завистливых взоров и пересудов общественного мнения. Альфьери опять ожил душою. Во время разлуки с возлюбленною его совершенно оставило вдохновение. Чтобы чем-нибудь наполнить время, он занялся лошадьми, к которым успел пристраститься; но теперь к нему вернулась прежняя страсть к творчеству, и результатом этого явился новый ряд произведений, в том числе такие трагедии, как «Орест», «Виргиния», «Агамемнон», «Саул». В разгар любовных восторгов им улыбнулось новое счастье: умер Карл-Эдуард, продолжавший стоять смутной тенью между Альфьери и графиней Альбани. Это было последнее препятствие. С этой минуты молодая женщина решила больше не скрывать своей связи. Наоборот, поселившись вместе с возлюбленным в Париже, она открыто провозгласила свою связь, гордилась ею, так как ясно сознавала, что гений Альфьери вырос и окреп только благодаря её влиянию. Она не хотела освятить свои отношения с ним браком, потому что продолжала считать себя законной королевою Англии, но зато вознаградила его такой любовью и преданностью, о которых только мечтают восторженные поэты, но которых достигают очень редко. Она поддерживала в нем поэтический жар, открыла салон, в котором показывала своего возлюбленного сливкам французской и иностранной знати, «приготовляла, по остроумному выражению Сен-Рене-Тальяндье, царство во владениях поэзии и, рассчитывая по своему сану на блестящие связи, хотела ими воспользоваться для славы человека, который мог обессмертить ее имя». Альфьери действительно обессмертил графиню в своей автобиографии, в которой прославляет возлюбленную в самых восторженных выражениях, а в посвящении к «Мирре» он прямо восклицает, обращаясь в предмету своего сердца: «В тебе одной источник поэзии и вдохновения; жизнь моя началась только с того дня, как слилась с твоею жизнью».
Ужасы революции вскоре заставили влюбленных покинуть Париж. Но тут им едва не пришлось сделаться жертвами тех, от которых они убегали. Запасшись необходимыми паспортами, Альфьери в 1791 году вместе с графиней и прислугой выехал из города. У заставы их остановили пять национальных гвардейцев, которые, найдя паспорта в порядке, уже было пропустили их. Но вдруг из соседнего трактира выбежали несколько человек и стали кричать: «Смерть аристократам! В ратушу их! Они уезжают из Парижа с деньгами, чтобы заставить бедный народ голодать!». Собралась толпа. Многие начали требовать, чтобы аристократы были казнены. Только благодаря мужеству Альфьери, дело кончилось благополучно. Он бросился в самую толпу и начал кричать, держа в руках паспорта, что он не француз, а итальянец, и непременно проедет. Толпа оторопела, пораженная его смелостью, и Альфьери действительно проехал. А через два дня, находясь уже вне Франции, он узнал, что на их квартиру явились комиссары, чтобы арестовать графиню Альбани, королеву Англии, и, не найдя ее дома, конфисковали её имущество.
Влюбленные поселились во Флоренции, где и провели после того десять леть во взаимном поклонении, любви и преданности. Графиня Альбани до конца дней Альфьери ухаживала за ним, гордилась им, поощряла его и окружала той тонкой сетью заботливости и внимания, в которой человек, раз попав, забывает всё окружающее. Не заметил Альфьери и того, как его возлюбленная втихомолку сошлась с художником Фабром. Графиня Альбани очень любила живопись, а так как она любила также и Альфьери, то результатом этого явилось желание сблизить французского художника с итальянским поэтом. Она стала брать уроки живописи у Фабра и подруга гордого поэта, королева Англии и бывшая жена последнего из Стюартов, увлеклась свободным мастером кисти. Альфьери вскоре умер, так и не узнав, какого рода уроки давал молодой художник его очаровательной подруге…
Лопе де Вега и Марта
Если любовь Альфьери была полна тревог и неожиданностей, то он мог, по крайней мере, утешиться мыслью, что она была первою и последнею любовью. Знаменитый итальянский поэт, со дня рождения которого отделяет нас полтора века, никого не любил больше, кроме графини Альбани, и, конечно, именно этому обязан стройностью своего поэтического миросозерцания, чуждого резких перемен и зигзагов. Не то испанский поэт Лопе де-Вега.[51]
Когда вспоминаешь отдельные моменты его частной жизни и литературной деятельности, невольно напрашивается параллель между той и другою. Лопе де-Вега написал бесконечное количество драм, повестей, эпических и лирических стихотворений и в то же время любил бесконечное число женщин. И то, и другое сделалось почти предметом легенды. Так, говоря о своей литературной деятельности, он однажды сам признался, что написал больше ста комедий, потратив на каждую из них по 24 часа. Для театра Лопе де-Вега начал писать около 1587 года (поэт родился в 1562 году), и через какие-нибудь шесть лет у него уже было 230 драматических произведений. Прошло еще три года и последних уже оказалось 482, через девять лет — 800, еще через несколько лет — уже больше 1.000 и, наконец, общее количество его произведений для театра достигло неслыханной цифры — 1.500. Его биограф Монтальбан уверяет, что число их было еще больше — 1.800. И это только одни драмы и комедии; между тем у Лопе де-Вега имеется еще бесконечное количество других произведений эпического и лирического характера. До такой степени плодовитости не поднялся еще ни один из писателей, кроме Лопе де-Вега, и немудрено, что современники относились к поэту, как к исключительному существу, одаренному почти сверхъестественной натурой.
То же самое нужно сказать о его любовных похождениях, с тою только разницей, что в этой области, может быть, поэт еще превзошел свою литературную плодовитость. Это был истинный Дон-Жуан, оставшийся верным самому себе до самой смерти. «Любовь, — говорит его испанский биограф и критик Баррера, — была безусловной необходимостью для Лопе де-Вега. Она служила живительным солнцем для его удивительно плодовитой фантазии». Сам поэт характеризует свое отношение к женщинам в следующем стихотворении:
Поэт-знаток сказал: видали Влюбленных вы безумный рой, Как вихрем мчится он на бале, Где время — музыкант лихой? Не разум пляской управляет, И смена танцев, смена дам Дотоле не уймется там, Пока рог Времени играет.Само собой разумеется, что о любви в том смысле, как ее понимали Данте или Петрарка, здесь не могло быть и речи. Это была любовь страстного мужчины, одаренного пламенным темпераментом, любовь, постоянно требовавшая удовлетворения и в себе самой находившая материал для дальнейших новых заявлений. Его связи с женщинами, как и литературная деятельность, начались очень рано. Когда поэту было тринадцать лет, он уже написал поэму, а когда ему исполнилось семнадцать, у него оказалось несколько любовных связей. Его первой любовью была замужняя женщина, по имени Доротея. Она отдалась всеми сердцем пылкому молодому человеку, который умел облекать свои чувства в столь звонкие стихи, отдалась ненадолго, так как у легкомысленного поэта вскоре завязалась интрига с другой женщиной, Марфиссой. Марфисса была вдовой и плодом их любви явился сын, совершенно озадачивший де Вега, который не думал о потомстве, когда сходился со смазливой вдовушкой. Грех можно было загладить женитьбой, но Лопе де-Вега предпочел удариться в другие любовные похождения и среди вихря чувственных удовольствий действительно женился — не на Марфиссе, конечно, а на Изабелле де-Урбине, дочери герольдмейстера при Филиппе II и Филиппе III, особе, пользовавшейся большим уважением в высшем кругу общества и к тому же обладавшей большим приданым. Нужно ли говорить, что женитьба не спасла его от жажды новых развлечений и удовольствий? Он продолжал свои прежние похождения и даже «воспитывал» у себя одну красавицу под именем Филиды. Жена была в отчаянии и часто устраивала ему сцены ревности, что причиняло поэту немало горя, но они не имели успеха. Вега ухаживал за своей красавицей, продолжая в то же время отрицать эту связь, хотя сам же оправдывал ее в своих стихотворениях. Так, в одном романсе, он говорит жене: «Пусть небеса осудят меня на вечные вздохи, если я не обожаю тебя и не питаю отвращения к Филиде»; но он в то же время писал другой романс, посвященный «возлюбленной Филиде», и еще несколько стихотворений, прямо свидетельствующих о пламенной любви к этой девушке.
Скорая смерть жены избавила Лопе де-Вега от семейных несчастий и поэт снова бросился в вихрь наслаждений, чему не мешали тяжкие тревоги и бедствия, наполнившие его жизнь после кончины Изабеллы. Прежде всего он обратил свои взоры к Филиде, для связи с которой препятствий больше не было. Но, увы, она от него отвернулась. Причина неизвестна. Поэт пришел в отчаяние, что и выразил во многих стихотворениях, но вскоре утешился и, чтобы окончательно рассеять свою грусть, поступил на военную службу, тем более что время было воинственное — Филипп II отправлял свою Непобедимую Армаду к берегам Англии, чтобы одним ударом сокрушить могущество Елизаветы и водворить в ее стране католичество. Лопе сам рассказывает в одном из своих стихотворений, что равнодушие красавицы заставило его взвалить свой мушкет на плечо, уехать в Лиссабон, сесть на один из кораблей Армады и, отправившись к берегам Англии, забить, как он выражается, заряд своего мушкета стихотворением, написанным в честь красавицы.
Путешествие было несчастным. Армада погибла во время бури и Лопе де-Вега едва не поплатился жизнью. К этому присоединилась смерть его брата. Но поэт не изменил себе и, продолжая ухаживать за женщинами, увлекся одною из них до такой степени, что женился на ней. Это была Хуана де-Гвардио, особа из хорошей семьи, воспетая им в своих стихотворениях. Поэт в это время достиг уже 35 лет и, после стольких бурь в жизни, начал было думать о тихом семейном счастье, которым, по-видимому, и пользовался в течение нескольких лет, так как описал его в трогательных выражениях. Но новые удары судьбы уже ждали его у порога. Умер его сын от этой жены, а вскоре умерла и она сама от родов, оставив младенца, девочку Фелициану. Велико было горе Вега, и он запечатлел его в одной из поэм; но и оно не помешало поэту продолжать прежнюю жизнь Дон-Жуана, не помешало даже после того, как Лопе де-Вега поступил на службу «святой» инквизиции. В январе 1614 года он сделался священником, а в марте уже «освятил» свой духовный сан в Толедо, поселившись там у одной актрисы, Иеронимы де-Бургос… В мае того же года он служил в Мадриде первую обедню, а через нисколько месяцев покинул Мадрид, «чтобы избавиться от сплетен одной позорной женщины». По всей вероятности, это была покинутая им возлюбленная. В июле 1616 г. он отправился в Валенсию к своей возлюбленной актрисе, очевидно, упомянутой Иерониме, а когда, через несколько месяцев, вернулся в Мадрид, его назначили «procurador fiscal» апостолической палаты в архиепископстве Толедо. Казалось бы, тут о любовных похождениях нельзя было и думать, тем более, что возраст уже был не тот; но Лопе не унялся. Уверенный, что на его «закат печальный еще блеснет любовь улыбкою прощальной», он внимательно следил между двумя мессами за нежными представительницами прекрасного пола, пуская в ход всю силу своего таланта и обаяние славы, которыми тогда пользовался, чтобы захватить какую-нибудь из них в свои сети. К этому именно времени и относится его роман с Мартою де-Наварес-Сантохо, послуживший некоторым образом лебединой песней в бесконечном ряде эротических похождений знаменитого поэта.
Встретился он с нею в 1616 году. Это была замечательно красивая женщина, невысокого роста, с удивительно белым лицом, вьющимися волосами, длинными ресницами и глубокими, как море, глазами цвета морской волны, веселая, грациозная, умная, любившая поэзию. Вега влюбился в нее с первого взгляда, несмотря на свои пятьдесят лет, и, что более всего удивительно, сама Марта полюбила поэта, окруженного ореолом неслыханной славы. Марта была замужем за грубым, алчным, богатым крестьянином Аялой, но это не было препятствием, а, может быть, даже сыграло немалую роль в её любви к Лопе де-Вега, который был изящен, ласков, а, главное, так умел закрадываться в душу любимой женщины. Словом, между Вега и Мартою завязался роман с обманутым мужем в качестве третьего лица, что было далеко не трудно, так как муж часто отлучался на долгое время в горы к своим виноградникам. От связи с поэтом у Марты родилась девочка, которую, однако, муж ее не поколебался признать своею. Так продолжалось некоторое время. Когда муж уезжал, Лопе де Вега являлся к своей возлюбленной, а по его возвращении уступал ему место, терзаемый, конечно, ревностью и негодованием. Но муж всё же что-то узнал и в одно прекрасное время застал влюбленных на месте преступления. Лопе должен был бежать, а Марта подверглась побоям. Она стала хлопотать о разводе, что еще более озлобило мужа, и он стал вымещать свой гнев на Лопе де-Вега, обвиняя его в краже или приставая на улице к его дочери. Скандал вышел большой, что отразилось, между прочим, и на литературной деятельности поэта. При дворе его стали порицать, в театре освистали одну его пьесу. К счастью, муж Марты вскоре умер… после того, как узнал, что дело о разводе решено в пользу его жены. Лопе мог опять считать себя на вершине блаженства.
Но поэту в это время уже было 56 лет. Страсть угасла в его душе и он мог любить свою Марту только одной платонической любовью. К тому же несчастья, преследовавшие его всю жизнь, не отступали от него ни на шаг. Его дочь Марчелла, не будучи в состоянии перенести поведение отца, поступила в монастырь, сын погиб во врмя кораблекрушения, а другая дочь, Антонина, тайно убежала с одним придворным. Наконец, сама Марта ослепла вследствие болезни глаз и через некоторое время сошла с ума. Так окончились любовные похождения великого поэта.
IV. Германия
Гёте. — Шиллер. — Гейне. — Лессинг. — Ленау. Шлегель. — Клопшток. — Виланд.
Гёте
Гёте[52] может поистине считаться баловнем счастья. Ему все улыбалось. Начиная с первых дней вступления на арену литературной деятельности и кончая годами творческого заката, не было ни одного события, которое могло бы вызвать тучку на безоблачное небо его жизни. Он в юности приобрел громкую поэтическую славу, в тридцать лет сделался министром. За ним ухаживали. Его снисходительного взгляда домогались, как милости. Даже появление его на свет сопровождалось необыкновенным счастьем: он должен был задохнуться и спасся только благодаря редкой случайности. Правда, в одну грустную минуту своей старости он выразился: «Если свести к одному итогу действительно счастливые и безоблачные дни всей моей жизни, то много-много, если составится четыре недели». Но, конечно, это была шутка. Поэт был счастлив и можно смело сказать, что если бы Поликрат[53] жил после олимпийца конца XVIII и начала XIX веков, то не бросал бы своего перстня в воду, так как убедился бы, что несчастья вовсе не нужны, чтобы сделать человека счастливым.
Был ли Гёте также счастлив и в отношениях с женщинами? С внешней точки зрения, да. Если не считать Лопе де-Вега, с любовными похождениями которого мы познакомились выше, то германскому поэту придется отдать пальму первенства среди поэтов, пользовавшихся женским расположением. Нужно было бы исписать целую страницу, чтобы сделать только один перечень имен, принадлежавших многочисленным владычицам его сердца. Большим успехам его, конечно, способствовали свойства самого поэта. Добрый, красивый, гениальный, он обладал всеми качествами, необходимыми для того, чтобы влюблять в себя всякую женщину. К тому же он был необычайно влюбчив и черта эта стала обнаруживаться в нем еще в раннем возрасти. Все это в совокупности делало то, что у солнца германской поэзии всегда появлялся спутник в образе миловидного создания, куда бы он ни приезжал, в какой бы круг незнакомых людей он ни забирался. Гёте, можно сказать, всегда дышал женской атмосферой. Женщина была его идеалом, путеводной звездой, стихией. Она следовала за ним повсюду с первых дней до конца жизни. Это ли не счастье?
Гете и его мать
Какая чудная галерея женских головок открывается перед глазами, когда мысленно перебираешь главные факты из жизни великого поэта! На первом плане, конечно, стоит его мать. В истории великих людей можно насчитать еще только один случай, когда величие человека было в такой степени связано с влиянием матери, как это мы видим на примере Гёте, — мать Гракхов. Как и она, Екатерина-Елизавета Гёте была уверена, что из ребенка ее выйдет со временем нечто выдающееся, и, обладая мягким, ровным, но в то же время и энергичным характером, она всю силу воли, весь свой такт и ум употребляла на то, чтобы довести сына до желанной цели. Она вышла замуж за человека, которого не любила, и сделалась матерью, когда ей было всего восемнадцать лет, но это не только ее не состарило, но, наоборот, сделало молодою на всю жизнь. «Мы с Вольфгангом всегда были близки друг к другу, — говаривала она, — потому что оба были молоды». Тихое, радостное настроение никогда не покидало ее. Если какое-либо обстоятельство могло повлиять на ее спокойствие, она заботливо устраняла его. Слугам она приказала никогда не сообщать ей печальных новостей, а когда однажды Гёте заболел, никто не говорил с ней об этом, пока сын не выздоровел. «Я знала все, — говорила она впоследствии, — но ничего не говорила, потому что всякий разговор о нем только бесполезно растравлял бы рану моего сердца; теперь же я готова говорить об этом сколько угодно».
* * *
Следующий случай из детской жизни Гёте свидетельствует о невозмутимом спокойствии его матери, том именно спокойствии, которое, перейдя к сыну, было впоследствии окрещено названием «олимпийского». Маленький Вольфганг забрался однажды в помещение, где хранилась посуда, и начал бросать ее на улицу, одобряемый веселым смехом товарищей, братьев Оксенштейнов, живших напротив. Посуды было перебито уже изрядное количество, когда вдруг вошла мать. Как бережливая хозяйка, она пришла в ужас, но это ей не помешало тотчас перейти в умиление при виде дорогого сынка, весело смеявшегося под такт разбиваемых тарелок, мисок и тому подобных принадлежностей кухонной утвари.
Вечная невозмутимость матери, связанная с осмысленным, разумным отношением к воспитанию сына, сделала то, что и сам Гёте унаследовал все качества матери, засвидетельствовав это впоследствии в следующих стихах:
Отцу обязан ростом я, Серьезной в жизни целью, От матушки — любовь моя К рассказам и веселью.[54]Действительно, трудно сказать, кому больше была присуща любовь к рассказыванию сказок — Гёте или его матери. Сказки доставляли ей самой наслаждение. «Я, — говорила она, — никогда не уставала слушать. Воздух, огонь, землю, воду я представляла в виде принцесс, всем явлениям стихий придавала особый сказочный смысл и нередко сама верила вымыслам более даже, чем мои маленькие слушатели. Рассказывая о путях, ведущих от одной звезды к другой, о нашем будущем переселении на звезды, о великих гениях, с которыми мы там встретимся, я ждала с не меньшим нетерпением часа рассказа, чем и сами дети; я не меньше их интересовалось знать дальнейший ход моей импровизации, и всякое приглашение, прерывавшее наши вечерние беседы, было для меня крайне неприятно. Когда я рассказывала, Вольфганг уставлял на меня свои черные глаза, и если судьба кого-либо из его любимцев не соответствовала его ожиданиям, он был недоволен, жилы напрягались у него на висках и он глотал слезы. Часто прерывал он мои рассказы возгласами вроде следующего: „Но, маменька, ведь принцесса не выйдет замуж за скверного портного, если даже он и убьет великана“. Когда, по случаю позднего часа, я откладывала окончание рассказа до следующего вечера, то была уверена, что в этот промежуток он станет делать разные предположения о том, что будет далее, и это сильно подстрекало деятельность моей фантазии, и если продолжение рассказа соответствовало его предположениям, он весь вспыхивал и по одежде видно было, как сильно билось в это время юное сердце. Свои мысли о дальнейшей судьбе героев рассказа он поверял бабушке, у которой был любимцем, а та передавала мне, и я применяла продолжение рассказа к его мыслям, дипломатически скрывая от него, что их знаю. Надо было видеть, с каким энтузиазмом слушал Вольфганг, как его глаза горели восторгом, когда предположения его оправдывались!».
Но роль матери Гёте не ограничивалась одними положительными моментами. Она выражалась иногда и в отрицательной деятельности — там, где нужно было избавить будущего поэта от чьего-либо дурного влияния. Сказалось это особенно на отношениях к отцу Вольфганга, человеку суровому, узкому, педантичному, для которого все сводилось к сухой казенщине, не исключая даже такого сложного и не поддающегося рутине дела, как воспитание. Мать усердно ограждала сына от черствого закала отца, ведя правильную борьбу с ним не только прямыми, но и косвенными средствами. Известен, например, такой случай. Отец Гёте не признавал из отечественных писателей никого, кроме таких знаменитостей, как Галлер, Дроллингер, Хагедорн, Крамер и тому подобных писателей, давно уже канувших в Лету. Больше же всего ненавидел он Клопштока с его «Мессиадою», которая так сильно волновала уже в то время умы в Германии, ненавидел главным образом за нерифмованные гекзаметры, составлявшие для него предмет ужаса. Мать Гёте, конечно, была иного мнения о Клопштоке и, сама находясь под его влиянием, позаботилась, чтобы запретная книга попала в руки её детей, т. е. Гёте и его сестры Корнелии. Нечего и говорить, что Вольфганг стал с увлечением всасывать в себя запрещенную книгу и по целым часах просиживал не раз вместе с сестрою за чтением преступных гекзаметров, под охраною бдительного ока маменьки. Часто они декламировали. Однажды брат и сестра читали ту часть «Мессиды», в которой сатана разговаривает с Андромалехом. Молодые люди, разделив роли, начали декламировать, сначала тихо, потом, приходя в экстаз, все громче и громче, пока, наконец, девушка, увлеченная патетическим местом, не крикнула на всю комнату: «О, я совсем разбит!». Отец в это время брился с цирюльником в соседней комнате, и крик этот до того испугал цирюльника, что он вылил мыльницу на фуфайку сурового советника. Тотчас же было приступлено к строжайшему следствию, произведен обыск, запретная книга найдена и преступники изобличены. Гекзаметр, конечно, был немедленно изгнан из отцовского дома, что, однако, не помешало любящей матери достать втихомолку другой экземпляр.
Вся мать Гёте в следующем ее рассказе, который передает с ее слов приятельница великого поэта — Беттина:
— В одно ясное зимнее утро, когда у меня собрались гости, — рассказывала ей мать Гёте, — Вольфганг предложить нам ехать на Майн, прибавив: «Ты, мама, ведь не видала катания на коньках». Я надела свою кармазиновую шубку с большим шлейфом, застегивавшуюся до низу золотыми пряжками, и мы поехали. Мой сынок тотчас принялся скользить, как стрела, между другими. Воздух подрумянил его щеки и пудра осыпалась с его темных волос. Когда ему попалась в глаза моя кармазиновая шляпа, он подлетел к карете, весело смеясь. «Ну, что тебе нужно?» спрашиваю я. «Ведь тебе в карте не холодно, мама, дай-ка мне свою бархатную шубу». — «Уж не намерен ли ты надеть ее?» — «Да, конечно, надену». Я сняла свою славную теплую шубу, а он надел ее и, накинув на руку шлейф, побежал на лед, как настоящий сын богов. Если б ты его видела, Беттина! Ничего не могло быть прекраснее! От удовольствия я хлопала в ладоши. Как теперь вижу его перебегающим из под одной арки моста к другой, а ветер несет шлейф во всю длину его. Твоя мать была тогда на льду; ей-то он и хотел понравиться…
В Германии до сих нор благоговейно относятся к памяти Екатерины Гёте, а в родном ее городе Франкфурте еще недавно, во время празднования 150-лет со дня рождения великого поэта, собирались ей поставить памятник. Не знаю, чем кончилась эта затея, но что, Frau Aja, как ее называли, заслуживает памятника, не сомневается всякий, кто читал и любил Гёте и воспитал на нем свое эстетическое чутье. Недаром один энтузиаст, поговорив с нею, воскликнул: «Теперь я понимаю, почему Гёте сделался великим человеком!».
Гёте и Гретхен
Но вот кончилось влияние матери. Гёте сделался юношей и пустился в открытое море жизни. Тут-то на первых порах, имея всего пятнадцать лет от роду, он опять столкнулся с женщиною. Но какая разница в чувствах? Там — любовь и чистота, здесь — любовь и тайные греховные мысли, тайные потому, что, несмотря на все свои выдающиеся способности, дававшие великому олимпийцу возможность быть выше своих сверстников на целую голову, в душе его не было еще тогда места для открытых чувственных порывов. В нем бродили уже страсти, но они были только легкой зыбью на гладкой поверхности моря, которому суждено было сделаться бурным только в будущем.
Кто была Гретхен, которую многие считают первой любовью поэта? Некоторые биографы и комментаторы совершенно отрицают ее существование, думая, что это был просто плод юного воображения[55]. Конечно, есть некоторая доля поэзии в подобном взгляде на жизнь. Гретхен — поэтический образ! Она преследовала Гёте во дни юности, сопровождала его мечты в зрелом возрасте, служила ему музою на старости лет, воплотившись в конце концов в образе чарующей фаустовской Гретхен, лучшей и симпатичнейшей из гётевских героинь, которую немцы так охотно возводить в национальный тип. Как видно, простора для предположений здесь много. Но не лучше ли признать свидетельство самой матери Гёте, которая сама часто говорила о Гретхен, как о предмете первой любви ее сына, и в особенности автобиографии поэта, в которой он сам подробно распространяется об этой любви? Это тем более необходимо, что в самом факте нет ничего необыкновенного. Вот что рассказывает сам Гёте. Ему пришлось как-то очутиться в обществе веселых молодых людей, не брезговавших, как оказалось впоследствии, даже такими неблаговидными средствами, как подделка векселей, для того, чтобы добыть суммы, необходимые для кутежа. Между прочим они доставляли ему заказы на стихи для разных торжественных случаев, как свадьбы, похороны и т. п., и вырученные деньги прокучивали вместе. На собраниях этих-то молодых людей Гёте и встретился с очаровательной блондинкой по имени Гретхен. Она была старше его на год или полтора и хотя принимала поклонение молодого поэта, но не позволяла ему никаких фамильярностей. Так шло время. Однажды веселая компания засиделась за полночь. Гёте не мог вернуться домой, боясь отца, и остался среди товарищей, тем более, что ж Гретхен была тут же. Долго разговаривали молодые люди, но, наконец, стали засыпать один за другим. Заснула и Гретхен, положив хорошенькую головку на плечо своего кавалера, который гордо и счастливо сидел, стараясь не двигаться, нова сам не заснул. На следующий день утром Гретхен была уже более ласкова с поэтом и даже нежно пожала ему руку. Казалось, сближение было обеспечено, как вдруг полиция узнала о проделах молодых людей. Началось дознание, пошли допросы. Последние и расстроили все дело, так как Гретхен заявила на допросе, что действительно встречалась с Гёте и даже с удовольствием, но что она всегда смотрела на него, как на ребенка, и относилась к нему, как сестра к брату. Показание это оскорбило Вольфганга до глубины души. Он, несмотря на свои пятнадцать лет, считавший себя взрослым, превращается вдруг в мальчика, на которого смотрят сверху вниз! Гёте плакал, сердился, негодовал и, конечно, прежде всего «вырвал» из своего сердца «женщину», так беспощадно осмеявшую его лучшие «чувства»!
Впоследствии он написал водевиль под названием «Соучастники», в основание которого положены впечатления первой любви, — произведение детское, слабое, неустойчивое, как и сама любовь, послужившая ему канвою.
Гёте и Кетхен
Но как мимолетны увлечения юности с ее первыми снами и думами! Если бы Вольфгангу Гёте в пору первой любви сказали, что скоро наступит пора, когда он забудет свою очаровательную Гретхен ради другой девушки, столь же прекрасной, но еще более близкой его сердцу, он, конечно, счел бы это оскорблением. Между тем прошло всего два года и то, что казалось раньше невозможным, сделалось совершившимся фактом. Случилось это уже в Лейпциге, куда Гёте уехал, чтобы сделаться студентом. В доме трактирщика Шёнкопфа собиралось за табльдотом[56] общество молодых людей, в том числе и Гёте. Хозяин и хозяйка, очень милые люди, восседали тут же, а их очаровательная дочь хлопотала на кухне и подавала гостям вино. Это и была Анна-Катерина или попросту Кетхен, которую Гёте, однако, в своей «Warheit und Dichtong meines Leibens» называет попеременно то Анхен, то Аннетою. Ей было девятнадцать лет и о красоте ее можно составить понятие по письму Горна, одного из друзей Гёте. «Представь себе девушку, — пишет он, — хорошая, но не очень высокого роста, с круглым, приятным, хотя не особенно красивым личиком, с непринужденными, милыми, очаровательными манерами. В ней много простоты и ни капли кокетства. Притом она умна, хотя и не получила хорошего воспитания. Он ее очень любит и любит чистой любовью честного человека, хотя и знает, что она никогда не может быть его женою». Молодая девушка не могла остаться равнодушной к вздохам поэта, составившего себе уже тогда громкое имя. Она отвечает ему взаимностью и между молодыми людьми начинают мало-помалу устанавливаться те отношения, которые характеризуют приближение более тесной дружбы. Вдруг с Вольфгангом происходит перемена. Из любви ли, по капризу ли своей подвижной, беспечной натуры он начинает мучить возлюбленную ревностью. Поводов нет, но это его мало тревожит: он сам создает поводы. Наконец, Кетхен надоели все эти приступы ничем не оправдываемых подозрений и она отшатнулась от него. Это послужило отрезвлением для поэта, но было уже поздно. Кетхен больше не возвращалась к Гёте. Как ей старался Гёте вернуть её расположение, все было напрасно. Разрыв оказался полным.
Только после этого Гёте почувствовал, как сильно любил эту девушку. Неслыханные душевные муки заставили его даже искать забвения в вине и кутежах, чем он расстроил свое здоровье на долгое время. Чтобы восстановить силы, Гёте уехал домой во Франкфурт, но образ очаровательной девушки последовал за ним и туда, тревожа его сон и не давая успокоиться наяву. Вдруг он узнает, что Кетхен выходит замуж и притом за человека, которого сам же он познакомил с нею. Удар этот был слишком тяжёл. Гёте не мог его перенести. Болезнь (легочное кровотечение), которая начала было проходить, снова вернулась. Он пишет своей возлюбленной трогательные письма, говорит, что уедет подальше от неё, постарается вырвать ее окончательно из сердца, что она даже не должна ему отвечать, но и в благородном порыве самопожертвования в душе его пробуждается сожаление о потерянном счастье и перо чертит грустно-задушевные строки: «Вы мое счастье! Вы единственная из женщин, которую я не мог назвать другом, потому что это слово слишком слабо в сравнении с тем, что я чувствую».
Плодом любви Гёте к Кетхен явилась пьеса «Хандра влюбленного» (Die Laune des Verliebten), в героях которой нетрудно узнать самого Гёте и Кетхен и которые проводят время в беспрерывных ссорах. Пьеса эта — первое драматическое произведение Вольфганга и значение её тем более велико, это она свидетельствует о глубоком реализме великого человека, бравшего сюжетами для своих произведений события из собственной жизни. Можно сказать, что все им написанное прошло предварительно через фильтр его собственной души, и в этом отношении невольно хочется ему верить, когда он говорит: «Все мои произведения — только отрывки великой исповеди моей жизни».
Гёте и Люцинда
Когда Гёте выздоровел, его отправили в Страсбург для изучения юриспруденции. Страсбург был город живой, веселый, и Гёте невольно увлекся общим настроением и… забыл о Кетхен. Это — старая история. Сначала мы влюбляемся, затем восторгаемся, потом чувствуем себя несчастными, наконец забываем. «Вечно женственное» имеет и вечные свойства. Для Гёте процесс забывания прошлого начался с изучения танцев. В Страсбурге много танцевали, даже под открытым небом, и Гёте не мог отстать от общего увлечения, не впадая в противоречие с обществом, в котором находился. Он начал брать уроки у местного танцмейстера, у которого, к несчастью, были две дочери — Люцинда и Эмилия. Первый урок танцев решил дело: Гёте полюбил Эмилию, а Люцинда полюбила Гёте. Так как Эмилия любила другого, то сблизиться с нею Гёте не мог. Это его очень огорчало. Между тем Люцинда, как истая француженка, не скрывала своего чувства и часто жаловалась Гёте, что её сердцем пренебрегают. Случилась однажды в доме гадальщица, и Люцинда предложила обратиться к ней. Гадальщица дала плохое предсказание. Ея карты показывали, что Люцинда не пользуется любовью человека, к которому она неравнодушна. Люцинда побледнела и гадальщица, догадавшись, в чем дело, заговорила о каком-то письме, чтобы поправить дело, но девушка прервала ее словами: «Никакого письма я не получала, а если правда, что я люблю, то правда также, что я заслуживаю взаимности». С этими словами она расплакалась и убежала. Гёте вместе с Эмилией бросились за нею, но она заперлась и никакие просьбы не заставили ее открыть двери.
Так как роман, начавшийся при таких неблагоприятных условиях, не мог кончиться ничем хорошим, то самое лучшее было прекратить его возможно скорее. Сделала это Эмилия, предложив Гёте прекратить уроки танцев. Гёте стал оправдываться и доказывать, что он никогда не питал к Люцинде расположения, никогда не высказывал ей своих чувств, а, наоборот, восторгался одной Эмилией. Оправдание это послужило для него обвинительным приговором. Эмилия чистосердечно призналась ему, что любит другого, которому дала даже слово, и что Гёте поступит благородно, если оставит их дом, так как и она начинает привязываться к нему все более и более, что может иметь дурные последствия. Подчиняясь горькой необходимости, Гёте удалился, сопровождаемый до дверей любимою девушкою, которая в минуту прощания прижалась к нему и нежно поцеловала. Вдруг появляется Люцинда. Она услыхала разговор сестры и бросилась к дверям с криком: «Не ты одна простишься с ним». В ту же минуту она схватила его в объятия и, прижавшись лицом к его лицу, осталась так на некоторое время. Когда Эмилия подошла к ней, Люцинда оттолкнула ее и крикнула:
— Прочь! Не в первый раз ты отнимаешь у меня человека, который меня любить и которого я любила. Я откровенна, чистосердечна, и каждый думает, что сразу меня понял, и пренебрегает мною, а ты хитра, коварна!
Люцинда пришла в экстаз и, обхватив голову Гёте руками, крикнула сестре:
— Этот человек никогда не будет моим, но и твоим он никогда не будет. Трепещи же моего проклятия! Да обрушится горе на ту, которая первая поцелует его после меня! Ну-с, можешь теперь бросаться ему на шею! Посмей только!
Несчастного Гёте спасли только ноги: он бросился в бегство…
Гёте и Фридерика
Гёте убежал из объятий Люцинды, чтобы попасть… в объятия Фридерики.
Среди многочисленных романов, пережитых великим поэтом, его роман с дочерью зозенгеймского пастора Брюна, Фридерикой, заслуживает особого внимания. От него веет свежестью и чистотою. Чувствуется дыхание оживляющего мая, грезятся цветы, деревья, поля и посреди всего этого нежный отпрыск идиллической деревенской природы — сама шестнадцатилетняя, добрая, поэтическая Фридерика, бегавшая по этим полям, укрывавшаяся от жары под этими деревьями, оглашавшая воздух радостными песнями среди этих цветов, которые она сама насадила.
В то время, когда Гёте познакомился с Фридерикой, ему было всего двадцать лет. В этом возрасте не может быть еще и речи об истинной, глубокой любви. Но зато как широка любовь в эти годы! Все небо и землю, весь мир вмещает в себе сердце двадцатилетнего юноши, когда в него попадет искра божественного огня, брошенного в мир еще в первые дни мироздания. Такова именно была любовь Гёте к Фридерике. Он поехал в Зозенгейм случайно, не предвидя, что там встретится с девушкой, которая наложит глубокий отпечаток на всю его жизнь; тем более велико было его восхищение, когда в скромном домике зозенгеймскаго пастора перед ним предстала, сияя целомудренной красотой, еще нетронутая жизнью, еще только шедшая навстречу будущему, маленькая Фридерика. Она была в коротенькой юбке и черном фартуке; глаза ее блестели, слегка вздернутый носик как бы спрашивал, что это за пришелец, приехавший из шумного города в их тихую деревню, где все мирно и просто, где люди живут жизнью предков, отделенные от них целыми тысячелетиями. И пришелец ей ответил. Но что это был за ответ! Страсть лилась из его уст, вдохновение сверкало в его взоре.
Малютка оцепенела, она впилась глазами в его великолепное лицо, она ловила жадным слухом каждое его слово, старалась запомнить каждый его жест. Не мудрено: с нею говорил Гёте!
Глубокой поэзией веет со страниц автобиографии германского олимпийца, на которых, уже стариком, он вспоминает встречу с удивительной девушкой в доме зозенгеймского пастора. Гёте так ее любил тогда! Он не говорил ей об этом, но разве не красноречивее его слов был молодой пыл, клокотавший во всем его существе в то время, когда он находился около Фридерики?
* * *
В первый же день он был страстно влюблен и сердце его тревожно билось при мысль, что она, может быть, уже любила, может быть, даже уже помолвлена. К счастью, не оказалось ни того, ни другого. Фридерика, как весенний цветок, только начинала жить и рвалась навстречу к тому, кто первый протянет к ней руку…
На следующий день все было кончено. Молодые люди гуляли вдвоем. Сколько слов было сказано за эти краткие минуты прогулки! Потом они слушали проповедь пастора в церкви. Слушали ли они ее на самом деле? Не беззвучно ли замирали для них в пространстве слова священника в то время, когда их глаза ловили друг друга, а уста тянулись для поцелуя? А потом, днем, когда маленькое молодое общество у пастора устроило игру в фанты, как искренно звенели в воздухе их молодые голоса и как жадно было прикосновение их губ, освященное игрою, но подогретое внутренним пламенем! И вдруг тайный поцелуй, настоящий, не формальный, среди разгара игры, втайне от молодых подруг и товарищей… А на следующий день уже отъезд во Франкфурт, отъезд почти в качестве жениха, хотя помолвки не было, потому что между первой встречей Гёте с своей возлюбленною и высшим моментом его любовного экстаза прошло всего два дня!
История европейской литературы многим обязана бедной деревенской девушке, внушившей столь сильное чувство одному из величайших её представителей. Для Гёте после встречи с Фридерикой мир поистине раскрылся для любви. Он пел, как «птица меж ветвей вольна и солнцу рада», говоря собственными словами поэта. Значение этого было тем более велико, что со времени грустной истории с Кетхен он почти расстался с своей музой. Фридерика оживила в нем стремление в творчеству. Она сама явилась для него музой. И как знать, может быть, не появись она на перекрестном пункте, двух полос душевной и умственной жизни великого поэта, сколько перлов красоты и вдохновения не было бы извлечено из бездонного моря, клокотавшего в сердце гения всемирной поэзии.
К несчастно, конец романа с Фридерикой не был похож на его начало. Гёте не смел жениться на ней, хотя фактически уже считался её женихом. Дочь бедного пастора не могла сделаться женою сына именитого франкфуртского гражданина, который никогда не дал бы согласия на такой брак. Сам Гёте невольно поддался дурному впечатлению, когда семья пастора приехала в Страсбург. Если в деревне Фридерика казалась лесным цветком или нимфой, то в городе, где ей пришлось бы жить по выходе замуж за Гёте, она напоминала простую крестьянку. Уезжая из Страсбурга, очаровательная девушка увезла назад то чувство, которое Гёте привез с собою из Зозенгейма в Страсбург. Он продолжал ее любить, томился по ней, но ясно сознавал, что разлука неизбежна. Сознавала это и сама Фридерика, которая в порыве самоотвержения сама постаралась облегчить ему тяжелую задачу. Ни единого слова укоризны не сорвалось с её уста, когда Гёте приехал к ней снова, чтобы проститься навсегда. Она старалась казаться бодрою, утешала его, говорила о неизбежности разлуки голосом, в котором слышались твердая воля и решимость. Одни только щеки её были бледны, как полотно, и в глазах стояли слезы…
Фридерика осталась верна Гёте до могилы. Несмотря на многочисленные предложения, она ни за кого так и не вышла замуж.
Гёте и Лотта
На примере Фридерики можно наглядно проследить благотворное значение женщины в жизни великого человека как с положительной, так и с отрицательной точек зрения, на который было указано в предисловии к настоящей монографии. Когда Гёте встретился с прелестной девушкой, страсть к литературе, уснувшая в нем, благодаря несчастному стечению обстоятельств, снова пробудилась; когда он расстался с нею под влиянием других, столь же несчастно сложившихся обстоятельств, творческая деятельность его опять забила ключом. Счастье и горе послужили для Гёте одинаковым источником вдохновения. И действительно, мы видим, что, расставшись с Фридерикой и желая заглушить в душе тяжелые чувства, он усердно занялся, работой, написал много произведений, в том числе «Геца», который произволе сильное впечатление и сразу поставил автора во главе тогдашнего течения, известного в истории литературы под именем «бури и натиска». Тогда же он набросал план «Прометея» и «Фауста», обессмертившего его имя. Чтобы забыть образ любимой девушки, он углубился в изучение древности, что также отразилось на его произведениях.
Словом, перед нами яркий пример благодатного влияния женщины, остающегося благодатным даже и тогда, когда отношения к ней служат только причиной страданий.
То же мы видим и на примере несчастной любви Гёте к Шарлотте Буфф (или, как он ее просто называл, Лотте), без которой не было бы одного из знаменитейших произведений Гёте — «Вертера». Он встретился с ней в то время, когда она была невестой другого человека, некоего Кестнера, встретил и тотчас же полюбил, потому что её 19 лет вместе с нежной красотой и веселым характером не могли не приковать к себе поэта, сердце которого было всегда открыто для молодости и свежести. В «Вертере», который, как мы сейчас увидим, является художественною историей этой любви, живо описана сцена встречи с Лоттой, сцена, которая впоследствии была увековечена на полотне Баульбахом. «Пройдя через двор к красивому зданию и взобравшись вверх по лестнице, я отворил дверь; моим глазам представилось самое восхитительное зрелище, когда-либо виденное мною. В первой комнате шестеро детей от одиннадцати до двухлетнего возраста вертелось около красивой, среднего роста девушки, одетой в простенькое белое платье с розовыми бантами на груди и на рукавах. Она держала черный хлеб и отрезала порцию для каждого из окружавших ее малюток, сообразуясь с возрастом и аппетитом каждого, и подавала с такою приветливостью». Это была картина в духе того сентиментального времени (Гёте встретился с Лоттой 9 июня 1772 года) с его вычурностью, ходулями в сумасбродствами и, конечно, она не могла не врезаться глубоко в душу поэта, разделявшего все слабости этого времени.
Гёте и Шарлотта.
Началась грустная пора в жизни Гёте. Страстно влюбленный, сгорая желанием сойтись ближе с очаровательной дочерью советника Буффа, он в то же время сознает, что не должен разрушать чужого счастья, основанного на согласии двух душ. Оставалось одно из двух: или нарушить это счастье, или же заглушить в себе ярким пламенем вспыхнувшее чувство. Но последней путь был путем самоубийства. Жить без Лотты Гёте не мог. Может быть, если бы она была так же свободна, как Фридерика, он в конце концов отшатнулся бы от неё; но препятствие, которое он встречал в лице жениха и самой Лотты, не думавшей, по-видимому, отступать от данного ею слова, только разжигало его страсть и будило в нем мысль о необходимости покончить с собою. К именно этой поре относится особый интерес Гёте к вопросу о самоубийстве. Он сам был на волосок от смерти, как это видно из его автобиографии, в которой Гёте рассказывает, что у него была в то время большая коллекция оружия и в том числе очень красивый кинжал. Ложась спать, он клал этот кинжал у постели и перед тем, как потушить свечу, делал опыты над собою, чтобы убедиться, сумеет ли он его вонзить себе в грудь. Опыты оканчивались неудачно, потому что, дитя своего времени, Гёте в то же время носил в груди закаленное сердце реалиста, умеющего оставаться им даже в пору крайнего расцвета романтизма: Гёте не мог запустить себе в грудь кинжал даже на два дюйма.
Замечательная сторона отношений Гёте к Лотте заключалась в том, что он вовсе не скрывал от жениха своих отношений к ней и часто сам жених не только не старался удалить его от невесты, но, наоборот, всячески сближал их в твердой уверенности, что Гёте слишком честен, а Лотта слишком благородна для низменной роли любовников за спиною жениха. Выйти из этого трудного положения можно было только путем отъезда, что Гёте и сделал. Он не простился даже с своей возлюбленной и её женихом, послав им вместо этого записку с страстными излияниями, вздохами и слезами и почти тотчас же решив описать свои душевные муки. Плодом этого и явился «Вертер». Гёте почти не прибавил ни единого слова и, с другой стороны, не упустил ничего из только что пережитого — обстоятельство, которое дало Кестнеру и Лотте, успевшим к выходу книги сделаться мужем и женою, повод к серьезному недовольству. Один только посторонний элемент ввел Гёте в свой роман — самоубийство Вертера, в лице которого изобразил самого себя. Но и этот элемент в сущности не был лишним. Не говоря уже о том, что он сам, как мы видели, был близок к самоубийству и даже считал себя иногда мертвецом, на глазах Гёте разыгрался случай с такою же завязкою, как и в его отношениях к Лотте, но с трагическим концом. Дело шло о молодом в талантливом Иерузалеме, друге Лессинга, издавшем его философские статьи. Иерузалем влюбился в чужую жену и, не будучи в состоянии примирить мечту с действительностью, лишил себя жизни выстрелом из пистолета. Гёте ввел в свой роман этот момент, потому что сам переживал такие же чувства, как Иерузалем, и, покидая любимую женщину навсегда, некоторым образом совершил над собой моральное самоубийство. Так, по крайней мере, думал сам Гёте.
Через много-много лет судьбе угодно было еще раз свести поэта с Лоттой. Лотта уже была старушка, давно потерявшая мужа, а Гёте царил в Веймаре, превратившись из пылкого, подвижного молодого человека в сурового олимпийца, бесстрастно озирающего мир с высоты своего величия. Поэт принял у себя бывшую возлюбленную чинно, важно, как это он тогда делал со всеми, но с несомненным радушием. Лотта хорошо сохранилась. Отпечаток былой красоты лежал на всей её фигуре, глазах, щеках бывшей красавицы. Один только был у нее недостаток: она трясла головой. Когда Лотта ушла. Гёте не мог удержаться от восклицания:
— В ней еще многое осталось от прежней Лотты, но это трясение головой! О ее я так страстно мог любить когда-то! И из-за неё я в отчаянии бегал в костюме Вертера! Непостижимо, непонятно…
Гёте и Герок
«Вертер» навсегда останется связанным с именем Лотты точно так же, как останутся связанными с именами разных красавиц все эти перечисленные мною произведения Гёте, составляющие теперь достояние культурного мира. Можно смело сказать, что каждая трагедия, или драма, или роман, или даже каждое стихотворение великого поэта представляет собою памятник не только его творческой деятельности, но и сердечных слабостей. Чтобы не терять хронологической нити событий, остановимся прежде всего на трагедии «Клавиго». Читая это произведение, в котором описано истинное происшествие с Бомарше (писатель Клавиго отказался от женитьбы на сестре Бомарше, за что последний отомстил ему, добившись его удаления от должности), не всякий знает, что оно никогда не появилось бы на свет Божий, если бы не прекрасная Герок, одна из подруг сестры Гёте. В веселом кружке, в котором тогда вращался молодой поэт, была выдумана игра в мужья и жены, причем жены выбирались по жребию. Благодаря жребию, «женою» Гёте сделалась молоденькая Герок. Однажды, когда Гете прочитал в кружке записку Бомарше, в которой автор «Свадьбы Фигаро» описывал упомянутое событие из своей жизни, Антуанетта сказала ему:
— Если бы я была твоей повелительницей, а не женою, то попросила бы тебя сделать из этого мемуара театральную пьесу. Сюжет очень хороший.
— Можно быть повелительницею и женою в одно и то же время, — ответил Гёте, — и чтобы доказать тебе, что это так, я обещаю написать в течение недели театральную пьесу на этот сюжет и прочесть ее в обществе.
Все удивились смелости поэта, но он решил исполнить обещание. «То, что в подобной работе, — говорит Гёте, — называется изобретением, было для меня делом одной минуты. Молча сопровождал я домой мою супругу. На вопрос, почему я так молчалив, я отвечал, что думаю о пьесе и уже наполовину обдумал; я хотел ей этим показать мою готовность сделать ей приятное. В ответе на это она крепко пожала мне руку, и я поймал налету поцелуй».
— Ты не должен забывать своей роли! — воскликнула она. — Люди говорить, что супругу не идет быть нежным.
— Пусть себе люди говорят, что хотят, — отвечал Гёте, — мы будем поступать по своему.
Гёте исполнил обещание: пьеса была написана к сроку. Все знают теперь эту трагедию, но все ли знают хорошенькую Антуанетту, которой она была навеяна?
Гёте и Лили
Зато имя Лили на устах у всякого, кто читал знаменитую элегию Гёте, носящую её имя: «Парк Лили».
Этой девушке, заслуживающей особенного внимания в виду того, что она была невестой Гёте и едва не сделалась его женою, поэт посвятил много стихотворений, из которых назовем хотя бы: «Уныние», «Блаженство уныния», «На море», «Осеннее чувство», «К Лине», «К Белинде» и т. д. Немало поэтических перлов рассыпано в этих стихотворениях, но ни в одном из них Гёте не достиг той глубины чувства и своеобразной грациозности формы, которые замечаются в его «Lili’s Park». Чтобы дать понятие о них, следовало бы привести все стихотворение (оно, кстати, переведено Вейнбергом с сохранением оригинального характера подлинника — без размера, в лирическом беспорядке), но оно слишком длинно. Укажем только, что поэт изображает себя медведем, намекая этим на нелюдимость, в которой упрекали его друзья и приятели. У Лили, по его словам, зверинец с чудеснейшими зверями, т. е. ухажерами, и среди них он — медведь, неуклюжий, неповоротливый, но любящий, и она дарит его своими ласками, от которых кружится его медвежья голова… Если хотите, сравнение довольно верное.
Лили, или, вернее, Елизавета Шёнеман, с которой Гёте виделся в 1774 году, действительно не была парой живому, но задумчивому и высоко парящему поэту. Богатая, веселая, легкомысленная, жившая всегда в роскоши, окруженная светскими людьми, постоянно вращавшаяся в высшем обществе и преданная всей душой его удовольствиям, она представляла собой нечто столь противоположное великому поэту, что даже ближайшие друзья и приятели не могли и думать о возможности брака между ними. Он сам писал о себе в это время одной знакомой: «Представьте себе, если можете: Гёте в галунах, франт с головы до ног, среди блеска свеч и люстр, в шумном обществе, прикованный к карточному столу парой прекрасных глаз, рассеянно рыскающий по собраниям, концертам, балам, с легкомысленной ветреностью волочащийся за привлекательной блондинкой, — таков теперешний карнавальный Гёте!»
Гёте познакомился с Елизаветой Шёнеман в конце 1774 года в доме ее родителей во Франкфурте. Когда он входил в музыкальный зал, шестнадцатилетняя Лили сидела за роялем и играла сонату. Когда она кончила, Гёте отрекомендовался ей, и знакомство завязалось. «Мы взглянули друг на друга, — говорит он в своей автобиографии, — и, не хочу лгать, мне показалось, что я почувствовал притягательную силу самого приятного свойства». Для пылкого Гёте этой встречи было достаточно, и он тотчас же написал стихотворение, в котором излил свои чувства.
Сердце, сердце, что с тобою? Что стесняет так тебя?Лили быстро привязала к себе Гёте, этого неуклюжего медведя, каким он себя изобразил в стихотворении «Парк Лили», и он был действительно счастлив, когда она удостаивала его лаской. Вот как он описывает чувства «медведя», лежащего «у ног красоты»:
Глядит она: «Вот то чудище! Но смешной!» И с любопытством занялася мной — «Для лесного медведя слишком кроток уж, Для пуделя слишком неуклюж… Жирный какой, мохнатый, Щетинистый, узловатый!» Гладит она его ножкой по спине — Мнится ему, что он в райской стране, Заходили в нем все чувства и души, и тела, А ей до того никакого дела… Целую я ее башмачки, Жую я у них каблучки, Настолько прилично и осторожно, Насколько это медведю возможно. Тихонечко после приподнимусь И к коленям ее чуть слышно прижмусь… Когда ей самой приятна забава эта, В вольностях таких нет мне запрета. Ласково у меня за ухом чешет Или пинком дружелюбным потешит, — И я мурлыкаю, тронутый весь, умиленный, Точно в блаженстве новорожденный…[57]Кокетливой Лили нравился Гёте. В минуту увлечения она рассказала ему историю своей жизни, жаловалась на ее пустоту, говорила, что только хотела испытать свою власть над Гёте, но сама попалась в сети. Молодые люди объяснились, и дело кончилось бы, вероятно, браком, если бы не разница в общественном положении, совершенно разъединявшем семьи старого советника Гете и вдовы банкира Шёнемана. Зная педантичность отца, Корнелия, сестра Гёте, решительно выступила против этого брака. Восставали и другие. Но Гёте не слушал. Некая девица Дельф взяла на себя трудную задачу устроить дело. Однажды она сообщила влюбленным, что родители согласились, и полуповелительным голосом велела подать друг другу руки. Гёте подошел к Лили и протянул ей руку. Она медленно, но твердо подняла свою и положила в его руку, после чего оба «с глубоким вздохом» бросились друг другу в объятия. После этого состоялось обручение. Но брак все-таки расстроился, так как согласие родителей было только внешнее и под ним крылось глухое, непримиримое взаимное недовольство. К этому присоединилась еще поездка Гёте в Швейцарию, которой друзья Лили воспользовались для того, чтобы уверить ее в холодных чувствах жениха.
В конце концов пришлось преклониться пред невозможностью примирить непримиримое: молодые люди расстались. Гёте, однако, долго еще тосковал по. возлюбленной. Он простаивал ночи под ее окном, завернувшись в плащ, и возвращался довольный, когда ему случалось увидать в окнах ее тень. Однажды в одну такую ночь он услыхал, что она поет за фортепиано. Сердце его забилось. Он стал прислушиваться… да, она поет его песню, которая была им написана еще в дни любви и в которой он упрекает возлюбленную за то, что она влечет его в блестящий свет. Вдруг она умолкла, встала из-за фортепиано и стала ходить по комнате. А Гёте стоял под окном и млел, и трепетал, и томился…
Впоследствии Лили вышла за страсбургского банкира, а Гёте, уезжая в Италию, писал в своей записной книжке:
«Лили, прощай! Во второй раз, Лили! Расставаясь в первый раз, я еще надеялся соединить наши судьбы. Теперь же решено: мы должны порознь разыграть наши роли. Я не боюсь ни за себя, ни за тебя. Так все это кажется перепутанным. Прощай». А когда через несколько лет он посетил свою бывшую франкфуртскую невесту, прежние чувства его к ней совершенно умолкли, и он пишет: «Я прошел к Лили и застал прекрасную мартышку играющей с семинедельной куклой. И здесь я был принят с удивлением и радушием. Я нашел, что милое создание очень счастливо замужем. Ее муж, по-видимому, честен, неглуп и делен; он богат, имеет прекрасный дом, важный бюргерский ранг и т. п. — все, что ей нужно».
Крылатый Пегас не мог идти в одной упряжке с выездной лошадью.
Гёте и Шарлотта фон-Штейн
До сих пор мы встречались только с такими героинями сердечной жизни Гёте, которые были очень молоды. Почти все они встретились с поэтом в заветном возрасте шестнадцати лет, и любовь их вследствие этого носила характер первого неопытного лепета только начинающей пробуждаться страсти. Не то Шарлотта фон Штейн, с которой Гёте познакомился в 1775 году и полюбил до того сильно, что чувств его хватило на целых четырнадцать лет. Ей было 33 года! К тому же она была замужем за обер-шталмейстером веймарского двора и ее окружали семеро детей мал мала меньше. Правда, она была очень образованна, тактична, умна, но все-таки 33 года, муж, дети, и притом в то время, когда Гёте было всего 26 лет! Несомненно, тут должно было сыграть роль какое-нибудь исключительное обстоятельство — случайность, тоска, одиночество, беззаветное стремление забыть и забыться. Тосковал ли Гёте? Был ли он одинок в маленьком, но веселом Веймаре, где он очутился после родного Франкфурта и где новые обязанности придворного тяготили великого человека, мешая свободному полету его фантазии? Перед встречей с Шарлоттой Гёте, несомненно, считал себя несчастным. Ни одной еще удачной любви! Ни одного жизнерадостного воспоминания в прошлом! Образы Кетхен, Фридерики, Лили, Люцинды — все это постоянно носилось перед его глазами, открыто смотревшими на Божий мир, и невольно рождались грустные строки, вложенные потом в уста Фауста:
Беглец я жалкий, мне чужда отрада, Пристанище мне чуждо и покой.[58]И вот он встречает на своем жизненном пути уже немолодую, но прелестную, умную, восторженную женщину, которая прислушивается к голосу его тайных скорбей и льет на его душевные раны бальзам женского обаяния и самоотверженности. Нужно ли прибавлять, что он влюбился? Он влюбился еще до того, как познакомился с ней. Наслушавшись от одного из своих знакомых рассказов о ней, он не спал три ночи. В то же время и Шарлотта почувствовала к нему влечение по одним рассказам; Наконец они встречаются. Восторг взаимный. Она утешает его, успокаивает, дает надежды на возможность нового счастья. Для пылкого Гёте это больше, чем нужно. Он опять увлекается, опять любит, опять оживает душою и в порыве увлечения пишет знаменитую «Ифигению», в которой описывает свое чувство в неувядаемых красках — новое чувство стремления в Италию, подальше от холодной, душной Германии, стремления туда, «где цветут лимоны», где можно обрести истинное, ничем не смущаемое счастье. Ведь и Ифигения тосковала по Греции. Она так же томилась, как и Гёте, так же рвалась из Скифского царства, как он из своего бездушного отечества — Германии. Правда, Шарлотта была в Германии, а не в Италии, но она послужила для него только солнцем, которое, взойдя над грустной пустыней, осветило дорогу «dahin, wo die Zitrone bliiht».
* * *
К удивлению, приходится отметить оригинальный факт: его любовь к Шарлотте была платонической. Они обменивались страстными признаниями, писали друг другу пламенные письма во время разлуки, но никогда не заходили за черту дозволенного, хотя муж Шарлотты бывал дома всего раз в неделю. Впрочем, признать этот факт безусловно верным, как это делают немецкие биографы Гёте, нельзя, так как против него говорит весьма веское обстоятельство: когда Гёте сошелся с Христиной Вульпиус, своей будущей женой, Шарлотта воспылала гневом и, вытребовав назад свои письма, сожгла их, а с Гёте прекратила всякие отношения. О том же свидетельствует и злое, черствое, брезгливое отношение к нему со стороны возлюбленной, решившейся даже на гнусный поступок — пасквиль в форме драмы, в которой Гёте описан в самых отвратительных красках.
Как ни любила женщина, но раз грань стыдливости не нарушена, измена может вызвать в ней негодование, ярость, презрение, но не подлое желание надеть на своего возлюбленного маску душевной пустоты и безнравственности. По свидетельству Брандеса, подвергшего довольно подробному анализу драму Шарлотты фон Штейн, Гёте выставляется в ней глупейшим хвастуном, грубым циником, тщеславным до смешного, вероломным лицемером, безбожным предателем… Между тем путешественник и теперь еще может встретить в Веймаре «Гартенхауз» с надписью, сделанной в честь Шарлотты и служащей до сих пор памятником часов любви, которые Гёте провел в этом уединенном уголке. Великий поэт сам ухаживал за своим цветником, каждое утро посылая возлюбленной привет в виде цветов с пламенными записками, сам взращивал спаржу для того, чтобы она потом услаждала вкус Шарлотты. Самый сад его находился всего в двадцати минутах ходьбы от дома, в котором жила Шарлотта. Этот дом часто скрывал в себе двух любящих существ, наслаждавшихся счастьем без всякой помехи, потому что, как сказано, муж Шарлотты приезжал только раз в неделю. Невольно возникает сомнение в справедливости красноречивых разглагольствований соотечественников Гёте, в глазах которых сожительство с чужой женой компрометирует великого человека.
Гёте не навсегда расстался с Шарлоттой и в 1804 году, когда ему было 55 лет, а ей 61 год, навестил ее. Визит вышел не совсем удачным. Шарлотта подписывалась тогда на газету «Прямодушный», главная цель которой заключалась в том, чтобы подорвать уважение к Гёте. По словам Брандеса, это было злобное в своей вражде к поэту и скудоумное издание, выступившее проповедником морали и отрицателем искусства; и уже то обстоятельство, что Шарлотта читала его, служит достаточным доказательством высоты ее развития и силы ее ненависти. Гёте просидел у нее два часа, и как раз во время его визита был принесен номер газеты. Шарлотта пишет об этом сыну: «Я чувствую, что ему не по себе у меня, а наши взгляды до такой степени разошлись, что я, сама того не желая, ежеминутно заставляю его страдать. На беду мне, принесли номер „Прямодушного“. Тут и мне досталось. Он не хотел и видеть ее, и я должна была прикрыть ее чем-нибудь».
В этих словах невольно сказалась старая боль любимой, но брошенной женщины.
Жена Гёте
Но вот мы вступаем в совершенно новую полосу жизни поэта. Он возмужал. Он расстался со слабостями юной мятущейся души и начал думать о великом счастье семейной жизни среди детей. В сущности, это стремление было ему присуще, как всякому доброму немцу, еще с той поры, когда он вступил в зрелый возраст. Все эти Кетхен, Фридерики, Лили, Лотты — не что иное, как яркое доказательство его несомненной привязанности к семейной обстановке. Можно сказать без преувеличения, что они стояли только верстами на столбовой дороге к его будущей жене Христине Вульпиус…
Судьба, однако, сыграла злую шутку с Гёте. Его жена была простой женщиной, все достоинства которой заключались в неистощимом здоровье и мещанской красоте. Гёте сошелся с ней случайно, и можно быть уверенным, что в то время, когда он сорвал с нее венец целомудрия, у него даже и отдаленной мысли не было о женитьбе. Познакомился он с ней в июле 1778 года. Гёте прогуливался в любимом парке в Веймаре. Вдруг подошла к нему молодая красивая девушка и, сделав несколько реверансов, подала прошение. Гёте был тогда министром, и Христина Вульпиус — это была она — просила предоставить место ее брату[59]. Увидев простушку, которая так и дышала здоровьем и веселостью, Гёте тотчас же загорелся страстью. Просьба, конечно, была исполнена, и вместе с этим проложена дорога к сердцу красотки. Христина долго не упорствовала, и между ней и веймарским министром в несколько дней установились отношения, которых Гёте не достиг после долгих ухаживаний за прежними красавицами. В скором времени у нее родился сын, и она окончательно переехала в дом Гёте, где, за неимением возможности быть его подругой по идеям, которых она не понимала, сделалась «хозяйкой» в доме. Так продолжалось много лет, и в один прекрасный день Гёте сделал ее своей женой.
Можно себе представить, какой шум вызвала в Веймаре весть о том, что Гёте женился на Христине Вульпиус. Это был беспримерный скандал. Величайший поэт Германии и какая-то грубая, простая женщина, не поколебавшаяся стать его любовницей после первого намека, не устыдившаяся даже переехать к нему в дом, чтобы торжественно засвидетельствовать свой позор перед лицом всего света, женщина, страдавшая к тому же одним из отвратительнейших пороков, постыдных даже для мужчин, — пьянством! Этот порок был ею унаследован от отца, который был горьким пьяницей и пьянством довел всю семью до нищеты. Он иногда пропивал даже свое платье. Что он не заботился о детях, понятно само собой. Когда они подросли, им пришлось оставить отца и самим заняться изысканием средств к существованию: сын занимался литературой, дочери делали искусственные цветы, вышивали и т. п. Этот брат, заметим между прочим, также унаследовал порок от отца и умер от пьянства.
С годами страсть к вину все более и более захватывала Христину, и это наложило грустную печать на семейную жизнь великого олимпийца. Для того ли прошел он мимо очаровательной Кетхен, поэтической Фридерики, мимо увлекательной Лотты, воздушной Лили, мимо, наконец, неземного создания, которое он встретил в Милане после того, как расстался с Лили, и на которой едва не женился, чтобы очутиться в объятиях неотесанной Вульпиус, от которой несло еще вдобавок вином, как от открытой сорокаведерной бочки? Гоняясь за призраком семейного счастья по столбовой дороге неукротимой страсти, он мог, конечно, завернуть для отдыха в какой-нибудь постоялый двор продажной любви, чтобы, проведя там бурную ночь, наутро опять пуститься в путь, звеня колокольчиком на дуге своего доброго Пегаса; но остаться в корчме навсегда, среди зловонных паров сивухи и кабацких ругательств дебелой деревенской Дульсинеи, — нет, для этого нужно было какое-то особенное издевательство рока, хохотавшего именно над тем, что менее всего было достойно смеха.
Биографы Гёте постарались внести мягкий свет в отношения великого поэта с женой. Они стали рыться в документах и, конечно, нашли «доказательство» того, что Христина вовсе не была грубой, простой бабой, как ее рисовали, что хотя ей и была чужда способность делить мысли и высокие стремления поэта, но зато она обладала быстрым, живым умом, живым характером, любящим сердцем, большой способностью к домашним обязанностям, была всегда весела, всегда обходительна, любила до чрезмерности удовольствия и, как свидетельствуют вдохновленные ею произведения, была дорога не столько уму, сколько сердцу поэта[60].
Христина Гёте, урожденная Вульпиус, супруга великого поэта.
Но мне кажется более верным остроумное выражение Шерра, который, говоря о последних любовных восторгах Гёте к Шарлотте Штейн, называет Христину Вульпиус «прекрасно сформированным фактом», восторжествовавшим над устаревшей и поблекшей идеей — Шарлоттой[61]. Последнего, впрочем, не отрицают и биографы Гёте, которые, преклоняясь перед величием поэта, не могут допустить и мысли, чтобы он делил столько лет семейной жизни с существом низшего порядка: не отрицая некоторого образования за Христиной, они особенно подчеркивают то обстоятельство, что у нее были золотисто-каштановые волосы, веселые глаза, розовые щеки, губы, вызывающие на поцелуй, грациозно округленный стан, что она была наивна, весела и что Гёте нашел в ней одно из тех вольных, здоровых детей природы, которых не обезобразило искусственное воспитание.
Большой поклонник «вечно женственного», Гёте, может быть, более всего ценил в женщине именно ее чисто женские качества, отдавая им предпочтение перед умом, характером и другими атрибутами чисто мужского свойства. Иначе чем объяснить то, что даже через десять лет после знакомства с Христиной Гёте пишет письмо, в котором, как страстный любовник, не успевший еще отпить сколько-нибудь от чаши наслаждения, сожалеет, что не взял с собой в дорогу ничего из ее вещей, хотя бы туфли, которые несколько рассеяли бы его одиночество? Благодаря той же слабости к вечно женственному, он ей именно, этой простушке Вульпиус, часто прикладывавшейся к рюмочке, посвятил лучшие из своих лирических произведений — «Римские элегии», стоящие совершенно одиноко в истории европейской литературы по глубине чувства, широте мысли и благородной простоте выражения. Одно не мешало другому. Ум парил высоко, а сердце требовало земных ласк, требовало простой семейной обстановки, теплого обеда, теплого угла и смазливой хозяйки. Недаром он писал:
Oftmals hab' ich auch schon in ihren Armen gedichtet Und des Hexameters Mass leise mit fingernder Hand Ihr auf dent Rucken gezahlt…[62]Говорят также, что Гёте женился на Христине из благодарности. Когда войска Наполеона заняли Веймар, в его дом ворвались несколько солдат и во время разгрома едва не убили его. Гёте спасся только благодаря мужеству и находчивости Христины, пустившей в ход свои здоровенные кулаки, перед которыми не могли устоять воины даже великого императора. Чтобы показать ей, как он ценит ее самоотверженный поступок, он и сделал ее женой после пятнадцатилетней жизни вне брака, сделал вопреки голосу веймарского общества, которое сторонилось ее и избегало, как чумы.
* * *
Но не лучше ли объяснить его поступок указанным выше стремлением к прочной семейной жизни, хотя бы самого буржуазного свойства? Не забудем, что возвышенность полета никогда не мешала гению быть в жизни обыкновенным человеком со всеми его слабыми сторонами. Ведь и готические соборы, как бы уходящие своими верхушками в лазурные небеса, построены на фундаментах из простого булыжника…
Гете и Беттина
Женитьба не спасла Гёте от сетей Амура. Он продолжал любить и быть любимым, и на его «закат печальный», говоря словами Пушкина, любовь не раз еще блестела «улыбкою прощальной». Одной из этих улыбок была Беттина. Странная женщина, впоследствии жена писателя Арнима, не знавшая удержу своим необыкновенным фантазиям, она, по выражению Льюиса, была скорее демоном, чем женщиной, но не без проблесков гениальности, придающих блеск бессмысленной чепухе, и решительно ускользает от всякой критики. «Как скоро, — говорит он, — вы станете судить о ней серьезно, вам в ответ пожмут плечами и скажут: „Ведь это Брентано“, полагая, что этой фразой все сказано. В Германии даже сложилась пословица: „Где кончается безумие других, там начинается безумие Брентано“».
Эта-то особа, юная, пылкая, взбалмошная, причудливая, влюбилась в поэта, еще не видя его, и начала засыпать его письмами с выражением пламенных восторгов. Затем она приезжает вдруг в Веймар, бросается поэту в объятия и, как она сама рассказывает, при первом же свидании засыпает у него на груди. После этого она преследует его любовью, клятвами, ревностью, несмотря на то что предмету ее страсти было уже пятьдесят восемь лет.
И Гёте опять ожил. Благодаря отвратительной страсти Христины к вину семейная жизнь его была далека от счастливого идеала. Бывали сцены, горькие упреки; но желание поэта поставить жену на высоту семейной добропорядочности наталкивалось всегда на черствое упорство простолюдинки, у которой было много преданности мужу, но мало осмысленного отношения к жизни. Появление Беттины не могло не показаться поэту теплой струей в холоде домашней обстановки, и он невольно поддался ее очарованию. К сожалению, и здесь поэта ждало разочарование: сумасбродные выходки Беттины не давали покоя маститому поэту. Ее изъявления любви были так бурны, настойчивы, дики, что должны были переполнить чашу и из источника радости превратиться в источник отчаяния. Гёте не воспользовался ее невинностью в первые дни увлечения, когда не встретил бы с ее стороны ничего, кроме доброго согласия, и немало благословлял за это судьбу впоследствии, когда она сделалась ему в тягость. Он уставал. Ее бурная страсть нарушала гармонию духа, которую он воспитал в себе годами труда и размышления. Разрыв был неизбежен.
И он произошел. Приехав вторично в Веймар, Беттина пошла с Христиной на художественную выставку и там сумасбродными выходками вывела жену поэта из терпения. Между женщинами началась ссора с грубыми ругательствами. Гёте вступился за жену и отказал Беттине от дома. Она не хотела подчиниться печальной необходимости и делала все возможное, чтобы удержать расположение Гёте, но успеха не имела. Когда она в третий раз приехала в Веймар, он не принял ее, несмотря на все ее мольбы. Роман кончился очень грубой развязкой.
Запоздалые страсти
Мы пройдем мимо целого ряда любовных похождений, озаривших последние годы Гёте, в том числе его любви к знаменитой веймарской актрисе Короне Шрётер, красота которой спорила с ее талантом и с которой, как говорили злые языки, Гёте находился в связи. Великий поэт остался великим женолюбцем до самой могилы, чему особенно способствовала смерть его жены, скончавшейся после продолжительных и тяжких эпилептических страданий в 1816 году. Даже тогда, когда ему уже было шестьдесят лет, на его жизненном пути появилась молодая, свежая, горячо любящая Минна Герцлиб, приемная дочь книгопродавца Фромана, девушка, полюбившая старика-поэта всем пылом начинающейся молодой жизни и внушившая ему целый ряд сонетов и роман «Сродство душ», в котором, как и во всех произведениях подобного рода, описаны его чувства к возлюбленной. Сам Гёте говорит о своем произведении: «В этом романе высказалось сердце, болящее глубокой, страшной раной и в то же время боящееся выздоровления, заживления этой раны. Тут, как в погребальной урне, я схоронил с глубоким волнением многое грустное, многое пережитое. 3 октября 1809 года я совсем сдал роман с рук, но не мог при этом совершенно освободиться от чувств, его породивших». Страсть Минны и Гёте внушала большое опасение друзьям девушки и поэта, и они поспешили предупредить серьезные последствия, отправив девушку в пансион, что действительно оказалось спасительным средством.
Но этим не кончились сердечные тревоги Гёте. Через пять лет, то есть когда поэту было шестьдесят пять лет, он встретился с очаровательной женой банкира Виллемера, Марианной, и оба тотчас же полюбили друг друга до того сильно, что, читая теперь, через много лет, стихотворные излияния Гёте и такие же ответы его возлюбленной, совершенно забываешь огромную разницу в летах обоих возлюбленных. Так и кажется, что перед нами два совершенно юных существа, в прошлом которых не записано еще ни одной страсти и которые спешат насладиться новооткрывшимся для них счастьем возможно сильнее и полнее. Вот некоторые из стихотворений Марианны, посланных Гёте во время разлуки (они приведены Брандесом в статье о Марианне Виллемер) и ярко свидетельствующих о ее страсти:
Doch dem mildes, sanftes Wehen, Kuhlt die wunden Augenlieder, Ach, fur Lcid musst ich vergehen Hofft ich nicht, wir sehn's uns wieder.[63]Марианна писала ему под особым шифром, который был известен только Гёте. Поэт отвечал ей таким же образом, что, конечно, весьма важно для оценки отношений между возлюбленными. Одно из стихотворений, посланных Марианной престарелому предмету своего сердца в шифрованной форме, дышит необычайной страстью.
Dich zu eroffnen Mein Herz verlangt mich. Kraft hab ich keine, Als ihn zu lieben So recht im Stillen, Was soll das werden? Will ihn umarmen Und kann es nicht.[64]Судьбе угодно было, чтобы влюбленные больше не увиделись, но они до самой смерти поэта, т. е. в течение 17 лет, находились в переписке. За месяц до своей смерти Гёте отослал ей ее письма и, конечно, ее стихотворение «К (анидному ветру», в котором, между прочим, жена банкира Виллемера восклицала:
Sag ihm, aber sag's bescheiden, Seine Liebe sei mein Leben.[65]Отсылая своей возлюбленной ее стихотворения и письма, Гёте, конечно, хотел скрыть от современников и потомства любовь молодой женщины, не имевшей на нее права в силу обета, который она дала мужу у алтаря церкви; но Гёте был слишком велик, чтобы тайна его сердца осталась действительной тайной, и западный ветер, к которому Марианна обращалась с просьбой тихонько рассказать поэту о ее любви, разболтал эту тайну на весь цивилизованный мир. Невольно вспоминается строфа из прекрасного стихотворения одного из современных наших поэтов — Фофанова:
И цветы, опьяненные росами. Рассказали ветрам песни нежные, И распели их ветры мятежные Над водой, над землей, над утесами…Последняя любовь
Современники Гёте, которым была известна его сердечная слабость, знали, что он и в могилу сойдет с песней любви на устах. И действительно, уже будучи семидесяти пяти лет от роду, он, как юноша, влюбился в восемнадцатилетнюю Ульрику Левецов. Это была замечательная во многих отношениях любовь. Ничего нет удивительного, если старик влюбляется в молодую девушку; неудивительно также, если молодая девушка решается выйти за старика, прельщенная блестящей перспективой или поставленная в невозможность поступить иначе. Но странно, почти невероятно, если юное существо, почти ребенок, влюбляется в преклонного старика, у которого нет самого существенного элемента всякой любви — будущего. Между тем Ульрика полюбила старика Гёте, и притом искренней, пылкой любовью, не иссякшей в ее душе до самой смерти.
Эта любовь замечательна еще. потому, что она почти до последних дней девятнадцатого столетия сохранила живую намять о величайшем поэте всех времен и народов. Почти легендой дышат подробности, проникавшие иногда в печать из уединенного замка в Богемии, приютившего в своих стенах, последний предмет любви Гёте. Ульрика умерла в 1898 году, донеся до могилы воспоминание о гениальном человеке, который едва не сделался ее мужем.
Что думала она в эти грустные годы старости (она умерла 96 лет от роду), мысленно уходя назад к далеким, почти сказочным временам, когда орел германской поэзии остановил на ней свои большие глаза, готовясь унести ее на старых, но все еще сильных крыльях в бездонное голубое небо? Она ни за кого не вышла замуж, потому что разве можно было найти человека, который был бы в состоянии занять в ее сердце место, принадлежавшее когда-то Гёте? Он был стар, но она помнила, что он был все еще крепок, корпус его был строен и прям, по лбу не протянулось ни одной морщины, на голове не было и признака плеши, а глаза сверкали ослепительным блеском красоты и силы. Ульрика помнила, что у них уже все было условлено, что недоставало только формального акта — женитьбы, но пришли друзья и приятели и восстали против этого «неестественного» брака, который в глазах общества мог бы показаться смешным.
Неестественный? Смешной? Но почему ее юное сердце так страстно пламенело тогда, охваченное негой и блаженством? Почему проходила она мимо сотен здоровых и крепких молодых людей, суливших ей много лет взаимного счастья, и остановила внимание на нем, только на нем, с его орлиными, никогда не потухавшими глазами, с его светлой седой головой?
Гёте стоило много усилий, чтобы преодолеть свою любовь и покинуть Ульрику. Об этом свидетельствуют его удивительные элегии, посвященные Ульрике. Ему это было тем более трудно, что великий герцог веймарский Карл-Август, его друг и покровитель, уже имел, неведомо для Гёте, разговор с матерью Ульрики, обещая подарить ее дочери дом и первое место в веймарском обществе, если она выйдет за Гёте. Мать после этого говорила с дочерью, которая, конечно, тотчас дала полное согласие. Брак, однако, расстроился, потому что с точки зрения пошлых взглядов брак между семидесятипятилетним стариком и восемнадцатилетней девушкой был бы неестественным браком. Люди тогда не понимали, что не семидесятипятилетний старик хотел сделать Ульрику своей женой. Это был Гёте, великий германский олимпиец, который, как и боги древнего Олимпа, никогда не старился, никогда не дряхлел, потому что сам был богом…
Теперь, через много лет после смерти Гёте, невольно становишься в тупик перед необычайным явлением, которое представлял собой Гёте. Почему его так любили женщины? Он был умен, но ум не всегда аргумент для женского сердца; он был красив, но красота также не всегда притягательная сила. Мне кажется, лучше всего понял это Генрих Гейне, когда, вспоминая свою встречу с ним, писал: «В Гёте мы находим во всей полноте то соответствие внешности и духа, которое замечается во всех необыкновенных людях. Его внешний вид был так же значителен, как и слова его творений; образ его был исполнен гармонии, ясен, благороден, и на нем можно было изучать греческое искусство, как на античной модели. Этот гордый стан никогда не сгибался в христианском смирении червя; эти глаза не взирали грешно-боязливо, набожно или с елейным умилением: они были спокойны, как у какого-то божества. Твердый и смелый взгляд вообще — признак богов. Гёте оставался таким же божественным в глубокой старости, каким он был в юности. Время покрыло снегом его голову, но не могло согнуть ее. Он носил ее все так же гордо и высоко, и когда говорил, он словно рос, а когда простирал руку, то казалось, будто он может указывать звездам их пути на небе. Высказывали замечание, будто рот его выражал эгоистические наклонности; но и эта черта присуща вечным богам, и именно отцу богов — великому Юпитеру, с которым я уже сравнивал Гёте. В самом деле, когда я был у него в Веймаре, то, стоя перед ним, невольно посматривал в сторону, нет ли около него орла с молниями. Чуть-чуть я не заговорил с ним по-гречески, но, заметив, что он понимает немецкий язык, я рассказал ему по-немецки, что сливы на дороге от Йенн к Веймару очень вкусны. В длинные зимние ночи я так часто передумывал, сколько возвышенного и глубокого передам я Гёте, когда его увижу. И когда, наконец, я его увидел, то сказал ему, что саксонские сливы очень вкусны. И Гёте улыбался. Он улыбался теми самыми устами, которыми некогда лобызал Леду, Европу, Данаю, Семелу… Фридерика, Лили, Лотта, Ульрика — разве это не были те же Семела, Европа, Леда, Даная?»
Гёте и Анжелика Каталани
Не хотелось бы расстаться с Гёте, не приведя анекдота, который обошел всю германскую печать во время недавнего празднования 150-летней годовщины со дня рождения поэта. Знаменитая итальянская певица Анжелика Каталани, гремевшая в начале текущего столетия по всей Европе благодаря удивительной колоратуре и силе голоса, не имела ни малейшего понятия о литературе. Однажды ей пришлось сидеть на обеде при веймарском дворе рядом с Гёте. Она не прочла ни единой строки из его произведений и даже не знала, кто такой Гёте, но величественная наружность его и то уважение, с которым относились к нему за столом, невольно обратили ее внимание, и она спросила соседа по другую руку, кто это сидит с ней рядом.
— Сударыня, — ответил ей сосед, — это знаменитый Гёте.
— Скажите, пожалуйста, на каком инструменте он играет?
— Он не музыкант, сударыня, а автор «Страданий Вертера».
— Ах, да, да, — отвечала Каталани, — вспоминаю!
И она обратилась к Гёте:
— Вы не можете себе представить, какая я поклонница Вертера.
Гёте слегка поклонился в знак благодарности.
— Никогда еще в жизни, — продолжала веселая певица, — ни одно произведение не заставляло меня так искренне смеяться. Это — великолепный фарс.
— Виноват, — сказал удивленный поэт, — «Страдания Вертера» — фарс?
— Говорю же вам, что никогда еще не смеялась так искренне, как тогда. Теперь еще мне хочется смеяться, когда вспомню.
Дело выяснилось. Оказалось, что Каталани видела на сцене одного парижского театра пародию на роман «Страдания Вертера», в которой сентиментальность гётевских героев была выставлена в смешном свете. Гёте был очень огорчен и весь вечер не мог избавиться от дурного впечатления. Поистине от великого до смешного только один шаг.
* * *
Шиллер
В истории литературы Гёте и Шиллер[66] навсегда останутся близнецами. Они жили в одно время, увлекались одними идеалами и стояли на одной высоте творческого полета. Правда, деятельность того и другого представляла противоположные полюсы германского духа того времени, но в этом именно и обнаружилось единство обоих поэтов. Как у древнего Януса, у литературы разрозненной Германии конца прошлого и начала нынешнего столетий были два лица: одно суровое и строгое, с широко открытыми глазами, уходящими в глубь земных вещей, другое — светлое и возвышенное, с отуманенным влагой взором, устремленным в бесконечное небо…
В одном только расходились Гёте и Шиллер: счастье их было неодинаковое. В то время как Гёте, этот баловень судьбы, пользовался всеми благами жизни, довольный и счастливый, не зная тревог, не имея даже смутного понятия о том, что такое борьба за существование, Шиллер вел жизнь жалкого горемыки, нуждался, трепетал за завтрашний день, принужден был покинуть родину, где ему пришлось вести тяжелую жизнь неудачника, а когда, наконец, после долгих трудов и лишений, он поднялся на бесконечную высоту творческого гения, ему предложили в награду профессуру без жалованья! Поэт-идеалист имел полное право воскликнуть в своем стихотворении «Счастье»:
Блажен, кто богами еще до рожденья любимый, На сладостном лоне Киприды взлелеян младенцем, Кто очи от Феба, от Гермеса дар убеждения принял, А силы печать на чело от руки громовержца! Великий божественный жребий счастлив постигнул; Еще до начала сраженья победой увенчан, Любимец Хариты пленяет, труда не приемля. Великим да будет, кто собственной силы созданье, Душою превыше и тайные Парки и рока; Но счастье и граций улыбка не силе подвластны.[67]Тяжела и мелочна была обстановка, в которой родился Шиллер. Тяжело и мелочно было время, в которое ему пришлось впитать в себя первые впечатления бытия. Была грозная пора просвещенного абсолютизма, охватившего тогда всю Европу, не исключая даже такие ничтожные государства, как Вюртембергское герцогство, во главе которого находился развращенный деспот с ног до головы — Карл-Евгений. Гнет был неслыханный. Благородные люди за одно неосторожное слово бросались в тюрьмы, где Оставались долгие годы, не зная даже, в чем они провинились. Люди целыми партиями продавались в Америку, при дворе царили блеск и роскошь.
Мог ли правильно развиться при таких условиях благородный поэтический цветок, случайно упавший на эту каменистую почву? Между тем Шиллеру нужно было развиваться, под непосредственным влиянием герцога. Он находился в близких отношениях к герцогу, должен был переносить тяжесть его ума, деспотической ферулы, должен был унижаться, льстить, он, который вечно грезил о благородстве душ, о возвышенном строе жизни, о братстве, равенстве, свободе как чистых идеях, низведенных, однако, до реальной жизни.
Это было великое несчастье не для одного Шиллера: оно было несчастьем для всемирной литературы, у которой насильно отрывали одного из первенцев, собиравшегося унестись и унести за собой весь мир в безмятежные пространства идеала.
Нужно ли говорить, что такой поэт-несчастливец не мог быть особенно счастлив и в отношениях с женщинами? Какая противоположность в этом отношении Гёте! Великий олимпиец, германской письменности не знал, что у розы существуют шипы. Между ним и предметом его страсти никогда не возникало преград, кроме его собственной совести, приказывавшей часто останавливаться именно там, где остановка более всего соответствовала требованию долга и добропорядочности. Как Цезарь, Гёте мог относительно каждой красавицы, встречавшейся ему на пути, сказать: «Пришел, увидел, победил».
Куда мог «приходить» злосчастный Шиллер, этот человек без родины, на которой он не испытал ничего, кроме жестокой борьбы и гонений? Кого мог он «видеть» в своем мрачном углу, где нужда свила себе теплое гнездо со всеми ее прелестями — болезнями, тоской, отчаянием? И кого, наконец, мог «побеждать» этот рыцарь идеала, вечно беседовавший со своей томной музой, у которой были бледные глаза и бескровные щеки? Недаром грустной иронией и тайной завистью веет от немногих строк его «Идеалов», в которых поэт явно намекает на Гёте:
И быстро жизни колесница Стезею младости текла; Ее воздушная станица Веселых призраков влекла: Любовь с прелестными дарами, С алмазным счастия ключом, И слава с звездными венцами, И с ярким истины лучом.[68]Лаура и Минна
Несмотря, однако, на суровую обстановку, поэт, обладавший тонкими нервами и впечатлительной душой, не мог не чувствовать инстинктивного влечения к тому, что вечно прекрасно. В его душе невольно пробуждались смутные чувства. Он грезил. И в его воображении против его воли возникали дивные образы, проходили длинные вереницы красавиц с божественными формами и наивными лицами. Они носились веселым вихрем перед его умственным взором, они пели ему райские песни о блаженных садах, где нет ни забот, ни нужды, ни горя, где вечной зеленью оделись деревья и по тенистым аллеям блуждают счастливые парочки, невидимые для света с его черствой моралью и засушенными взглядами на жизнь.
К этой именно поре в жизни Шиллера и относятся все удивительные стихотворения его, посвященные Лауре. Кто была эта Лаура? Долго бились биографы над поиском таинственной красавицы, которой цивилизованное человечество обязано невянущими цветами поэзии, и наконец пришли к заключению, что это была Лаура Петрарки, та именно Лаура, которая живет и до сих пор в памятнике, изваянном ей из великолепных сонетов флорентийским поэтом! Ей именно посвящал Шиллер свои юные восторги, с ней, жившей до него за несколько сот лет, делил он грустные часы своего одиночества, в часы безмолвной полночи или в бледные сумерки чуть брезжущего утра.
В то время, когда Шиллер писал этот удивительный цикл стихотворений, посвященных Лауре, он жил в меблированной комнате у некой Луизы-Доротеи Вишер, смазливой блондинки, вдовы одного капитана. Вишер любила кокетничать со своими жильцами и впоследствии едва не бежала с одним молодым студентом в Вену. Очень может быть, что к образу этой женщины устремлялся взор Шиллера, когда сердце его особенно настойчиво начинало требовать женских ласк; но что она не была первообразом Лауры, считается несомненным. В ней, этой фантастической Лауре, можно сказать, слиты черты двух великих возлюбленных, благодаря которым мировая литература обогатилась чудными перлами поэзии, — Лауры и Беатриче. Вот, например, часть одного из стихотворений, посвященных Лауре («Фантазия Лауре»):
Милая Лаура, назови ту силу, Что так тело к телу трепетно влечет! Назови, Лаура, то очарованье, Что насильно сердце сердцу отдает! То она вкруг солнца учит обращаться Стройные планеты вечной чередой, И вокруг владыки звезды те кружатся, Словно ребятишки вкруг своей родной. И впивает жадно каждая планета Золотистый дождик солнечных лучей, Пьет огонь и силу из сосуда света, Как из мозга члены жизненный елей. Солнечную искру с солнечною искрой Сочетал любовно мировой закон… Не любовь ли движет сферы мировые? Не на ней ли остов мира утвержден?[69]Не напоминают ли эти строфы заключительный аккорд «Божественной комедии»? У великого итальянского поэта любовь «движет солнце и звезды», у великого немецкого поэта, пылавшего идеальной страстью к его возлюбленной, любовь также движет сферы мировые.[70] Ясно, что чувство, выраженное в этом стихотворении, только рефлективное. Подобно тому, как нищий, воображая себя в минуты голода за празднично убранным столом, действительно чувствует удовольствие от богатых яств и напитков, нарисованных его расстроенным воображением, — страдавший от житейского голода Шиллер так же переживал мысленно пламенную страсть, волновавшую когда-то родственных ему по гению поэтов, так же радовался их радостями, страдал их горем и так же отливал в звонкие стихи свои выдуманные, но не реализованные чувства…
Такою же точно фантастичностью отличается удивительная женская головка, обрисованная им в других стихотворениях, посвященных Минне. Одно время думали, что под Минной поэт разумел некую Вильгельмину Андрею; но мысль эта была оставлена. Между тем стихотворения, навеянные выдуманным образом, так и дышат правдой. В них чувствуется биение настоящей жизни, и воображение невольно рисует контуры прекрасной, но грешной женщины, когда юный, неопытный, ничего еще не видевший, но все уже предчувствовавший своим поэтическим откровением поэт шепчет в порыве искреннего негодования:
Странно мне, непостижимо, Минна ль милая идет? Как, она проходит мимо И меня не узнает! С свитой франтов выступает И тщеславия полна, Гордо веером играет… Нет, да это не она, С летней шляпки перья веют — Подаренный мой наряд. Эти ленты, что алеют, — «Минна, стыдно!» — говорят. И цветы на ней. Не я ли Эти вырастил цветы? Прежде чем они завяли, Изменила, Минна, ты.[71]Бедный поэт! Он, у которого не было почти хлеба, который дни и ночи проводил в тяжком труде, рисовал себя в положении страстно влюбленного юноши, подносящего цветы легкомысленной, но любимой девушке!
Франциска фон Гогенгейм
Была, впрочем, реальная женщина, которая оказала некоторое влияние на Шиллера, если не прямо, то косвенно. Это — графиня Франциска фон Гогенгейм, метресса вюртембергского герцога Карла. Она была не столько красива, сколько грациозна и мила. Происходя из бедной дворянской фамилии, она вышла за горбатого, но богатого барона Лойтрума, которому, кроме горба, суждено было носить еще рога. Герцог увидел Франциску, когда ей было 22 года, и тотчас пленился ее красотой. Чтобы иметь графиню поближе к себе, он дал ее мужу место при дворе, причем обязанности барона заключались в том, что он должен был ехать впереди герцога в то время, когда герцог отправлялся в свой увеселительный дворец в Людвигсбурге вместе с его женой. Барон важно расхаживал по дворцовым комнатам, не понимая язвительных насмешек и намеков окружавших лиц, которым хорошо было известно, что герцог теперь в объятиях Франциски. Если присутствие горбатого барона мешало, какой-нибудь придворный сообщал ему великую новость, что в столице появился удивительный зверь — горбатый верблюд, у которого выросли вдруг рога. Барон в конце концов понял и безропотно сошел со сцены, предоставив жене полную свободу действий.
Франциска оказалась прелестной женщиной. Она отучила герцога от его диких деспотических инстинктов, совершенно естественных в то время просвещенного абсолютизма, заставила его полюбить домашнюю жизнь, отрешиться от беспрерывной жажды наслаждений и в конце концов, после смерти герцогини, вступить с нею в брак.
Шиллер был в военной академии, которую герцог с Франциской часто посещали, последняя была еще метрессой. Тем не менее на семнадцатилетнего юношу она произвела сильное впечатление. Оборотная сторона ее отношений для него не существовала: он был слишком юн, чтобы усмотреть в ней противоречие с незыблемыми правилами обихода. Франциска была для него только женщиной, то есть носительницей благородных начал, которыми фантазия его одарила всех представительниц прекрасного пола. К тому же она была знатная женщина, находившаяся у всех на виду и творившая добро везде, где только можно было. Вполне поэтому понятно, что Шиллер поспешил наделить ее всеми похвальными чертами женщины, созданной его воображением, и ее, любовницу герцога, в стихах, поднесенных ей в день рождения, называл воплощением всех добродетелей!.. «Она, — восклицает поэт, обращаясь к Франциске, — утешает нуждающихся, одевает обнаженных, утоляет жаждущих, питает голодных. Печальные делаются веселыми при одном взгляде на нее, и смерть убегает перед ней боязливо с ложа больного».
Это не было увлечением, минутной вспышкой. Шиллер сохранил память о Франциске именно такой, какой она казалась ему в молодые годы, о чем свидетельствует его «Коварство и любовь», в которой Франциска выведена под именем леди Мильфорд. Шиллер был влюблен в Франциску, как и все воспитанники академии, влюблен без цели и смысла, сам не сознавая своих чувств, подобно подсолнечнику, который невольно тянется к солнцу, не зная и не будучи в состоянии знать, что влечет его туда неведомая сила…
Шарлотта В
Франциска ничем не обнаружила своего внимания к поэту, и восторженное стихотворение его, вероятно, она положила в один ящик с прочими произведениями воспитанников академии, не раз посвящавших ей свои излияния в поэтической форме. Не то нужно сказать о шестнадцатилетней Вольцоген, дочери вдовы Генриетты Вольцоген, с которой Шиллер находился в близких дружеских отношениях.
У Генриетты была одна дочь и четверо сыновей. Последние все воспитывались в академии. Хотя она не была особенно образованна и не знала большого толка в литературе, тем не менее первое крупное произведение Шиллера, «Разбойники», произвело на нее сильное впечатление, и она с удовольствием приветствовала друга своих сыновей. Когда герцог Карл запретил Шиллеру заниматься литературой и даже посадил его под арест, поэт, для которого литература уже тогда была все, бежал, и одним из мест, где он укрывался первое время от преследований деспотичного герцога, было имение Генриетты Вольцоген в Бауэрбахе. Тут-то он и сблизился с ее дочерью.
От матери не укрылась любовь поэта, и она постаралась положить ей конец с самого начала, так как положение Шиллера не могло быть залогом счастья ее дочери. К тому же, укрывая у себя бежавшего поэта, она боялась дурных последствий для ее сыновей, на которых злопамятный герцог мог выместить свой гнев. По ее требованию Шиллер должен был покинуть Бауэрбах. Это была большая ошибка, которая стоила поэту немалых огорчений и, может быть, сильно отразилась бы на дальнейшей его жизни и творческой деятельности, если бы г-жа Вольцоген не поняла вскоре своего бессердечного поступка по отношению к другу и не вернула его назад.
Во время этого второго пребывания в Бауэрбахе Шиллер окончательно влюбился в Шарлотту. К несчастью, в бедности и неопределенности положения поэта соединилась неудача на первых порах серьезных влечений сердца: Шарлотта осталась совершенно равнодушной к пылкому поэту, так как чувства ее принадлежали ученику академии, с которым она познакомилась в Штутгарте. С другой стороны, и в г-же Вольцоген пробудилась прежняя боязнь насчет ее дочери, и она опять предложила Шиллеру уехать. Скрепя сердце поэт уехал в Мангейм. С каким чувством удалялся он из тихого уголка, служившего ему в одно и то же время убежищем и раем, в котором он, как Адам, впервые увидел женщину! Свою грусть он излил год спустя в письме к матери своей возлюбленной. «Тихие радости семейной жизни, — писал он, — придали бы бодрости моим занятиям, очистили бы мою душу от диких привычек. О, если бы я нашел девушку, которая была бы дорога моему сердцу, или если бы я мог назваться вашим сыном! Богата ваша Лотта не будет, но счастлива». Шиллер понимал неосуществимость своего сватовства и тут же прибавил: «Мне страшно за мою безумную надежду, но я надеюсь, моя дорогая, что вы простите мне мой глупый каприз».
Мать, конечно, была настолько тактична, что приняла излияния Шиллера за «каприз», чем дело и кончилось. Впоследствии, может быть, она пожалела об этом, так как дочь ее, о счастье которой она так заботилась, удаляя от нее поэта, не была счастлива: ее роман с воспитанником академии кончился ничем, а замужество с советником Лилиенштейном стоило ей жизни, так как она умерла от первых родов.
Шарлотта К
Много лет прошло после несчастной первой любви Шиллера. Поэт успел стать на ноги. Он обрел новое отечество, друзей, славу. Его поэтическая натура и вера в идеал сохранили в нем прежнюю чистоту мысли и веру в человечество. Шиллер уже был тогда автором «Дон Карлоса». Тут-то ему пришлось встретиться с замечательной девушкой, оставившей глубокий след на всей жизни и литературной деятельности великого поэта.
Шарлотта Маршальк фон Остгейм, по мужу Кальб, прожила бурную молодость. Правильного воспитания она не получила, но недостаток этот искупался природным умом и богатым воображением. Как рассказывает Шерр, она еще до конфирмации успела познакомиться с сочинениями самого разнообразного содержания: Библия, Коран, Вольтер, Руссо, Шекспир, Клопшток, Виланд служили ей «безбрежным чтением» — выражение, которое впоследствии применил к ней ее любимец Жан Поль Рихтер. Если прибавить к этому тяжелые впечатления, вынесенные юной Шарлоттой из семейной жизни, ее несчастный брак с нелюбимым человеком, то нетрудно представить себе эту женщину, которая боролась между напряженным героизмом и жаждой любви, между огнем и холодом и которую еще через двенадцать лет Жан Поль называл «женщиной с всемогущим сердцем, титанидой», послужившей ему образцом для создания Линды в «Титане».
В молодые годы Шарлотта если и не была красавицей, то обладала тем качеством, которое в наше время называют пикантностью. Еще в 1796 году Жан Поль писал о ней: «У нее два великих достоинства: большие глаза, каких я никогда не видал, и великая душа. Она так же хорошо говорит, как хорошо пишет Гердер в своих письмах о гуманизме. Она полна даже лицом, и если поднимет свои почти постоянно опущенные глаза, то это походит на то, как луна то выглянет из облаков, то снова спрячется в них».
Шиллер жил тогда в Мангейме. Там же он и сошелся с Шарлоттой, приехавшей туда с мужем. «Титанида», конечно, не могла не обратить на себя внимания страстного поэта, чувствительность которого не была притуплена постоянным общением с женщинами. С другой стороны, и сама Шарлотта не могла не поддаться влиянию поэтической личности Шиллера, о котором до конца своей жизни сохранила самое светлое воспоминание. «В цвете лет, — писала она впоследствии, — все существо Шиллера отличалось богатым разнообразием; его глаза блистали юношеским мужеством; гордая осанка, глубокая мысль, смелое и неожиданное суждение — все поражало в нем. Он слушал меня с вниманием и сочувствовал моим идеям. Несколько времени оставался он у меня, потом взял шляпу и сказал: „Мне пора в театр“. После уж я узнала, что в этот вечер шла его пьеса „Коварство и любовь“ и он просил актеров не упоминать имени „Кальб“ (одно из действующих лиц в этой пьесе). Вскоре он возвратился веселый; радость сверкала в его глазах. Не стесняясь, говорил он откровенно, с чувством, с сознанием, мысль следовала за мыслью, речь его лилась свободно, как речь пророка. В продолжение разговора он увлекался, и это увлечение отличалось какой-то женственностью: его взор горел страстью. В то время эта жизнь только что расцветала, теперь же она мертва». Словом, между поэтом и «титанидой» началась близость чувств, которая ведет к любви и страсти.
К несчастью, а может быть и к счастью, в душе Шиллера в это время произошла страшная путаница. Долго скрываемая и заглушаемая потребность любить и быть любимым прорвалась неожиданно при первой же вспышке серьезного чувства, как прорывается и затопляет берега река при неожиданном удалении плотины. У Шиллера вдруг оказалось несколько предметов сердца, из которых заслуживают внимания актриса, исполнявшая роль Амалии в «Разбойниках», и Маргарита Шван, образованная красивая девушка, любившая искусство и литературу. Особенно последняя произвела на него сильное впечатление, до того сильное, что он даже решил на ней жениться. Но жениться ему хотелось также и на Шарлотте. Словом, получилось нечто невыразимо сложное, запутанное, которое, как гордиев узел, можно было разрубить, но не распутать. И вот для того, чтобы разрубить узел своей душевной неурядицы, Шиллер уехал из Мангейма в Лейпциг. Но перед отъездом между отчаявшимся поэтом и Шарлоттой Кальб произошла удивительная сцена, характерная столько же для самих героев, сколько для всей эпохи «Бури и натиска».
— Мое сердце, — воскликнул Шиллер, прощаясь с Шарлоттой, — зажглось от вашего чистого пламени, вы одушевили и успокоили меня. Родство наших душ указывает на высшую гармонию; я знаю только одно, что мы живем во цвете юности, которая служит объяснением наших пламенных сердец. Но я верю, что ты не погасишь этого пламени. С самых ранних лет моя мысль покрылась мрачным покровом, моя душа познала страдание, но Я услышал тебя, твоя мысль отвечала моей. Наши души, как огонь и поток, слились воедино. Я полюбил тебя и был бы всегда твоим, если бы у меня достаю мужества для этой любви. Но пускай мое сердце не знает этой страсти, которая меня восхищает и страшит.
Шарлотта ответила:
— С тех пор, как я узнала вас, я начала требовать от жизни больше, чем прежде. Никогда прошедшее не представлялось мне таким ничтожным. Вы хотите разорвать наш союз? Но знайте, что вас послала мне судьба, и мне больно расстаться с теми светлыми минутами, которыми она дарила нас. О, если б вы были свободны от земных забот и не так стремились к славе, разрушающей весь душевный мир! Мне тяжела разлука, но вы знакомы с уединением, с божественным покоем. Надежда! Вера! Мы чувствуем оба, что, кто называет душу своей, тот не разлучается никогда… Вы мне говорите «ты», и я отвечаю вам «ты»! Правде незнакомо слово «вы». Счастливые знают только «ты», и пускай это «ты» будет печатью нашего вечного союза!
Сцена была томительная, и можно себе представить, облегченным сердцем уехал Шиллер из Мангейма. По приезде в Лейпциг он тотчас написал отцу Маргариты Шван письмо, и котором просил руки его дочери. Увы, неудача ждала поэта и здесь! Старик Шван считал положение поэта слишком неопределенным, чтобы согласиться на брак Шиллера с его дочерью, и послал ему отказ. Так Шиллер и остался между двумя берегами, отчалив от одного и не пристав к другому.
Впоследствии, поселившись в Веймаре — средоточии тогдашней умственной аристократии Германии, Шиллер снова увиделся с Шарлоттой, и между ними завязались прежние добрые отношения. В первом же письме оттуда к Кернеру поэт писал: «Шарлотта — великая, оригинальная душа, целая наука для меня, способная вдохновить более возвышенный ум, чем мой. С каждым днем я нахожу в ней новые достоинства, которые, как прекрасные виды громадного ландшафта, поражают и восторгают меня… По-видимому, здесь немало толков обо мне и Шарлотте. Мы решились не скрывать наших отношений, и нас стараются не стеснять, когда мы желаем быть одни. Виланд и Гердер уважают Шарлотту».
Уже из этого письма видно, что сближение в Веймаре состоялось полное, но оно еще более обнаруживается из следующего письма, в котором поэт открыто признается в совершившемся факте: «О моих отношениях к Шарлотте начинают громко поговаривать, но во всех этих разговорах нет и тени оскорбления для нас, даже сама герцогиня Амалия была настолько любезна, что пригласила нас обоих к себе. Причину этого приглашения объяснил мне Виланд. Здесь на подобные связи смотрят снисходительно, и сама герцогиня не прочь им покровительствовать. Г-н Кальб (муж Шарлотты) писал мне, что приедет в конце сентября; дружба его ко мне не изменилась, несмотря на то что он любит свою жену и знает про наши отношения. Но его самолюбие может пострадать от вмешательства посторонних людей в это дело и услужливого наушничества».
При таких условиях самое лучшее было подумать о разводе Шарлотты. Влюбленные и начали говорить об этом, но дело ограничилось только разговорами, что отразилось неблагоприятно на отношениях между ними. По крайней мере, Шиллер вскоре написал другу, что чувствует охлаждение к Шарлотте, а через некоторое время отношения между влюбленными действительно начали принимать оборот, естественным последствием которого является полный разрыв. Шарлотта в своих записках объясняет это именно тем, что она не развелась с мужем, но причина была другая или, вернее, были две причины: во-первых, эксцентричная Шарлотта могла быть любовницей Шиллера, но не женой, а во-вторых, у поэта в это время начиналась новая связь, более прочная и разумная, связь, основанная на истинной гармонии душ и кончившаяся браком. Эта связь до того сильно овладела поэтом, что он не скрыл ее даже от самой Шарлотты, чем, конечно, еще более ухудшил отношения. Во всяком случае разрыв произошел не полный, потому что бывшие влюбленные поддерживали друг с другом переписку, беспрерывно обмениваясь уверениями в вечной дружбе. Как женщина Шарлотта перестала существовать для Шиллера и не воскресла даже тогда, когда умер ее муж, что устранило последнее препятствие. Шиллер в то время был слишком занят мыслью о создании своего семейного благополучия, основанного на порядке и спокойствии, чтобы вернуться в храм страсти, где не могло быть благополучия, потому что не могло быть спокойствия.
Шарлотта кончила жизнь очень печально: она лишилась всего состояния и к тому же ослепла. Тем не менее до последних дней она продолжала быть «титанидой». Уже в глубокой старости она производила неотразимое впечатление своими черными глазами, величественной фигурой и пророческой речью. Таково было время. Она умерла в 1843 году восьмидесяти лет от роду, до могилы сохранив воспоминания о своем прошлом, в котором было так много бурь и так мало истинного счастья.
Мария-Генриетта
Перед тем, однако, как вступить в мирную пристань семейной жизни, Шиллеру предстояло еще пройти тяжелый нравственный искус в виде добровольного отречения от любимой девушки, на пути к которой стояло неодолимое препятствие в виде упорной матери.
Дело происходило зимой 1786 года. Увидев в знакомом доме вдову саксонского офицера г-жу Арним с двумя дочерьми, Шиллер тотчас почувствовал влечение к старшей из них, Марии-Генриетте, девушке, бросавшейся всем в глаза своей красотой и изяществом манер. Шиллер познакомился с ней и даже получил доступ в ее дом, но встретил в лице матери таинственного сфинкса, поведение которого тщетно старался разгадать.
Г-жа Арним была очень любезна с поэтом и даже сближала его с дочерью, но в то же время не только не подавала ему надежд на руку дочери, но всеми силами производила давление на дочь, стараясь предупредить в ней малейшую искру привязанности к поэту. Впоследствии дело выяснилось: г-жа Арним не считала Шиллера подходящим для ее дочери мужем, но на любовь его, знаменитого в то время поэта, смотрела как на фактор, который может поднять престиж девушки в глазах общества. Это был чисто деловой маневр, которого благородный поэт не хотел понять, но последствиям которого принужден был покориться. Он питал еще надежду умилостивить практичную женщину, тратил и время, и деньги, которые в его положении имели тройную цену, и наконец, по совету друзей, уехал, чтобы разлукой с любимой девушкой заглушить свои наболевшие чувства. Шарлотта Кальб, из водоворота влияния которой он не успел еще тогда высвободиться, явилась ему невольной помощницей. Впрочем, поэт вскоре забыл свою мимолетную страсть, да и саму Шарлотту, чтобы с открытой душою пойти навстречу другой девушке, с которой он был знаком давно, но прелесть которой сделалась ему понятной только после долгих и бесплодных поисков истинной женской любви и истинного счастья.
Жена Шиллера Шарлотта
Еще на примере Гёте мы видели, что возвышенность мысли часто идет об руку с простой буржуазной обстановкой. Что общего имела Христина Вульпиус с творческой деятельностью величайшего из мировых поэтов? И тем не менее ни одна страсть Гёте не отличалась такой устойчивостью и продолжительностью, как страсть его к простушке, умевшей готовить хорошие обеды, держать в порядке его письменный стол, а при случае пустить в ход здоровые кулаки, чтобы спасти жизнь своему поэтическому, но не мускулистому мужу. То же отчасти, хотя и в слабой форме, произошло и с Шиллером. Несмотря на свой крайний идеализм, он в глубине души был рассудительным человеком и трезво смотрел на брак. «В союзе, заключенном на. всю жизнь, — писал он Кернеру в 1787 году, — не должна существовать страсть; если жена моя женщина необыкновенная, то она не даст мне счастья или я не узнаю самого себя. Мне нужно существо послушное, которое я мог бы сделать счастливым и которое освежило бы и обновило мою жизнь». Такой именно женой и могла сделаться Шарлотта фон Ленгефельд.
Познакомился с ней Шиллер еще в 1784 году, когда она вместе со старшей сестрой, Каролиной, и матерью приехала в Мангейм. Первая встреча была до того кратковременна, что не могла оставить никаких следов в душах обоих молодых людей. Полное знакомство завязалось только через три года, когда поэт приехал к семье Ленгефельд вместе с товарищем, Вольцогеном, к которому была неравнодушна старшая сестра Каролина и за которого вышла впоследствии замуж. Прекрасное, образованное и нравственное семейство произвело большое впечатление на Шиллера, и он тотчас же решил, что Шарлотта будет его женой. «Мне, — писал он Кернеру, — необходим медиум, посредством которого я бы мог наслаждаться другими радостями. Дружба, истина и красота еще сильнее подействуют на меня, когда семейная спокойная жизнь осчастливит меня и согреет. До сих пор я скитался по свету, чуждый всем; все, к кому я был привязан, имели существа; более меня для них дорогие, а этим я не могу удовлетвориться — я жажду спокойной семейной жизни».
Как отнеслась к Шиллеру Шарлотта? Есть полное основание думать, что он не произвел на нее большого впечатления, так как она в то время находилась еще под впечатлением несчастной любви к одному молодому человеку, за которого выйти замуж ей нельзя было вследствие неблагоприятных условий. Это была тихая, милая девушка, вполне, вероятно, походившая на портрет, нарисованный впоследствии ее старшей сестрой: «У нее была прелестная фигура и приятное лицо. Душевная доброта оживляла ее черты, а в глазах светились правда и невинность. Натура ее, восприимчивая ко всему прекрасному и благородному как в жизни, так и в искусстве, дышала гармонией. Она умела отлично рисовать И глубоко понимала природу. При более счастливых условиях она могла бы развить свой талант; свои возвышенные чувства она изливала в стихотворениях, из которых одно, написанное под влиянием нежной страсти, не лишено грации».
Шиллер не навязывался девушке, в которой не мог не заметить некоторой меланхолии по поводу невозвратного прошлого, но все-таки встречался с ней в доме общей знакомой, а это повело к тому, что между молодыми людьми завязалась дружба.
Опасна дружба между цветущим юношей и переживающей свою первую весну девушкой. Когда Шарлотте пришлось уехать из Веймара, она дала ему альбом, чтобы он вписал в него стихи, и просила приехать к ним летом в Рудольштадт. А через некоторое время, отвечая на письмо своего нового друга, она писала ему простые, но трогательные слова: «Надежда видеть вас облегчает мне разлуку; приезжайте скорее, будьте здоровы и думайте обо мне. Я бы желала, чтобы это случалось чаще».
Нечего говорить, что Шиллер исполнил свое обещание и приехал в Рудольштадт, где и поселился недалеко от дома любимой девушки. Сколько светлых минут пережил в эти дни горемыка Шиллер, для которого наконец открывалась первая пристань любви после долгих томительных блужданий по взбаламученному морю страсти или напрасной погони за призраком счастья! Он виделся с сестрами обыкновенно по вечерам, когда вместе с живительной прохладой в душу прокрадывалось невольное сознание того, что жизнь создана для тишины и спокойствия, как и этот Рудольштадт с его горами, речкой и деревьями. «Когда мы, — рассказывает Каролина, — видели его, приближавшегося к нам, освещенного вечерней зарей, перед нами раскрывалась как бы светлая идеальная жизнь. Разговор Шиллера был серьезен, полон ума, в нем отражалась вся его открытая, чистая душа; слушая его, казалось, что ходишь между небесными звездами и земными цветами. Мы воображали себя счастливыми существами, отрешившимися от всех земных уз и в свободной эфирной стихии наслаждающимися полнейшим блаженством».
Шиллер читал вместе с сестрами греческих поэтов, и Каролина об этом пишет: «Шиллер читал нам вечером „Одиссею“, и нам казалось, что около нас журчал новый жизненный источник». Сестры просили его перевести любимые места на немецкий язык, и Шиллер исполнил их просьбу, начав с Еврипида, родственного ему по поэтической восторженности. Следствием этого явилась его «Ифигения в Авлиде». В доме же сестер Ленгефельд Шиллер впервые познакомился с Гёте, что считается одним из крупных исторических моментов в истории литературы. Словом, время, проведенное по соседству с будущей женой, было для Шиллера лучшими днями в жизни.
К сожалению, была минута, когда казалось, что судьба, преследовавшая Шиллера в течение всей жизни, совершит свое разрушительное дело и здесь: поэт влюбился в старшую сестру — Каролину. Каролина во многих отношениях превосходила Лотту. Обладая пылким темпераментом, она одной стороной характера приближалась к «титаниде» — Шарлотте Кальб, которую напоминала гениальностью натуры и страстью к беспрерывной лихорадочной деятельности. Любовь поэта вообще все время носила двойственный характер, так как Шиллер не отделял одной сестры от другой, выражая им обеим свои чувства в одинаковой форме. Вот, например, его письмо от 10 сентября 1789 года: «О, моя дорогая Каролина! Моя дорогая Лотта! Все изменилось вокруг меня с тех пор, как образ ваш сопровождает каждый шаг моей жизни. Как ореол, сияет ваша любовь надо мной. Каким чудным благоуханием наполнила она для меня всю природу! Никогда еще мысль моя не была так смела и свободна, как теперь, потому что моя душа приобрела сокровище и я не опасаюсь утратить его. Я теперь знаю, где мне отыскать верный путь… Душа моя занята будущностью: наша жизнь началась, я пишу и чувствую, что вы со мной в комнате; ты, Каролина, сидишь за фортепиано, Лотта работает подле тебя, а в зеркале, висящем напротив меня, я вижу вас обеих. Я кладу перо, чтобы увериться по биению вашего сердца, что вы подле меня и ничто не может разлучить нас. Я просыпаюсь с сознанием, что вы здесь, и засыпаю с сознанием, что увижу вас завтра. За блаженством Последует надежда на новое блаженство, за надеждой — осуществление, и таким образом промчится наша золотая жизнь».
Удивительно, что Лотта не ревновала, до того были чисты отношения сестер к Шиллеру, и если ее что-либо мучило, то это мысль, что Каролина была бы лучше для него. Шиллер писал ей по этому поводу: «Если ты боишься, что перестанешь быть для меня тем, что ты теперь, то это равносильно тому, если бы ты перестала меня любить. Твоя любовь составляет для меня все. Величайшее счастье нашей любви заключается в ней самой; поэтому я для вас никогда не утрачу значения, как не утратите вы его в моих глазах. В нашей любви нет ни боязни, ни недоверия; я радовался, живя между вами обеими, я верил, что моя привязанность к одной не уменьшит ко мне привязанности другой. Моей душе светло и покойно между вами; ее, полную любви, привлекает один и тот же луч, одна и та же звезда. Каролина мне ближе но возрасту и родственна мне по чувствам и мыслям, но я ни в коем случае не желал бы, чтобы ты была другой. Чем Каролина превосходит тебя, тем я вознагражу тебя; твоя душа развернется под влиянием моей любви, и ты сделаешься моим созданием!» Ко всему этому нужно только прибавить, что дело кончилось благополучно не столько благодаря Шиллеру, сколько благодаря Каролине, которая сама уступила после борьбы сестре, отказавшись от надежд на любимого идеалиста и выйдя замуж за нелюбимого человека. Она понимала, что сестра ее будет лучшей женой для Шиллера, натура которого требовала тихой созерцательности и меланхолии, и принесла себя в жертву.
Наконец между молодыми людьми произошло объяснение. Каролина рассказывает об этом: «Объяснение последовало в момент желания облегчить сердце, навеянного каким-то добрым гением. Моя сестра призналась ему в любви и обещала ему руку. Мы надеялись, что добрая мать, спокойствие которой было для нас свято, будет не против этого предложения, хотя внешняя обстановка и возбудит в ней раздумье. Но, чтобы не вводить ее в бесполезные заботы, мы решили держать дело в тайне до тех пор, пока Шиллеру не будет назначено хотя бы маленькое содержание, которым бы он мог упрочить свою жизнь в Йене». Для полного уразумения этих слов надо принять во внимание, что мать была против брака Лотты с Шиллером, у которого не было никаких средств к существованию, так как за свою профессуру в университете он не получал ничего. Счастье улыбнулось поэту: ему назначили жалованье в… 200 талеров. Это была ничтожная сумма, но она все-таки представляла нечто, и бездомный поэт, скитавшийся долгие годы на чужбине, мог наконец обзавестись собственным углом. 20 февраля 1790 года Шиллер обвенчался с Лоттой.
Для великого поэта кончилась пора тревог и скитаний. Шарлотта вся отдалась мужу. Шиллер всегда чувствовал потребность иметь около себя человека, который сколько-нибудь был бы чуток к его идеям, и таким именно человеком оказалась его жена. Она подслушивала его малейшие желания и водворила в его душе то спокойствие и равновесие, которые были так необходимы для будущей великой поры поэтического расцвета. Когда он заболел грудью — болезнь эта, как известно, свела его в могилу, — она не отходила от него ни на шаг, стараясь поддерживать в нем душевную бодрость, а когда он умер, отдалась всем существом воспитанию детей. Она умерла в 1826 году, через 21 год после смерти мужа, в объятиях любимых детей, благословляемая родиной, которая ей, ее благодетельному влиянию приписала большую часть произведений, созданных великим поэтом.
Генрих Гейне
Если кому-либо из величайших поэтов мира можно было перед смертью воскликнуть словами Фамусова: «Моя судьба ли не плачевна!» — то это, конечно, Генриху Гейне[72]. И в самом деле, что может быть печальнее участи человека, который был пламенным патриотом и прослыл отщепенцем, ненавидящим свое отечество; который был мыслью прикован к родному краю, а телом к далекой чужбине; который был евреем, несмотря на то что он не любил еврейства; мечтал о женщинах, исполненных ума, энергии, чувства, а жил с гризеткой, подобранной на одном из парижских бульваров, никогда не читавшей его произведений и считавшей своим идеалом жизнь одалиски, лишенной труда, забот и дум о будущем?
Вообще вся жизнь Гейне сложилась из противоречий. Писатель, владевший немецким языком как никто после Гёте, вырос в среде, в которой говорили только по-французски, во французской части Рейнской области, и последние двадцать пять лет своей жизни принужден был провести во Франции. Издеваясь над романтизмом, он был сам наполовину романтиком. Он всей душой тяготел к мирной жизни под мирными небесами и вел бурное существование в постоянной борьбе со своими политическими и литературными врагами, находясь в самом очаге европейских тревог — в Париже. Певец униженных и оскорбленных, мечтая о счастливом времени, когда люди будут сидеть за одним столом всеобщего довольства, когда не будет ни плачущего горя, ни равнодушной тоски, ни продажного патриотизма, он всю жизнь сам горевал, сам томился безысходной тоской, заглушая душевные пытки раскатами язвительного смеха, в котором, однако, ясно чувствовались невидимые миру слезы. Наконец, когда он умер, о несчастном поэте никто почти не вспомнил в Германии, еще недавно наполненной шумом его имени, а за печальной колесницей его шли несколько человек, из которых половина состояла из газетных репортеров, обязанных по долгу службы присутствовать на похоронах всяких вообще знаменитых людей.
Противоречие это, как мы сейчас увидим, проходило красной нитью также и по семейной жизни поэта: Гейне провел много лет с женщиной, которая не только уступала ему по широте умственного кругозора (на примере Шиллера и Гёте мы видели, что в этом нет ничего необыкновенного), но вовсе не имела его, никогда не читала гейневских произведений и так-таки до конца дней своих не могла понять, за что считают ее мужа великим человеком. Даже мать и сестра не составляли исключения; поэт, который в своих язвительных стихах не щадил никого, не исключая лучших друзей и подруг, и во всем находил удобную тему для язвительной насмешки, подходил к матери или сестре с чувством глубокого уважения, с детской боязнью, с братской нежностью, с. любовью, граничившей с обожанием.
Мать Гейне — Бетти
Что Бетти Гейне, мать великого поэта, имела благодетельное влияние на поэта — факт слишком известный, чтобы о нем нужно было распространяться. Она принадлежала к славному созвездию матерей, имена которых отмечены историей как светочи на жизненном пути вскормленных ими великих людей. Получив превосходное воспитание, владея в совершенстве французским и английским языками, она с самого начала явилась превосходной руководительницей сына, который ей именно обязан ранним развитием и любовью к литературе. Свободная от предрассудков, она и сыну внушила свободолюбивый образ мыслей, и это было ей тем более легко, что она сама была на первых порах его учительницей.
Гейне был живой ребенок, и ей стоило немало труда держать его в пределах, устанавливаемых добрыми нравами или приличием. Известен анекдот из детских лет Гейне. Мать поэта учила своих детей, что, будучи в гостях, никогда не следует съедать всего, подаваемого в тарелках, а непременно нужно что-нибудь оставить. Это что-нибудь носило даже особое название: «приличие». Точно так же она следила за тем, чтобы дети ее не набрасывались в гостях на сахар, подаваемый к кофе, и чтобы и тут они оставляли кое-что, т. е. опять «приличие». Однажды мать со всей семьей пила за городом кофе. Когда все вышли из сада, семилетний брат Гейне, Максимилиан, заметил, что в чашке остался большой кусок сахара. Думая, что его никто не видит, он быстро вынул его и положил в рот. Но Генрих видел и в сильнейшем страхе бросился к матери со словами: «Мама, подумай, Макс съел приличие!» Макс был наказан и потом уже никогда не лакомился «приличием».
Мать Гейне была очень музыкальна и учила сына игре на скрипке. Но Генрих не особенно любил это искусство, тем более что учителем его оказался человек далеко не добросовестный, чаще забавлявший ученика своей игрой вместо того, чтобы заставлять его самого играть. Зато правильно шло учение поэта, на которое мать обращала особое внимание. Еще совсем молоденькой девушкой она должна была читать отцу латинские диссертации, причем приводила иногда его в недоумение своими вопросами. Немудрено, что, сделавшись матерью, она все внимание обратила на развитие умственных способностей детей. Она же заметила в нем любовь к поэзии и всячески старалась разжечь в его душе божественную искру. Оттого-то впоследствии, уже будучи великим поэтом, Гейне так часто возвращался в минуты вдохновения к милому образу матери, посвящая ему лучшие минуты своих душевных восторгов и в нем отыскивая опору для примирения с невзгодами неустойчивого страдальческого существования. Какой, например, грустью и радостью в одно и то же время веет от удивительной его поэмы «Германия. Зимняя сказка», в которой поэт описывает восторг матери при возвращении сына с чужбины, — грустью по поводу печальной жизни и радостью по поводу встречи с родиной, одним своим присутствием способной разогнать эту грусть.
Мы из Гарбурга в Гамбург доехали в час; Был уж вечер; приветливо-ярко Улыбались мне звезды, и было тогда Мне не холодно, но и не жарко. И когда я приехал к мамаше, она Испугалась, как только взглянула На меня, и вскричала: «Дитя мое! Ах!» И в восторге руками всплеснула. «О, дитя мое, ты ли? Тринадцать ведь лет Прожила я в разлуке с тобою! Уж наверно ты голоден? Хочется есть? Говори откровенно со мною! У меня есть и рыба, и жареный гусь, И прекрасные есть апельсины». «Дай и рыбу, и гуся, мама, Хороши ли твои апельсины?» И когда я с большим аппетитом всё ел, Мать была весела и счастлива, Предлагала вопрос за вопросом — и все Они были весьма щекотливы: «О, дитя мое милое, кто о тебе На чужой-то сторонке радеет? Хорошо ли хозяйство идет у жены? Чай, заштопать чулок не умеет!» «Хороша твоя рыба, мама́, но ее Нужно кушать весьма осторожно: Ты теперь не должна мне мешать, а не то — Подавиться ведь очень возможно». А когда я всю рыбу поел, принесен Был мне жареный гусь с черносливом; А мама между тем обратилась ко мне Вновь с вопросом весьма щекотливым: «Ну, дитя мое милое, где тебе, здесь Иль в Париже, жилося привольней? Как, по твоему мнению, которым, скажи, Ты остался пародом довольней?» «Вот немецкие гуси, мама́, хороши, А французы — те их начиняют Несравненно искуснее нас и к тому же — Что за соусы к ним сочиняют!» Я откланялся гусю и отдал тогда Своего уважения дань я Апельсинам — и сладки как были они! Превзошли все мои ожиданья. Но мама́ мне опять предложила вопрос — И совсем уж, совсем уж напрасно, Потому что теперь о подобных вещах Говорить чрезвычайно опасно: «Ну, дитя мое милое, каковы Нынче стали твои убежденья? Ты политику, видно, не бросил! Скажи, С кем теперь твои сходятся мненья?» «Апельсины, мама́, хороши, но у них Семена отвратительно горьки. Сладкий сок я сосу, но привыкнул всегда Я к сторонке откладывать корки».[73]Сестра Шарлотта
Другим существом, внесшим свет и радость в скорбную душу поэта, была сестра его Шарлотта Гейне. Это была верная подруга его молодости. С ней он делился первыми впечатлениями, ей вверял свои тайны и читал стихотворные опыты — первый лепет будущего великого художника слова. Как любил ее поэт еще ребенком, видно из следующего случая. Однажды рано утром, когда все еще спали, Генрих и Шарлотта играли в рифмы. Шарлотте эта игра была не по плечу, и она ему сказала: «На рифмы ты мастер, но я очень туга. Устроим лучше башню». Сказано — сделано. Собраны были ящики и нагромождены один на другой. Башня уже была вышиной в десять футов, но дети продолжали работу. Вдруг Шарлотта упала в верхний ящик, разорвав себе при этом платье. Не будучи в состоянии выкарабкаться, так как ящик был выше ее, она стала в нем возиться и едва не поплатилась жизнью, так как башня наклонилась и вот-вот грозила упасть. Генрих поднял отчаянный крик. Сбежались люди и не сразу могли понять, в чем дело. Вдруг из ящика раздается знакомый голосок: «Не бойся, я еще жива, но платье разорвала!» Когда бедняжку вынули из ящика, Гейне бросился ей на шею и долго не мог прийти в себя от радости.
Поэтические наклонности Гейне пробудились еще тогда, когда ему было десять лет, и этим он исключительно обязан сестре. Она воспитывалась в одном монастыре, то есть ходила туда учиться. Школой заведовали монахини, но в ней преподавали лучшие учителя города (дело происходило в Дюссельдорфе). Однажды учитель Б. рассказал своим ученицам историю, которую они должны были изложить своими словами дома. Долго билась девочка, но не могла вспомнить содержание рассказа.
— Что случилось? — спросил ее брат, увидев сестру со слезами на глазах.
Сестра рассказала.
— Успокойся, — ответил Генрих. — Вспомни только, о чем шла речь, а уж остальное предоставь мне.
Через час он принес сестре тетрадь. Счастливая Шарлотта тотчас положила ее в свою корзинку, даже не взглянув на исписанные страницы, и на следующий день торжественно понесла в школу. Через несколько дней, когда учитель вернулся с тетрадями учениц, Шарлотта сияла от радости, уверенная, что ее похвалят. Но учитель не только не похвалил, но строго спросил:
— Кто это писал?
— Я! — без запинки ответила Лотта.
— Никаких выговоров или упреков я не сделаю, скажи только, кто писал, — продолжал учитель.
Волей-неволей пришлось назвать автора. При этой сцене присутствовали два других учителя, и Б. прочитал им работу. Это была необыкновенная история с привидениями, написанная такими мрачными красками, что девочка, услыхав, каково ее «сочинение», начала плакать от страха. Ее примеру последовали другие ученицы. Учитель Б. посетил после этого мать Гейне и поздравил ее с талантливым сыном, который так легко написал превосходную вещь. Позвали мальчика, но он остался равнодушен к похвалам, считая свою работу простым делом. Учитель хотел оставить у себя рукопись, но ему дали копию. Эта рукопись тщательно сохранялась матерью и сестрой Гейне, но сгорела во время пожара. Мать потом со слезами на глазах рассказывала об этом случае, говоря, что ей не жаль бриллиантов, жемчуга, старинных кружев, серебра и других драгоценностей, погибших в огне, но жаль рукописи сына.
Слава Гейне бросала свет также и на его сестру. Однажды, после появления «Путевых картин» (в 1826 г.), Шарлотта предприняла путешествие по Германии, и дочь ее с гордостью рассказывает, как везде и повсюду ей приходилось слышать разговоры о книге Гейне. У Шарлотты было рекомендательное письмо к министру финансов К. во Франкфурте-на-Майне, который принял ее с большим почетом и представил семье Ротшильда в качестве «сестры Гейне». Одних этих двух слов было достаточно, чтобы Шарлотту встречали везде радушно. Она сразу же сделалась душой общества. В ее честь был даже дан большой обед, причем гостям ее представили опять-таки в качестве «сестры Гейне» без упоминания ее настоящего имени. На следующий день собралось большое общество у Ротшильда. Шарлотта несколько опоздала, так как ее задержали в другом месте, и когда она явилась, слуги поспешно бросились к ней навстречу, один снял мантилью, другой — капот, а третий, не спрашивая ее имени, широко раскрыл дверь в зал и громовым голосом произнес: «Сестра Гейне!»
Дружный взрыв хохота был ответом на эти слова. Можно себе представить неловкое положение Ротшильда. Шарлотта нашлась: она начала смеяться вместе с гостями, и все сошло как нельзя лучше.
Впоследствии, когда Гейне медленно умирал на своей постели в Париже, Шарлотта не раз услаждала своим присутствием горькие минуты его восьмилетней агонии.
Маленькая Вероника
Таковы были отношения Гейне к матери и сестре, отношения, находившиеся, как сказано, в полном противоречии с его язвительным умом, для которого, казалось, не было ничего, что нельзя было бы осмеять и отвергнуть. Такое же противоречие бросается в глаза и при обзоре его сердечных влечений, начавшихся, как у всех вообще поэтов, еще в раннем возрасте. Так, уже первая любовь, о которой он до последних дней сохранил самое светлое воспоминание, внесла только горе в сердце поэта, всегда открытое для радостей жизни. Кто была «маленькая Вероника», о которой Гейне с такой нежностью вспоминает в своих произведениях, осталось тайной до сих пор. Известно только, что она, не расцветши, отцвела в утре пасмурных дней. Он увековечил ее память в «Путевых картинах» и других сочинениях. «Вы вряд ли сумеете себе представить, — писал он, — как красиво выглядела маленькая Вероника в маленьком гробу. Стоявшие кругом зажженные свечи бросали мерцание на бледное улыбавшееся личико, на розы из красного шелка и шумевшую золотую мишуру, которыми были убраны головка и белый маленький саван. Благочестивая Урсула повела меня вечером в тихую комнату, и когда я увидел на столе маленький труп со свечами и цветами, мне сначала показалось, что это красивый образ из воска; но я сейчас же узнал милое личико и со смехом сказал: „Почему маленькая Вероника так тиха?“, а Урсула ответила: „Такой делает смерть…“ Как только благочестивая Урсула сказала: „Такой делает смерть“, я начал ходить взад и вперед один с серьезным лицом по большой картинной галерее. Картины мне уже не нравились так, как раньше. Мне казалось, что они как будто побледнели».
Смерть любимой девушки произвела глубокое впечатление на поэта, только вступавшего в юношеский возраст. Когда появилась его книга «Le Grand» (1827 г.), уже десять лет протекло со дня печального события, а душа его все еще окутывалась меланхолическим настроением при воспоминании о «маленькой Веронике», и напрасно старался он заглушить эту «зубную боль в сердце» суровой иронией над самим собой. «Горе, как червь, грызло мое сердце, — писал он позднее. — Я принес это горе с собой на свет Божий. Оно лежало вместе со мною в колыбели, и когда мать меня качала, она качала также и его, и когда она меня убаюкивала, оно засыпало вместе со мной и просыпалось, как только я открывал глаза. Когда я подрос, подросло также и горе и сделалось, наконец, совсем большим и разорвало мое… Но будем говорить о других вещах, о венчальном венке, маскарадах, о веселье и свадебных радостях — тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля».
Уже стоя одной ногой в могиле, Гейне не раз вспоминал поэтический образ девушки, явившейся перед его очарованными глазами на заре юности, когда страсти еще спали, но сердце уже начинало требовать любви и ласки. Так, по словам Каролины Жобер, подруги Гейне, издавшей впоследствии свои воспоминания, великий поэт сказал ей однажды: «Когда мы взошли на гору, ребенок играл цветком, который держал в руках. Это была ветка резеды. Вдруг она поднесла его к губам и передала мне. Когда я через год приехал на каникулы, маленькая Вероника была уже мертва. И с тех пор, несмотря на все колебания моего сердца, воспоминание о ней во мне живо. Почему? Как? Не странно ли это, не таинственно ли? Вспоминая по временам об этом происшествии, я испытываю горькое чувство, как при воспоминании о большом несчастье».
С тех пор резеда часто стала занимать место в произведениях Гейне.
Гимназистка А
Но если «маленькая Вероника» была резедой, то дюссельдорфская красавица А., с которой Гейне встретился еще в то время, когда она училась в гимназии, была настоящей розой. Брат поэта, Максимилиан Гейне, рассказывает любопытный случай, относящийся к этой ранней страсти. Во время пребывания поэта в гимназии ему однажды поручили прочесть стихотворение Шиллера «Пловец» на публичном акте. Тогда Гейне был влюблен в гимназистку А., удивительно красивую, стройную девушку с длинными белокурыми локонами. Зал был битком набит. В первом ряду кресел сидел инспектор с помощником, а посреди них стояло свободное позолоченное кресло, предназначенное для председателя апелляционного суда, отца девушки. Председатель пришел поздно, и так как места для дочери не было, то ее усадили в позолоченном кресле. Гейне тем временем вдохновенно декламировал стихи Шиллера. Дойдя до стиха: «И дочери милой король подмигнул», он случайно взглянул в ту сторону, где стояло позолоченное кресло, и увидел в нем обожаемую девушку. Он остановился. Три раза повторил он: «И дочери милой король подмигнул», но дальше не мог пойти. Учителя начали ему подсказывать, но тщетно. Раскрыв широко глаза, он неподвижно уставился в неожиданное видение и вдруг упал в обморок. Никто в зале не знал причины. Родители подбежали. «Это, наверно, от жары», — сказал им инспектор и велел открыть окно. Вскоре и эта девушка умерла, промчавшись мимолетной тенью перед вдохновенным, по отравленным уже житейскими невзгодами взором поэта.
Гейне и «Красная Зефхен»
Мудрено ли, что после двух неудачных страстей, пережитых как раз в самом начале расцвета сердечной жизни, Гейне стал погружаться в тихую меланхолию и искать утешения в романтических грезах, окрашенных мрачными цветами фантазии? Чтение книг, в которых изображались страшные картины или привидения, сделалось его любимым занятием. Этот романтик, которому суждено было нанести смертельный удар романтизму, с удовольствием останавливался на мрачных сторонах жизни, и чем суровее была история, тем больше интересовала она его.
В эту именно пору жизни поэт влюбился в дочь палача. Звал он ее «Красной Зефхен». Гейне великолепно описал свой маленький роман в «Мемуарах». Ему было в то время около 16 лет, ей столько же. Высокого роста, с тонкой талией, парой темных глаз с таким выражением, как будто они задали загадку и ждут ответа, в то время как рот с тонкими губами и белыми, хотя несколько длинными зубами как бы говорил: «Ты глуп и никогда не разгадаешь». Волосы у нее были красные — не рыжие, а именно красные, как кровь, и висели длинными локонами ниже плеч, так что она могла их завязать под подбородком. Получалось впечатление, как будто ей перерезали горло и оттуда красными потоками льется багровая кровь. Гейне чувствовал к этой девушке сильное влечение и признается, что она именно пробудила в нем любовь к народной поэзии, так как знала много народных песен и вообще влияла благоприятно на развитие его поэтического таланта. Вот почему написанные им вскоре после того «Traumbilder» носят такой мрачный колорит.
Среди многочисленных песен Иозефы (так звали дочь палача) была одна, в которой были такие стихи: «Отилия, моя милая Отилия, ты, конечно, не будешь последней, скажи, хочешь ли ты висеть на высоком дереве? Или ты хочешь плавать в синем море? Или хочешь целовать обнаженный меч, который судил Бог?» На это Отилия отвечает: «Не хочу висеть на высоком дереве, не хочу плавать в синем море, хочу целовать обнаженный меч, который судил Бог». Когда Иозефа однажды пела эту песню и, подойдя к последней строфе, обнаружила внутреннее волнение, Гейне был до того потрясен, что вдруг расплакался, и, бросившись друг другу в объятия, они долго оставались так со слезами на глазах.
Гейне и дочь палача, проливающая горькие слезы в его объятиях! До такого диссонанса мог дойти только один автор «Книги песен», вся жизнь которого представляла собой одну сплошную цепь диссонансов и противоречий.
Рахель и Баронесса
Один или почти один раз Гейне мог считать себя не в разладе с окружавшей обстановкой; один раз ему можно было смело, не насилуя своей совести, сказать, что он встретил наконец женщину, которая достойна стать с ним рядом; но эта женщина была для него скорее идеей, чем женщиной. Мы говорим о знаменитой Рахили фон Фарнгаген, сыгравшей немалую роль в истории германской цивилизации.
О любви, о страсти тут не могло быть и речи. Рахиль была замужем, любила мужа, и нежное, но преступное воздыхательство или хотя бы безгрешный флирт были ей совершенно чужды. Зато в области благотворного влияния на поэтическое творчество Гейне женщине этой приходится отвести первое, если не единственное место. У нее был литературный салон. В этом салоне, где собирались лучшие умы того времени, высоко ставился культ Гёте, но и молодые силы находили в нем толчок для дальнейшего развития своего таланта.
Гейне был еще молод, когда впервые посетил салон гениальной женщины, и нисколько не удивительно, что он тотчас проникся благоговением к ней. «О чем только не упоминала она в течение часа беседы! — восклицает о ней один из ее современников. — Все, что она говорила, носило характер афоризмов, было решительно, огненно и не допускало никаких противоречий. У нее были оживленные жесты и быстрая речь. Говорилось обо всем, что волновало умы в области искусства и литературы». Она именно вместе с мужем, известным писателем, ученым и дипломатом, обратила большое внимание на поэтический талант Гейне, указывала на его недостатки, хвалила достоинства. Гейне часто говорил в своих письмах, что никто не понимает его так глубоко, как Рахиль. После отъезда из Берлина он находился в оживленной переписке с ней, что для него служило неиссякаемым источником удовольствия, как можно видеть из одного его письма к мужу Рахили: «Когда я читал ее письмо, мне показалось, как будто я встал во сне, не просыпаясь, и начал перед зеркалом разговаривать сам с собой, причем по временам немного хвастался… Г-же Фарнгаген мне писать совсем нечего. Ей известно все, что я мог бы ей сказать, известно, что я чувствую, думаю и чего не думаю».
С Рахилью Фарнгаген соединила еще поэта общая романтическая тоска по поводу того, что они родились в еврействе, между тем как еврейство противоречило всему складу их души и характеру. Он посвятил ей свое «Возвращение на родину», появившееся первоначально в «Путевых картинах», и писал в то время Фарнгагену, что этим посвящением хотел сказать, что принадлежит ей: «Пусть на моем ошейнике стоит: „J'appartiens a madame Varnhagen“».
Когда она умерла, он решил написать ее биографию, хотя и не исполнил своего намерения по разным причинам. Полную дань уважения Гейне отдал ее памяти в предисловии ко второму изданию его «Книги песен», в котором говорит: «Возвращение на родину» посвящено покойной Фарнгаген фон Энзе, и я должен похвалить себя за то, что первый публично почтил эту великую женщину. Со стороны Августа Фарнгагена было большим делом то, что он, отложив всякие сомнения в сторону, опубликовал письма, в которых обнаруживается вся личность Рахили. Книга эта вышла как раз в такое время, когда больше всего могла подействовать, утешить и укрепить. Она вышла в такое время, которое нуждалось в утешении. Рахиль как будто знала, какое посмертное послание суждено ей сделать. Она думала, конечно, что оно будет лучше, и ждала, но когда ожидание не прекращалось, она нетерпеливо покачала головой и, посмотрев на Фарнгагена, умерла, чтобы тем скорее можно было воскреснуть. Она напоминает мне сказание о другой Рахили, которая вышла из гроба и, стоя на дороге, плакала, когда дети ее шли в рабство. Не могу без уныния вспомнить о любвеобильной подруге, которая всегда относилась ко мне с неутомимейшим участием и часто немало тревожилась обо мне в ту пору моей юношеской надменности, когда огонь истины меня скорее разжигал, чем озарял.
Характер отношений между Гейне и Рахилью походил на его отношения с баронессой Гогенгаузен. Ее влияние на поэта было тем более велико, что она сама занимала место среди пишущей братии и даже писала стихи. Между прочим, она познакомила Гейне с произведениями Байрона, тогда Только впервые переведенными на немецкий язык. В салоне Гогенгаузен, в котором также собирались знаменитости того времени, его сравнивали с великим английским поэтом. Мерное время это ему нравилось, к тому же он всегда любил Байрона, как свидетельствуют сделанные им переводы некоторых произведений британского скептика и протестанта. Впоследствии он окончательно порвал с байроновским направлением, но сохранил к произведениям поэта то же чувство любви и удивления, а к баронессе благодарность за данный ею толчок к ознакомлению с ними. Почти до последних дней он находился с ней в переписке, и она же посетила однажды его в Париже, когда ее друг уже лежал прикованный к постели и когда встреча с желанным другом могла служить временным успокоением для его неизлечимых ран.
Жена Матильда
Мы пройдем мимо целой галереи женских головок, так или иначе останавливавших на себе внимание Гейне во время его скорбных блужданий по миру в поисках за неизведанным, но неуловимым душевным спокойствием. Одни из них сами останавливались на его жизненном пути, сами посылали ему заискивающие улыбки, стараясь позаимствовать от него света для своего никому не известного существования; других он останавливал сам, поддаваясь невольно влиянию красоты, пламенным поклонником которой он остался до конца жизни и во имя которой, как известно, незадолго до смерти велел отнести себя, разбитого, неподвижного, почти умирающего, в Лувр, чтобы в последний раз полюбоваться божественной красотой Венеры Милосской. Как во всем, и здесь, несмотря на всю видимость успеха, противоречие между идеалом и действительностью вливало беспрерывно яд в чувствительную душу поэта. Дамы посещали его беспрерывно, но он не всегда отдыхал сердцем в их присутствии. Известен следующий анекдот, относящийся к этой стороне его жизни. Когда Мориц Гартман, известный любимец дам, привел к Гейне какого-то друга, поэт ему уныло сказал:
— Меня сегодня посетила уже одна дама, дорогой Гартман.
— Кому это пришло в голову тебя тревожить? — спросил Гартман с участием.
— Единственной даме, которая тебя еще не посетила, — ответил Гейне.
— Кто же это?
— Муза, мой милый.
Полным противоречий между духовной и реальной жизнью Гейне является его отношение к Матильде, сделавшейся впоследствии его женой. Эти отношения были открыты друзьями поэта в 1836 году, когда между ним и его возлюбленной произошла крупная ссора, едва не кончившаяся разрывом. Пылкий, увлекающийся Гейне не мог скрыть своего душевного недуга и всем начал рассказывать о своем горе. Друзья утешали его кто шуткой, кто серьезно; но поэт действительно страдал, что свидетельствовало об искренней любви. Напрасно ему припоминали его же собственное стихотворение: «Мотылек не спрашивает у розы: лобзал ли кто тебя? И роза не спрашивает у мотылька: увивался ли ты около другой розы?». Поэт не успокоился до тех пор, пока не произошло примирение с любимой девушкой.
При такой пламенности чувства можно было бы думать, что женщина, его вызвавшая, обладала, кроме красоты, также и высокими умственными качествами. Увы, это была бы ошибка. Матильда была простая крестьянка, до того простая, что в сравнении с ней Христина Вульпиус, возлюбленная, а затем жена Гёте, могла считаться образованнейшей женщиной. До пятнадцати лет она росла в деревне, а потом поехала в Париж к своей тетке, башмачнице, где ее и встретил Гейне. Она была до того необразованна, что даже не умела читать, и до того тупа, что за всю жизнь не могла научиться сколько-нибудь по-немецки, чтобы прочитать произведения своего мужа. Так она и умерла, не прочитав ни одного стихотворения Гейне, хотя последние переводились на французский язык и выходили отдельными книгами.
Чтобы поднять умственный уровень девушки, с которой он вступил в близкую связь, а затем женился, Гейне поместил ее в пансион для молодых девиц, но и пансион не привил ей любви к знанию и ничему не научил. Она даже не знала, что такое поэт, и однажды по простоте души сказала: «Говорят, что Henri умный человек и написал много чудных книг, и я должна этому верить на слово, хотя сама ничего не замечаю». Но если Матильда была невежественна, то обладала зато веселым характером, истинно французской бойкостью, была добра, верна и предана мужу до самозабвения. По временам, правда, она показывала когти, так как была вспыльчива, за что Гейне и называл ее Везувием; но вспышки проходили быстро, не оставив никакого следа.
Шесть лет прожил с ней Гейне вне брака и, наконец, женился. Г-жа Жобер, близко знавшая поэта, рассказывает, что Гейне выставлял свою женитьбу на Матильде делом совести: ему нужно было драться на дуэли, и он должен был подумать о судьбе своей малютки. Дуэль была даже отложена для этой цели. «Гейне, — продолжает Жобер, — рассказывал мне эту историю с некоторым смущением, которым заменилась его обычная развязность. Впрочем, где тот человек, который сообщал бы об утрате своей свободы совершенно спокойно? Я не расспрашивала его о подробностях, не выразила ни малейшего удивления и, смеясь, спросила только позволения сообщить об этом событии Россини, которому оно доставит большое удовольствие.
— Почему? — озабоченно спросил Гейне.
— По духу товарищества, вероятно. Он любит, когда в его полку прибывает знаменитых людей.
— Если так, — возразил Гейне, собравшись уже с духом, — то вы можете прибавить, что, подобно ему, я явлюсь теперь жертвой треволнений супружеской жизни. Если он будет писать музыку на эти темы, то я могу сочинить либретто. Скажите ему, что счастье мое родилось под дулом пистолета».
Поэт отпраздновал свою свадьбу удивительным образом: он пригласил только тех друзей, которые жили в свободном браке и которым хотел дать достойный пример. С самым серьезным видом умолял он их жениться на своих возлюбленных. Через два дня он составил завещание, в котором единственной своей наследницей назначил Матильду.
Матильда Мира была хорошенькая брюнетка, довольно высокого роста, с блестящими глазами, низким лбом, обрамленным черными волосами, несколько большим ртом, бойким и веселым характером, настоящая парижская гризетка в лучшем смысле слова. Она была по-детски весела, наивно-страстна, болтлива, остроумна по-своему. Все эти качества сделали то, что Гейне прожил с ней двадцать лет, и трудно сказать, когда он чувствовал больше привязанности к ней — в первые ли дни знакомства или в последние годы жизни, когда он, больной и разбитый, лежал неподвижной массой, как труп, в котором удивительным образом сохранились жизненные искры. То, что она не имела понятия о его произведениях, не смущало поэта. Наоборот, обладая двойственной натурой, он в этом именно усматривал хорошую сторону ее привязанности, так как она свидетельствовала, что Матильда любила его не как поэта, а как человека.
Матильда действительно любила его как человека, любила, как она выражалась на своем простом, чуждом грамматике языке, «parce qu'il ess bien». Однажды ей пришлось случайно прочесть (конечно, в переводе) несколько строк из любовного стихотворения Гейне. Она побледнела и тотчас отложила книгу в сторону, сказав, что не может читать такие вещи, в которых муж говорит о других женщинах. Гейне посещал ее по воскресеньям в пансионе, и об одном таком посещении Мейснер рассказывает; «Молодые пансионерки устроили маленький бал, и Гейне позвал меня посмотреть, как будет танцевать его petite femme. Она была больше всех воспитанниц, но, к восторгу своего мужа, танцевала с совершенно детской грацией, точно небольшая девочка. Как счастлив был он в то время, как беспечен в волшебной сфере своей привязанности! Каждая ступень Матильды в ее образовании, особенно в изучении истории и географии, давала ему повод к веселым наблюдениям, то, что она умела перечислять в хронологическом порядке египетских царей лучше, чем он, и сообщила ему неизвестный для него какой-то чудесный случай с Лукрецией, приводило его в безграничный восторг».
Через восемь лет супружеской жизни (в 1843 году) Гейне писал брагу своему Максимилиану: «Моя жена — доброе, естественное, веселое дитя, причудливое, как только может быть француженка, и она не позволяет мне погружаться в меланхолические думы, к которым я так склонен. Вот уже восемь лет, как я люблю ее с нежностью и страстностью, доходящими до баснословного. В это время я испытал много счастья, мучения и блаженства в угрожающих дозах более, чем это нужно для моей чувствительной натуры».
Гейне хотел научить жену по-немецки, но все его старания разбились о природную невосприимчивость Матильды к учению. Только несколько выражений сумел он вбить ей в голову. Особенно ее забавляли почему-то слова «meine Frau», и, узнав, что они означают «моя жена», она тоном насмешки называла себя «meine Frau». К числу усвоенных ею выражений относится также и следующее: «Guten Tag, mein Heir, nehmen sie Platz». Каждого из соотечественников Гейне, посещавших поэта, она встречала этими словами, после чего с громким смехом выбегала из комнаты, что приводило в немалое смущение посетителей.
Постоянное веселое настроение, как уже сказано, не мешало Матильде быть вспыльчивой; но это именно и нравилось поэту. Характер его требовал ссор, движения, и маленькие распри, которыми сплошь и рядом прерывалось однообразие его семейной жизни, служили для него тем же, что гроза для выжженного солнцем поля. В тех случаях, когда уже не было никаких поводов к ссорам и Матильда была воплощением тишины и преданности мужу, Гейне начинал дразнить свою подругу и успокаивался только тогда, когда в прекрасных глазах Матильды появлялся давно знакомый ему огонек. Но раздраженная Матильда переходила уже в наступление, и, чтобы усмирить строптивого ребенка, поэт прибегал к очень простому средству — обещанию принести какой-нибудь подарок. Матильда смягчалась, и в семье снова водворялся мир, купленный парой серег или модной шалью.
Впрочем, не с одной только Матильдой часто ссорился Гейне. У нее был попугай, доставлявший ему немало горя своими бессмысленными криками, и с ним поэт вел постоянную борьбу, конечно в отсутствие Матильды, для которой неприятность, причиненная попугаю, была гораздо чувствительнее неприятности, причиненной ей самой. Поэт так и называл обоих, то есть жену и попугая, «мои две птицы». Однажды Матильда встретила его с грустным лицом и с отчаянием в голосе заявила, что попугай умирает.
— Слава Богу! — ответил Гейне по-немецки, зная, что жена его не поймет. Он, конечно, не решился бы сказать то же самое на знакомом Матильде языке — французском.
Как была Матильда привязана к своему попугаю (его называли Cocotte), видно из следующего случая, который сам Гейне рассказал Мейснеру: «Я вчера был в большой тревоге. Жена моя в 2 часа покончила с туалетом и уехала, обещав вернуться к четырем. Но вот половина пятого, а она не является. Вот уже пять, ее нет. Бьет шесть, ее также нет. Вот половина седьмого, она не идет. Бьет восемь, тревога моя растет. Неужели ей надоел больной человек и она сбежала с каким-нибудь хитрым соблазнителем? В сильнейшей тоске посылаю сиделку в противоположную комнату с просьбой спросить, там ли еще попугай? Да, Кокот еще там. Тут как бы камень у меня свалился с сердца: без Кокот она ни за что не ушла бы».
Когда Гейне повез свою жену в Гамбург, чтобы познакомить ее с родственниками, попугай, конечно, принял почетное участие в их путешествии. «В прекрасный солнечный день, — писал по этому поводу племянник Гейне, — гаврский пароход вошел в гамбургскую гавань. Мы давно уже ждали на пристани прихода этого парохода, желая поскорее увидеть жену Генриха — Матильду. Наконец пароход остановился у пристани, и мы увидели дядю, пополневшего и на вид совершенно здорового, под руку с какой-то дамой величественной наружности, но очень просто одетой в дорожный костюм. Матильда была действительно очень красивая женщина, высокого роста, быть может, несколько слишком полная, но с прелестным личиком, обрамленным каштановыми волосами. За полуоткрытыми ярко-красными губами виднелись зубы ослепительной белизны; глаза, большие и выразительные, блестели в минуты сильного возбуждения, в чем мы не замедлили убедиться.
После первых приветствий, очень сердечных с обеих сторон, мой отец повел Матильду к карете; когда она уселась, мой отец хотел ей передать какой-то ящик, составлявший часть ее багажа, но в этот самый момент почувствовал сильную боль в пальце от укушения и, невольно отдернув руку, уронил ящик. Матильда пронзительно вскрикнула: в ящике находился ее любимый попугай, которого она привезла с собой из Парижа. „Боже мой, — воскликнула она раздраженным голосом, — какая неосторожность! Бедный попугай столько страдал от морской болезни, а теперь его подвергают еще страху!“ К счастью, с попугаем ничего не сделалось, и Матильда, увидев это, тотчас успокоилась, и лицо ее осветилось улыбкой. Гейне подошел и с громким смехом сказал: „Мой милый зять, вы чуть было не потеряли навсегда доброе расположение Матильды. А между тем я ведь вас предупреждал, что приеду со всей семьей, то есть женой и ее попугаем. Но вы не удостоили обратить внимание на этого маленького зверя, и он заставил вас вспомнить о себе по-своему, ущипнув вас за палец“.
Матильда произвела хорошее впечатление на родственников мужа, не исключая и знаменитого банкира-миллионера Соломона Гейне, с которым поэт всегда ссорился и которому однажды бросил в лицо следующие слова, сказанные добродушным тоном: „Собственно, единственное достоинство ваше заключается в том, что вы носите мое имя“. Соломон Гейне не любил, чтобы при нем говорили на каком-нибудь другом языке, кроме немецкого.[74] Можно себе представить, как чувствовала себя в доме этого человека Матильда, ни слова не понимавшая по-немецки. Она молчала. Зато и выместила же она злобу на кисти винограда, выращенной в теплице банкира. Миллионер очень гордился своим виноградом и показывал его как редкость. Когда кисть, переходя от одного из гостей к другому, попала в руки Матильды, она спокойно ее съела. Вскоре банкир спохватился, где виноград. Никто не решался сказать, какая участь постигла великолепную кисть, но Гейне нашелся и воскликнул:
— Знаете, дядя, исчезновение винограда — настоящее чудо. Но я должен вам сообщить, что совершилось еще большее чудо — его унес ангел.
Острота имела успех: банкир рассмеялся и простил племяннице поступок; но племянница все-таки решила больше не бывать в доме банкира, и чтобы это не носило характера вызова, Гейне отправил ее, конечно вместе с попугаем, в Париж. Отъезд любимой жены стоил ему многих душевных мук, о чем свидетельствует его письмо: „Я, — писал он Матильде, — постоянно думаю о тебе и только и делаю, что вздыхаю. Головные боли мои усилились, потому что сердце у меня неспокойно. Я не хочу более расставаться с тобой. Разлука ужасна! Я более, чем когда-либо, чувствую, что ты всегда должна быть у меня перед глазами… Не забывай, что я живу только для тебя! Моя возлюбленная, моя бедная овечка, моя единственная радость!“»
Гейне был очень ревнив. В 1837 году он обедал с женой в одном ресторане. Несколько сидевших тут же студентов стали пожирать ее глазами. Не будучи в состоянии сдержать себя, Гейне вскочил с места и дал пощечину первому из них. Следствием этого был вызов, который, однако, окончился благополучно. Та же ревность заставила Гейне порвать дружбу со старым товарищем Вейлем только потому, что поэт заподозрил, что он слишком ухаживал за Матильдой.
О простоте характера Матильды можно судить по следующему случаю, передаваемому Мейснером. Приехав в Париж, он отправился к Гейне. На звонок вышла, по его словам, «полная, довольно еще молодая женщина» и, бросив испытующий взгляд на его старомодное пальто, сказала, что «monsieur Heine» нет дома. Мейснер выразил сожаление, сказав, что принес письмо от Лаубе, но в эту минуту вдруг услыхал голос Гейне:
— Дома, дома!
Когда Мейснер вошел, Гейне сказал, обращаясь к жене:
— Да, ma biche, это — друг из Германии, привезший мне письмо от Лаубе. — Затем, обращаясь к Мейснеру, заметил: — Госпожа Гейне не допускает никаких немцев ко мне. Она их узнает с первого взгляда.
— Да, mein Err (mein Herr), — сказала Матильда с вынужденной улыбкой, — я сразу узнала, что вы — немец.
— Почему?
— Ах, Боже мой, да по платью, по обуви…
«Я, — замечает Мейснер, — бросил взгляд на свое пальто, сапоги дрезденского производства и не мог заметить в них ничего неприличного. Во всяком случае, что-нибудь не стильное в них, вероятно, было; но напоминать об этом было не особенно красиво».
После смерти Гейне Матильда была верна его памяти так же, как была ему верна при жизни. Она вела скромную жизнь. Развлечениями ее были цирк или бульварные театры, когда там ставились веселые пьесы. Кроме того, кухня доставляла ей также немалое удовольствие, и если кто-нибудь был у нее в гостях, она непременно заказывала какое-нибудь блюдо, которое особенно любил ее pauvre Henri, веря в простоте души, что этим обнаруживает уважение к памяти поэта. Трогательно было слушать ее рассказы о покойном муже. С особенной таинственностью сообщала она, что ей не раз предлагали руку, но она отказывала, не желая забыть мужа и носить другое имя. Такую женщину должен был любить великий поэт, у которого в минуты грусти тотчас же становилось весело на душе, когда входила Матильда со своей обворожительно-детской улыбкой. Он писал:
Es kommt mein Weib, schon wie der Morgen, Und lachelt fort die deutschen Sorgeu.[75]Любовь к животным она сохранила до последних дней. Кроме попугая у нее было около 60 канареек и 3 белые болонки. Когда все это начинало пищать и лаять, то оставаться в комнате было невозможно. Однажды племянник Гейне, не будучи в состоянии переносить адского шума, хотел уйти. Матильда ему сказала:
— Смешно, вы не любите животных, как и ваш дядя!
Во время осады Парижа Матильда осталась в осажденном городе. Позднее она жаловалась тому же Эмбдену, что должна была тогда заплатить 200 франков за курицу. Племянник удивился, на что Матильда ответила:
— Что делать, цена была такая!
Деньгам цены она вообще не знала. Это обстоятельство не раз смущало Гейне, так как ему самому некоторым образом приходилось вести хозяйство. Однажды он решил помочь горю. «Если я буду относиться к Матильде, как к ребенку, то она никогда не научится заботиться о себе самой. Мне нужно постепенно приучить ее к тому, чтобы она соблюдала собственные интересы». Под впечатлением этой мысли он дал ей на сохранение много железнодорожных акций. Как, однако, она их сохранила! У нее нашлись друзья, которые под разными предлогами выманили все деньги, а когда ничего не осталось, они прекратили с ней всякие отношения.
— Что бы было, если бы муж попросил вас показать ему акции? — спросили у нее однажды.
— Я бросилась бы в воду.
Удивительно, что Матильда умерла в годовщину смерти своего мужа, 17 февраля 1883 года, т. е. ровно через 27 лет после смерти Гейне. Она стояла у окна своей квартиры в Пасси и вдруг упала, чтобы никогда уже не встать. Матильда умерла от удара, вдруг, в один момент, как бы и смертью своей свидетельствуя о противоположности между ней и мужем, агония которого продолжалась целых восемь лет.
Гейне и Муха
В тяжкие для поэта дни неизлечимой болезни, которая, как только что сказано, продолжалась восемь лет, в его комнату влетела «муха» в виде молодой очаровательной женщины и начала весело жужжать вокруг его грустной постели. Это была Камилла Сельден, брюнетка, среднего роста, с плутовскими глазами, маленьким ротиком, обнажавшим во время смеха или разговора ослепительно белые зубы. Руки и ноги были изящны, и все движения ее дышали прелестью и грацией.
Несмотря на свой веселый нрав, она пережила немало горя. Выйдя рано замуж за одного француза, она первые годы супружеской жизни провела в Париже. Но маленькая немка вскоре сделалась в тягость легкомысленному французу, беззаботно проживавшему свое состояние. Чтобы освободиться от жены, он придумал следующий план. Он предложил ей поехать вместе с ним в Лондон, куда ему нужно было по делу, а приехав в Лондон, просил посетить знакомую семью. Экипаж их остановился около одной хорошенькой виллы, где их очень любезно принял какой-то старик. Едва, однако, Сельден вошла в зал, как муж ее исчез, а через несколько минут она узнала, что находится в сумасшедшем доме. Несчастная женщина начала кричать и плакать, прося ее отпустить, но ей пригрозили суровыми мерами. Под влиянием страха она онемела и не могла говорить довольно долго. Только через несколько недель она оправилась и смогла убедить врача, что совершенно здорова. Продолжать совместную жизнь с мужем было невозможно, и, чтобы поддерживать существование, она стала давать уроки немецкого языка. Тут же она стала хлопотать о разводе, в котором, конечно, ей отказать не могли.
Появление «Мухи» (Гейне назвал ее «Мухой», потому что насекомое это было изображено на печати, которую она прикладывала к своим письмам) произвело на безнадежно больного Гейне, страдавшего размягчением спинного мозга, сильное впечатление. Ее веселый характер, ясный ум, привлекательная наружность, звонкий голосок, большие способности и, конечно, любимый немецкий язык, на котором она говорила превосходно, пробудили в нем старые романтические струны. Между обоими вскоре завязался своеобразный роман, в своем роде единственный, начавшийся в первый же день ее появления. Гейне не мог пробыть без нее и дня. Она сделалась его секретарем, доверенным лицом и преданной подругой, с которой можно было почти тотчас после первого знакомства перейти на «ты». Когда он уставал от продолжительного чтения (читала, конечно, «Муха»), Гейне вытягивался во всю длину кровати и, лежа с полузакрытыми глазами, просил ее положить в его руку свою, которую он крепко сжимал, как бы желая навсегда соединиться с ней. Письма, которые он писал ей в те дни, когда она не приходила, становились все нежнее и нежнее. Он называл ее «лотосом», «возлюбленной», «восхитительной кошечкой», целовал ее ножки одну за другой, выражал страстное желание ее увидеть, так как она — последний цветок его печальной осени. Камилла была искренне к нему привязана, искренне его любила, несмотря на то что Гейне был уже живым трупом. Его тело лежало неподвижной массой, руки беспомощно шевелились, язык не всегда служил, глаза почти не видели.
Матильда не ревновала. Первое время она относилась к ней враждебно, называла прусской шпионкой, едва отвечала на ее поклон и энергично выступила против того, чтобы Камилла бывала у них часто за столом. Для предупреждения ссор Генриху приходилось выбирать для свидания с Камиллой дни, когда Матильда куда-нибудь уезжала. Но это чувство недружелюбия вскоре отступило на задний план. Матильда знала, что, как ни пламенна привязанность разбитого телом мужа к Камилле Сельден, любовь его волей-неволей должна все-таки остаться только платонической…
Страшные, Почти нечеловеческие страдания Гейне, впрочем, не мешали ему работать и изливать свои чувства к Камилле в звонких стихах, подобных которым Германия не знала со дня кончины Гёте. Но что более всего удивительно — это стоицизм духа, дававший поэту возможность не только терпеливо переносить страдания, но даже и шутить, смеяться и язвить в своих стихотворениях. В этом отношении к нему подходят слова, сказанные им о поэте Штерне: «Он был родным детищем бледной трагической музы. Однажды в припадке суровой нежности она поцеловала его юное сердце до того крепко, до того любовно, до того благоговейно, что из сердца потекла кровь и оно вдруг поняло все страдания нашего мира и исполнилось бесконечного сочувствия. Бедное юное сердце поэта! Но младшая дочь Мнемозины, розовая богиня шутки, быстро подскочила и, взяв страдающего ребенка на руки, старалась развеселить его смехом и пением, дала ему игрушки — смешную маску и дурацкие звонки, покровительственно поцеловала его в губки и поцелуем передала все свое легкомыслие, всю свою веселость, все свое дразнящее остроумие. С тех пор его сердце и губы оказались в странном противоречии: когда сердце у него порой волновалось трагически и ему хотелось высказать глубочайшие чувства кровью истекавшего сердца, с уст, к удивлению его самого, слетали забавнейшие смеющиеся слова».
Трогательная сцена между Камиллой Сельден и Гейне произошла незадолго до его смерти. Она не приходила некоторое время вследствие случайной размолвки, а когда, наконец, пришла, ей показалось, что он встретил ее не так дружелюбно, как всегда, и она расплакалась.
«Вдруг, — пишет она в своих воспоминаниях о Гейне, — как будто чувствуя мое горе, хотя лицо мое он видеть не мог, он подозвал меня к себе, и я должна была сесть на краю его постели. Слезы, которые текли по моим бледным щекам, видимо, его тронули.
— Сними шляпку, чтобы я мог тебя лучше видеть, — сказал он и ласковым жестом указал на мою шляпку. Охваченная сильным волнением, я отбросила свою шляпку и стала на колени перед его кроватью. Взволновало ли меня горькое воспоминание о пережитых им страданиях, или оно было вызвано еще худшим предчувствием приближавшегося несчастья? Словом, я напрасно старалась подавить свои слезы. Я больше не владела собою и думала, что умру от волнения. Ни одного слова мы не сказали друг другу, но рука друга, лежавшая на моей голове, казалось, благословляла меня».
* * *
Итак, Гейне и дочь палача, целовавшая его с мечом в руках, которым отец ее резал головы; Гейне и французская крестьянка, которая не имела понятия о его произведениях, но с которой ему пришлось делить лучшие годы; Гейне и «Муха», протягивавшие друг другу руки в то время, когда он уже стоял в могиле, а она только собиралась жить полной здоровой жизнью, — да, судьба великого германского поэта была поистине плачевна!
Лессинг
Конец XVIII и начало XIX веков ознаменовались в Германии сильным, хотя и своеобразным женским движением. Большой толчок в этом дал еще Жан-Жак Руссо. Великий волшебник мысли и чувства призывал, к опрощению, говорил, что нужно вернуться к природе, к первому источнику всякого счастья. Однако в раю, созданном прихотливой кистью художника-философа, для женщины места не было. Для него женщина была скорее чувствующим, чем мыслящим существом. Мать и жена — нот, по мнению Руссо, истинное призвание женщины, в границы которого естественно укладывалась вся его воспитательная система. Об ученых женщинах, таким образом, тогда не могло быть и речи.
Позднее явился Песталоцци и сделал еще шаг вперед, выставив идеализированную крестьянскую девушку высшим идеалом женщины. Влияние Руссо в Германии было тогда до того велико, что ученая или основательно образованная женщина сделалась предметом общего пренебрежения и насмешек. Даже такой просвещенный светлый ум, как Гердер, писал: «Я, может быть, слишком озлоблен против ученой женщины, но чем я виноват? Ведь это отвращение, внушенное самой природой». А Гёте с явным умыслом выставлял в своем «Вертере» противоположностью малообразованной, но идеальной Лотты малосимпатичную дочь пастора, которая, как он язвительно рассказывает, «старается быть ученой, которая теряется в изучении канона».
Отрицательное отношение к ученым женщинам было до того сильно во второй половине XVIII века, что ему невольно поддались все лучшие умы того времени, не исключая самого Канта, который, идя по стопам Руссо, говорил о разнице между обоими полами и признавал разум женщины только как «прекрасное разумение».
С другой стороны, сами женщины чуждались образованности, и даже известная Шарлотта Унцер, урожденная Циглер, издавшая несколько популярно-научных, весьма поверхностных руководств для женщин, всеми силами старалась освободиться от падавшего на нее подозрения в учености. «Надеюсь, — заявила она однажды с негодованием, — что никому даже и в голову не придет, будто я понимаю по-гречески».
Правда, идеал Руссо не исключал вообще женского образования, но он требовал, чтобы последнее было направлено преимущественно на область чувства. С результатом этого направления мы отчасти познакомились выше, когда говорили о «Вертере». Сентиментальничание сделалось преобладающим элементом в отношениях между женщинами и мужчинами. Чтение чувствительных романов еще более усиливало этот продукт крайнего романтизма. Даже лучшие школы для девиц не давали другого противовеса этому одностороннему взгляду на женщин, кроме здраво-практических познаний, не выходивших за черту потребностей обыденной жизни.
Лессинг и Эрнестина Рейске
В это именно время Лессинг встретился с Эрнестиной Рейске. Она родилась в 1730 году. Рано лишившись отца, суперинтенданта Мюллера, она еще четырнадцати лет принуждена была помогать ручной работой матери, на долю которой выпала тяжелая обязанность поддерживать существование многочисленной семьи. В 1755 году она приехала из родного города Гамбурга в Лейпциг. Там она познакомилась с филологом Рейске, за которого, после долгих колебаний, уступая советам старшего брата, и вышла замуж. Что Рейске не подходил своей жене, засвидетельствовал он сам в письме к своему будущему шурину, которому признавался, что «для живой женщины сношения с болезненным человеком, привыкшим обращаться только с книгами, не заключали в себе ничего привлекательного». Единственно, чем он производил впечатление на жену, была его ученость, по поводу которой Гердер раз сказал: «Этот Рейске сделался мучеником своего арабского и греческого усердия». Несмотря на то что муж был старше Эрнестины на 20 лет, молодая женщина быстро свыклась с положением и сделалась помощницей своего ученого мужа. Вскоре она дошла до того, что Рейске писал о ней: «Вступив в мой дом, она понимала только по-немецки, но в четыре года столько успела, что в области французского, английского, латинского и греческого языков может считаться ученой женщиной. Без нее я не мог бы сравнить столько рукописей Две рукописи Демосфена сравнила она одна».
Иными словами, Эрнестина сделалась секретарем и помощницей своего мужа. В этом качестве она сопровождала мужа в 1771 году в Вольфенбюттель к знаменитому обновителю германской литературы Лессингу, занимавшему должность библиотекаря. Встреча доставила много удовольствия молодой женщине, которая давно уже сгорала от нетерпения познакомиться со смелым реформатором. Рейске писал тогда по этому поводу: «Она радуется, как ребенок». Хотя Лессинг был в то время нездоров, Эрнестина почувствовала к нему истинную страсть, настолько, впрочем, платонического характера, что сам Рейске мог писать Лессингу: «Скажу вам на ухо, любезнейший Лессинг, что вы на очень хорошем счету у моей жены. Она сама вам признается, что любит вас. Чего вам еще? Я не ревную. Здесь ревность неуместна». Лучший патент на добродетель вряд ли мог быть выдан молодой женщине.
Что Лессинг также чувствовал к ней некоторую склонность, не подлежит сомнению; но его удерживало от сближения с ней то же чувство невольного недоброжелательства к ученым женщинам. 19 августа 1774 года умер Рейске, и с тех пор у Эрнестины было только одно желание — сделаться женой Лессинга. Обстоятельства как будто ей благоприятствовали: Лессинг решил написать биографию Рейске, что послужило причиной оживленной корреспонденции между ним и молодой вдовой (письма эти были уничтожены обоими перед смертью). Но и переписка, и биография не помогли. 15 октября 1775 года она писала одному другу: «Я поистине не создана для одиночества. Оно меня пугает. Многие мужчины предлагают мне руку и сердце; но только одного человека чтит мое сердце, только одного могу я любить и буду любить даже в последние минуты жизни. А этот человек между тем далек от меня и, может быть, будет далек всегда». Она сказала правду: в то время, когда Эрнестина вздыхала по Лессингу в своем вдовьем одиночестве, писатель был действительно далеко (в Италии); но не расстояние отделяло их друг от друга, а инстинктивное нерасположение знаменитого критика, эстетика и драматурга к синим чулкам. В конце концов она утешилась тем, что взяла к себе в дом товарища своего умершего племянника, Морица Эгиди, а затем уехала с ним в деревню, так как Мориц знал сельское хозяйство. Там она и провела остаток дней своих между литературными и домашними делами.
Елиза
Такой же грустный конец имели отношения Лессинга с другой ученой женщиной, которая любила его не меньше Эрнестины и все-таки не сделалась его женой именно благодаря тому, что была ученая. Мы говорим об Элизе Реймарус, о которой сам Лессинг говорил, что она сделалась бы его женой, если бы он этого хотел. Их сблизил общий интерес к литературе, но тот же интерес и разъединил. Как ни близка была она ему по духу, как ни заманчива была перспектива сделаться родственником состоятельных людей и к тому же иметь в лице жены не только подругу, но и помощницу, сердце поэта-ученого не лежало к философической девушке. Его тянуло к идеалу Руссо. Он мечтал о простой женщине, не невежественной, конечно, но далекой от архивной пыли учености, которая так к лицу мужчине, но не всегда гармонирует с истинным женским призванием. Этой женщиной явилась Эва Кениг.
Жена Лессинга Эва
Говорят, что Лессинг полюбил Эву еще тогда, когда она была женой его друга Кенига, и что Эва также питала к нему в то время сильное влечение. Во всяком случае нежное чувство к поэту и критику не мешало молодой женщине страстно любить мужа. Когда Кениг умер, Эве осталось значительное наследство. Наследство это, однако, не имело ничего общего с наследством, которое Рейске оставил после смерти своей ученой жене: в то время как Эрнестина, похоронив мужа, занялась окончанием начатого им знаменитого издания греческих ораторов, его «Плутарха», «Дионисия Галикарнасского» и т. д., Эве Кениг нужно было привести в порядок фабрику шелковых тканей, которой с таким искусством управлял ее покойный муж. Фабрика находилась в Вене. Эве принадлежал еще магазин шелковых тканей в Гамбурге.
С Лессингом, как сказано, она находилась в добрых отношениях и проездом часто посещала его в Вольфенбюттеле, причем отношения между ними каждый раз становились все более и более тесными. В письмах, которыми они обменивались в это время, уже проглядывает настоящее чувство. Лессинг писал ей, что потерял отца. Она успокаивала его, указывая в то же время на то, как плачевна ее судьба: ей не суждено было даже знать своего отца. Письма носили дружеский характер, но литературные вопросы никогда в них не затрагивались. Один только раз, когда Лессинг послал ей «Эмилию Галотти», она ответила ему в восторженных выражениях по поводу его произведения: «Благодарю вас, что вы так скоро прислали мне эту вещь. Не могу вам выразить, с каким удовольствием прочла я ее в первую же ночь, так как мне хотелось немедленно передать ее Г. (Геблеру), чтобы в первом же письме прислать вам кое-какие сведения». В этом письме вся Эва. Основательная оценка произведения — не ее дело, но зато она умеет практически действовать. Такая женщина была уже близка к идеалу того времени, и Эва Кениг сделалась женой Лессинга.
Лессинг был счастлив в семейной жизни, чему способствовал прекрасный характер его жены. «Такой жены, — писал о ней историк Шпитлер, — мне никогда уже не придется видеть. Неученая доброта ее сердца, постоянно исполненного божественным спокойствием, которое она внушает всем, имеющим счастье соприкасаться с ними, — редкое качество. Пример этой великой достойной женщины бесконечно возвысил мое понятие о ее поле». Непосредственного влияния на литературную деятельность Лессинга она не имела, но значительно содействовала ей косвенно, благодаря бодрости, прямоте и безыскусственности своей натуры.
Лессингу, проведшему столько лет в одиночестве и начинавшему уже чувствовать в душе наклонность к ипохондрии, улыбалось светлое будущее, как вдруг Эва умерла. Она умерла всего через год после того, как соединила свою судьбу с его судьбой, — от родов. Поэты вообще не особенно счастливы в отношениях с женщинами, а если на долю кого-нибудь из них выпадает такое счастье, то оно непродолжительно. Автор «Натана Мудрого» и «Лаокоона» принадлежал к этой категории.
Фридрих Шлегель
Вместе с братьями Шлегелями[76] мы погружаемся в самый омут романтизма, этого странного, ничем не объяснимого поветрия, которое, как корь, пережили все народы, которое пережили и мы во времена Карамзина и Жуковского, но которое самое глубокое выражение нашло в Германии на рубеже прошлого и нынешнего столетий. Удивительное это было время. Люди не хотели мириться с настоящим. Окружающая обстановка была им в тягость, как все, что носило на себе печать будничности, и так как избавиться от нее нельзя было, то они создали особый мир, чуждый нашим законом, населенный людьми с другими идеями, понятиями, чувствами. Этот мир и поэзия сливались воедино. Действительность окрашивалась в самые причудливые краски. Долой обычные отношения между людьми, продиктованные проповедниками узкой морали и сухого келейного представления о бытии! Мысль свободна, чувство само себе закон и люди — цари, владения которых составляет вся вселенная…
Если бы нужно было охарактеризовать Фридриха Шлегеля (родился в 1772, умер в 1829 году) как одного из самых ярких представителей и творцов романтического направления в литературе, то, кажется, следовало бы привести слова орла из его стихотворения «Гармония жизни»:
Я с детских лет привык без страха Парить к безоблачным странам, Я презираю узы праха, Я близок силою к богам. Я мчусь в селение святое, Когда слабеет жизнь моя, И, гордо разорвав земное, Как феникс, возрождаюсь я.[77]Шлегель действительно «возносился» к богам, то есть отрывался от пут повседневной жизни, чтобы жить и мире грез, исполненных самых причудливых очертаний. Он презирал обыкновенных людей, был атеистом, считал себя высшим существом. Нужно ли говорить, что в любви он отрицал всякие грани и, как истинный сын романтического периода, не только преследовал свободу чувства, но и был самым послушным адептом собственной проповеди в жизни. Время было такое: Шиллер вступал тогда в любовную связь с Шарлоттой Кальб, в семействе которой поместил своего друга Гельдерлина, лишившегося места вследствие любовной связи с хозяйкой дома, которая, расставшись с молодым поэтом, тотчас сделалась любовницей Жан Поля (жена Шлегеля называла ее в шутку Jeanette-Pauline).[78]
Шарлотта тогда писала своему новому любовнику: «Приманка соблазна! Прошу вас, отложите в сторону эти жалкие мелочи и не тревожьте вашего сердца и вашей совести. За наши натуральные влечения и без того уже достаточно забрасывают нас камнями. Я никогда не изменю моего образа мыслей об этом предмете. Я не понимаю этого рода добродетели и ради вас не могу никого признать в этом отношении безупречным. Наша земная религия есть не что иное, как развитие и сохранение сил и задатков, полученных нами вместе с жизнью. Живое существо не должно допускать никакого принуждения, но также и никакой покорности, которая не основана на справедливости. Предоставьте делать, что хотят, тем, кто смел, силен и зрел и кто сознает свою силу; но человечество и наш пол бедны и жалки. Все наши законы суть плоды самой жалкой бедности и нужды и только редко плоды мудрости. Любовь „же не нуждается ни в каких законах“».
Так писала Шарлотта Кальб Шиллеру, так писал Шиллер Шарлотте Кальб, так писал Виланд своей возлюбленной Ларош, с которой мы сейчас познакомимся; так, может быть, писал и Гёте своей Христине Вульпиус, с которой прожил много лет, прежде чем назвать ее женой перед лицом Бога. Недаром Жан Поль, приехав в Веймар, средоточие тогдашнего увлечения романтизмом, а вместе с этим и превратных понятий о свободной любви, воскликнул с умилением: «Ах, здесь есть еще женщины! Здесь все революционно, смело и законные жены ничего не значат».[79]
Но если Гёте, Шиллер, Жан Поль, Виланд были сторонниками революции в области любовного чувства, то Ф. Шлегель был ее застрельщиком. В своих критических статьях и романах он не только высказывал свободные взгляды на роль женщины, но и подвергал резкой насмешке положение, в которое ставят ее общественные предрассудки. Он издевался над браками, в которых муж и жена живут, взаимно друг друга презирая, браками, в которых муж ценит в жене только ее пол, а она в нем только его общественное положение, оба же они видят в детях свое произведение и собственность.
Это был истинный революционер в области женского вопроса. «Для него, — говорит Брандес, — разговор шел о нравственной и умственной эмансипации женщин. Ум и образование в соединении с одушевлением были те свойства, которые в его глазах делали женщину достойной любви. Над общепринятым понятием о женской натуре он смеялся. С горечью говорил он о глупости и низости тех мужчин, которые требуют от женщины невинности и отсутствия образования; этим только заставляют женщин притворяться, а притворство есть лишенное невинности притязание на невинность. По его мнению, настоящая невинность может очень хорошо уживаться в женщине с образованием; что прекрасное и благородное свободомыслие будто бы приличествует женщинам менее, чем мужчинам, это не более как одна из многочисленных всеми повторяемых нелепостей, пущенных в ход Жан Жаком Руссо. „Надетые на женщину оковы рабства суть язвы человечества…“ Шлегель говорит, что его высшая литературная цель заключается в том, чтобы, по наивному его выражению, „положить основание нравственности“. За главный нравственный двигатель в людях он считает оппозицию против положительного законодательства и против условных прав».
Шлегель и Доротея Мендельсон
Какими ни странными кажутся теперь взгляды Шлегеля, не признававшего никаких границ для чувства, которому давался только страж в виде образованной мысли, но еще более странно то, что Шлегель, как сказано, осуществлял на деле свои свободолюбивые воззрения. Это особенно ярко видно из его отношения к двум знаменитым женщинам того времени: Доротее, дочери философа Моисея Мендельсона, и Каролине, дочери известного геттингенского богослова Михаэлиса.
Когда Шлегель встретился с Доротеей, она уже была замужем за банкиром Вейтом, которому отдала руку по просьбе родителей, но к которому не чувствовала никакой привязанности, так как вся жила в мало родственной ее мужу области мысли и чувства. Живая, остроумная, широко образованная, она принадлежала к кружку гениальных женщин, в котором законодательствовала Рахиль фон Фарнгаген. Она была старше поэта (ему было 25 лет, а Доротее 32 года), не отличалась красотой, обладала резкими чертами лица, как мужчина; но это не помешало ей приковать к себе поэта сильным умом и любовью к искусству, поэзии и философии. В 1798 году она развелась с мужем и уехала к Шлегелю в Йену. Нужно ли говорить, что о браке и речи не было, о браке, который Шлегель назвал в своих статьях искусственным, так как «государство, по своей испорченности, старается поддерживать его силой, уничтожая таким образом возможность заключения настоящих браков».[80]
Сама Доротея, смотревшая на брак как на акт печальной необходимости, первая восстала бы против этого. «Соединить по-мещански нашу судьбу, — писала она, — никогда не было нашим намерением, несмотря на то что я давно уже не считаю возможным, дабы что-либо могло разлучить нас, кроме смерти. Однако, хотя мне и противны всякие соображения о том, что будет, я все-таки действовала бы согласно с требованиями минуты и разбила бы самые дорогие для меня идеи, если бы ненавистная мне церемония была единственным средством связать нас навсегда».
Чтобы познакомиться с отношением Шлегеля к Доротее и, кстати, составить полное понятие об их умственной и душевной жизни, достаточно познакомиться с романом Шлегеля «Люцинда», в котором поэт вывел и себя, и возлюбленную. Этот роман произвел большое впечатление и вызвал целую бурю негодования в Германии, так как высказанные в нем мысли совершенно противоречили общественным понятиям, созданным целым рядом веков. Достаточно сказать, что Шлегель выставляет в нем гетер идеалом высшего развития и общечеловеческой образованности и объявляет борьбу устарелым взглядам. Он вывел в романе не только себя и Доротею, но и некоторых из своих современников, которые, как Шлейермахер, вполне разделяли его воззрения.
Буря, вызванная этим романом, тем более замечательна, что в ней слышались удары грома в адрес и самого Шлегеля, и его возлюбленной, на отношения между которыми делались явные намеки в рецензиях и критических статьях, посвященных роману. Доротея мужественно переносила эти намеки и нападки, выказывая избраннику своего сердца непоколебимую преданность и готовность на жертвы и не протестуя против причуд, которых у него было больше, чем у кого-либо. Она им гордилась и была так счастлива, что могла посвятить свой роман «Флорентин» возлюбленному. Конечно, и Шлегель платил ей тем же. Идея свободы половых отношений нашла себе полное осуществление.
Но понятно, что этим дело не могло ограничиться. Раз брак — устарелый институт, раз мужчины и женщины, между которыми существует сродство душ, имеют право сходиться без всяких формальностей и даже целыми группами, то отчего не начать жизнь втроем, вчетвером, жизнь, основанную на новых началах, полную свободы, страсти и соблазна? Такую жизнь, вероятно, и вели любовники, когда в их доме поселился другой проповедник свободной любви — Фихте. Доротея пишет об этом: «Мне вообще так хорошо в этом монастыре философов, как будто я никогда не знала ничего лучшего. Только Фихте внушает мне какой-то страх; этому виной не он, а мои отношения к свету и к Фридриху; я чего-то боюсь, но, может быть, ошибаюсь. Писать больше не могу, потому что мои философы беспрестанно то вбегают в мою комнату, то уходят, так что у меня кружится голова».
Жизнь вместе так всем понравилась, что Шлегель, Доротея и Фихте решили никогда не разлучаться. Фихте писал об этом жене: «Если это удастся, то все мы, то есть оба Шлегеля, Шеллинг (его также предполагалось завербован» в милую компанию) и я, будем составлять одну семью, наймем большую квартиру, будем держать одну кухарку и т. д. Дело, однако, не было доведено до конца, так как все свободолюбивые планы философов-поэтов, смешивавших жизнь с вымыслом, разбились о простой, но непреодолимый закон той же жизни: жены братьев Шлегелей никак не ладили и не могли ужиться вместе…
Шлегель и Каролина
Еще более резко выразилось свободолюбивое отношение романтизма к женщинам в связи Шлегеля с Каролиной. Она, как рассказывает Брандес, родилась в 1763 году и вышла замуж за доктора Бремера двадцати одного года. Шлегель познакомился с ней во время своих учебных занятий в Геттингене и влюбился в нее, но она отклонила его предложение вступить в брак. Знакомство между ними было прервано и поддерживались только письменные отношения, когда Шлегель взял в 1791 году место домашнего учителя в Амстердаме, где у него завелись разные любовные интриги и, между прочим, одна серьезная связь, заставившая его позабыть о Каролине.
Тем временем она впуталась в самые странные затруднения. В 1792 году она отправилась в Майнц и жила в доме Георга Форстера. Когда этот достойный удивления и гениальный, но слишком горячий человек, бывший наставником Гумбольдта и прославившийся как естествоиспытатель и писатель, втянулся в революционные предприятия и пытался распространить французскую свободу на берегах Рейна, Каролина ревностно разделяла его симпатии и намерения и вела знакомство с членами республиканского клуба в Майнце.
Ее, хотя и несправедливо, подозревали в том, что она была в сношениях с неприятелем через посредство своего зятя Бремера. Когда немецкие войска снова заняли Майнц, она была арестована и провела несколько месяцев в тяжелом заключении, живя в одной комнате с семью другими арестантами. Из тюрьмы она писала Шлегелю, прося его о помощи. Положение ее было еще более неприятно и запутанно, чем казалось. Вследствие отчаяния, что самые горячие ее желания не осуществились (она надеялась, что мужественный и энергичный Таттер предложит ей свою руку), она бросилась на шею случайному обожателю-французу, и эти сношения неизбежно скомпрометировали бы ее навсегда, если бы друзья не поспешили освободить ее из заключения. Вильгельму Шлегелю и ее брату удалось наконец освободить Каролину, после чего великодушный Вильгельм отдал ее, всеми покинутую, под покровительство своего брата Фридриха.
При таких-то неблагоприятных для нее условиях и сблизился с ней Шлегель. Он не был предрасположен в ее пользу и даже был весьма недалек от того, чтобы чувствовать к ней презрение. Несмотря на это, он пишет: «Я, право, не ожидал найти в ней простоту и действительно божественный ум… Она произвела на меня очень сильное впечатление; я хотел было приобрести ее расположение и дружбу, но, заметив некоторое участие с ее стороны ко мне, я убедился, что простая попытка в этом направлении привела бы нас к тяжелой борьбе и что дружба между нами могла бы возникнуть только как поздний плод многих превратных влечений; с этой минуты я отказался от всяких своекорыстных притязаний. Я поставил себя в самые простые, безыскусственные с ней отношения; я был почтителен к ней, как сын, откровенен, как брат, простодушен, как ребенок, и невзыскателен, как друг». Несмотря, однако, на это, Шлегель все-таки женился в 1796 году на своей сильно скомпрометированной подруге.
С этой минуты началась раздольная жизнь для Каролины. Она оказалась в центре кружка, составлявшего некоторым образом главную квартиру романтизма. Гердер, Фихте, Шеллинг, Гегель, Тик, Шлейермахер, Гарденберг и Гёте, сблизившийся тогда с молодой школой, были ее близкими друзьями. Она чувствовала себя прекрасно в кругу этих партизан мысли и, как язвительно замечает Брандес, «завтракала с Гёте, обедала у Фихте и не в меру была неразлучна с Шеллингом».
Умная, веселая, талантливая, она принимала деятельное участие в поисках романтической школы, литераторствовала, исправляла произведения других, печатала анонимные рецензии, то сама работая пером, то пуская в ход свое влияние на окружавших. Шиллер ее постоянно называл дама-Люцифер. Когда у нее умерла гениальная пятнадцатилетняя девочка (от первого брака), горе ее было очень велико, но она вскоре утешилась, вступив в любовную связь с Шеллингом. Этому немало способствовало охлаждение между ней и Шлегелем, который даже жил в другом городе, где с большим усердием отдавался осуществлению своих вольных взглядов на отношения между полами — сошелся с сестрой Тика, Софьей Бенгарди, которая для этой цели даже развелась с мужем, а потом старался жениться на дочери рационалиста Паулюса.
Когда сближение Шеллинга с Каролиной оказалось снимком уж тесным, Шлегель не поколебался освободить жену от уз брака. «Мы, — писала Каролина, — расторгли связь, на которую никогда иначе не смотрели, как на совершенно свободную». Но более всего любопытно для характеристики романтиков то, что Шлегель и Шеллинг остались по-прежнему друзьями и вели приятельскую переписку. Сама Каролина обменивалась дружескими письмами с бывшим мужем, который в одно прекрасное время нашел даже возможным посетить парочку в Мюнхене вместе с г-жой Сталь…
Таков был романтизм и таковы были его главные представители в Германии.
Виланд
Творец «Оберона» и первый переводчик Шекспира на немецкий язык, Виланд[81] может только отчасти считаться предшественником романтиков; но и он разделил все слабости выдающихся представителей будущей романтической школы, хотя и в значительно меньшей степени. Он принадлежит к категории поэтов, которые не сразу стали на прямой путь творчества, долго блуждали, долго колебались и только сильному толчку извне обязаны тем, что твердо пошли по известной дороге. Толчком этим послужила для него встреча с одной из типичнейших женщин того времени — Софией Ларош.
Виланд и София Ларош
В то время, когда Виланд встретился с ней, он был влюблен в другую, столь же эксцентричную по нашим понятиям, но совершенно естественную с точки зрения того времени — Юлию Бондели, но это ему не помешало тотчас проникнуться новым чувством, которое, однако, каким-то чудом совмещалось у него с прежней страстью к Юлии. Он даже нашел возможным распространяться о своей любви к Ларош в письмах к Юлии, за что, впрочем, поплатился расположением последней. Ларош, никогда не заботившаяся о своей нравственности, долго не упорствовала и даже в одно прекрасное время переселилась в дом Виланда. С этой именно минуты, благодаря ее влиянию, в Виланде и закончился процесс поэтического брожения и он смело пошел по пути художнического творчества.
Страсть Виланда и Софии Ларош, лишенная устоев нравственной святости, вскоре погасла. Любовники разошлись, но остались друзьями, что составляет характерную черту в отношениях романтиков к женщинам. Якоби записал момент встречи возлюбленных спустя долгое время после разлуки. Это очень интересный момент. «Вскоре, — пишет он, — услышали мы шум экипажа. Взглянув в окно, мы увидели, что это он (то есть Виланд). Г-н Ларош бросился вниз по лестнице к нему навстречу, я вслед за ним, и мы встретили друга по ту сторону двери. Виланд был взволнован. В то время, когда мы с ним здоровались, сошла вниз г-жа Ларош. Виланд только что с некоторым беспокойством осведомился о ней, видимо сгорая нетерпением ее увидеть.
Вдруг он взглянул на нее, и я ясно видел, как он вздрогнул. После этого он повернулся в сторону и, бросив шляпу на землю, кинулся к Софии. Все это сопровождалось таким необыкновенным выражением во всем существе Виланда, что я был потрясен до глубины души. София пошла навстречу другу своему с раскрытыми объятиями; но он., вместо того чтобы упасть в ее объятия, схватил ее руки и, наклонившись, спрятал в них лицо. София, с небесным выражением на лице, наклонилась над ним и сказала голосом, которому не способны подражать никакие Клероны и Дюбуа: „Виланд… Виланд… о, да… вы… вы все тот же, милый мой Виланд!“ Пробужденный этим трогательным голосом, Виланд несколько выпрямился и, взглянув в плачущие глаза своей подруги, упал лицом к ней на плечо. Никто из окружавших их лиц не мог удержаться от слез. У меня они текли по щекам, я рыдал. Я был вне себя и до сих пор не знаю, как кончилась эта сцена и как мы вместе вошли в зал».
Любовник, плачущий на плече своей бывшей возлюбленной в присутствии ее мужа, между тем как друзья обоих обливаются горькими слезами, — да, только романтизм с его вычурностями, бреднями и оторванностью от почвы мог вырастить такое странное, дикое, неестественное явление.
Клопшток
Чтобы покончить с германскими поэтами, нам лишь остается сказать только два слова о Клопштоке, об этом видном представителе германского классицизма, авторе «Мессиады», бывшем для немецкой поэзии тем же, чем сделался впоследствии Карамзин с своею «Бедною Лизою» для нашей поэзии. Он жил задолго до начала романтического направления в германской литературе (родился в 1724, умер в 1803 году), и поэтому отношения его к женщинам были чужды бесшабашной распущенности, которую романтики хотели насильно вдвинуть в рамки идеи. Характерны эти отношения только тем, что дают понятие о поэте-неудачнике в области страстного воздыхательства. Он много любил, но все его любовные похождения оканчивались неблагополучно. Когда жена его умерла от родов, он влюбился в Сидонию Дидрих, которая, отказав ему, вышла за капитана Кенига и также умерла от родов. Влюбчивый Клопшток искал утешения в любви Сесилии Амброзиус, и некоторое расположение, которое она оказывала ему, как будто давало ему надежду на то, что утешение будет найдено; но в конце концов и оно оказалось обманчивым. Опечаленный, с разбитым сердцем, он вдруг встретил живое участие со стороны Иоганны Винтем, но она была замужем и давно уже сделалась матерью четырех детей. До глубокой старости прожил он в бесплодных исканиях, пока не умер муж Иоганны и он, наконец, мог связать свою «судьбу» с ее судьбою. Может быть, именно этими постоянными неудачами и объясняется его мистическо-религиозное миросозерцание, нашедшее полное отражение в его крупнейшем произведении — «Мессиаде». Неудачи в любви, как и удачи, имеют свои хорошие и дурные стороны. В настоящем случае они имели только хорошие.
* * *
V. Франция
Вольтер. — Расин. — Мюссэ. — Виньи. — Верлен.
Вольтер
Ни один поэт в мире не пользовался при жизни таким значением, как Вольтер. Это не была знаменитость, внушающая уважение потому, что она — знаменитость. Это был полубог. Перед ним преклонялись, как перед высшим существом; его слово имело больше веса, чем слова всех высокопоставленных особ, не исключая короля и министров; к нему ездили на поклонение почитатели его таланта, как правоверные мусульмане к святилищу Мекки. Если бы нужно было в нескольких словах охарактеризовать роль и значение Вольтера не только во Франции, но и во всем культурном мире конца прошлого столетия, то лучше всего было бы привести письмо Фридриха II Прусского, приглашавшего его в свои владения. «Вы, — писал король, — подобны белому слону, из-за обладания которым ведут войны персидский шах и великий могол; тот, кто его получит в конце концов, увеличивает свои титулы указанием на то, чем он владеет. Когда вы приедете сюда, вы увидите в начале моих титулов следующее: „Фридрих, Божьей милостью король Прусский, курфюрст Бранденбургский, владелец Вольтера“».
Что при таких условиях Вольтер пользовался большим расположением у женщин, понятно само собой. Этому нисколько не мешало его безобразие, известное всему миру. Первой женщиной, встретившейся ему на пути, была знаменитая куртизанка Нинон де Ланкло. Однако склонность, которую она питала к поэту, не могла дурно отразиться на нем, так как Вольтеру было в то время всего десять лет, а ей восемнадцать. Она, вероятно, предчувствовала, что из мальчика выйдет знаменитый человек, и когда ее последний поклонник, известный аббат Шатонеф, крестный отец Вольтера, представил ей ребенка, она подарила ему 2000 франков на приобретение книг, с помощью которых он мог добиться знаменитости.
Первый успех в области поэзии улыбнулся Вольтеру также рано. Когда ему было семнадцать лет, он написал оду в честь дофина и подарил ее старому отставному офицеру, который выдал ее при дворе за свою и за это в награду получил пенсию. Имя настоящего автора, впрочем, вскоре обнаружилось, и молодой поэт сразу сделался завсегдатаем высшего света. Он был ежедневно гостем в кружках герцога Вандомского и принца Конти, вследствие чего получил прозвище confident des princes. К этому времени он закончил свое образцовое произведение «Эдип», написанное по образцу трагедий Софокла. К его величайшему удивлению, однако, оно не было поставлено на сцене Французского театра, так как в нем не оказалось требуемой уставом театра любовной сцены. Тогда он представил его в Академию, чтобы получить премию на конкурсе, но и премию получил автор какого-то посредственного произведения. Оскорбленный, негодующий, молодой поэт (тогда его еще звали Аруэ; дворянское имя Вольтер он присвоил себе позднее) написал несколько язвительных стихотворений против Французского театра и Академии, но отомстил этим не столько им, сколько себе, так как принужден был бежать от грозившей ему тюрьмы.
Убежище нашел он в Гааге у французского посланника, где, чтобы не умереть с голоду, занялся составлением анонимных эпиграмм и анекдотов, в которых осмеивались сильные мира сего. При этом помогала ему одна дама, некая Дюнуйе, вместе СО своей прекрасной дочерью. Вольтер влюбился в эту дочь и, несмотря на свое безобразие, встретил с ее стороны взаимность. Однако жениться на ней ему не удалось: помешали родственники девушки, которая вскоре после того вышла замуж за некоего Винтерфельда. Не найдя уголка своему оскорбленному чувству и в Гааге, Вольтер вернулся в Париж, где тотчас же его заподозрили в составлении язвительных стихотворений на умершего короля и регента. Вследствие этого его посадили в Бастилию, где он и оставался целый год без чернил и бумаги. Несмотря на это, он написал там свою знаменитую «Генриаду», вернее, не написал, а заучил стихи наизусть. На бумаге увековечил он ее уже после того, как его освободили из заключения.
Когда он вышел из тюрьмы, друзья встретили его с восторгом. Сам регент осыпал его знаками милости и на аудиенции уверял, что будет отныне заботиться, чтобы он был сыт и имел порядочный угол. Вольтер ответил с улыбкой:
— Мне будет очень приятно, если ваше высочество дадите мне пропитание; но что касается казенной квартиры, то нет уж, увольте, если, конечно, она по-прежнему будет в Бастилии.
Прежние приглашения в великосветские дома возобновились. Между прочим, он посетил дворец герцога Бетюнского, средоточие тогдашней умственной и аристократической знати. Там он познакомился с ученейшей женщиной Франции, г-жой Дасье, урожденной Лефебр, которая перевела Гомера и писала книги на латинском языке, служившие дофину для учения. Благодаря ей, вероятно, Вольтер проникся уважением к ученым женщинам. К этому же времени относится его склонность к баронессе де Рюпельмонд. Она предложила посетить ее в Голландии, и он, конечно, поехал, следствием чего явилось стихотворение, в котором он сравнивал ее с Уранией — прообразом женского совершенства в греческой мифологии. Он тогда еще не предчувствовал, что ему придется встретиться с другой Уранией, которая будет достойнее называться Уранией, — с маркизой дю Шатле, прославленной им под звонким именем «божественная Эмилия».
Вольтер и Адриена Лекуврер
Впрочем, еще до знакомства с маркизой дю Шатле Вольтер встретился с двумя актрисами, с которыми сблизился, а потом полюбил. Имя одной из них осталось неизвестно потомству. Зато известна сцена из жизни Вольтера, в которой она приняла участие. Он окончил тогда свою трагедию «Артемиза» и главную роль поручил красивой, но бездарной артистке. При постановке на сцене трагедия после второго акта была освистана. Это привело знаменитого уже в то время поэта в сильнейший гнев. Он бросился на сцену Французского театра и обратился к публике с речью, в которой то умолял, то требовал пощадить хотя бы последний акт его произведения. Его слова были встречены громким смехом и свистом, пока, наконец, часть публики не узнала, что перед ней сам автор «Эдипа». Свист, тотчас же уступил место рукоплесканиям, и последний акт был спасен. Тем не менее Вольтер был слишком оскорблен происшедшим и больше уже не ставил «Артемизы». Неуспех он приписал исключительно любимой, но лишенной таланта актрисе, а этого было достаточно, чтобы она потеряла в его глазах прежнее обаяние и сделалась Предметом отвращения. Больше с тех пор он не встречался С ней.
Не так обстояло дело с другой артисткой, которая была так же талантлива, как и прекрасна, с Адриенной Лекуврер. Привязанность поэта к этой прелестной, но несчастной женщине длилась долго, хотя и она не была лишена горьких случайностей, сыгравших большое значение в жизни Вольтера. Таким стало большое торжество у президента Демезона, богатого покровителя бедных знаменитостей. Дача его была великолепной, выстроенной тем Мансардом, который изобрел мансарды. На сцене в этом доме должна была выступить Адриенна Лекуврер в новой пьесе Вольтера, и приглашения были разосланы отборнейшей части парижского общества. Все с нетерпением ждали поднятия занавеса, как вдруг с Вольтером приключился припадок горячки. Врачи установили, что у него черная оспа, и в одну минуту гости поднялись с мест и бросились к выходу. Никто не остался в чудном здании Демезона, кроме Адриенны Лекуврер, которая самоотверженно ухаживала за больным поэтом и поставила его на ноги. Дружба между Вольтером и Адриенной перешла после этого в нежную любовь. Бедная, она не предчувствовала, что всего через несколько лет Вольтер заплатит ей такой же любовью, но только при ужасных обстоятельствах, которых она и представить себе не могла.
Останавливаться ли подробно на жизни Адриенны? Она не сложна и известна всем. Артистка эта сделалась знаменитой больше благодаря своей трагической любви к графу Морицу Саксонскому, чем благодаря своему таланту. Дело в том, что легкомысленный сын короля, находясь в связи с артисткой, завязал также сношения с двумя другими дамами, и одна из них отравила бедную Адриенну, послав ей пропитанный ядом букет (по другой версии, она ей послала коробку конфет). Артистка умерла в одиночестве, покинутая всеми. Один только Вольтер явился к ней в последнюю минуту, закрыл ей глаза и присутствовал на ее похоронах. Артисты и артистки отлучались тогда от церкви и хоронить их, как прочих смертных, нельзя было. Без всякой церемонии, без свеч, ладана, даже без гроба, а просто закутанной в холст наподобие пакета знаменитая покойница была положена на наемные дроги и погребена на берегу Сены. Вольтер был возмущен этим и написал апофеоз, который остался прекраснейшим, истинно нерукотворным памятником Адриенне Лекуврер.
Вскоре после этого Вольтер поехал в Лондон, где присутствовал на торжественных церковных похоронах артистки Сиддонс, что дало ему повод сравнить Францию и Англию по степени толерантности. Величественные похороны Ньютона, гроб которого несли шесть герцогов и шесть графов, также произвели на него сильное впечатление. Он негодовал против французского правительства, которое не признавало еще культа гения. Если бы только он мог предчувствовать, что его собственные похороны будут еще более блестящими, чем погребение Ньютона, то, конечно, у него не хватило бы столько негодования против Франции и ее правительства. Но он не знал и поэтому, вернувшись на родину, обрушился там на власть имеющих со всей силой могучей сатиры. Вполне естественно, что ему опять пригрозили Бастилией. И вот, чтобы избавиться от этой опасности, Вольтер уехал из Парижа и под ложным именем поселился в Руане. Там именно сошелся он с маркизой дю Шатле, которую, как сказано, он называл «божественной Эмилией» и которая, как мы сейчас увидим, имела огромное влияние на всю его дальнейшую жизнь и писательскую деятельность.
Вольтер и маркиза дю Шатле
С маркизой дю Шатле Вольтер встретился при исключительных обстоятельствах. Находясь в вечном страхе быть узнанным и отправленным в Париж, где его уже ждала Бастилия, он никуда не выходил из дому и вел жизнь настоящего отшельника. Однажды в лунную ночь он все-таки решился выйти на прогулку. Возвращаясь домой в свою скромную квартиру, он заметил недалеко от нее нескольких человек, которые, по-видимому, кого-то поджидали. Они делали угрожающие жесты своими палками, и Вольтер невольно вспомнил случай из своей жизни, происшедший с ним в Париже и наполнивший его сердце ненавистью к сливкам дворянства. Это была знаменитая выходка герцога Роган-Шабо, который приказал своим слугам поколотить Вольтера на улице за то, что тот задел его в памфлете. Физически слабый поэт едва не умер тогда под ударами усердных слуг, и вполне понятно, что, увидев теперь мужчин, вооруженных палками, почувствовал, что душа его уходит в пятки. Не решаясь войти в свою квартиру, он стал думать, куда бы бежать, как вдруг новое зрелище привлекло его внимание. Стройная амазонка с развевающимися перьями на шляпе ехала в сопровождении кавалера и остановилась у дома, в котором он жил. Ее появление испугало, по-видимому, группу мужчин с палками, и они разошлись. Ободренный этим, Вольтер вышел из своего укрытия и поклонился даме, которую мог считать своей спасительницей.
При волшебном сиянии луны женщина эта могла показаться поэту поистине божественной, и это первое впечатление врезалось в его память навсегда. Она действительно явилась его спасительницей. Войдя к нему, прекрасная незнакомка рассказала, что, узнав в Париже от друзей о его пребывании в Руане, где ему постоянно грозит опасность быть открытым, она прискакала на коне в Руан, чтобы предложить ему помещение в своем замке. Ее муж, которым оказался сопровождавший ее кавалер, относился с таким же уважением к поэту и решился ограждать его от всяких насильственных мер со стороны правительства. Нечего и говорить, что Вольтер с радостью принял предложение и много лет провел в их замке. Впоследствии он жил в полуразрушенном замке Сирей, который при его содействии был опять превращен в жилое помещение. Вольтер уже мог в это время оказать денежную поддержку, так как, благодаря подписке на его «Генриаду» в Англии, а также благодаря многочисленным удачным операциям, у него оказалась ежегодная рента в 80 000, а по другой версии — даже в 150 000 ливров.
Пятнадцать лет провел он со своей подругой в этом замке, которому придал характер настоящего волшебного уголка, и время это совпало с высшим подъемом его творческой деятельности, так что влияние дю Шатле можно считать благотворным для всей его литературно-общественно-философской карьеры. Там, в уединенном уголке, он мог основательно обдумать впечатления, вынесенные из свободной Англии, и, претворив их в собственные убеждения, выступить со всей силой мощного таланта против разъедающих зол тогдашнего общественно-политического строя во Франции. Он ополчился против тиранов, хотя признавал Бога и короля, и восстановил против себя целую армию врагов — королей, парламентских советников, священников, артистов, писателей. Его сочинения не раз сжигались публично рукой палача в Париже, Берлине, Женеве. Гонения не достигали цели, так как беспокойная натура его только окрылялась после каждого насильственного шага и в своей беспощадной борьбе за людей и человечество он иногда казался даже противникам одним из священных рыцарей, присланных на землю для высокой миссии служения добру. «Да, — восклицает Карлейль восторженно, говоря о Вольтере, — этот человек пришел на землю не для того, чтобы прославить ваши сухие кучи и счастливых петухов, которые в них роются, а для того, чтобы метать молнии и в одно прекрасное время произвести в мире пожар».
Таков был человек, с которым Эмилия дю Шатле отважилась заключить союз тесной дружбы. Несмотря на то что она обладала крупными знаниями и по образованности стояла на высоте века, в ее мировоззрении замечалась романтическая струя. «Она немножко пастушка, — сказал про нее однажды Вольтер, — правда, пастушка в бриллиантах, с напудренными волосами и в огромном кринолине». Вольтер не мог любить всей силой существа, но он, несомненно, питал к ней глубокую привязанность, и этому, вероятно, нужно приписать то, что пятнадцать лет, проведенные с ней, были временем расцвета его творчества. После разлуки с ней он только один раз сумел подняться до прежней высоты вдохновения — в «Танкреде». Недаром он называл Сирей «земным раем» и в 1733 году писал:
«Я больше не поеду в Париж, чтобы не подвергать себя бешенству зависти и суеверия. Я буду жить в Сирее или на своей свободной даче. Ведь я вам всегда говорил: если бы отец, мой брат или мой сын сделался первым министром в деспотическом государстве, я бы от них отрекся на следующий же день. Поэтому можете судить, как неприятно я себя здесь чувствую. Маркиза для меня больше, чем отец, брат или сын. У меня только одно желание — жить затерянным в горах Сирея».
Вольтер и затерян!
Маркиза хорошо понимала характер великого поэта и, зная, что значит иллюзия в жизни человека, писала в статье «О счастии»: «Не надо разрушать блеск, который иллюзия бросает на большую часть вещей, а наоборот, ему нужно придать поэтический оттенок».
Была ли красива Эмилия? Современники отзываются неблагоприятно о ее наружности. Маркиза Креки, кузина дю Шатле, старается выставить ее совсем некрасивой женщиной. «Она, — рассказывает маркиза, — была крепкого телосложения, лихо ездила верхом, охотно играла в карты и пила крепкое вино. У нее были ужасные ноги и страшные руки. Кожа ее была груба, как терка. Словом, она представляла собой идеального швейцарского гвардейца, и совершенно непонятно, как это она заставила Вольтера сказать себе столько любезных слов».
Единственно, что можно сказать в пользу ее наружности, — это то, что она была очень стройна. По временам она со своими неподвижными глазами и длинным лицом напоминала привидение; но та же Эмилия, когда она мчалась на своем быстром коне по горам и долинам, казалась плодом поэтического воображения. Она родилась в 1706 году, получила серьезное научное образование, понимала по-латыни, знала геометрию и философию. «Каждый год, — замечает одна язвительная современница, — она производила смотр своим принципам из боязни, как бы они не ускользнули от нее».
С большим удовольствием занималась она естественными науками и перевела сочинения Ньютона на французский язык. Маркиз дю Шатле женился на ней, конечно, не из любви и не из жадности, так как Эмилия де Бретейль была бедной девушкой. Супруги жили так, как жили вообще во времена регентства, когда признаком хорошего тона считалось, чтобы муж находился в одном месте, а жена — в другом. Он волочился за оперными артистками, она завладела сердцем герцога Ришелье. Все эти грустные истории были забыты, когда летом 1733 года она сошлась с Вольтером и «остепенилась». Поэту было в то время 39 лет, а маркизе 27.
Жизнь возлюбленных в Сирее подробно описана современниками и современницами Вольтера. Покои в замке были обставлены с волшебной роскошью. Мраморные статуи, бронза, серебро, драгоценные каменья — все это приковывало к себе внимание на каждом шагу. Особенно роскошно были обставлены комнаты самой «божественной Эмилии», напоминавшие сказку из «Тысячи и одной ночи». Немало сплетен передавалось о них в парижском обществе, но что им было до этого за дело? Они работали усердно, каждый для себя, и в этом, по-видимому, была цель их существования. Маркиза даже ночью решала геометрические задачи, а Вольтера приходилось иногда по 3–4 раза звать к обеду, о котором он совершенно забывал за письменным столом. Потом, за шампанским, живший в нем демон превращался в ту полусмешную, полузлую «обезьяну», которую видели в нем его враги. Он начинал рассказывать всякие истории, декламировал стихи, шумел, язвил, издевался и, как выразился один его современник, «стоя одной ногой в могиле, другой делал в воздухе веселые движения». Все время, однако, он оставался «королем Вольтером». Камердинер стоял за его креслом во время обеда, слуги подносили ему блюда и вина, «как пажи дворянам короля». По временам он только поворачивал свою некрасивую голову, чтобы сказать: «Позаботьтесь-ка о маркизе!»
И так проходили все вечера, пока какая-нибудь литературная ссора, какая-нибудь враждебная рецензия на его новую книгу не вызывала морщин на его лбу и еще больше на лбу маркизы. В этих случаях обеды возлюбленных напоминали трапезы Полифема в его мрачной, ярко-красной от огня очага берлоге. Только постепенно после этого прояснялось небо над Сиреем, и в замке начиналось дикое веселье, невольно заставлявшее вспоминать шабаши ведьм.
Так шла жизнь в Сирее. Говоря вообще, там было довольно скучно. Визитеры, для которых «божественная Эмилия» могла бы петь своим «божественным голосом», а Вольтер делать пунши, наезжали редко. Маркиз дю Шатле, иногда посещавший замок любовника своей жены, по обыкновению ворчал, был недоволен и скоро уезжал. Лавровые венки также не всегда получались из Парижа. Часто случалось, что Вольтер и Эмилия подолгу оставались во дворце одни. Однажды — это было в 1734 году — однообразие было нарушено неожиданным обстоятельством: Вольтеру сообщили, что его арестуют, и он бежал в Голландию. В отчаянии Эмилия писала своему другу д'Аржантайлю: «Сто пятьдесят миль отделяют меня от вашего друга, и вот уже двенадцать дней, как я не получала никаких известий о нем. Прощение, прощение! Но мое положение ужасно! Еще две недели тому назад я не могла без горя провести вдали от него два часа; затем я посылала ему записки из своей комнаты в его комнату, а теперь мне неизвестно, где он и что он делает, я не могу даже воспользоваться печальным утешением, которое доставило бы мне возможность разделить его несчастье!»
Несмотря на пламенную привязанность друг к другу, между возлюбленными бывали и ссоры, причина которых заключалась главным образом в том, что Эмилия слишком любила естественные науки, относясь индифферентно к поэзии и истории. В минуты недовольства она даже открыто говорила, что было бы гораздо лучше, если бы Вольтер вовсе не писал стихов. Его «Историю Людовика XIV» она держала под замком, а Тацита называла «старой прачкой». Все это вызывало пререкания между возлюбленными, и г-жа Графиньи, часто бывавшая в Сирее, рассказывает, что однажды в ее присутствии «тарелки летели через стол». Она забыла, летели ли также серебро и фарфор, но что тарелки летели, она отлично помнит. «Не гляди на меня так своими глазищами!» — сказал раз раздраженный поэт своим хриплым басом маркизе, которая тут же схватила нож.
Словом, сцены бывали серьезные, но они быстро прекращались, и тот же Вольтер, который бросал в возлюбленную тарелкой, посылал ей потом стихотворные комплименты вроде следующего:
Sans donte vons serez celebre Par ces grands calculs de l’algfebre, Oh votre esprit est absorbs. J’oserai m’y livrer moi-meme, Mais helas! A+plus D — moins В N’est pas = egal a je vous aime![82]В свою очередь и маркиза скоро забывала ссору и опять возвращалась к прежнему чувству. Однажды она написала на стене своего сада: «Одиночество — счастье, когда можно иметь хорошую книгу и великого друга».
Так, вероятно, текла бы жизнь возлюбленных и дальше, если бы Эмилия, несмотря на пламень своей любви, в одно прекрасное время не оказалась самой банальной женщиной, отдающейся первому мужчине, который произвел на нее впечатление. Она изменила. Случилось это в 1748 году, когда маркиза жила вместе с Вольтером при дворе польского короля Станислава Лещинского, окружавшего себя только гениальными людьми. Там, несмотря на свои сорок лет, она влюбилась в сухого, холодного и ограниченного офицера Сен-Ламбера, влюбилась, вероятно, потому, что ей было 40, а ему только 30 лег. Связь эта продолжалась недолго, но причинила много горя Вольтеру. Узнал он о ней случайно: войдя однажды к маркизе, Вольтер застал ее на софе около Сен-Ламбера в положении, исключавшем всякие сомнения насчет их настоящих отношений. Последовал очень оживленный разговор. Сен-Ламбер был дерзок, Вольтер — возмущен. Он тотчас же решил уехать и, вернувшись к себе, приказал приготовить карету, но маркиза не дала ему исполнить свою угрозу. Злые языки говорят, что, войдя в комнату разгневанного любовника, она спокойно села у постели, на которой он лежал, и сказала:
— Будьте же благоразумны, друг мой. Я знаю, вы всегда заботились о моем здоровье: вы одобряли режим, который наиболее соответствовал ему, и любили меня так долго, как только могли. В настоящее время вы сами сознаетесь, что не можете долее продолжать в том же духе без ущерба для вашего здоровья. Неужели же вы будете сердиться, если один из ваших друзей решился помочь вам?
— Ах, сударыня, — отвечал Вольтер, невольно преклоняясь перед логикой своей подруги, — всегда выходит так, что вы правы. По крайней мере, соблюдайте осторожность и не делайте таких вещей на моих глазах.
На следующий день Вольтер уже совершенно примирился с положением и при встрече с Сен-Ламбером протянул ему руку и сказал:
— Мой дорогой мальчик, я все забыл. Виноват во всем я. Вы в таком возрасте, когда нравятся и любят. Пользуйтесь же этими мгновениями: они слишком коротки. Я — старик, человек больной, и эти удовольствия уже не для меня.
Вечером за ужином у маркизы де Бурле Вольтер, обращаясь к Эмилии, продекламировал следующее двустишие:
C'est ta main qui cueille les roses Et les epines sont pour moi.[83]Связь с Сен-Ламбером стоила маркизе жизни: она забеременела и умерла 10 сентября 1749 года, через несколько дней после родов, оставив Вольтеру грустное воспоминание о днях блаженства, окончившихся таким печальным финалом. Вольтер и муж дю Шатле, потрясенные, стояли у ее смертного одра. Вдруг поэт вспомнил, что маркиза всегда носила на груди медальон с его портретом. Муж в свою очередь думал, что портрет в медальоне — его собственный. Огорченные ее смертью и в то же время сгорая нетерпением убедиться в чувствах покойной, оба они стали шарить на груди маркизы. Вот, наконец, медальон найден. Они его открывают. О, ужас! В нем действительно портрет, но не Вольтера и не мужа, а Сен-Ламбера! «Небо, — воскликнул поэт, подняв обе руки вверх, — таковы женщины! Я вытеснил Ришелье, Сен-Ламбер вытеснил меня. Клин клином выбивается. Так все идет на свете!»
Тем не менее смерть маркизы, которая имела такое большое влияние на его творческую деятельность, привела Вольтера в отчаяние, и он писал об этом Фридриху Великому: «Я только что присутствовал при смерти подруги, которую любил в течение многих счастливых лет. Эта страшная смерть отравит мою жизнь навсегда. Мы еще в Сирее. Ее муж и сын со мной. Я не могу покинуть помещение, освященное ее присутствием; я таю в слезах и в этом нахожу облегчение. Не знаю, что из меня будет, я потерял половину своего „я“, потерял душу, которая для меня была создана». И действительно, жизнь его как бы была сломана. Одно время он думал даже поступить в монастырь и посвятить себя науке, а потом увлекся Англией и философией Локка. Наконец он поехал в Париж, а затем в Ферней, где нашел и почет, и поклонение женщин, но уже ни одна из них не заняла в его сердце места, которое принадлежало его «божественной Эмилии».
Последние годы жизни Вольтера ознаменовались влиянием новой женщины, но влияние это уже было совсем иного рода. Речь идет о племяннице Вольтера, г-же Дени, которая тиранила его в Фернее и таскала повсюду, где можно было пожать лавры и получить деньги. Г-жа Эпине так характеризует ее в своих мемуарах: «Племянница Вольтера уморительна. Это маленькая, толстая женщина, совершенно круглая, в возрасте около 50 лет. Другой подобной женщины, конечно, нет. Отвратительная, лживая, но без злости, без всякого ума, который ей так хотелось бы иметь, крикливая, любящая споры, рассуждающая о политике и литературе, о которых она не имеет никакого понятия. Она обожает своего дядю как дядю и человека; он также любит ее, но издевается над ней». Эта-то страшная племянница потащила престарелого Вольтера в 1778 году в Париж, где он и умер 30 мая от восторга по поводу оказанного ему приема.
Перед смертью, однако, ему еще раз пришлось вкусить прелесть женской любви и привязанности. Маркиза де Вильет, утверждавшая, что любит его, как дочь, пригласила великого человека к себе в дом, но не могла спасти его от смерти, несмотря на свой теплый уход за ним. Это была последняя женщина, игравшая роль в жизни фернейского философа.
Расин
Расин[84] пользуется у нас почетной неизвестностью. Имя его знакомо всем, но никто не читает его произведений. Между тем жизнь и деятельность этого человека представляют большой интерес не только для истории литературы, но и для характеристики отношений между поэтами и женщинами.
Каждая литература пережила период, известный под названием «ложный классицизм». Странный это период. Взрослые люди как бы превращаются в детей и начинают показывать, что они — взрослые. Чего тут только не проделывается! Из старых фамильных сундуков вытаскивается старинное платье, оставшееся еще со времен Очакова и покорения Крыма; со стен снимается устарелое оружие, уже сотни лет висящее на них, как мертвые свидетели бурлившей некогда жизни; выуживаются из далеких времен забытые слова, застывшие на страницах истории формулы. И когда все это сделано, взрослые люди, неожиданно превратившиеся в детей, начинают напяливать на себя старомодные костюмы, бряцать вышедшим из употребления оружием и говорить языком, для понимания которого нужен опытный филолог. Все ходульно, все вычурно. Ни единое слово не говорится в простоте, а все с ужимкой. Об истинных чувствах, о настоящем языке страстей и речи быть не может. Слова готовы заранее, формулы выработаны давно, и, чтобы выразить то или другое чувство, достаточно выбрать только любую фразу из богатой коллекции готовых оборотов, хранящихся под стеклом витрин в обширном музее национального лжеклассицизма.
Вместе с Корнелем Расин явился наиболее ярким, наиболее талантливым выразителем этого течения. Герои его — как бы мраморные изваяния, но не те, с которыми сравнивали фигуры «Войны и мира» Толстого, а другие — безжизненные, неподвижные, мертвые. Они, конечно, напоминали жизнь, но не больше, чем искусственный бассейн, заключенный в гранитной рамке, напоминает свободное море в его свободных берегах. Все перепутывалось — природа с вымыслом, прошлое с настоящим. Когда выводился на сцену француз, трудно было сказать, чего в нем больше — французского или древнеримского; когда выводился римлянин, в нем опять проглядывал тот же француз. Ахилл Расина галантно называет Ифигению madame и читает ей написанный строгим александрийским стихом монолог о сердечных ранах, которые она причинила ему своими глазами. Разве это не напудренный маркиз времен Людовика XIV? Напрасно даже носят герои Расина имена: каждого из них можно назвать как угодно, и дело от этого не изменится. Душевные волнения изображались шаблонными приемами. Вместо настоящего чувства были слова о чувствах. И люди не лгали, — нет, — время было такое. Чопорность обстановки, внешний лоск, наружное величие эпохи — все воспитывало человека на внешних проявлениях. И уста с жаром шептали: «Люблю тебя!» — в то время как сердце было пустынно и безмолвно.
Но жизнь предъявляла права. Мужчины и женщины сходились, читая друг другу восторженные монологи, как это мы видели на характерном примере Шарлотты Кальб и Гёте; но когда снимались напудренные парики и со щек смывались румяна, люди оказывались лицом к лицу с голой действительностью. Не до монологов уже было, когда мужу приходилось выдавать жене на наряды больше, чем это было в его средствах, или когда ребенок пачкал пеленки. Поэзия исчезала вместе с мишурой, из которой она была соткана, и начиналась сухая проза со всеми ее неприглядными сторонами. Оттого-то так прекрасны бывали в то время отношения между мужчинами и женщинами вне семьи и так жалки и печальны в семейной обстановке, где более рельефно выступало неравенство между супругами, раньше сглаживавшееся одинаковостью париков и однообразием внешних приемов.
Не избег этой участи и Расин. Кто бы мог думать, что величавый, напыщенный, весь в кудрях и буклях Расин, все существо которого, по-видимому, было строго проникнуто тремя единствами, как и его произведения, провел жизнь с женщиной, во многих отношениях напоминавшей Матильду Гейне или Христину Гёте? Как и жена великого германского лирика-остроумца, жена Расина никогда не читала произведений своего мужа и даже не видела на сцене ни одной из его пьес, что еще более удивительно. Женитьба на такой особе могла быть следствием только каких-нибудь особых обстоятельств, какого-либо особого душевного настроения или запутанности понятий. И действительно, в судьбе Расина играли роль то и другое. Он переживал душевный перелом в то время, когда встретился с женщиной, сделавшейся впоследствии его женой.
Достигнув вершины славы, он вдруг решил больше не писать драматических произведений, так как они будто бы приносят вред публике. Вместе с этим он решил поступить в суровый орден картезианцев. Духовник, однако, посоветовал ему лучше жениться на серьезной, благочестивой женщине, так как обязанности семейной жизни отвлекут его от нежелательной страсти к стихам лучше всяких религиозных орденов. Расин послушался доброго совета и женился на Катерине де Романэ, девушке из хорошей семьи, но, как сказано, не имевшей ни малейшего понятия о его произведениях, да и вообще не интересовавшейся литературой. Названия трагедий, прославивших имя ее мужа во всей Европе, она узнавала только из бесед со знакомыми.
Однажды Расин вернулся домой с тысячью луидоров, которые подарил ему Людовик XIV, и, встретив жену, хотел ее обнять и показать деньги; но жена отвернулась. Она была не в духе, так как ребенок ее уже два дня подряд не приготовлял уроков. Оттолкнув пристававшего мужа, она стала осыпать его упреками. Расин воскликнул:
— Послушай, об этом мы как-нибудь поговорим в другой раз, теперь же все долой и будем счастливы!
Но жена не отставала, требуя, чтобы он тотчас же наказал ленивца. Выведенный из терпения, Расин воскликнул:
— Черт возьми! Но как даже не посмотреть на кошелек, в котором 1000 луидоров?
Однако это стоическое равнодушие к деньгам не объяснялось нравственными качествами жены Расина. Она просто была неумна. Молитвенник и дети были единственными предметами, представлявшими для нее интерес на белом свете. Все это не раз заставляло Расина жалеть, что он не поступил в монастырь. Особенно негодовал он, когда заболевал какой-либо ребенок — обстоятельство, не мешавшее ему, впрочем, быть превосходным отцом семейства, с удовольствием принимавшим участие в играх детей.
Если проследить отношение Расина к жене в связи с отношениями его героев к женщинам, то бросится в глаза удивительное сходство. Но иначе и не могло быть. XVII век во Франции ознаменовался, как мы увидим впоследствии, расцветом половых отношений, но в них и намека не было на истинную любовь. Женщина была только предметом удовольствия, и счастье ее зависело от того, насколько она умела нравиться. С другой стороны, большую роль играл вопрос о знатности происхождения женщины. Знатная женщина всегда могла рассчитывать на большой круг воздыхателей, и литература, это верное зеркало общественной жизни, оставила нам немало памятников, свидетельствующих об этой оригинальной полосе в истории женского вопроса.
Сам Расин не стесняется навязывать своим героям пылкие чувства, в основании которых лежит только культ знатности. Об облагораживающем влиянии любви, о смягчении нравов не могло быть и речи. Наоборот, она скорее озлобляет сердца. Стоит, например, вспомнить хотя бы его Федру, которая посылает на смерть свою преданную служанку именно тогда, когда находится под обаянием любовного чувства. Мудрено ли, что сам Расин мало думал об искреннем чувстве, когда отдавал руку и сердце пустой, но знатной Катерине де Романэ? Мудрено ли также, что впоследствии он не нашел в ней не только истинной подруги жизни, но даже и читательницы своих произведений?
Альфред де Мюссе
Неизвестно, чем больше прославился Альфред Мюссе[85]: своими драмами и стихотворениями или любовью к Жорж Санд. Вернее всего, что то и другое сослужили ему большую службу; но в то время как произведения его все более и более уходят в область истории литературы, любовь его к знаменитой писательнице до сих пор остается предметом общего интереса. Все рушится, все имеет пределы, одна только любовь вечна и неизменна.
Мюссе — французский Байрон. Как и певец Чайльд-Гарольда, он находился в разладе с окружающей обстановкой. Но он был более Байрон, чем сам Байрон. В то время как английский поэт смотрел на страдание, как на красивый плащ, в который можно задрапироваться, рисуясь перед презираемыми и презренными людьми, Мюссе поистине страдал. Он горе свое носил не на плечах, а в сердце. Вместе с этим, однако, Мюссе напоминал во многих отношениях и Гейне, который был в восторге от его таланта. О подражании, конечно, не могло быть и речи, так как Мюссе не понимал по-немецки и не раз говорил, что никогда не читал немецкого поэта, хотя на французском языке есть переводы произведений Гейне, им же самим сделанные.
О себе самом Мюссе говорил, что он — ученик Вольтера и Руссо, в чем не верить ему нельзя, так как вряд ли можно найти во Франции писателя, который так или иначе не находился бы под влиянием обоих этих корифеев французской письменности. Разрушительная ирония Вольтера и сентиментальность Руссо господствуют во французской литературе теперь так же, как и во времена энциклопедистов. Наоборот, лирическая поэзия — продукт нового времени во Франции. Виктор Гюго и Ламартин были в этой области непосредственными предшественниками Мюссе, но он превзошел их силой выражения и красотой чувства. Он даже сумел меланхолию Байрона облечь в более поэтическую форму, а иронии Гейне придать более язвительный характер, хотя и был не особенно высокого мнения о размерах своих сил.
Стакан мой мал, но все же я Из своего лишь пью стакана.[86]Первый сборник своих стихотворений он выпустил в то время, когда ему было всего 20 лет. Вскоре после того были поставлены на сцене его первые драматические произведения, а маленькие романы сделали его любимым писателем во Франции. Он был знатного происхождения, получил превосходное воспитание и никоим образом не мог считаться бедным поэтом, писавшим для хлеба. Родители гордились его успехами и не отказывали ему в деньгах. В высшем обществе им очень дорожили и даже при дворе короля Луи-Филиппа он пользовался немалым почетом. Герцог Орлеанский был его другом, герцогиня Елена знакомила его с германской литературой, прекраснейшие женщины оспаривали друг у друга честь его внимания. Мюссе охотно проводил время в их обществе, участвовал в танцах, пил, завязывал любовные интрижки с представительницами высшего и низшего классов. Он не погиб морально — от этого спасла его детская счастливая натура, но здоровье его пошатнулось. Жизнь была ненормальная. Возвращаясь в полночь домой, он очень часто садился за письменный стол и всю ночь проводил в нервной, лихорадочно-возбужденной беседе с музой. На следующий день; конечно, наступала реакция. Его одолевала усталость. Он изнемогал, и, чтобы вернуться к прежнему состоянию бодрости и силы, ему уже нужно было прибегать к возбудительным средствам — сначала к вину, а затем к водке.
Таков был Мюссе, когда встретился впервые с женщиной, которой суждено было играть огромную роль не только в его жизни, но и во всей французской и даже европейской литературе. Один из современников, видевший его на балу, так описывает наружность поэта: «Он был строен, среднего роста. Костюм его носил следы величайшей заботливости, даже слишком уж большой заботливости. На нем был фрак бронзового цвета с золотыми пуговицами; на его шелковом темного цвета жилете болталась тяжелая золотая цепь; две камей заключали складки его батистовой рубашки; узкий галстук из черного атласа еще более оттенял бледный цвет его кожи. Красота его рук не скрывалась тонкими белыми перчатками. Особенное внимание обращали на себя белокурые густые волосы. Как и у лорда Байрона, они были подстрижены в виде короны над поэтическим лбом и виноградообразными локонами спускались с висков и затылка. У блондинов обыкновенно бороды рыжие, но у него борода была темнее волос на голове, а брови были почти черные. Нос у него был греческий, рот — очень милый. На всей его фигуре лежал отпечаток аристократичности». К сожалению, кроме прекрасных волос и благородной фигуры, у него впоследствии не осталось никаких признаков прежней красоты. Болезни и беспутная жизнь быстро положили им конец.
Мюссе и г-жа Делакарт
Однако еще до встречи с Жорж Санд Альфреду Мюссе пришлось изведать все прелести науки страсти нежной. Первая страсть охватила поэта в то время, когда ему было восемнадцать лет, и результатом этого был целый ряд стихотворений, вышедших потом отдельной книгой под названием «Испанские любовные песни». Предметом его страсти была испанка Делакарт, урожденная баронесса Бозио. По свидетельству современников, она принадлежала к красивейшим женщинам Франции. Отец ее, известный скульптор, отдал, согласно местному обычаю, свою дочь для воспитания в монастырь, не обращая внимания на ее темперамент и характер. Ложное воспитание имело то следствие, что молодая девушка еще более начала стремиться к радостям жизни. Нимфы и богини, которых высекал барон Бозио, нравились ей больше, чем статуэтки строгих святых, которые она видела у благочестивых сестер. Без любви, только для того, чтобы выйти замуж и сделаться свободной, отдала она одному старику руку, после чего отдалась всем существом веселой жизни Парижа. Она блистала и очаровывала окружающих в такой среде, в которой женщина ставилась на высокий пьедестал, и, постоянно имея дело с талантливыми людьми, быстро приобрела знания, необходимые для салонной дамы прежнего времени. Вместе с этим в ней все более и более стало усиливаться сознание собственной красоты и грации. Модные в то время туалеты были ей не по вкусу; она охотно предпочла бы легкие греческие ткани времен Директории. Товарищ ее отца, Джемс Прадье, статуя которого «Легкая поэзия» создала ему большую известность, пошел навстречу ее склонности и создал для нее классический костюм, как это обыкновенно делал для знаменитой трагической артистки Рашель. Много шума вызвал в то время бал-маскарад в его мастерской, на котором жена хозяина дома появилась в костюме Венеры Милосской по образцу луврской статуи. Маркиза Делакарт приехала на этот бал переодетой богом Гименеем — в розовом газовом костюме с высокой талией, который удерживался на левом плече драгоценной камеей. «Подобна апельсину на столбе», — пел о ней молодой Мюссе, которого она представила в качестве пажа при своем дворе. Поэт точно изобразил эту подвижную, порхающую женщину в своем «Дон Паэце».
Но недолго продолжалось счастье Мюссе. Легкомысленная женщина быстро променяла его на Жюля Жанена, Критика и фельетониста «Journal des Débats», предоставившего черноволосой Армиде свою постоянную ложу во Французском театре. Чтобы вознаградить его за эту любезность, г-жа Делакарт, которую Мюссе называл «львицей Барселоны», отправилась на квартиру писателя и там осталась. «У Жанена, — сказала она, — больше остроумия и умения жить, чем у плаксивого Мюссе». Но вероятнее всего, что ее прельстила больше любовь Жанена к роскоши и лукулловским обедам. Жанен окружил себя роскошнейшей обстановкой, между тем как в остальном Париже устройство квартир отличалось большой простотой. Комната Жанена в стиле рококо принадлежала к достопримечательностям Парижа. Приемная была украшена дрогоценными гобеленами, на которых были воспроизведены мягкие пасторальные картины Фрагонара и Буше. Библиотека в стиле Людовика XVI была превосходной. Но более всего приковывал к себе взоры овальной формы зал с разными портретами бывшей подруги Жанена — m-lle George, знаменитой артистки, великолепно исполнявшей роли Марии Тюдор и Лукреции Борджиа в драмах Виктора Гюго. Образцовое произведение Жерара, на котором артистка изображена в духе Тициана и которое после смерти Жанена стало украшать фойе Французского театра, висело над мраморным камином. Драгоценные вазы из китайского фарфора и нежные пастели Латурэ украшали уютный будуар за усаженной цветами террасой. В тенистом саду была оранжерея, а несколько дальше — элегантная ванная. В этом маленьком раю действительно недоставало только соблазнительной маркизы в качестве folle du logis, по выражению Жанена. Что подруга властного журналиста могла рассчитывать на всеобщее поклонение, было хорошо известно маркизе, вот почему она без долгих колебаний дала чистую отставку Альфреду Мюссе, который вел жизнь скромного юноши и никогда не имел при себе часов, так как они были заложены. Писатели, художники, артисты собирались благоговейной толпой вокруг новой Евы жаненовского рая. Бедному поэту только и осталось сказать ей последнее «прости» в патетическом стихотворении, озаглавленном «Октябрьская ночь».
Конец маркизы был более грустен, чем ее начало. Поведение ее начало делаться все более и более сомнительным. Жажда новизны и легкомыслие сделали то, что из мира художников и журналистов она попала в полусвет. Когда отцвела ее красота, она начала вести уединенную жизнь, облеклась в траур и стала каяться в грехах прошлого. Во время этих покаяний и молитв и застала ее смерть на меланхолическом курорте Трепоре, где маркиза искала душевного покоя в последние годы жизни.
Мюссе и Жорж Санд
В то время когда Мюссе находился еще в зените красоты и славы, начинала всходить на литературном небе Франции звезда Авроры Дюдеван. Она уже успела выпустить за подписью «Жорж Санд» четыре романа: «Rose et Blanche», «Indiana», «Valentine», «Lelia», которые тотчас обратили на себя всеобщее внимание. Все были в восторге, и деньги обильно посыпались под крышу чердака, на котором жила молодая женщина, начинавшая уже думать, что несчастья и бедность останутся навсегда ее уделом. Аврора Дюдеван, урожденная Дюпен, была правнучкой знаменитого маршала Морица Саксонского, виновника трагической кончины Адриенны Лекуврер. После смерти возлюбленной актрисы он сошелся с актрисой, которая родила ему девочку, получившую имя Авроры. Впоследствии Аврора Саксонская молодой, красивой и непорочной девушкой вышла за знатного развратника графа Гоорна, который, к счастью молодой женщины, вскоре после того был убит на дуэли. Шестнадцатилетней вдовой она жила некоторое время в монастыре, а затем переехала к своей матери, бывшей актрисе, причем вела уединенный образ жизни, совершенно чуждаясь мужчин.
Так прожила она до тридцатилетнего возраста, когда случай столкнул ее с одним чиновником министерства финансов Дюпеном, называвшим себя также де Франсейлем. Это был любезный, уже пожилой господин, представитель старофранцузской школы вежливости и образования. Несмотря на шестьдесят лет, ему удалось расположить в свою пользу тридцатилетнюю красавицу и вступить с ней в брак, оказавшийся очень счастливым. От этого брака родился сын, названный Морицем в память Морица Саксонского, сын, который, будучи единственной радостью матери, сделался впоследствии источником бесконечных страданий для нее вследствие своего легко мысленного и порочного образа жизни. В бурные дни Наполеона I он влюбился в женщину сомнительного поведения и тайно обвенчался с ней. Мать, которая к тому времени вторично овдовела, была в отчаянии, когда узнала об этом, и для молодой четы началась тяжелая жизнь, полная горя и лишений, так как Мориц, будучи офицером, не в состоянии был прокормить жену и принужден был жить на средства матери.
В это тяжелое, почти безвыходное для легкомысленного Морица и его еще более легкомысленной жены время и родилась у них дочь, названная опять при крещении романтическим именем Авроры, сделавшимся уже чем-то вроде фамильного достояния. Это и была знаменитая Жорж Санд. Рано потеряв отца, она осталась на иждивении матери и бабушки, причем сделалась невольной участницей их беспрерывных дрязг и раздоров. Грустное это было время. Бабушка то и дело упрекала мать девочки за то, что она низкого происхождения, а также за ее легкомысленные отношения с молодым Дюпеном до брака. Девочка, понятно, брала сторону матери, и ночью не раз можно было видеть их обоих по целым часам проливающими горькие слезы. Отсюда крайняя нервная раздражительность, которая так часто идет рука об руку с гением.
Восемнадцати лет Аврора вышла замуж за молодого артиллерийского поручика Казимира Дюдевана. Это был незаконный сын одного полковника, барона, от которого, вследствие незаконности происхождения, он не унаследовал ни титула, ни состояния. Однако отец усыновил его и ассигновал некоторую сумму на его женитьбу. По французским законам, невеста должна всегда указать приданое. Если последнее будет найдено недостаточным, то самый подходящий брак может быть расторгнут, причем обе стороны не имеют права жаловаться. Аврора унаследовала от бабушки имение с замком Ноган. Имение считалось более крупным, чем было на самом деле, и, несомненно, послужило первой причиной недовольства между супругами, которое впоследствии повело к полному разрыву.
Первые годы брачной жизни, однако, носили на себе печать счастья. Сын, также названный Морицем по имени знаменитого Морица, и дочь Соланж явились для Авроры истинным утешением. Она шила на детей, хотя и плохо владела иглой, заботилась о хозяйстве и всеми силами старалась сделать мужу приятной жизнь в Ногане. Сводить концы с концами, однако, ей не удавалось, и это послужило новым источником пререканий и неприятностей. Чтобы увеличить доходы, Аврора начала шить на сторону, вязать, рисовать; но доходы были дотого малы, что она должна была отказаться от этого дела. Тут она занялась переводами и начала писать роман, который, вследствие многих недостатков, был позднее брошен в огонь.
Все это не могло способствовать семейному счастью. Ссоры продолжались, и в одно прекрасное время муж позволил тридцатилетней жене уехать в Париж с дочуркой и там поселиться на чердаке, чтобы самой добывать средства к существованию. На дорогу он ей дал несколько сот франков из ее собственного состояния — сумма, которой едва хватило на первые дни пребывания в шумном и тревожном Париже.
Для бедной женщины началась тяжелая пора. Чтобы избавиться от расходов на дорогостоящие женские наряды, она стала носить мужской костюм, который был еще полезен тем, что давал ей возможность свободно ходить по городу во всякое время. В длинном сером (модном в то время) пальто, круглой фетровой шляпе и крепких сапогах с железными гвоздями бродила молодая женщина по улицам Парижа, счастливая своей свободой, которая вознаграждала ее за лишения. Она обедала за один франк, сама стирала и гладила белье, водила девочку гулять, причем поднимала ее на руках на верхний этаж. Муж, наезжая в Париж, посещал ее и в этих случаях водил жену в театр или какой-нибудь аристократический ресторан. Летом она уезжала на несколько месяцев к нему в Ноган, главным образом для того, чтобы повидаться со своим горячо любимым сыном. Мачеха мужа также иногда встречалась с ней в Париже. Узнав однажды, что Аврора намеревается выпускать книги, она пришла в сильный гнев и начала просить, чтобы имя Дюдеван никогда не появлялось на какой-либо книге. Аврора с улыбкой обещала исполнить эту просьбу.
Живя в Париже, Аврора познакомилась с молодым писателем Жюлем Сандо, с которым вскоре заключила союз тесной дружбы. Часто говорили, что Сандо был первой любовью Авроры Дюдеван и что литературная общность их имела своей первоначальной причиной именно эту любовь. Однако из признаний Жорж Санд видно, что еще задолго до знакомства с Сандо она была влюблена, и притом совершенно платонически, в одного человека, который был от нее далеко, которого она украшала всеми добродетелями и прелестями своей романтически настроенной фантазии. Увидевшись с ним вторично — свидание продолжалось всего несколько минут, — она просила его не выказывать ей своей любви иначе, как в письмах.
В своей автобиографии Жорж Санд не называет его имени, но страницы, которые она ему посвящает, относятся к самым трогательным. Она еще жила тогда в Ногане. До глубокой ночи засиживалась она иногда над пламенными письмами к нему. Кругом шумел ветер; на расстоянии многих миль нельзя было найти ни души, но ее не смущали бури в воздухе и лесу: внизу, в замке, свирепствовали другие бури. Там звенели стаканы и лепетали пьяные голоса. Это брат и муж совершали шумные возлияния Бахусу, повторявшиеся каждую ночь. Каждый день приносил ей убеждение, что дольше в Ногане ей оставаться нельзя, и когда наступал вечер, она опять садилась за письменный стол, чтобы излить чувства своему дальнему другу. Этот друг становился все настойчивее и настойчивее. Он не довольствовался платоническими воздыханиями и от «брака душ», как она называла их привязанность, хотел перейти к другим отношениям. Но Жорж Санд была неумолима и в конце концов должна была согласиться, чтобы ее дальний друг поискал у другой женщины того счастья, которого она сама не могла или не хотела ему дать. Так кончился ее первый роман.
Героем второго романа был, как сказано, Жюль Сандо, с которым она познакомилась в числе прочих студентов, окруживших молодую женщину тотчас по приезде ее в Париж. Вместе с ним, между прочим, она написала свой первый роман. Как кончился этот роман, трудно сказать. Брат Мюссе, изобразивший в своем романе «Он и она» жизнь поэта и его подруги, выставил дело в таком виде, как будто Жорж Санд грубо оборвала свои отношения с Жюлем Сандо, обнаружив крайнюю неблагодарность; но сам Сандо в своем романе «Фернанд» указывает на то, что разрыв произошел с согласия обеих сторон.
Таким образом, роман Жорж Санд с Альфредом де Мюссе был по счету третьим. Когда она сошлась с поэтом, знаменитая писательница уже отжила свою первую молодость и была почти на семь лет старше своего возлюбленного. Была ли она красива? Многие спорили по этому поводу. Одни говорили, что она красива, другие признавали ее отвратительной. Сама она открыто причисляла себя к уродам, доказывая, что у нее нет грации, которая, как известно, заменяет иногда красоту. Современники изображают ее женщиной невысокого роста, плотного телосложения, с мрачным выражением лица, большими, правда, глазами, но рассеянным взором, желтым цветом кожи, преждевременными морщинами на шее и большим лицом. Одни только руки ее они признавали безусловно красивыми. Сам Мюссе, впрочем, описал ее совершенно иною. «Когда я увидел ее в первый раз, — пишет Мюссе, — она была в женском платье, а не в элегантном мужском костюме, которым так часто себя безобразила. И вела она себя также с истинно женским изяществом, унаследованным ею от своей знатной бабушки. Следы юности лежали еще на ее щеках, великолепные глаза ее ярко блестели, и блеск этот под тенью ее темных густых волос производил поистине чарующее впечатление, поразив меня в самое сердце. На ее лбу лежала печать бесконечности мыслей. Говорила она мало, но твердо».
Что Жорж Санд, несмотря на свою некрасивую наружность, все-таки производила впечатление красивой женщины, доказывает отзыв Гейне, который видел писательницу в то время, когда с ней познакомился Мюссе. По его словам, она напоминала Венеру Милосскую, но только сделанную из черного мрамора, так как на ней было черное атласное платье в момент встречи с германским лириком. Во всяком случае, сильное впечатление, которое она тотчас же произвела на Мюссе, этого баловня женщин, свидетельствует, что в ней было много притягательной силы. И действительно, Мюссе сам впоследствии рассказывал, что он как бы переродился под влиянием этой женщины, что ни до нее, ни после нее он никогда не испытывал такого восторженного состояния, таких приступов любви и счастья, как в дни близкого знакомства с ней. Он уверял, что поэт только тогда может любить искренне, когда сердце его тронуто огнем гениальной женщины, когда ум ее обширен и глубок и в состоянии воспламенить его собственный ум. Поэзия расцвела в его душе, как чудесный цветок, жажда творчества охватила его сильнее, чем когда-либо. Он думал, что обрел наконец любовь и счастье.
Мюссе — один из редких поэтов, относившихся с уважением к «синим чулкам». Он сам говаривал о себе, что представляет в этом отношении полную противоположность родственному его душе Байрону, который питал отвращение к ученым женщинам. Однако пламенная страсть Мюссе не сразу разогрела сердце Авроры, и она медленно уступала его настойчивым ухаживаниям. Сначала на нее произвели приятное впечатление изящные манеры молодого человека, который относился к ней, как к представительнице высшего света, забывая, что она вращалась среди студентов и вела бедную жизнь. Затем ей льстило, что знаменитый поэт обращался к ней с просьбами высказать мнение о его произведениях и любезно предоставлял ей порицать себя. Красота его и любовь играли для нее второстепенное значение. Позднее, впрочем, и она поддалась всепожирающему пламени страсти. О строгости и неуступчивости тут уже не могло быть и речи, тем более что она к тому времени успела развестись с мужем и, следовательно, сделаться совершенно свободной.
Увиделся Мюссе с Жорж Санд в первый раз 15 августа 1833 года на обеде, устроенном редактором незадолго перед тем основанного журнала «Revue des deux mondes». Гостей было много, но среди них была всего одна дама, и по просьбе хозяина повел ее к столу Мюссе. Как рассказывает Брандес, один из участников этого обеда передавал ему в 1870 году, что сближение между Жорж Санд и Мюссе входило в хорошо рассчитанный план дельца Бюлоза. Он заранее объявил своим знакомым: «Пусть их посадят рядком: все женщины считают долгом влюбиться в него, а мужчины — в нее; они, конечно, слюбятся, и какие же тогда рукописи получит журнал!»
Знакомство между двумя великими людьми произошло, может быть, вопреки желанию Жорж Санд, которая раньше страшилась его. Однажды (за полгода до встречи на обеде) она писала Сен-Бёву, что хочет познакомиться с Мюссе, но через некоторое время тому же Сен-Бёву сделала такое замечание в письме: «Взвесив все хорошенько, я не желаю, чтобы знакомили Альфреда де Мюссе со мной. Он — в высшей степени денди, мы друг другу не подходим. Я, в сущности, скорее из любопытства, чем из действительного интереса, хотела его повидать. Но едва ли благоразумно удовлетворять всякое любопытство». Жорж Санд очень метко угадала натуру Мюссе. Действительно, он был денди и совершенно не подходил ей, представительнице парижской богемы, носившей мужской костюм и курившей табак не хуже любого мужчины.
Разница характеров, конечно, обнаружилась не сразу, и первое время после сближения любовники, как сказано, были счастливы. Об этом можно судить хотя бы по дурачествам, которые они себе позволяли в эти розовые дни. Однажды они устроили обед, на котором Мюссе был наряжен в костюм маркиза XVIII века, а Жорж Санд — в платье из папье-маше, в фижмах и мушках. В другой раз Жорж Санд устроила званый обед, на котором Мюссе был переодет молодой нормандской крестьянкой, прислуживавшей у стола. Его никто не узнал. В числе приглашенных находился профессор философии Лерминье, и, чтобы найти ему достойного собеседника, был приглашен клоун Дебюро из театра. Клоун разыгрывал, конечно, свою роль превосходно, выдавая себя за знатного путешественника и члена английской палаты общин. Заботливая хозяйка, желая дать профессору и клоуну померяться познаниями, завела разговор о политике. Но «иностранный дипломат» молчал. Тщетно произносились имена Роберта Пиля, лорда Стэнли, он хранил молчание. Вдруг кто-то упомянул о европейском равновесии. «Член английской палаты общин» неожиданно оживился.
— Знаете ли, — воскликнул он, — каково мое мнение об этом равновесии? А вот какое! — И с этими словами он подбросил тарелку вверх и, поймав на кончик ножа, начал вертеть…
Чтобы облечь свои чувства в соответствующие рамки, любовники уехали в Италию. Там они надеялись встретить рай, в котором на их долю выпали бы роли Адама и Евы… Но во всяком раю бывает змея, и такая змея вдруг предстала пред страстным поэтом также и в итальянском эдеме. Это была скука. Мюссе слишком глубоко погрузился в омут чувства, чтобы быть в состоянии долго там оставаться. По мере того как он все больше и больше пил радости жизни на груди возлюбленной, угасала его страсть, а вместе с ней и поэтическое творчество. Между любовниками начались ссоры — обычные спутники пресыщения. Споры были резкие, неслыханные, продолжавшиеся иногда по целым дням и ночам. Мюссе приходил в исступление. Напряженные нервы его совершенно ослабевали. Он стал тосковать по Парижу. К тому же средств было мало, а жизнь в Венеции, в дорогом отеле, предъявляла свои права, надо было работать, но как было творить при условиях, исключавших всякое вдохновение?
В эти тяжелые для обоих возлюбленных дни больше всего мужества и самоотверженности обнаруживала Жорж Санд. После бурных ссор, продолжавшихся, как сказано, иногда целый день, она вечером садилась за работу, чтобы на вырученные деньги обеспечить Альфреду комфорт, без которого он не мог жить, как рыба без воды. Если верить ей, то Мюссе продолжил было в Венеции беспутную жизнь, которую он вел в Париже. Здоровье его опять расшаталось, и бедной женщине не раз приходилось просиживать по целым неделям у его постели. Несмотря на это, он ревновал свою подругу, и когда сильно заболел и к нему начал ходить врач, он не поколебался обвинить ее в шашнях с этим врачом в такое время, когда, казалось бы, опасность, угрожавшая жизни поэта, могла отвратить его возлюбленную от всяких дум о любовных интригах. Аврора защищалась, она была оскорблена, но Мюссе продолжал обвинения. Ссоры принимали угрожающий характер. Разрыв казался необходимым, и действительно, поэт вскоре покинул возлюбленную и уехал в Париж.
Мюссе и Христина Бельджойзо
Из Италии Мюссе вернулся разбитым душевно и физически. Он был близок к отчаянию. Любовь к Жорж Санд превратилась в ненависть. Свет его не прельщал. Даже костюмированные балы Александра Дюма (отца) и художника Девериа, на которых блистала знаменитая красавица Кидалоза, даже и эти единственные в своем роде балы только иногда, да и то на несколько минут, приковывали к себе грустного, вечно недовольного, вечно нахмуренного Мюссе, о котором Гейне остроумно сказал: «У этого человека впереди великое прошлое». Впрочем, поэт напрасно негодовал на Жорж Санд. Несчастная связь со знаменитым автором «Лелии» только окружила его в глазах парижан ярким ореолом, более ярким, чем ореол, которым он был обязан своим поэтическим произведениям. На парижан производило большое впечатление, что Альфред был прототипом Стенио, романтического героя «Лелии».
Однако грусть и разочарование Мюссе рассеялись на время, когда он неожиданно встретился с удивительной женщиной, имевшей большое влияние на его настроение, творчество, производительность, несмотря на то что она только метеором пронеслась в его жизни. Мы говорим о княгине Христине Бельджойзо, которая в середине тридцатых годов произвела большое впечатление на балу у буржуазного короля Людовика-Филиппа и вскоре после того начала принимать в своем салоне выдающихся представителей аристократии и цвет умственного и художественного мира Франции. Донна Христина, урожденная маркиза Тривульцио, воплощала женственно-героический идеал романтической школы. То обстоятельство, что она была худа, Как херувим, нарисованный прерафаэлитом, еще более увеличивало ее прелесть в глазах; Бальзака, Готье и Генриха Гейне. Художник Стебен увековечил ее удивительную красоту известной картиной «Юдифь на пути к Олоферну».
Альфред Мюссе встречался с этой столь же совершенной в умственном, как и в физическом отношении женщиной во всех салонах. Муж княгини очень любезно отнесся к нему и тем доставил ему возможность быть ближе к своему кумиру. Мюссе был увлечен, поражен, подавлен. Ничего подобного он никогда не испытывал, «Есть ли у нее сердце?» — спрашивал он себя в то время, когда его более дальнозоркие товарищи, несмотря на весь свой восторг, тотчас же поняли, что брюнетка с голубыми глазами, которую Мюссе воспевал под именем «Нинон», — верная жена, хотя и со значительной дозой кокетства. Рассеянная жизнь, которую она вела в обществе, не мешала ей быть пламенной патриоткой, приносящей всевозможные жертвы для своего притесняемого отечества — Италии. Она была ангелом-спасителем для всех итальянских эмигрантов, в том числе и для Даниеле Манина, сделавшегося впоследствии (в 1848 году) диктатором в Венеции. Принцесса редактировала итальянскую газету «Ausonia» и только в виде отдыха от политической агитации кокетничала с избранными парижанами, возбуждая в некоторых из них напрасные думы о возможном счастье взаимной любви. Мюссе принадлежал к числу последних, в чем скоро сам убедился.
Впрочем, и тут Мюссе нашел утешение. Бессердечие знатной миланки Христины было искуплено любовным жаром очень миленькой гризетки Луизы. В то же время он находил развлечение также и в благосклонном отношении писательницы Луизы Коллэ, которая, правда, называет свою дружбу с Мюссе платонической (в своем романе «Lui», посвященном жизни поэта). Гениальные люди часто соединяют в себе одновременно способность страдать подобно Вертеру и легкомыслие Ловеласа. Была еще г-жа Жубер, очень милая и талантливая особа, написавшая ценные «Воспоминания». Она также немало содействовала смягчению горя, кипевшего в душе поэта после разлуки с Жорж Санд, и она же побудила его создать комедию «Un caprice», не сходящую до сих пор во Франции со сцены. В ее салоне он услыхал весной 1838 года молодую певицу, почти еще ребенка, Полину Гарсию, сестру Малибран, смерть которой он оплакал в великолепных стансах. Голос Полины был до того нежен и чист, исполнение до того увлекательное и страстное, что поэт сразу влюбился в некрасивую, но тем не менее очаровательную девушку. Однако у маленькой испанки не было столь легковоспламеняющегося сердца, как у чувствительной парижанки, и она сумела удержать «принца Фосфора», как называла г-жа Жубер своего протеже, на почтительном расстоянии.
Мюссе и Рашель
Но вот проходит год, и Мюссе встречается с новой женщиной, которая производит на него еще большее впечатление, — знаменитой артисткой Рашелью. Тогда, впрочем, Рашель не была еще знаменитостью. Ей позволили только дебютировать во время мертвого сезона на сцене Французского театра. Жюль Жанен, который после преждевременной смерти Рашели выпустил книгу, посвященную ее жизни и деятельности, первое время отзывался о ней дурно, предпочитая аффектированную m-lle Maxime. Альфреда де Мюссе, посвятившего стихотворение Рашели и Гарсии, он назвал третьестепенным поэтом. Мюссе, чувствовавший отвращение к артистической богеме, преодолел в себе это чувство и посетил Рашель. Окружавших в то время лиц он превосходно описал в «Ужине у Рашели». Когда молодой артистке удалось несколько освободиться от опеки родителей, она наняла дачу в Монморанси, где Мюссе был часто ее гостем. Брату своему он однажды писал оттуда: «Как восхитительна была Рашель недавно вечером, когда бегала в моих туфлях по своему саду». Он собирался написать для своей новой подруги две трагедии в стихах: «Fredegonde» и «Alceste», но серьезно об осуществлении этого намерения не думал.
Тем временем Рашель сделалась звездой Французского театра и любимицей парижского общества. Однажды она дала ужин, на котором присутствовал также и Мюссе. Гости восхищались дрогоценным кольцом на тонком, почти прозрачном пальце артистки.
— Знаете что, господа? — сказала она вдруг. — Так как кольцо вам всем нравится, то я его вам сбуду с публичного торга. Тот, кто больше даст, тот и получит его в собственность.
Гости охотно приняли предложение и начали торговаться.
— А вы, мой поэт, — обратилась Рашель к Мюссе, — что вы предложите?
— Свое сердце, — ответил Мюссе с таким искренним выражением на лице, что Рашель радостно воскликнула:
— Кольцо ваше, Альфред!
После этого она сама надела кольцо на его палец. Конечно, Мюссе считал это шуткой и, прощаясь с Рашелью, хотел ей возвратить драгоценное украшение, но она просила оставить кольцо у себя. Так как Мюссе продолжал отказываться, то она с неподражаемой грацией стала перед ним на колени.
— Примите во внимание, дорогой поэт, — сказала она, — каким ничтожным подарком будет это кольцо за благородную роль, которую вы для меня напишете! Смотрите на кольцо, как на талисман, который нам обоим принесет счастье.
Это была приятная минута в жизни Мюссе. Но талисман оказался плохим: Рашель уехала в Лондон, а Мюссе, вся жизнь которого представляла сплошной ряд колебаний, больше не думал о своих трагедиях. Проходили годы. Понсар, Легувэ и другие опережали его. «Божественная» Рашель потеряла терпение. В то же время Мюссе надолго погрузился в уныние, вызванное смертью герцога Орлеанского, которую он оплакал в стихотворении «Тринадцатое июля» (1843 год). Кроме того, у поэта, которому в то время было 33 года, начали обнаруживаться первые признаки физических страданий. С тех пор как он обменялся с княгиней Бельджойзо раздраженными словами и враждебными письмами, он все более и более начал удаляться от света. Восторг перед Рашелью уступил место увлечению артисткой Розой Шери. В один грустный рсенний день он возвратил кольцо Рашели.
Не стройными александрийскими стихами завоевал Мюссе французскую сцену, а пламенной прозой. К сожалению, он был уже усталым, сломленным человеком, пившим абсент вместо шампанского, когда «весь Париж» начал восторгаться в Théâtre Francais, Odéon и Gymnase его комедиями. Он превращался уже в развалину, делаясь чем-то вроде памятника любви к великой женщине, Жорж Санд, образ которой все еще носился перед его внутренним взором. Невольно вспоминается гейневская «Лорелея» и ее грустный конец:
Ich glaube, die Wellen verschlingen Am Ende Schiffer und Kahn; Und das hat mit ihrem Singen Die Lorelei getan.[87]Прежде чем, однако, дойти до этого состояния, Мюссе суждено было не раз еще встречаться с предметом своей глубокой любви и ненависти — Жорж Санд. В Париже, куда он вернулся из Италии после разрыва с великой писательницей, встретили его с восторгом. На него стали смотреть, как на Тангейзера, который был в гроте Венеры и вернулся оттуда пресыщенным, больным и разочарованным. Он и вел себя, как Тангейзер, клеймя свою возлюбленную на всех перекрестках. Это, впрочем, не помешало ей по возвращении в Париж сделать попытку к тому, чтобы опять сойтись с ним.
Жорж Санд в то время окончила свой роман «Консуэло». Слава ее гремела далеко за пределами Франции. Но и Мюссе был в зените славы. Оба они выросли за время разлуки и, убедившись, что жить друг без друга не могут, начали думать о том, как бы вернуться к временам прежней дружбы. Попытка к сближению была сделана Жорж Санд. Сердце женщины подсказало ей, что она, может быть, больше виновата в разлуке, чем он. Мюссе сначала упорствовал. Он не хотел вступать даже в письменные отношения со своей бывшей подругой и все ее письма отсылал обратно нераспечатанными. Тогда Жорж Санд прибегла к хитрости. В одно прекрасное время Мюссе получает мягкий душистый пакет. Загадочный вид пакета заставил поэта призадуматься, и он решил его вскрыть: там оказались великолепные мягкие черные волосы, которые он некогда с такой страстью целовал. Оказывается, что Жорж Санд отрезала себе волосы в знак покаяния, желая этим разжалобить его и вымолить прощение. Такой жертвы он не ожидал, и примирение состоялось.
К сожалению, ужиться они не могли и после примирения. Вечно женственное как идея гораздо чаще поддерживает поэта на высоте вдохновения, чем вечно женственное как реальный факт. Мюссе и Жорж Санд опять стали ссориться и вскоре опять разошлись, чтобы через некоторое время снова сблизиться и опять разойтись. В конце концов эти вечные разлуки и примирения до того им опротивели, что Мюссе и Жорж Санд сделались настоящими врагами. Они даже стали отрицать друг у друга талант. Мюссе доказывал, что у Жорж Санд все поверхностно, а Жорж Санд утверждала, что талант Мюссе — только нервная слабость. Так они и остались врагами до конца жизни.
Было бы очень любопытно проследить на отношениях между Мюссе и Жорж Санд, насколько связь между великими или талантливыми людьми отражается на их произведениях. Это было бы тем более легко, что Мюссе и Жорж Санд представляют единственный пример, когда влюбленные стоят на одинаковой высоте дарования. По картинному выражению Брандеса, оба они «олицетворяли собою как бы Адама и Еву искусства, сблизившихся друг с другом и поделивших между собой яблоко от древа познания добра и зла. Затем последовало проклятие, то есть разрыв, они разошлись и пошли каждый своим путем; но они уже стали не те. Произведения, которые они создавали после сближения, отмечены совсем иным характером, чем вещи, написанные ими прежде.
Он покидает ее в отчаянии, разбитый и пораженный, унося в своей душе новое крупное обвинение против женщин и вдвойне теперь убежденный: „женщина, имя тебе — коварство“.
Она покидает его очень взволнованная: поначалу она наполовину утешена, но затем переживает глубочайшее потрясение, хотя вскоре начинает даже радоваться, что пережила наконец кризис, взбудораживший ее покойную творческую натуру. Она выносит отсюда новое сознание превосходства женщины над мужчиной и вдвойне убеждается: „мужчина, имя тебе — слабость!“.
Он покидает ее, враждебно настроенный против химер, филантропических затей и утопий, и более чем когда-либо убеждается, что искусство должно быть для художника альфой и омегой существования. Но за всем тем соприкосновение с великой женской душой не проходит для него бесследно. Прежде всего горе делает его искренним: он сбрасывает с себя деланный цинизм и отныне никогда уже не станет щеголять искусственным бессердечием и холодностью. В произведениях, которые он Теперь станет созидать, скажется то влияние, которое открытый характер, доброта и увлечение Жорж Санд идеалами внесли в него; влияние это проявляется и в республиканском увлечении Лорензаччио, и в жизни, преисполненной чувством, Андреа дель Сарто, и, пожалуй, даже в протесте Мюссе против закона о печати Тьеру.
Она расстается с ним, убежденная сильнее, чем когда-либо, в бессердечии и эгоизме мужчин и более, чем прежде, склонная отдаваться общим идеям. В „Орасе“ она свой талант посвящает служению сен-симонизму; в прославление социализма пишет: „Le Compagnon du Tour de France“, а в 1848 году — для временного правительства воззвание к народу. Но тем не менее только благодаря соприкосновению с этим отчеканенным, отлившимся в определенную форму гением и собственная ее чистая и классическая форма приобретает полную законченность. Она теперь уже научается любить форму и искать прекрасное ради его самого. Если ценители впоследствии замечали, что ее фразы „нарисованы кистью Леонардо да Винчи и положены на музыку Моцартом“ (выражение Александра Дюма-сына), то к этому можно было бы прибавить, что Альфред де Мюссе и был тем критиком, который изощрил ее перо и развил ее слух.
После разлуки оба они оказываются уже созревшими художниками; отныне он — поэт с пылким сердцем, а она — сивилла, одаренная пророческим красноречием. В пропасть, разверзшуюся между ними, она сбросила всю свою незрелость, многоречивость, безвкусие и мужской костюм, чтобы с этого момента сделаться и вполне женственной, и вполне естественной. А он в ту же пропасть низверг свое обличье Дон Жуана, свое вызывающее высокомерие, преклонение перед „Роллой“, мальчишеский задор и с этого момента стал вполне мужчиной — представителем интеллекта».
Итак, сближение между Мюссе и Жорж Санд оказало благотворное влияние на их творчество; но не менее благотворное влияние оказала на них также и разлука. Поистине, женщина для великого человека — тот же любвеобильный врач, который не перестает спасать ближнего даже тогда, когда ножом разрезает ему тело…
Альфред де Виньи
Альфред де Виньи[88], один из четырех столпов французского романтизма (Ламартин, Гюго, Мюссе — остальные три столпа), представляет собой тип поэта, в жизни которого женщины играли отрицательную роль, хотя влияние их на его творческую деятельность вследствие этого не перестало быть благотворным. Неудачи сделали его только пессимистом, но стихи его остались по-прежнему великолепными. Идеалист до мозга костей, всегда настроенный на высокий тон, поэт, который сам говорил о своих произведениях:
Ты чистый дух, моя богиня Муза, Сияющий бесплотной красотой! —де Виньи до конца жизни держал знамя чистейшего идеала, и даже самое последнее предсмертное стихотворение звучит все тем же искренним прославлением его.
Но если он остается так непоколебимо верен своей нравственной религии, то первоначальный энтузиазм и доверчивый взгляд на жизнь были рано и безвозвратно потеряны им вследствие несчастной любви. «О, какая злая насмешка в этом тождестве слов: любовь и страсть! — говорит он.; — Да, ты — страсть, но страсть мученика, подобная страсти Христовой!» И он удаляется от жизни. Дюма рисует его существом не от мира сего, каким-то архангелом, парящим над землей. «Никто из нас, — замечает он, — никогда не видал его за столом». Уединенный, негодующий, он недоволен всем — природой, людьми и даже Богом.
«Природа, — говорит Пелисье, — зовет его под свой необъятный кров, но он отвергает ее призыв, потому что она глуха к человеческим скорбям и нет ей до них дела. Глубокое заблуждение называть матерью эту безмолвную могилу! А люди? Да, их страдания болезненно отзываются в его чутком сердце; он готов был бы разлить вокруг себя целый поток любви и преданности, но кому это нужно? Как относится общество к избранникам Гения? У Тассо не было даже свечи, чтобы писать по вечерам; Мильтон продал за десять фунтов стерлингов свой „Потерянный рай“; Камоэнс жил милостыней, собираемой для него рабом; Жильбер умер на больничной койке; Чаттертон покончил самоубийством; Андрэ Шенье казнен на эшафоте… Умереть еще ничего не значит; но умереть непонятым, писать свои стихи кровью сердца и знать, что их прочтут небрежно, где-нибудь на гулянье, в кафе, в коляске, — вот что возмущает поэта. В душе его кипит негодование, и он тем более страдает, что способен глубоко чувствовать. Ему остается один Бог… Но нет, и Он так же безучастен, как природа. Его величавое спокойствие не нарушается парами крови, поднимающимися от земли; по Его беспощадной воле погибла дочь Иевфая под секирою отца и потонуло в волнах столько праведных вместе с грешными. Напрасно вопиют к нему от начала мира неповинные жертвы, как вопиял смертельно-скорбный Иисус в Гефсиманском саду…» Но если небо не внемлет ни стонам, ни воплям человечества,
То, положив конец молениям бесплодным, Ответит праведный молчанием холодным На вечное молчанье Божества!Немое, спокойное отчаяние — вот истинная мудрость. Смертельно раненный волк удаляется в глушь, облизывает свою рану и молча издыхает. Какое завидное мужество! Пусть же и человек подражает ему. Одно молчание — сила, остальное все, — слабость.
Лидия — жена А. де Виньи
И до такого отчаяния, до такого пессимизма довела идеальнейшего из поэтов женщина! Прежде всего она нанесла ему тяжелый удар в лице жены. По остроумному выражению Сеше, женщина эта (она была англичанка) прошла по жизни Виньи так же, как Рона протекает через Женевское озеро, не смешивая своих вод с его водами. Он симпатизировал ей, относился к ней с уважением, но никогда не любил. Хотя поэт служил ей в течение тридцати лет, по его выражению, как сиделка, как постоянный секретарь и переводчик, ему не удалось слить ее с собою окончательно. Даже языка своего она не переменила и говорила только по-английски. Когда Виньи встретился со своей будущей женой, ему было 27, ей — 25 лет. Он тем скорее увлекся ею, что Лидия — так звали жену Виньи — была замечательной красоты. К тому же он находился в то время под влиянием Байрона и Томаса Мура и бредил всем английским. Отец-оригинал энергично отказывался дать согласие на брак дочери с поэтом, что еще больше разожгло страсть идеалиста-романтика. Когда же согласие, наконец, было дано и брак состоялся, молодые люди уехали в Лондон, где поэт принужден был усвоить английскую чопорность, доведенную до крайней степени. Так, по свидетельству Теодора де Банвилля, каждый раз, когда Лидии нужно было выйти из комнаты на несколько минут по хозяйству, Виньи подставлял ей руку и церемонно Подводил к дверям, как это делается при дворах или на сцене. Когда же она возвращалась, он направлялся к ней и, отвесив поклон, столь же церемонно подавал ей опять руку и подводил к креслу.
Все это, конечно, причиняло немало горя пылкому поэту. Но вот в 1839 году умирает его тесть, не оставив дочери ни единого шиллинга. Не будучи в состоянии помешать браку дочери, он отомстил ей и мужу тем, что лишил их наследства. Это было новым ударом для поэта. А тут еще в 1838 году заболела жена и продолжала болеть до 1863 года, когда и сошла в могилу. Пламенному поэту, парившему под небесами, пришлось превратиться в сиделку. От красоты жены в это время не осталось и следа. Он исполнял свой долг, но испытывал тяжкие муки человека, который чувствует, что крылья увлекают его в небеса, а цепи приковывают к сырой темнице.
А. де Виньи и г-жа Дорваль
В это-то время поэт встретился и сошелся с актрисой Дорваль. Любовь Виньи была для нее не внове, так как молодая красавица находилась уже перед тем в близких отношениях с Дюма и Жюлем Сандо. Последний сделался другом Дорваль в 1841 году, когда расстался с Жорж Санд, и действительно пользовался ее искренним расположением. В своей «Исповеди» Гуссэ рассказывает, что Дорваль была в это время без ума от своего возлюбленного. В его отсутствие она входила к нему в комнату, чтобы дышать воздухом, которым он дышал. «Я вдыхаю его жизнь и мысли», — говорила она. Однажды она пришла к Жюлю Сандо в то время, когда его не было дома, и, найдя портрет Жорж Санд, набросанный пером возлюбленного, крикнула с отчаянием в голосе: «Она! Все она! Эта женщина меня убьет!» Затем, схватив нож для бумаги (другого не было), она ударила им себя в грудь и упала в обморок. Удар был сильный, так как показалась кровь. Когда она пришла в себя, первым ее движением было схватить листок бумаги и запачкать своей кровью. Присутствовавший при этой сцене Гуссэ (он жил вместе с Жюлем Сандо) попросил у нее листок на память, и Дорваль ответила: «Извольте; но вы должны показать его Жорж Санд!»
Такова была женщина, в любви которой Виньи думал найти спасение от тяжелых ран семейной жизни. Любила ли его Дорваль? Кто знает? Женщина, прошедшая обширную школу любви, вряд ли могла искренно отвечать на девственную страсть поэта, а если и отвечала, то по совершенно иной причине. То кровь кипит, то сил избыток. Что касается Виньи, то он, по-видимому, весь ушел в свое чувство, ухватившись за него, как за якорь спасения, который мог бы спасти его от душевных бурь. Письма, которые он посылал ей во время ее артистических поездок по провинции, дышат искренней страстью. Он думал уже было, что возрождается к жизни. Как вдруг — новый удар: Дорваль променяла его на провинциального артиста Гюстава, с которым встретилась в Руане. Его прекрасная наружность и несомненный талант заставили ее забыть вдохновенного поэта «Элоа», Она послала его к Дюма с рекомендательным письмом, прося поместить в театр, в котором сама играла, и оказать возможное покровительство. Роль Виньи кончилась.
Тяжело отразился этот новый удар на чувствительной душе чуткого поэта. Он сделался пессимистом. Вся жизнь перед ним как бы задернулась темной завесой. Солнце исчезло. Кругом навис мрак. Он стал отвергать добро как идею, считая его отрицательным элементом и возводя зло в основу мироздания. «Только зло, — говорит он, — бывает чисто и без примеси добра. Добро всегда смешивается со злом. Крайнее добро производит зло. Крайнее зло не делает добра». Полное отчаяние, без протеста, без стремления проникнуть в тайну вечности, — вот удел мыслящего существа. «Хорошо и полезно, — говорит он, — не иметь никакой надежды; надо в особенности надежду уничтожить в человеческом сердце. Тихое отчаяние без содроганий злобы и без упрека небу — сама мудрость. Отчего мы покоряемся всему, кроме незнания тайн вечности? Благодаря надежде, которая есть источник всех наших низостей… О, Боже, над головой я чувствую тяжесть осуждения, которому всегда подвергаюсь, но, подвергаясь заключению, не знаю своей вины и суда. Я плету солому, чтобы забыть… Земля возмущена несправедливостями творения, она притворяется от страха… но втайне она возмущается… Когда появляется человек, восстающий против Бога, мир его принимает и любит. Бог с гордостью смотрел на знаменитого юношу На земле; но этот юноша был очень несчастлив и умертвил себя шпагой. Бог сказал ему: „Зачем разрушил ты свое тело?“ Он отвечал: „Для того, чтобы Тебя огорчить и наказать“».
Крайний пессимизм, вызванный разочарованием в том, что составляло радость жизни поэта, — в любви к женщине, находил некоторый противовес в его стоицизме, но он от этого не перестал быть крайним. Великий в сознании ничтожества всего окружающего, он в себе самом нашел достаточно бодрости для того, чтобы глядеть в лицо миру и проникающему его злу, и невольно думал о другой женщине, о «Далиле» — символе женского коварства. В эти именно грустные минуты вылилось из-под его пера чудное стихотворение «Гнев Самсона», в котором устами библейского героя поэт оплакивает собственное горе и горе всего человечества, обреченного страдать вследствие женского коварства.
Прекрасна Далила, Тяжелые косы по плечам скользят, Как сеть золотая, к ногам ниспадая. Она, как пантера, гибка, молодая, И очи ее наслажденье сулят, И молит о нем отуманенный взгляд, Где искрится втайне огонь сладострастья. На стройных руках золотые запястья, И кольца при каждом движеньи звенят, И перси ее, где блестят амулеты, Сирийскою тканью стыдливо одеты.[89]Не такова ли была и Дорваль? Не таковы ли и все женщины?
В присутствии Бога во все времена Идет роковая борьба повсеместно, И мужа с душою правдивой и честной Всегда побеждает с лукавством жена. Не с первых ли дней до мгновенья развязки Томится он жаждою неги и ласки, Впервые проникшей во все существо, Когда у груди согревала его И нежила мать! Безотчетно тоскуя, Какая бы цель ни ждала впереди, — Он грезит всегда теплотою груди, Мечтает о жгучем огне поцелуя, О ласках с зарею, о волнах кудрей, О шепоте нежном во мраке ночей… Его на пути, безотчетно тревожа, Преследуют всюду видения ложа, — И с этою жаждой любви без границ Стремится он в сети коварных блудниц. И чем он сильнее и духом, и телом, — Тем гибнет вернее: чем глубже река, Тем более зыбь на волнах велика. Борьба человеку явилась уделом; Когда же от ужасов вечной войны Он жаждет забвенья в объятьях жены, — Тогда начинается втайне другая Меж ним и меж нею борьба роковая, В разгаре лобзаний ведется она, Губя беспощадно и разум, и силу, — И в каждой жене он находит Далилу.Отсюда до ненависти и презрения к женщинам вообще — всего один шаг.
В объятиях страсти всегда холодна, Она не знакома с любовным недугом И в этом, смеясь, сознается подругам. Ей страшен бывает ее властелин, Он груб и берет от нее наслажденье, Но дать не умеет его ни один. Жене драгоценней, чем все украшенья, — Победа над сильным: где кровь пролита, Там ярче сияет ее красота. И та, от которой мы жизнь получаем, Чьи первые ласки нам кажутся раем, И сердце свое мы кому отдаем, — Нам стала врагом в ослепленье своем. И дальше — этот вопль измученной души: О, Господи! Веленья твои Свершил я и черпал в безумной любви Мою изумлявшего смертного силу. О, Боже, Ты с нею меня рассуди! Заснувшая мирно на этой груди, В упорстве и злобе, для нас непонятной, Она предавала меня троекратно И трижды притворные слезы лила, Которыми злобы укрыть не могла, Сверкавшей во взоре холодном и лживом. И я, сокрушавший колонны, бывало, Измучен я духом, и тело устало: Печали, гнетущей мне душу давно, Не в силах выдерживать дольше оно! Все лучшее в жизни делить со змеею, Которая вьется, своей чешуею Влачася в грязи и на солнце блестя! Нечистое сердцем, больное дитя! Себя ослепляя, стараться не видеть, Не знать, — и кипучего гнева не выдать, В святилище сердца его схороня, Покуда, как тлевшая искра огня, Не вспыхнет он сразу зловещим пожаром. Довольно! Склоняю главу под ударом, И гостем желанным здесь явится тот, Кто с вестью о смерти к Самсону придет.Но наконец кара разразилась. Потрясены мощные колонны руками обманутого и ослепленного героя, и своды храма похоронили под собой и заклятых врагов, и их алтари, и бессильных богов, и самое Далилу, виновницу общего несчастья. Поэт торжествует, и, вспоминая раны собственного сердца, он, как бог мести, восклицает:
О, если бы кара постигла такая Измену, надевшую маску любви, Когда, опьяненные негой свиданий, В минуты безумных и лживых лобзаний Мы ей открываем все тайны свои!Недаром Виньи проповедовал молчание как высший признак силы:
A voir ce que I'ont fut sur terre et ce qu'on laisse, Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse.[90]Поль Верлен
Вместе с Верленом[91], одним из типичнейших представителей новейшей французской поэзии, мы вступаем в ту сферу отношений между женщинами и поэтами, где нет ничего идеального, где все грубо, площадно и отдает животными инстинктами, но где тем не менее поэзия все-таки нашла себе питательную почву и взошла чудным цветком, как всходят иногда чудные цветки на мусорных ямах.
Была пора, когда французские поэты любили искренне и свято. Культ страсти, нашедший самые благородные рыцарские формы во Франции, выражался в пламенных порывах, полных стыдливости и целомудрия. Это было в доброе старое время, когда праздность и развращенность составляли достояние одних только высших сфер. Франция тогда еще не была страной бесплодной борьбы; Париж тогда еще не был Вавилоном. Но годы шли. Ядовитые пары разврата, исходя из роскошных дворцов, начали мало-помалу распространяться по французскому обществу. Любовь стала терять свой поэтический характер и сводиться к культу половых отношений. Появился Бодлер с его поэзией грязи и распутства. За ним потянулись другие обитатели французского Олимпа, — все эти Роллина, Барресы — имя же им легион, — потянулись со своими разбитыми или надтреснутыми лирами, струны которых могли издавать только жалобные умирающие звуки. Поэзия сделалась мантией для прикрытия греха. Сорваны были девственные покровы с красоты, позорно предано осмеянию целомудрие. Поэты начали грезить о неестественных страстях и воспевать преступные вожделения. И в то время когда Бодлер с жаром описывал бесплодные ночи, проведенные в объятиях чахоточных проституток, отцы отечества тревожно подсчитывали все уменьшающееся и уменьшающееся население Франции, с ужасом предвидя наступление поры, когда некому будет возвращать ей Эльзас-Лотарингию…
Верлен — один из видных представителей этой грустной полосы французской поэзии. Разбитый, усталый, с опустошенным сердцем и высохшим умом, он мог только в редкие минуты душевного просветления думать о счастливой заре человечества, когда люди жили в раю безгрешности, только по временам срывая яблоко премудрости по непреложному велению рока!.. В остальное же время мысли его носились в сфере других чувств и влечений. Сын больного века, он с молоком матери всосал в себя пагубную страсть и чрезмерную чувственность и знал уже любовь, когда ему было всего пять лет. Усерднее биографы записали этот момент из жизни Верлена со всеми подробностями, не понимая, что этим обнаруживают только собственную испорченность. Хотя девушка, в которую он был влюблен (звали ее Матильдой), и насчитывала всего шестую весну, тем не менее они с ученым видом знатоков описывают ее волосы, глаза, рот и, как, например, Доно, приходят в умиление, рассказывая, что влюбленные целовались взасос. Дети всегда играли вместе, но никогда не ссорились. Жители Меца (Верлен родился в этом городе, который в то время — в 1849 году — был еще французским) называли их Павлом и Виргинией, Дафнисом и Хлоей. Нашелся даже какой-то полковник Нил, который стал принимать участие в их играх и примирять «влюбленных» во время их случайных размолвок тем, что заставлял их бесконечно целоваться…
Мы не знаем в точности женщин, с которыми Верлен встречался вплоть до женитьбы, но зато знаем, что жизнь поэта в это время была исполнена бурь и пороков, не исключая пьянства — недостатка, от которого поэт не отрешился до конца дней своих. Он пил немилосердно, отыскивая в парах абсента элементы вдохновения, и когда в 1870 году встретился с Матильдой Сиври, сделавшейся вскоре после того его женой, он уже представлял собой отвратительную почву, на которой могло взрасти все, кроме истинного чувства и возвышенной любви. В первое время, впрочем, он как будто переродился и написал целый ряд глубоко прочувствованных стихотворений, соединенных потом в книгу под названием «La bonne chanson», Под влиянием чистой девушки в нем даже заглохла страсть к водке. Но когда первые порывы страсти прошли, все вернулось к прежнему состоянию. Верлен опять начал пить. Пошли сцены, и в результате — бегство жены. Бедную женщину, конечно, уговорили вернуться, но какая жизнь ожидала ее под кровом мужа, для которого только жизнь наизнанку представляла некоторый интерес! Достаточно сказать, что у нее появилась вскоре соперница в лице… Артюра Рембо! Этот молодой поэт, имя которого получило впоследствии большую известность, близко сошелся с Верленом, несмотря на большую разницу в летах, и начал вести с ним самую беспутную жизнь. Жена слишком скоро заметила, каковы отношения между ее мужем и молодым бродягой, и всеми силами старалась положить им конец; но это повело только к тому, что Верлен стал удаляться от жены и еще более сближаться с молодым другом. Впоследствии он не постыдился написать предисловие к возмутительному роману Аржи «Содом», в котором описывается со всеми романтическими подробностями отвратительная связь между двумя мужчинами.
Удивительно, однако, что преступная связь с Рембо имела для Верлена и для его поэтической деятельности положительную сторону. В одно прекрасное время молодой друг заявляет поэту, что покидает его. Дело происходило на улице, и пьяный Верлен, еле державшийся на ногах, не долго думая, выхватывает револьвер и стреляет в Рембо. Тот бросается вперед, Верлен за ним, стреляет еще раз, но опять промахивается. В конце концов он арестован, предан суду и приговорен к заключению в тюрьму на два года. Тяжело ему было расстаться с бурной жизнью, но пришлось подчиниться. Вдруг он узнает в тюрьме, что просьба жены о разрешении ей жить отдельно от мужа удовлетворена судом. В порыве отчаяния он зовет к себе священника, которому заявляет, что с ним произошла чрезвычайная перемена, он вернулся к религии. И, чтобы убедить священника, он заставляет его читать Св. Писание и излагает ему на исповеди все свое прошлое. Это была страшная исповедь. Сам Верлен признается, что священник спросил его: «Не были ли вы также и с животными?» Тем не менее перемена произошла вдруг, в одну минуту, и, что более всего странно, оказалась вполне искренней, и следствием этого явился сборник удивительных по глубине религиозного чувства стихотворений «Мудрость», в которых пьяный, преступный, развратный Верлен действительно является кающимся грешником, но поднимающимся в минуты вдохновения до высших пределов благоговения и экстаза.
Нам нет надобности следить за дальнейшими любовными похождениями Вер лена, кончившимися тем, что он сошелся с простой крестьянкой, которой посвятил многие из стихотворений, вошедших потом в сборник «Chansons pour elle». Все они носят характер грубой развращенности, но все они в то же время оставили глубокий след во французской поэзии, и недаром многие именно в Верлене склонны видеть родоначальника французского символизма.
Кто был Верлен? Что представлял он? К чему стремился? Каковы были его задушевные мечты? «Верлен, — говорит Золя, — создавал свои стихи так же, как груша производит свои плоды. Ветер дул, и он шел туда, куда гнал его ветер. Он никогда не хотел чего-либо, никогда не спорил о чем-либо, не обдумывал, не исполнял, никогда он ничего не делал при полном включении своего сознания. Можно придумать для него иную среду, можно подвергать его разным влияниям, наделить его совершенно различными точками зрения, и несомненно, что его творчество преобразилось бы и приняло бы другие формы, но он остался бы, столь же несомненно, рабом своего чувства и гений его придал бы такую же силу песням, которые непроизвольно срывались бы с его уст. Я хочу сказать, что при такой натуре, вышедшей из равновесия и доступной всяким внешним проявлениям, почва имеет весьма мало значения, так как все в ней растет в полноте неотразимой личности».
В этом дифирамбе свободе искусства и свободе личности, поскольку дело касается Верлена, есть много преувеличенного, но также и много правды. Верлен действительно был «листком, носимым по ветру», как он сам сказал о себе в одном превосходном стихотворении. Оторванный от почвы, потеряв веру в старые кумиры и не имея других, он вместе со многими, очень многими представителями своего народа метался по пустыне жизни, тщетно отыскивая оазис, на котором можно было бы осесть и успокоиться. Один остался уголок, где еще возможно было обрести душевный мир, — любовь к женщине; но что мог он внести туда, он, который, как ангел смерти, вносил повсюду только яд и разложение?
VI. Англия
Шекспир. — Байрон. — Мильтон. — Шелли.
Шекспир
Шекспир[92] — сфинкс, Шекспир — загадка. Нет ни одного поэта, который был бы так знаменит, как Шекспир, и в то же время нет ни одного поэта, жизнь которого так мало была бы известна. Как сновидение, как призрак, стоит он за своими произведениями. Мы видим его за спиной многочисленных героев, созданных его гениальной фантазией. Он мечтает вместе с Гамлетом, возмущается вместе с Лиром, ревнует вместе с Отелло, ненавидит вместе с Макбетом, пылает возвышенной страстью вместе с Ромео. Мы знаем, мы твердо уверены, что он сам испытал, сам пережил разнообразные чувства, воплощенные им в неувядаемых образах, и тем не менее личность его ускользает от нас каждый раз, когда мы хотим к ней приблизиться и рассмотреть подробнее. Одно время даже думали, что Шекспира-поэта вовсе нет, а есть только Шекспир-актер, так как все, приписываемое Шекспиру, написано будто бы не им, а Бэконом. Как тень Банко, он ясно виден встревоженному взору зрителя или читателя его произведений, но и, как тень Банко, он исчезает, подобно дыму, при первой же попытке убедиться, не мираж ли это, не обман ли чувств, не плод ли расстроенного воображения.
А между тем Шекспир наполнял блеском своего имени двор Елизаветы! А между тем он затмевал в области литературы всех своих современников, среди которых были очень крупные величины! А между тем поэтическим гением он охватил обширный горизонт, на котором только как бледные звезды сверкали в его свете крупнейшие светила тогдашней науки, искусства, литературы. Все, что мы знаем о нем, сводится почти только к тому, что он родился в 1564 году в Стратфорде, женился совсем молодым человеком, приехал в 1586 году в Лондон, сделался артистом и драматургом; благодаря своим произведениям и дарам знатных покровителей приобрел крупное состояние, которое вложил в земельную собственность, в 1614 году удалился со сцены и 23 апреля 1616 года умер в полном уединении. Конечно, есть еще некоторые подробности, но они скорее относятся к предположениям.
Так, одни говорят, что Шекспир был одно время учителем; другие утверждают, что он работал у адвоката; третьи полагают, что он в молодости был мясником, причем приводят в доказательство известную сцену из «Тита Андроника», в которой Андроник убивает сыновей Тамары, а Лавиния держит миску, чтобы собрать их кровь. Еще более романтический характер носят версии, по которым Шекспир то был бродягой, то участвовал в торжествах, устроенных лордом Лестером в честь королевы. Самый день его рождения подлежит большому сомнению. По крайней мере, есть только свидетельство о том, что 26 апреля 1564 года был крещен в церкви Стратфорда на Эвоне какой-то сын Джона Шекспира, получивший имя Уильяма. Это все.
Жена Шекспира — Анна Хетвей
Раз в жизни Шекспира все загадочно, то, конечно, нет ничего удивительного, что у нас очень мало сведений о его жене. Мы знаем только, что брак его был далеко не из счастливых и по очень простой причине: когда Шекспир женился на Анне Хетвей, ему было 18, а ей 26 лет! Женитьба была, по всей вероятности, вынужденная и явилась результатом слишком настойчивого требования родителей невесты, требовавших, чтобы молодые люди были поскорее обвенчаны. Так как первый ребенок — девочка Сусанна — родился всего через пять месяцев после брака, то причина столь торопливого отношения родителей невесты понятна: 18-летний поэт увлекся, 26-летняя Анна не нашла нужным особенно обороняться. Таким образом, женитьба Шекспира была актом узаконения будущего ребенка. Что юноша Шекспир не мог при таких обстоятельствах быть верен своей пожилой жене, что Анна Хетвей устраивала ему сцены ревности, причем, вероятно, не особенно оказывалась разборчивою на эпитеты, так как она была простой крестьянкой, дочерью мызника, об этом можно только догадываться. В своей «Комедии ошибок» поэт ясно высказался относительно того, что такое ревность и сколько горя может она причинять человеку. Кроме того, в его афоризмах имеется очень злая, непереводимая игра слов, также свидетельствующая о бурях семейной жизни Шекспира: «Аппе Hathaway hath a Way», то есть у Анны Хетвей есть своя воля. Но хотя от брака с этой сварливой женщиной у Шекспира родилось несколько детей, тем не менее ему пришлось оставить вскоре Стратфорд и уехать в Лондон, где он начал вести вольную цыганскую жизнь актера и драматурга. Жена осталась в Стратфорде, куда Шекспир приезжал только по временам. Это была разлука в истинном смысле слова, и Брандес, стараясь установить некоторые моменты личной жизни Шекспира на основании различных мест его сочинений, вполне основательно указывает, как на доказательство отрицательного отношения поэта к своему браку, на следующий разговор из «Двенадцатой ночи».
Герцог. Как молода? Виола. Почти что ваших лет. Герцог. Стара! Жена должна избрать себе постарше; Тогда она прилепится к супругу И будет царствовать в его груди. Как мы себя, Цезарио, ни хвалим, А наши склонности непостоянней, Чем женщины любовь… Так избери супругу помоложе, А иначе любовь не устоит: Ведь девушки, как розы, Чуть расцвела, Уж отцвела И милых нет цветов.[93]Точно также характерно и следующее место из «Бури», вполне, по-видимому, относящееся к жене Шекспира:
Но если до того, пока обряд Священником вполне не совершится, Ты девственный развяжешь поясь ей, То никогда с небес благословенье На ваш союз с любовью не сойдет О, нет, раздор, презренье с едким взором И ненависть бесплодная тогда Насыпят вам на брачную постелю Негодных трав, столь едких и колючих, Что оба вы соскочите с нее.И в «Комедии ошибок» есть, по мнение Брандеса, прямое указание на сварливый нрав жены Шекспира. Жалуясь игуменье на то, что муж ее ухаживает за другими женщинами, Адриана на вопрос о том, бранит ли она мужа, отвечает:
Мы ни о чем другом не говорили. В постели я ему мешала спать Упреками; от них и за столом Не мог он есть; наедине — лишь это Служило мне предметом всех бесед; При людях я на это намекала Ему не раз; всегда твердила я, Что низко он и гадко поступает.Наконец, в «Буре» Шекспир ярко оттенил свои чувства, навеянные все тою же неудачной женитьбой.
Фу, стыд! Разгладь наморщенные брови И гневных взглядов не бросай на мужа И господина; он твой повелитель… Во гневе женщина — источник мутный, Лишенный красоты и чистоты — И как бы жажда ни была велика У человека, он его минует. Твой муж — твой господин!; он твой хранитель Он жизнь твоя, твоя глава, твой царь; Он о твоем печется содержании, Он переносит тягости труда На суше, в море, в бурю, в непогоду, А ты в тепле, в покое, безопасна — И никакой не требует он дани, А лишь любви, покорности и ласки — Ничтожной платы за его труды! Как подданный перед своим монархом, Так и жена должна быть перед мужем; Но если же упряма, своенравна, Сурова, зла и непокорна воле, Тогда она преступный возмутитель, Изменница пред любящим владыкой.При таких взглядах на женщину трудно было Шекспиру ужиться с женщиной, которая, будучи старше своего мужа на восемь лет и к тому же обладая сварливым характером, не могла, конечно, признать его своим «повелителем» и «господином». Разлука сделалась неизбежною.
Шекспир и Мери Фиттон
Но зато Шекспир охотно подчинялся другой женщине, в лице которой безропотно признал госпожу и повелительницу. Мы говорим о Мэри Фиттон, известной в биографиях Шекспира больше под именем «смуглой красавицы», чем под ее настоящим именем.
Нечего говорить, что и в образе Мэри Фиттон, по крайней мере, в том виде, в каком нарисовали нам его биографы, есть много фантастического. Прямых сведений о ней нет и, чтобы вызвать ее на свет Божий из мрака тайны, жизнеописатели и комментаторы великого поэта опять опустились в бездонные глубины его творческой деятельности, отыскивая там хотя бы ничтожный след, по которому можно было бы, как некогда Кювье по одному зубу, составить понятие обо всем целом. Укажем хотя бы на того же Брандеса, одного из наиболее добросовестных и метких истолкователей Шекспира, Брандеса, который извлекает образ Фиттон почти из одних сонетов Шекспира, не имея в своем распоряжении никакого другого материала, если не считать некоторых мелких документов, вроде родословных таблиц и т. п. Судя по этой характеристике, Мэри Фиттон была обольстительная, обворожительная, кокетливая, лживая, неверная дама, созданная для того, чтобы раздавать счастье и муки полными горстями. Насколько можно судить по раскрашенному бюсту Мэри Фиттон на памятнике ее матери, она была очень смугла, имела черные волосы и большие черные глаза. Что она не была хороша собой, свидетельствует сам Шекспир в своем сонете 141:
Нет, не глаза мои пленяются тобою. Ты представляешь им лишь недостатков тьму; Но что мертво для них, то любит ретивое, Готовое любить и вопреки уму. Ни пламя нежных чувств, ни вкус, ни обонянье, Ни слух, что весь восторг при звуках неземных, Ни сладострастья пыл, ни трепет ожиданья Не восстают в виду достоинств всех твоих. А все ж ни все пять чувств, ни разум мой не в силах Заставить сердце в прах не падать пред тобой, Оставив вольной плоть, которая весь свой Похоронила пыл в тебе, как бы в могиле.[94]Семнадцати лет от роду она стала фрейлиной королевы Елизаветы, а с поэтом встретилась через два года на каком-то придворном празднестве. Она стояла выше его по званию, по общественному положению, а потому победа над нею доставила Шекспиру величайшее удовольствие. Одно время она находилась в связи с графом Пэмброком, который, однако, и слышать не хотел о женитьбе, когда молодая женщина очутилась в интересном положении. Как видно из одного современного письма, Мэри Фиттон нередко снимала свой головной убор, укорачивала платье, надевала длинный белый плащ и под видом мужчины уходила на свидание с Пэмброком. В конце концов связь с молодым придворным кончилась тем, что она разрешилась от бремени мертвым младенцем.
Благодаря неудачной женитьбе, Шекспир написал целый ряд произведений, в которых отразились невзгоды его жизни; благодаря счастливой связи с Фиттон, из-под его пера вылился целый ряд новых произведений, в которых опять-таки сквозит его личное настроение. Весьма даже возможно, что удивительные образы Беатриче и Розалинды — та же Мэри Фиттон, остроумная, смелая, женственная, находчивая, веселая, самоуверенная, изящная. Благодаря ей, он почувствовал необычайный подъем духа, следствием чего явились его брызжущие остроумием и веселостью комедии. «Каким блаженством любви, — говорить Брандес, — дышит та сцена в мелодичном 128 сонете, где тонкие аристократические пальцы прелестной девушки бегают со клавишам и где она, так нежно называемая поэтом my music, чарует его музыкой, между тем как он томится желанием прижать ее пальцы и губы к своим устам. Он завидуешь клавишам, которым позволено целовать её пальчики, и восклицает: „Оставь им свои пальцы, а мне свои губы для поцелуя!“».
Что Мэри Фиттон была кокетлива в самом широком смысле этого слова, ясно до очевидности из сонетов Шекспира. Великий поэт постоянно жалуется в них на неверность и легкомыслие, называя ее «заливом, в котором всякий бросает якорь» (сонет 137), или замечая: «Когда моя милая клянется, что говорит правду, я верю ей, хотя знаю, что она лжет». В сонете 139 Шекспир изображает ее бесстыдной кокеткой, не стесняющейся заигрывать с кем угодно даже в его присутствие Она тиранит его, сознавая мощь своей красоты, и властвует над ним волшебной силой. В конце она завела шашни даже с молодым любимцем Шекспира, графом Пэмброком, к которому, по-видимому, творец «Гамлета» питал такую же склонность, как Зевс к Ганимеду.
Смуглая дама, конечно, только одна из многочисленных временных спутниц великого поэта на пути страсти и творчества; но и её одной, её роли в жизни гениального творца бессмертных образов, ее влияния на характер и рост его таланта достаточно для того, чтобы отдать полную дань уважения женщине, дерзнувшей в своем благодетельном влиянии на творчество поэта подняться вместе с ним до высочайших вершин человеческого ума и гения.
Байрон
Нет ни одного великого поэта, который был бы так родствен русскому духу, как Байрон[95]. Это почти наш поэт. Он писал пером Пушкина, водил рукой Лермонтова. Он царил в наших гостиных 20-х и 30-х годов, разочарованно зевал под маской Онегина, беспокойно блуждал по Руси под плащом Печорина и с негодованием метал громы красноречия на балу у Фамусова устами Чацкого. Весь — порыв и увлечение, он и теперь еще продолжает носиться со своей вечной думой по захолустным уголкам нашего обширного отечества, ничего не забыв и ничему не научившись. Даже его отрицательное отношение к своей родине — как бы наше отношение, потому что, прикрывая громкими словами свою ненасытную алчность, она в нас, как и в великом творце Чайльд-Гарольда, всегда будила чувства стыда и негодования, которых не заглушить никакими фразами о свободе, труде и цивилизации…
И в области отношений к представительницам прекрасного пола Байрон живо напоминает наших героев первой четверти XIX века. Как Онегин и Печорин, он переходил от одной женщины к другой, тщетно отыскивая уголок, где бы можно было успокоить оскорбленное чувство, вечно гоняясь за призраком необыкновенной любви, которая одна способна была бы рассеять туман его жизни, и в этой погоне не замечая, что истинная любовь и истинное счастье у него под рукой…
Сколько женщин прошло перед ним за его короткую, но бурную жизнь? Одни только те из них, которым он посвящал плоды своей музы, могут составить целую коллекцию. Тут есть и Лесбия, и Каролина, и Элиза, и Анна, и Марион, и Мэри, и Гарриет, и Джесси, и какая-то «леди», и просто «женщина». Во всех стихотворениях, посвященных этим чародейкам, поэт страстен и тосклив. Его угнетает сознание недостигнутости счастья, его мучит уверенность, что любовь была только сном. И это не в одном только зрелом возрасте. Нет, еще в ранние годы влюбился он в Мэри Дэфф, у которой были «очи газели», черные косы, ласковая улыбка и мелодичный голос.
Вскоре эта любовь сменилась страстью к кузине Маргарите Паркер, у которой оказались «черные очи, длинные ресницы, греческий профиль, томная прозрачность красоты, словно сотканной из лучей радуги». Конечно, все это была платоническая любовь. Затем юношей он влюбился в другую кузину, Мэри Чеворт, очаровательную девушку, отвечавшую ему взаимностью. Но родители девушки не хотели отдать ее поэту даже после того, как он поступил в Кембриджский университет. Мэри Чеворт вышла замуж за другого, оставив неизлечимую рану в его сердце. Потом пошли новые страсти, чему особенно способствовали мечтательная красота Байрона, его высокое положение, слава, поэтический гений, романтический характер его поездок, очарование тайны, которой он всегда окружал себя. Можно было бы исписать целые тома, если задаться целью составить полную историю любовных увлечений великого поэта в связи с их влиянием на его творчество. И тем не менее все это были только отдельные этапные пункты к другому, неизведанному увлечению, все это были временные остановки для отдыха перед дальнейшей погоней за тенью своего идеала в то время, как там, в том же презираемом и отвергаемом Лондоне, ждала его, может быть, английская Татьяна, вся сотканная из грез, преданности, любви и самопожертвования…
Байрон и леди Каролина Лем
Когда общественное мнение туманного Альбиона, недовольное его беспощадной критикой, восстало против него, как один человек, выставив против поэта целые фаланги клеветников и негодяев (его обвиняли, между прочим, в преступной связи с сестрой), «неведомый скиталец», по выражению нашего поэта, сел в одно прекрасное время на корабль и уехал, чтобы блуждать по свету в погоне за близким в теории, но далеким на практике идеалом. «Если вся эта клевета, распространяемая обо мне всеми в Англии, — писал он, — справедлива, то я не гожусь для Англии, а если она несправедлива, то Англия не годится для меня». Тем не менее до разрыва с отечеством Байрону пришлось испытать немало счастливых минут в Англии; когда появились «Чайльд-Гарольд», «Гяур», «Абидосская невеста», «Корсар», «Паризина» и «Осада Коринфа», поэт сделался всеобщим кумиром. Страстность, новизна и оригинальность этих произведений приковали к нему внимание. Он стал феноменом, с которого не сводили глаз. Молодые женщины приходили в восторг при одной мысли, что Байрон, может быть, поведет их к столу, и не осмеливались прикоснуться ни к одному блюду, зная, что он не любит видеть, когда женщины едят. Они с благоговением отдавались надежде, что он напишет им несколько строк в альбом на память. На каждую его строчку смотрели, как на сокровище. К нему постоянно приставали с вопросами, сколько гречанок и турчанок уморил он своей любовью и скольких супругов отправил на тот свет.
Высокое положение, молодость, красота являлись хорошим придатком к его поэтическому гению. Одна из первейших английских красавиц, увидев в первый раз Байрона, воскликнула: «Это бледное лицо решит мою судьбу!» Женщины тщательно старались проникнуть во внутреннюю жизнь Байрона, а некоторые намеки в «Чайльд-Гарольде» послужили поводом молве, будто Байрон в Ньюстеде содержал настоящий гарем, хотя этот гарем состоял на самом деле из одной-единственной одалиски. О его любовных приключениях рассказывали самые нелепые вещи. Вследствие этого женщины буквально брали его с боя. На его столе ежедневно появлялось множество писем от знакомых и незнакомых ему дам. Одна даже явилась к нему в одежде пажа, желая, по-видимому, походить на Каледа в «Ларе». В каком водовороте страстей приходилось ему жить, можно судить по тому, что однажды, после своей свадьбы, он застал в квартире своей жены трех замужних женщин, которые, выражаясь его собственным языком, «знакомы ему были все, как одного поля ягода».
К категории женщин, особенно сильно сходивших с ума по Байрону, принадлежала леди Каролина Лем, молодая женщина из высшего аристократического круга, впоследствии жена известного государственного человека, лорда Мельборна. Это была взбалмошная, мечтательная, капризная натура, поступавшая всегда согласно своим увлечениям. Стройная и красивая блондинка, она была очень привлекательна, несмотря на свою аффектацию и эксцентричность. Это была английская Шарлотта Кальб, игравшая в жизни Байрона такую же роль, какую настоящая Шарлотта играла в жизни Шиллера. Когда отношения между ней и поэтом слишком обратили на себя всеобщее внимание, мать поспешила увезти ее в Ирландию. Байрон послал ей туда вскоре прощальное письмо в вычурных выражениях, свидетельствующее, что сердце его совершенно молчало в то время, когда он думал о красивой блондинке, бывшей, впрочем, на три года старше его.
Отсутствие истинной любви — вообще характерная черта отношений поэта к женщинам, но в настоящем случае оно сказалось еще более ярко: прошло всего несколько месяцев, и Байрон окончательно прервал с Каролиной всякие сношения. Этого, конечно, нельзя сказать о самой Каролине, которая, несомненно, его любила, так как, встретившись с ним вскоре после того на балу, она схватила ножницы (по другой версии, разбитый стакан от желе) и попыталась зарезаться, но только поранила себе горло. Это, однако, не помешало ей через некоторое время отправиться к нему на дом, конечно, не для того, чтобы перерезать себе горло. Не найдя поэта дома, она оставила записку, но очень разочаровалась: Байрон не только не вернулся к своей брошенной Дульсинее, но воспользовался ее запиской для эпиграммы «Remember thee!», напечатанной в его сочинениях. Чтобы отмстить Байрону, она написала роман «Гленарвон», в котором выставила Байрона поэтом, наделенным всеми пороками его героев.
Что Байрона роман этот нисколько не смутил и не опечалил, можно судить по следующему факту. Во время пребывания поэта в Венеции «Гленарвон» был переведен на итальянский язык. Цензор выразил Байрону готовность задержать книгу, если он имеет что-либо против ее появления. Байрон вместо ответа выпустил ее за свой счет.
Последняя встреча между Байроном и леди Лем произошла в то время, когда Байрона уже не было в живых. Когда тело поэта перевезли из Греции в Англию, похоронная процессия тронулась из Лондона в Ньюстэд, на дороге ее встретили мужчина и дама верхом на лошадях. Дама была Лем. Узнав, что хоронят Байрона, она потеряла сознание и упала с лошади.
Жена Байрона — Анна Мильбанк
Каролина Лем была только одной из многих женщин, стоявших как бы верстовыми столбами на жизненной дороге Байрона. Она была забыта так же скоро, как скоро он сошелся с ней. Не будем упускать из виду, что два главных типа, созданных гениальной кистью Байрона, Чайльд-Гарольд и Дон Жуан, представляют собой в сущности художественное воплощение самого поэта в двух различных фазисах развития. Байрон сам был в начале литературной деятельности Чайльд-Гарольдом. Он скучал. Он томился однообразием жизни. А по мере того как росла его слава и английское общество, преимущественно женское, окружило его такой атмосферой поклонения, о которой не мечтал даже Шекспир и другие лучшие представители английской поэзии, Чайльд-Гарольд незаметно для самого себя превратился в Дон Жуана. Женщина для Байрона сделалась почти всем. Он не мог жить вне сферы ее обаяния, считал ее освободительницей от скуки, избавительницей от сомнения, утешительницей в отчаянии. «Только в женщине могу я найти исцеление», — писал он одному другу. И он искал этого «исцеления». Он искал долго и упорно, перелетая, как мотылек, с одного цветка на другой и избытком чувственности заглушая в себе сознание, что идеальной женщины, как он понимал ее сам, нет. Но, может быть, причина кроется в том, что любовные связи не выходили до сих пор из пределов внебрачных отношений? Не прибегнуть ли еще к помощи Гименея как союзника на пути к идеальной женщине?
Вот причина женитьбы Байрона. Это был ужасный шаг, последствия которого, однако, оказались благодетельными для музы Байрона, — новое доказательство того, как благоприятно влияние женщины даже в случаях видимо отрицательных. Женой поэта оказалась женщина, не только стоявшая неизмеримо ниже его по развитию, но отличавшаяся еще несимпатичными чертами характера — скупостью и неподатливостью. Мисс Анна-Изабелла Мильбанк, так звали его жену, была единственной дочерью богатого баронета, деньги которого могли весьма пригодиться Байрону, расстроившему свое состояние вследствие широкого, разгульного образа жизни. Она привлекла его своей красотой и заинтересовала тем, что отклонила его первое предложение. Байрон уже думал, что дело тем и кончится, но Анна Мильбанк сама неожиданно завязала с ним переписку и заставила его сделать второе предложение. Впрочем, последнее произошло при своеобразных обстоятельствах, свидетельствующих, как легко относился Байрон к женпшнам, не исключая и той, которую хотел назвать женой. Дело в том, что сестра поэта, недовольная его ухаживаниями за Анной Мильбанк, предложила ему другую невесту. Байрон согласился и написал ей письмо, но и эта особа отказала. Когда был получен отказ, Байрон сказал:
— Вот видите, в конце концов мне все-таки придется вернуться к Мильбанк.
И с этими словами он написал ей письмо и показал сестре. Сестра осталась в восторге от письма, выразив сожаление, что такому превосходному письму не суждено дойти по назначению. Это еще более подстрекнуло Байрона.
— А вот увидите, — воскликнул он, — оно дойдет!
Письмо было послано, предложение принято, и Анна Мильбанк стала женой поэта.
Многие биографы (у нас Орест Миллер[96]) склонны отнять у женитьбы Байрона на Анне Мильбанк характер морального мезальянса. В доказательство приводятся некоторые места из его писем. Так, Муру он писал относительно своей жены: «Она такая отличная женушка, что… что, словом, я бы желал быть сам хоть сколько-нибудь получше». В другом письме к тому же Муру есть такие места: «Мать моих будущих Гракхов, говорят, слишком для меня добродетельна… Недаром она единственное дитя в семье». Нельзя, однако, придавать этим отрывкам слишком большое значение. С другой стороны, факты, приводимые другими биографами, как Брандес[97], свидетельствуют об игривости настроения Байрона перед свадьбой. «Я по уши влюблен, — писал он одной из своих приятельниц, — и чувствую себя, как и все неженатые господа в подобном положении, как-то особенно глупо». В другом месте: «Теперь я счастливейший из смертных, так как прошла всего неделя, как я обручился. Вчера я встретился с молодым Ф., тоже счастливейшим из смертных, потому что и он обручился»[98]. Таким ребячеством отзываются все тогдашние письма Байрона. Так, по-видимому, он был очень озабочен вопросом о голубом фраке, в котором ему, согласно обычаям, нужно было венчаться, но которого он видеть не мог.
Байрон в сущности боялся брака. Он помнил неудачный брак своих родителей и, по его собственным словам, дрожал во время венчания и давал ответы совершенно не на вопросы. Испытанные им чувства он выразил в стихотворении «Сон». Сам медовый месяц он называет иронически не медовым, а мрачным. Свои чувства он описал Муру: «Я провожу свое время (в деревне родителей моей жены) в странном однообразии и тишине и занимаюсь только тем, что ем компот, шляюсь из угла в угол, играю в карты, перечитываю старые альманахи и газеты, собираю на берегу раковины и наблюдаю за правильностью роста некоторых исковерканных кустов крыжовника».
Поехав после того в Лондон, Байрон устроился там с молодой женой блестящим образом, обзавелся экипажами, прислугой, начал принимать массу гостей. Приданое жены (10 000 франков) быстро исчезло, за ним испарились полученные им по наследству 8000 франков. Ему даже пришлось продать свои книги. Книгопродавец Муррей предложил ему 15 000 франков гонорара вперед, чтобы удержать его от продажи книг, но поэт из ложной гордости отклонил это предложение. Восемь раз описывалось его имущество, причем не пощадили даже брачную постель. Все это не могло не отразиться на отношении избалованной Анны к мужу. Начались мелкие дрязги, выводившие вспыльчивого Байрона из терпения. Раз он бросил свои часы в камин и изломал их щипцами. В другой раз он выстрелил из пистолета в ее комнате. Наконец, страсть Байрона к женщинам, которая, конечно, не прекратилась с женитьбой, также дала немало пищи недовольству богатой наследницы. Она знала про его отношения с леди Лем, с которой была в близком родстве, и ревновала.
В довершение всего несчастья Байрон был выбран в дирекционный комитет одного театра, и его постоянные связи с актрисами, певицами или танцовщицами сделались новым источником семейных раздоров. Жена Байрона обзавелась даже шпионкой в лице своей горничной, которая усердно обшаривала его ящик и перечитывала его письма. Дело в конце концов завершилось полным разрывом — через месяц после рождения ребенка. Жена уехала к родителям, и отец ее тотчас же после этого написал Байрону, что она к нему более не вернется. Обстоятельство это было довольно странным, так как одновременно с письмом тестя поэт получил также и письмо от жены, исполненное всяких нежностей и начинающееся словами: «Милый цыпочка». Впоследствии жена сообщила ему, что написала это нежное письмо вследствие полной уверенности, что муж ее страдает душевной болезнью.
Разрыв с женой послужил для врагов Байрона великолепным предлогом для начала достопамятных гонений, заставивших его расстаться с Англией навсегда. Но зато каким богатством красок расцветилась муза Байрона после его отъезда из Лондона! Она перестала быть домовитой хозяйкой или, скорее, перестала вращаться в кругу тесных интересов родины и, одевшись в дорожное платье, вышла в открытое море жизни. Брандес совершенно прав, когда, говоря о перемене в творческой деятельности Байрона, замечает: «Нельзя даже делать никакого сравнения между тем, что он написал до этого перелома, и тем, что написал после него; в этом он и сам признавался не раз. Несчастье, постигшее его, было ниспослано гением истории, чтобы вырвать его из опьяняющего обоготворения и окончательно устранить от всяких сношений с усыпляющим обществом и духом этого общества, против которых он более чем кто-либо другой вооружил страшнейшую оппозицию».
Байрон и графиня Гвиччоли
Из всех любовных похождений Байрона наибольшей известностью пользуется связь поэта с графиней Гвиччоли. Это была последняя любовь Байрона, самая благотворная, так как за время совместной жизни с графиней из-под пера Байрона вышли такие произведения, как «Мазепа», «Каин», «Венецианский Дож», «Сарданапал», «Беппо» и первые главы «Дон Жуана». Он познакомился с молодой женщиной в своем любимом городе — Венеции. Замечательная красавица, с длинными золотистыми волосами, падавшими на плечи, — весь ее облик носил романтический отпечаток. При первой же встрече и она, и Байрон почувствовали сильное влечение друг к другу — чувство, которому они остались верны до могилы. «Его удивительные и благородные черты, звуки его голоса и неописуемое очарование, исходившее от него, — писала впоследствии в своих воспоминаниях графиня Гвиччоли, — делали его существом, оставлявшим в тени всех людей, которых я видела до сих пор». Поэт, конечно, не нашел в ней воплощения своего идеала, но она все-таки приближалась к нему. «Я, — сказал он однажды, — очень ценю полных, плотных женщин, но у них редко бывают красивые и стройные пальцы, присущие идеальной женщине. Я люблю только простых, естественных женщин, но они обыкновенно необразованны, а изящные и образованные, в свою очередь, неестественны. Таким образом, мое воображение должно само создать женщин, отвечающих всем моим требованиям». Графиня Гвиччоли, по-видимому, напоминала одну из этих женщин. «Ее разговор, — замечает он в одном письме, — остроумен, не будучи легкомысленным. Не притязая на ученость, она прочитала лучших писателей Италии. Она часто скрывает то, что знает, из боязни, как бы не подумали, что она хочет похвастать образованием. Ей, может быть, известно, что я не выношу ученых женщин. Если у нее и синие чулки, то она заботится все-таки о том, чтобы их закрывало платье».
Замужество графини не было препятствием для любовных свиданий, так как 60-летний муж красавицы предоставлял ей полную свободу. В конце концов Гвиччоли поселилась на вилле своего возлюбленного, безнадежно скомпрометировав себя в глазах света и в особенности земляков, так как нравственный кодекс итальянцев того времени допускал «друга» и даже его именно считал настоящим супругом, но только с тем условием, чтобы внешние требования приличия были соблюдены. Но Гвиччоли не могла поступить иначе. Она окружила свои отношения к поэту поэтическим ореолом. Она решила, что отныне цель ее жизни — преданностью и любовью освободить благородного и высокодаровитого человека от уз нечистых отношений и возродить в нем веру в истинную любовь.
Задача была нелегкая. Как и Наполеон, Байрон всегда небрежно отзывался о женщинах. «В своих сочинениях, правда, я возвышаю женский пол, — говорил он, — но делаю это так же, как скульпторы и художники: создаю женщин такими, какими они должны быть. Положение наших женщин в обществе неестественно. У турок в этом отношении уж куда лучше. Они запирают их, но при этом женщины гораздо, счастливее. Дайте женщине зеркало и сладости, и она довольна. Я страдал от второй половины человеческого рода, сколько помню себя. Наиболее мудры те, которые не вступают с ними ни в какие сношения. Рыцарское служение женщине, может быть, такое же жалкое рабство, и еще более жалкое, чем всякое другое».
Приковать к себе поэта, отличающегося такими взглядами, для женщины более чем подвиг; заставить его отказаться от этого взгляда — подвиг еще более великий. Не знаем, успела ли графиня Гвиччоли достигнуть последней цели, но что она сумела приковать к себе Байрона, не подлежит никакому сомнению. По крайней мере, он питал к ней нежную страсть и относился с большим уважением. Некоторые из великолепных женских фигур, созданных им в расцвете деятельности, как, например, Ада в «Каине» и Мирра в «Сарданапале», представляют собой простое воспроизведение очаровательной графини.
Однако недолго влюбленные наслаждались безмятежным счастьем. Графу Гвиччоли пришло вдруг в голову, что отношения между его женой и поэтом больше не должны продолжаться по-прежнему, и так как Тереза расставаться с Байроном не хотела, то пришлось прибегнуть к разводу. Графиня отказалась от имущества, имени, общественного положения, но обязалась жить в доме своего отца, графа Гамбы. С этих пор Байрон ждал мести разгневанного графа Гвиччоли. Так как во время прогулок верхом его легко могли убить, он постоянно имел при себе пистолеты. От насильственной смерти дома ограждала его скупость графа, который ни за что не уплатил бы 20 скудо опытному убийце. Вскоре после того графиня Гамба была выслана из Италии за принадлежность к карбонариям и принуждена была поступить в монастырь. Несмотря на разлуку, Байрон и графиня Гвиччоли продолжали любить друг друга. Байрон долго не мог забыть очаровательную итальянку и даже на смертном одре в Миссолунги терзался мыслью о том, что оставил возлюбленную в Италии.
Шелли
Шелли как поэт представляет почти полную противоположность вечно мятежному, вечно неспокойному, вечно бродячему Байрону; но и в отношениях к женщинам он также противоположен ему. Байрон считал женщин ничтожными существами, разделяя чисто восточное воззрение на них. По его мнению, женщины не имеют никакого права сидеть с мужчинами за одним столом и их, как на Востоке, следует держать в гаремах. Во всем этом, конечно, было много аффектированного. В то время, когда жил Байрон, и мудрено ли, что поэт, вообще любивший бравировать своими вынесенными из блужданий по Востоку впечатлениями, особенно подчеркивал свои неевропейские взгляды на женщину? Однако в этих взглядах есть много такого, что действительно выражает его чувства. Шелли — совсем другое. Он неотразимо привлекал к себе женщин чистотой и возвышенностью своей натуры. Его язык делался благороднее и становился почти другим, когда он говорил о женщине. В противоположность Байрону, который утверждал, что мужчина выше женщины, Шелли глядел на женщину снизу вверх, поклоняясь ей как более высокому, более благородному, неземному существу. Он вообще жил в мире грез, чуждаясь темных сторон действительной жизни. Мудрено ли, что ему часто приходилось разочаровываться как в отношении к людям вообще, так и в отношении к женщинам в частности?
Что Шелли был влюбчив, разумеется само собой: поэт не может не быть влюбчивым. Когда он кончил среднее учебное заведение в Итоне, ему очень приглянулась родственница Гарриет Гров. Так как родители поэта и молодой девушки были очень довольны нежной привязанностью детей, то дело обещало кончиться помолвкой. Но на сцену выступили неожиданно взгляды Шелли на религиозные и социальные вопросы. Глубоко религиозная девушка не могла мириться с полуатеистическими понятиями своего друга, и брак расстроился. Некоторые биографы утверждают, что отказ этот глубоко поразил на всю жизнь сердце поэта. Сама его женитьба на Гарриет Вестбрук — одна из несчастнейших в мире женитьб — состоялась только потому, что у Вестбрук было такое же имя, как у Гров, и, кроме того, она напоминала ее некоторыми чертами лица. Не доказано еще, кому из обеих Гарриет посвящена его «Царица Маб».
Гарриет Вестбрук была подругой сестры поэта по школе. Сам свободомыслящий, он всеми силами старался навязать ей свое мировоззрение, несмотря на ее молодость: в то время, когда Шелли влюбился в нее, ей было всего 16 лет. «Отец ее, — пишет он своему другу Гоггу, — преследует ее неслыханным образом, заставляя посещать школу… Я, конечно, советовал ей стоять на своем. Она ответила мне, что упорство не поможет и что она готова бежать со мной и стать под мое покровительство».
Вскоре молодая пара действительно бежала в Эдинбург, где и повенчалась по шотландским законам. Когда через сутки после бегства они прибыли в Йорк, витавший в облаках поэт убедился, что «злой, тиранический мир чувствует слишком большую потребность в деньгах», и вынужден был обратиться к Гоггу с просьбой выручить его из беды. Отец Шелли считал его брак мезальянсом, так как Гарриет была дочерью купца, и отказал ему во всякой помощи. То же самое сделал и Вестбрук. Молодые люди жили в большой нужде, пока, наконец, родители не сжалились и не обеспечили их ежегодной суммой в 2000 фунтов.
Первое время молодая чета жила в деревне. Потом она переехала в Лондон. Шелли мало заботился о хозяйстве, а Гарриет, в свою очередь, не имела ни малейшего понятия о хозяйских обязанностях. Традиционных обедов у Шелли не было. Он не употреблял спиртных напитков и был вегетарианцем. Как только он начинал чувствовать приступы голода, он отправлялся в первую булочную, откуда возвращался домой с куском хлеба. Шелли не понимал, как можно употреблять в пищу что-нибудь другое, кроме хлеба. «Пудинг — предрассудок!» — энергично заявлял он тем, кто в этом сомневался.
Счастье семейной жизни Шелли продолжалось недолго. Он расстался с женой, которая была почти ребенком. Причины разрыва не вполне выяснены. Полагают, что поэт заподозрил ее в неверности. Настоящая причина, вероятно, заключалась в том, что он полюбил Мэри Годвин, уста которой, «дрожа, коснулись» его уст и темные глаза которой «уменьшили его страдания». Это был тяжелый период в жизни поэта. Современники рассказывают, что у него были кровоподтеки под глазами, волосы и костюм в сильнейшем беспорядке. Поэт, никогда не употреблявший спиртных напитков, прибег вдруг к водке как усыпительнице всяких страданий. «С этой подругой, — говорил он, указывая на бутылку, — я никогда уже не расстанусь!» Бедная женщина, брошенная на произвол судьбы, утопилась. Год спустя Шелли увековечил печальное событие трогательным стихотворением, в котором выразил полное раскаяние.
Мильтон
Мильтон был трижды женат. Одного уже этого достаточно, чтобы понять, как сложилась его семейная жизнь.
Тридцати пяти лет он женился на дочери оксфордширского мирового судьи Мэри Поуэл. Женщина эта, привыкшая в отцовском доме к веселью и довольству в многочисленном кругу родных и знакомых, не могла привыкнуть к образу жизни мужа, который летом вставал в 4, зимой в 5 часов утра, прочитывал главу Ветхого завета и затем работал до обеда. После обеда он продолжал работу, выходил на часок погулять, по возвращении немного играл на органе и затем очень рано ложился спать. Ей не нравилась эта жизнь еще и потому, что трудно было предвидеть, когда она сделается иной.
Так шли дни за днями. Один только месяц смогла выдержать жизнерадостная женщина в этой «тюрьме», как она выражалась, и затем бежала к родителям. Несмотря на обещание вернуться, она оставалась у родителей до тех пор, пока муж в гневе не выпустил три брошюры о разводе. Брошюры эти, явно свидетельствовавшие, что Мильтон решил порвать с женой, заставили молодую женщину раскаяться в своем поступке и вернуться к мужу. Кроме того, Мильтон начал ухаживать за одной леди, и это до того задело Мэри, что она сама явилась к нему с повинной. Когда поэт однажды был у одной своей родственницы, из соседней комнаты, к его удивлению, неожиданно вышла беглая жена и, став на колени, стала просить прощения. Сцену эту он впоследствии изобразил в «Потерянном рае». Мильтон великодушно простил, и Мэри снова поселилась у него в доме. Она родила ему четверых детей, но при рождении четвертого ребенка умерла 26 лет от роду.
Два года Мильтон был вдовцом, после чего женился на дочери одного капитана, Екатерине Вудкок. Брак был во всех отношениях счастливый, но продолжался очень короткое время: при рождении первого ребенка, всего через год после свадьбы, молодая женщина умерла. Память о ней до сих пор жива в великолепном сонете, который Мильтон написал вскоре после ее смерти. Поэт опять овдовел. Но так как без хозяйки дома и сиделки он обойтись не мог, то женился через пять лет после смерти Екатерины на Елизавете Меншель, женщине строптивого характера, ежедневно отравлявшей жизнь мужа. Герцог Бекингемский однажды назвал ее в присутствии Мильтона розой. «Я, — отвечал поэт, — не знаток цветов, но думаю, что вы правы, так как ежедневно чувствую ее шипы».
Что касается третьей жены Мильтона, то она пережила мужа не менее чем на 53 года. В биографии творца «Потерянного рая» Джонсон подводит следующий итог брачным испытаниям Мильтона: «Первая жена покинула его в ужасе и вернулась только из ревности; вторую он, очевидно, искренне любил, но потерял очень рано; третья была чудовищем, притеснявшим его детей при жизни поэта и обманувшим их после его смерти».
Глава II Прозаики
Мольер. — Бальзак. — Альфонс Додэ. — Фенимор Купер. — Вальтер-Скотт. — Ричардсон. — Фильдинг. — Бульвер-Литтон. — Чарльз Диккенс. — Теккерей. — Чарльз Рид. — Натаниэль Готорн. — Сала. — Квинсей. — Свифт. — Шеридан. — Берне. — Жан-Поль Рихтер. — Фрейтаг.
Переход от поэтов к прозаикам равносилен переходу от поэзии к прозе. Там всё огонь и лава, здесь все спокойствие и тишина. Конечно, и прозаики отличаются иногда пламенными чувствами, конечно, и среди них встречаются огненные натуры, способные страдать удвоенными страданиями, радоваться удвоенными радостями; но у них нет способности расширять свои чувства до огромных размеров и сделать их видимыми на далеком расстоянии для людей посторонних. Мы проходим ночью по улице шумной столицы. Тысячи газовых рожков приветствуют нас своими мерцающими огнями, но мы не обращаем на них внимания и идем своим путем. Но вот сверкнул газ, вставленный в рефлектор. Сноп яркого света поразил наш глаз. Мы невольно поворачиваем голову и жмуримся. А между тем свет в обоих случаях один и тот же. Он идет из одного источника; по одному и тому же каналу. Даже сила напряжения у него одна и та же. Один только придаток есть у него — рефлектор и его одного достаточно, чтобы разбросать световые волны и превратить их в море огня. Душа поэта тот же рефлектор: достаточно упасть в нее какому-либо чувству, и оно разрастается до размеров внутреннего пожара…
Мы не можем остановиться на всех писателях-прозаиках для подтверждения той мысли, что и в области литературной прозы влияние женщины столь же благодетельно, как и в области поэзии: чтобы исчерпать весь материал, нам понадобились бы целые тома. Остановимся поэтому только на некоторых примерах.
Мольер
Мольер — и поэт, и прозаик в одно и то же время; но прозаик, несомненно, преобладает в нем над поэтом. И не столько потому, что он написал много прозаических произведений (наоборот, проза его во многих местах очень поэтична), сколько по общему характеру творчества. Попробуйте переделать любую трагедию Шекспира из стихотворной в прозаическую, — она потеряет половину своего значения; проделайте то же самое со стихотворной комедией Мольера, и она останется та же, а может быть, еще и выиграет. И это отчасти благодаря его отношению к женщинам. Да, отношение к женщинам может почти всегда служить пробным камнем для определения прозаичности или поэтичности натуры. И когда от того или другого писателя не остается никаких произведений, узнайте, как относился он к представительницам прекрасного пола. Вы почти безошибочно скажете, поэт ли это или жрец чистой прозы.
Женщины в жизни и литературной деятельности Мольера начали играть роль довольно рано, но особенно резко влияние их обнаружилось в то время, когда родоначальник французской комедии пустился в широкое море жизни в качестве странствующего актера. Это была дикая жизнь. Ничем, положительно ничем не проявлялась еще в нем тогда гениальная сила, обнаружившаяся впоследствии в его произведениях. Никакого намека на философскую серьезность, сосредоточенность, почти мрачность, которыми Мольер отличался в годы расцвета его таланта. Он не выступал определенно в каком-нибудь месте. Он был везде и повсюду и недаром прослыл «безумным». Для полноты картины недоставало только женщины, которая делила бы с ним эту бурную жизнь. В воспоминаниях Мольера уже жила миловидная актриса Магдалина Бежар, эта Филина его школьных лет, но она представала перед ним только бледной тенью. Он начинал забывать ее, а когда на его жизненном пути встала Катерина Леклерк, Магдалина совершенно исчезла. Мольер быстро поддался чарам молодой женщины. «Вы, говорит он ей в своей „Версальской комедии“ (тон употреблен сатирический, но этого требует общий характер пьесы), — представляете одну из женщин, которые считают себя добродетельными, если они сохраняют видимость, которые усматривают проступок только в потере своего имени и называют дружбой то, что другие называют любовью!» И затем, почти на исходе жизни, Мольер восклицал о ней: «В этих глазах я нашел кротких победителей. Мне вечно будет дорог их взгляд. Они нежно высушили мои слезы и не презрели ничего, что позорит твою красоту».
Катерина Леклерк была женой Вилькена, который под именем де Бри выступал в качестве артиста. Она с мужем выступала на подмостках Лионского театра в то время, как туда приехал Мольер со своей труппой и склонил ее присоединиться к нему. Не следует забывать, что середина XVII века не отличалась особыми добродетелями. Французское общество того времени представляло настоящий цыганский табор с его свободными понятиями в области морали и чувственностью. Нисколько поэтому не удивительно, что как Мольер, так и сама Леклерк не усмотрели в ее замужестве фактора, который мог бы помешать их интимным отношениям. Однако в школе женщин, которую прошел Мольер, Катерина де Бри занимала не только самое выдающееся, но и самое почетное место. По сути своей она была наиболее чистой и милой женской фигурой, украсившей жизнь великого драматурга, не беспорочной, конечно, но все-таки близкой к его идеалу.
Вспомним, как вообще относился Мольер к женщинам в своих произведениях. Не глубина и сила страсти, не поэтическая душа, не романтический полет служили для него предметом культа. Его героини вращаются в сфере, занимающей среднее место между действительностью и идеалом. Прелесть стиха, возвышенность стиля, блестящие мысли в виде сентенций, удивительный какой-нибудь случай, какое-нибудь ночное приключение — вот фон его картин, составляющих не саму жизнь, а только подкрашенное отражение жизни. Что же касается женщин, из которых одна сидит в глубине сцены на табурете, другая приводит перед зеркалом в порядок свои волосы, третья скрывает любовную записку, — мы всех их знаем. Они живут и теперь, окружая нас под именем сестер, невест, жен. Сколько Элиант и Генриетт встречается теперь на каждом шагу! В них нет ничего необычайного, ничего экстраординарного нет также и вокруг них. Шутят ли они, любят ли — все в них дышит земной жизнью.
Женщины Шекспира чужды времени и пространству, женщины Мольера находятся в известных социальных условиях. От деревенской красавицы, обманывающей Дон Жуана, до веселой, соблазнительной Селимены, перед прелестями которой не может устоять даже человеконенавистник Альцест, — какой ряд великолепных характеров! Но везде одна только ограниченная действительность. Нет возвышенного. Идеала нет. Это легко проверить на серии женских фигур, выведенных Мольером в комедиях, на всех этих Леонорах, Элиантах, Эльмирах, Генриеттах, представляющих не что иное, как различные вариации на одну тему: Катерина Леклерк.
Что между возлюбленными Мольера и женскими фигурами его произведений существует органическая связь, свидетельствует их легкомысленное отношение к жизни, чуждое всяких граней нравственного порядка. В этом смысле Мольер особенно типичный писатель. Как и любовные похождения его героев, связи Мольера носили земной, почти пошлый характер. Даже жена его, Арманда Бежар, как говорят, была его дочерью…
Бальзак
Полную противоположность грубому отношению Мольера к женщинам представляло отношение к ним Бальзака. Даже женитьба его носит чисто романтический характер, который, видимо, находится в полном разладе с реалистическим направлением его романов. Путешествуя по Швейцарии, он остановился однажды в гостинице, из которой как раз в это время выезжала чета Ганских. Ему дали ту же комнату, которую занимал князь Ганский с женой. Бальзак подошел к окну, чтобы посмотреть на уезжающих. Вдруг позади него послышался нежный голос. Бальзак обернулся. Перед ним стояла восхитительная женщина в розовом туалете. Извинившись за беспокойство, она просила позволения взять забытую на окне книжку и тут же сообщила, что книжка — одно из произведений Бальзака, которые она всегда читает и с которыми не расстается даже во время путешествий. С каким удовольствием продолжал бы он с ней беседу! Но с крыльца донесся резкий голос князя. Прелестная женщина взяла книгу и побежала вниз по лестнице на зов старого мужа, уже сидевшего в экипаже.
Такова была первая встреча Бальзака с его будущей женой. Она произвела на обоих сильное впечатление. Между возлюбленными началась переписка, продолжавшаяся пятнадцать лет. Наконец в одно прекрасное время Бальзак получил от своего предмета сердца письмецо, в котором, вместо обычной оценки его новых произведений, заключалось важное известие: князь Ганский умер, сделав ее наследницей всего своего огромного состояния. Препятствие было устранено, и влюбленные соединили свои судьбы, чтобы никогда не разлучаться.
Конечно, трудно провести грань между произведениями, написанными Бальзаком в период до женитьбы, и дальнейшими трудами. Но что эти два периода существенно отличаются друг от друга, ясно для всякого, кто последовательно знакомится с литературным творчеством знаменитого реалиста. Бальзак смягчается. Его олимпийское бесстрастие отступает на задний план. Сам реализм получает новую оболочку.
Альфонс Доде
Но вот писатель, в жизни которого женщина играла почти законодательную роль, — Альфонс Доде. Этот веселый, бодрый, истинно французский писатель, который так чистосердечно признался однажды русскому журналисту, что не понимает аскетического учения и образа жизни Толстого, так как «мы, французы, ценим жизнь и пользуемся ею», был в молодости большим поклонником женского пола, но все-таки решил никогда не жениться, так как женитьба, по его мнению, могла гибельно отразиться на его творчестве. Но он не сдержал обещания. Женщина, от которой он, пресыщенный, готов был отвернуться навсегда, отмстила ему больно, заставив его влюбиться в даровитую девушку, Жюли Аляр, оказавшуюся родственной ему не только по характеру ума, но и по литературной деятельности: она также была писательницей. С тех пор творчество Доде получило твердую основу, так как Жюли Аляр оказалась не только образцовой женой и хозяйкой, но и превосходной сотрудницей. Доде не написал ни одной страницы, которая не прошла бы через цензуру жены. «Она, — говорит брат Альфонса Доде, — была светом его очага, помощницей в его работах, доверенной советницей его вдохновения. Видеть чету за работой было приятной картиной для всех друзей дома».
В признательность за ее неутомимое сотрудничество и преданную любовь Доде написал ей посвящение к «Набобу», но жена не позволила его напечатать. Однажды между супругами произошла ссора, какие бывают даже в образцовых семьях. Супруги начали входить в азарт. Вдруг в самый разгар спора Доде серьезно заметил:
— А ведь знаешь, наша ссора очень напоминает интересную главу романа.
— Не только напоминает, но она сделается главой твоего романа, — отвечала Жюли, мгновенно забыв все происшедшее.
И Доде тотчас же сел за письменный стол и, записав сцену, внес ее потом в главу одного из своих романов.
Сын Доде, Леон, также свидетельствует в своих воспоминаниях об отце, какую огромную роль играла в его литературной деятельности жена. Она была его сотрудницей. Подобно Жан-Жаку Руссо, Доде храбро и часто перемарывал свои рукописи. «Первый черновик, первая струя, — говорит он, — служила как бы канвой. Моя мать и он принимались снова за это „чудовище“, вырабатывая стиль, примиряя гармонию с требованиями реализма, к чему постоянно стремился писатель.
— Не будь жены, я поддался бы своей опасной небрежности. Жажда совершенства стала мучить меня гораздо позднее.
После этой медленной и беспощадной корректуры являлась третья и окончательная копия».
Как сын и брат Доде, так и другие биографы талантливого писателя приводят немало примеров, свидетельствующих о благодетельном влиянии жены на его литературную деятельность. Правда, она была скорее хорошим корректором, чем музой, но такова уж особенность прозы. Здесь полета нет. Талантливый прозаик — быстрый конь, как и Пегас, но у него нет крыльев…
Фенимор Купер
Такую же, если не большую, роль сыграла женщина в жизни Купера. Превосходный писатель, произведениями которого еще долго будут увлекаться дети и юноши, вряд ли даже сделался бы писателем, если бы не жена. Он читал однажды какой-то роман в присутствии подруги жизни. Роман был плохой, и он с досадой швырнул его на пол.
— Что за гадость! — крикнул он. — Я не романист, но иду на пари, что написал бы роман куда лучше.
— Так в чем же дело? Докажи! — заметила жена.
Через несколько дней уже были написаны несколько глав «Предосторожности» — книги, которую Купер издал на свой счет. Роман обратил на себя мало внимания, но он толкнул талантливого писателя на путь беллетристики, на котором впоследствии Куперу пришлось пожать столько лавров. Его следующий роман, «Шпион», уже имел большой успех, тем более что он льстил национальным чувствам земляков Купера.
Вальтер Скотт
История других выдающихся писателей также богата примерами глубокого влияния женщины. Так, происхождение романов Вальтера Скотта «Роб Рой» и «Вудсток» связано с Маргаритой Стюарт, девушкой, мелькнувшей яркой, хотя и мимолетной звездой на жизненном горизонте писателя. Вальтеру Скотту было всего девятнадцать лет, когда, выйдя однажды из церкви, он заметил девушку, шедшую без зонтика под дождем. Он предложил ей свой зонтик, разговорился и до того увлекся, что тут же предложил заключить союз тесной дружбы на всю жизнь. Союз был заключен, но он продолжался не всю жизнь, а только шесть лет, так как, несмотря на все ухаживания Вальтера Скотта, девушка все-таки предпочла ему одного из его друзей, некоего Форбса, человека, обладавшего крупными средствами и однажды даже выручившего из беды своего товарища в трудную минуту жизни. Вальтер Скотт увековечил ее в двух названных романах.
Причиной неудачи Вальтера Скотта были, вероятно, кроме стесненных денежных обстоятельств, также и некоторые особенности его характера. Это видно из его переписки с дочерью одного французского эмигранта, Шарлоттой-Маргаритой Шарпантье, с которой он обручился через полгода после того, как Маргарита Стюарт вышла замуж. Шарлотта обладала живым умом и рентой в 500 фунтов. Как странны были письма Вальтера Скотта, можно судить по следующему отрывку из письма его невесты: «Что вам пришло в голову писать мне, где вам хочется быть похороненным! Если бы мы уже были женаты, я бы подумала, что вы мной тяготитесь. Превосходный комплимент перед свадьбой! До свидания и будьте осторожны, потому что мне вовсе не хочется, чтобы вы скоро посетили романтический уголок, называемый на обыкновенном языке кладбищем». В другом письме Шарлотта замечает: «Прежде чем кончить, мне хочется вам посоветовать, чтобы вы не употребляли в своих письмах слишком часто слово „должна“. Вы слишком рано начинаете: „Вы должны быть осторожной“, „вы должны обо мне думать“, „вы должны мне часто писать“. Действительно ли должна все это ваша верная Ш. Ш.?»
В то время, когда писались эти письма, Вальтер Скотт еще не был влюблен в болтливую энергичную француженку с миндалевидными глазами. Любовь пришла позже. Когда она умерла через двадцать лет супружеской жизни, Вальтер Скотт написал в своем дневнике: «Смерть уже простерла руку к ней, а она бранила меня и детей за то, что у нас такие серьезные лица. Она говорила даже, что хорошо себя чувствует… В присутствии детей я еще могу владеть собою, так как потеря причиняет им такое же тяжкое страдание, как и мне; но когда я остаюсь один или когда мне что-нибудь напомнит о незаменимой, — ужасное чувство!» Вальтер Скотт, впрочем, был не только нежным мужем, но и хорошим отцом. Несмотря на усиленную деятельность, он всегда находил время играть с детьми, а когда они подросли — сделался их другом и доверенным лицом, которому они вверяли свои тайны даже раньше, чем матери, отличавшейся необычайно мягким характером. «Пусть все восхищаются Скоттом-писателем, но любить его так, как он заслуживал, могли только те немногие, которые могли видеть его, как я, в лоне семьи», — писал Мур после посещения шотландского романиста.
Ричардсон
Как увлекались у нас женщины в начале девятнадцатого века романами Ричардсона, знает всякий, кто прочитал хотя бы «Евгения Онегина». Помните стихи о Татьяне?
Ей рано нравились романы; Они ей заменяли все; Она влюблялася в обманы И Ричардсона, и Руссо. Отец ее был добрый малый, В прошедшем веке запоздалый, Но в книгах не видал вреда; Он, не читая никогда, Их почитал пустой игрушкой И не заботился о том, Какой у дочки тайный том Дремал до утра под подушкой. Жена ж его была сама От Ричардсона без ума.Можно себе представить, как восхищались Ричардсоном на родине. Особенный успех имел его роман «Памела, или Вознагражденная добродетель». Книга переходила из рук в руки. Кто притязал на образованность, должен был непременно прочесть ее. Автор получил анонимные письма от шести дам, которые умоляли его сообщить им на честное слово, правдивая ли это история или вымышленная, и все клялись, что тайну сохранят до гроба. Ричардсон отвечал им всем: «С тех пор как существует мир, никогда еще не сохранялась ни одна тайна, которая вверялась шести женщинам».
Ричардсон был истинным любимцем дам. Он буквально жил в женской атмосфере. Женщины были его критиками, поклонницами, его корреспондентками. Женщины вдохновляли его. Он часто принимал у себя молодых дам, которых заставлял открывать себе сердечные тайны. Уже спустя долгое время после своей женитьбы он с удовольствием вспоминал это время. «Мне очень нравились все эти истории, — рассказывал он. — Однажды я спросил одну из своих клиенток, что написать „ему“ сегодня. „О, — возразил прелестный подросток, — как мне это сказать вам? Пишите что хотите. Слишком любезны вы быть не можете, так как я „его“ очень люблю!“» Жене, конечно, не могли нравиться все эти ухаживания молодых женщин, и она ему часто устраивала сцены ревности, которые, впрочем, продолжались недолго, потому что если Ричардсон властвовал над сердцами женщин даже чужих стран, то как было ему не властвовать над сердцем собственной жены?
Генри Филдинг
Другой английский писатель, Генри Филдинг, женился на красивой и состоятельной девушке Крэдок. Брак не был счастливым, так как жена Филдинга не могла мириться с человеком, не имевшим ни малейшего понятия о политической экономии и забывавшим всякие заботы и обязанности за стаканом шампанского и паштетом из дичи. Поддерживать хозяйство приходилось ей самой. Когда она умерла, Филдинг пришел в отчаяние, но женился в скором времени вторично, подобно Гёте, на своей горничной, «чтобы вместе с ней оплакивать потерянного ангела». Вопреки опасениям его друзей и близких, горничная оказалась великолепной женщиной и хорошей мачехой для его детей. Однако он продолжал тосковать по первой жене и вскоре воздвигнул ей памятник в виде романа «Амелия», в котором нарисовал великолепный портрет жены в лице главной героини, наградив ее всеми добродетелями и привлекательными чертами характера. Между прочим, он и себя изобразил в романе под именем Бута, мужа Амелии.
Булвер-Литтон
Эдвард Булвер-Литтон, впоследствии — лорд Литтон, сидел однажды вместе с матерью за столом в обществе литераторов. Вдруг мать воскликнула:
— Посмотри, Эдвард, какое оригинальное, красивое личико! Кто бы это могла быть?
Булвер оглянулся. Перед ним оказалась Розина Уилер, девушка действительно хорошенькая, но обладавшая довольно решительным характером. Между молодыми людьми завязалось знакомство, перешедшее потом в дружбу и, наконец, завершившееся браком, несмотря на то что друзья старались отговорить его от этого шага. Розина обладала сатирической жилкой и инстинктивным влечением к протесту. В ней жили ангел и черт в одно и то же время, и, конечно, она не могла считаться подходящей женой для человека со столь строгими воззрениями и чувствительным темпераментом, как Булвер. Все это, однако, не помешало расцвету литературной деятельности писателя под ее влиянием. Розина была очень умная, начитанная женщина и в этом отношении стояла до того высоко, что соперники Булвера приписывали лучшие его произведения именно инициативе жены. В подозрениях, впрочем, не было ничего необычайного, так как леди Булвер была также писательницей.
И все же супругам пришлось разойтись. Неодинаковость характеров, к которой присоединилась неверность жены (Булвер имел бесспорные доказательства), привела к разводу. С тех пор бывшие муж и жена сделались врагами. Дошло до того, что в своем романе «Испорченная жизнь» леди Булвер вывела на сцену и себя, и своего мужа, подробно изображая гонения, которым он подвергал ее во время совместной жизни. Она рисует его «лживым, жестоким, хитрым и коварным». А когда Булвер впервые выставил свою кандидатуру в парламент, жена после его выборной речи сама обратилась к народу с речью, в которой грубо оскорбляла мужа, без стеснения выставляя напоказ все его слабые стороны и тайны.
Чарльз Диккенс
Столь же несчастлив был брак Диккенса, с той только разницей, что, прежде чем развестись с женой, он прожил с ней целых двадцать лет. Один из его близких друзей рассказывает эту историю следующим образом: «Катерина Гогарт была простой заурядной девушкой без особых талантов, а впоследствии сделалась хорошей хозяйкой и матерью. Однако жить вместе с мужем в полном согласии она не могла. Чем более известным делался Диккенс как писатель, чем больше стал он зарабатывать денег, тем более стал он чувствовать потребность обставить свою жизнь с внешней стороны возможно лучше и комфортнее. Он устраивал у себя вечера, на которых собирались выдающиеся представители культурной жизни Англии, а также много красивейших и талантливейших женщин. Все эти люди не особенно нравились жене Диккенса, которая к тому же не умела принимать их надлежащим образом. В этом отношении писателю помогала сестра жены, которая принимала гостей, занимала их. Все это она, конечно, делала отчасти потому, что ей хотелось скрыть неспособность своей сестры, отчасти потому, что она по натуре своей призвана была играть выдающуюся роль, так как представляла собой яркую личность. Эта-то роль и не пришлась по вкусу жене, которая стала смотреть на сестру с подозрением. Отчасти был виноват сам Диккенс, который был настолько неосторожен, что в присутствии жены расхваливал ее сестру, выставляя ее идеалом женственности. Друзьям он также жаловался, что жена не для него создана, и это, конечно, не могло не дойти до ее ушей. Положение все более и более обострялось и, наконец, завершилось разводом». Диккенс стал выдавать жене по 200 фунтов ежегодно. К ней же переехал его старший сын. Остальные дети и их тетка, послужившая предметом раздора между Диккенсом и его женой, остались в его доме.
Теккерей
Не более радостен был брак Теккерея. Он женился 24 лет от роду на Изабелле Джеттин Шоу и жил с ней в видимом счастье до рождения третьей дочери, когда начали обнаруживаться признаки ее душевной болезни. Муж отдался всем существом попечению о любимой, но больной жене. Однако состояние ее здоровья все более и более ухудшалось, и, наконец, он должен был передать ее на попечение одной дамы. Много лет спустя он писал одному другу: «Хотя, к сожалению, мой брак потерпел кораблекрушение, тем не менее я вступил бы в него еще раз, так как любовь — венец и завершение всяких земных благ».
Чарльз Рид
Когда Чарлз Рид[99] впервые пытался продать свои произведения, неудача ждала его на каждом шагу. Тогда он писал еще только драмы. Одна лишь актриса Сеймур согласилась побеседовать с ним о его драмах и даже выслушать один акт. Когда Рид кончил, актриса заметила:
— Все это прекрасно. Тут есть настоящее драматическое действие. Однако почему вы не пишете романов?
Рид не знал, что ответить. Глубокое сострадание охватило артистку.
— Да, это старая история, — сказала она. — Вам худо, как и всем, вам подобным. Вы думали, что я куплю у вас за безделицу какую-либо пьесу; но это было бы бессмыслицей. Тем не менее оставить такого человека, как вы, не могу. Постараюсь что-нибудь для вас сделать.
Рид оставил свой адрес и удалился. На следующий день он получил от актрисы письмо, в котором она извещала его, что не может приобрести его пьесу, но дает ему в виде ссуды 5 фунтов стерлингов. Рид немедленно возвратил ей чек со словами:
— Не это мне нужно. Прошу вас, возьмите назад, хотя за самое желание помочь мне очень вам благодарен.
Актриса и писатель разговорились. К концу беседы они уже были друзьями. С тех пор между ними установились близкие отношения, не выходившие, впрочем, по словам друзей, за пределы взаимного уважения. Для Рида дружба г-жи Сеймур была очень полезна, так как она пристраивала его пьесы, заставляла писать романы, руководила его хозяйством и во всем была его советницей и помощницей. Единственно грустными минутами были те, когда неожиданно появлялся пьяный муж Сеймур, от которого приходилось отделываться денежными подачками. После смерти Сеймур Рид написал в своем дневнике: «Вспомнить только, что я провел с Лаурой Сеймур целых 25 благословенных лет, а теперь должен без нее окончить остальную часть своего житейского паломничества! Ни один взгляд ее милых глаз, ни одна улыбка ее уст не будут меня больше радовать! О, мое сердце, мое бедное сердце! Как я несчастен! Вместе с ней я потерял всю свою любовь!»
Натаниэл Готорн
Американский писатель Натаниэл Готорн влюбился в девушку, страдавшую хронической болезнью. Несмотря на свою любовь и уважение к Готорну, София не хотела связывать его узами брака. Он понимал чувства, которыми она руководствовалась, и не настаивал. Влюбленные виделись почти ежедневно. Так как жить друг без друга они не могли, то Готорн еще раз начал требовать, чтобы отношения между ними были освящены браком. София продолжала восставать против этого предложения, но, видя, что все доводы напрасны, заявила, что станет женой любимого человека, если излечится от болезни, продолжающейся двадцать лет. И чудо случилось!
Брак был очень счастливым, о чем свидетельствует письмо, которое Готорн написал своей жене, гостившей у родителей, через шесть лет после свадьбы: «О, Феба (ласкательное имя Софии)! Тебя мне недостает! Ты единственное в мире существо, без которого я не могу обойтись. Я люблю некоторых людей, но все-таки чувствовал себя всегда лучше всего наедине с самим собой, пока не познакомился с тобой. Теперь я только тогда бываю самим собой, когда ты находишься вблизи меня. Ты моя несказанно любимая жена!»
Что жена Готорна оказала большое влияние на его литературную деятельность, факт несомненный. Роман «Красная буква» был им написан благодаря замечанию, сделанному женой. Он открыто сознавался, что без уютной домашней обстановки, которой он обязан исключительно Софии, американская литература никогда не обогатилась бы его произведениями, слывущими на родине классическими. Вот два отрывка из ее писем, свидетельствующие о ее сильной привязанности к мужу. Так, в 1849 году она писала матери по случаю увольнения его с должности таможенного надсмотрщика: «Ты смотришь на нашу неудачу так, как я этого от тебя ожидала. Я не боюсь никаких несчастий, пока мой муж удовлетворяет мои высшие идеалы и пока все милости неба живут в сердцах моих детей. Все прочее имеет второстепенное значение. Я веду бессмертное существование, выращивающее на моем пути райские цветы, которых не может сломать ни одна грубая нога. Я ликую, что у меня такой муж». А в 1851 году, когда положение несколько улучшилось, она писала: «Радуюсь, что ты могла „с восторгом“ высказаться насчет моей участи, потому что если существует счастье в браке, то я им пользуюсь, дорогая мама. Неизменная и бессмертная любовь окружает и ограждает меня. Мы здоровы. Натаниэл превысил мои самые смелые мечты; никто не знает его качеств так, как я. Если бы я когда-либо поднялась до него, то оказалась бы среди сияющих звезд, так как могу сказать, что он меня ежедневно озаряет своим сиянием, подобно солнцу в зените. А затем такие дети! А перспектива быть в состоянии доставлять им хлеб и еще, может быть, пирожное!»
Готорн был также превосходным отцом. Дети считали его лучшим товарищем по игре. О своем сыне Юлиане, который теперь также известный писатель, он рассказывает очень милые анекдоты. Однажды они были вдвоем на кладбище, где начали читать надписи на памятниках. В надписях перечислялись только добродетели покойников. Ребенок слушал некоторое время с благоговением, но потом спросил:
— Послушай, папочка, если здесь похоронены одни только хорошие люди, то где же лежат дурные?
Джордж Сала
Английский писатель Сала рассказывает в своей автобиографии, как женитьба вырвала его из праздной и бесполезной жизни богемы, какой поворот к лучшему совершился в нем, когда ему надо было заботиться о другом существе, и как он за труды получил награду в виде любви и преданности его восхитительной подруги жизни. «Какое счастье для меня, — говорит он, — что я женился на благочестивом, сострадательном молодом существе, которое в течение двадцати пяти лет нашей брачной жизни честно старалось изгнать из дикого парня порок эгоизма и смягчить его темперамент, дикий и невоздержанный от природы. Когда я женился, жизнь моя получила совершенно другое, лучшее направление, и этим я обязан своей жене».
Томас Квинсей
Квинсей — писатель, получивший большую известность в Англии благодаря своей прозе. Он приучил свой организм к опиуму, но, влюбившись в Маргариту Симпсон, почувствовал большой подъем духа, давший ему возможность уменьшить дозу опиума с 300 гран до 40. Маргарита была редкой красоты и стала образцовой женой этого эксцентричного человека. Он сам заявил, что без ее помощи всякие счета оставались бы не уплаченными и хозяйство пришло бы в полный упадок. Свои чувства к прелестной жене он выразил однажды, беседуя с ней, в следующих словах: «Ты без ропота в течение многих лет стирала нездоровый пот с моего лба, увлажняла живительным напитком мои жаждущие от лихорадки и засохшие губы, и даже тогда, когда я нарушал твой спокойный сон моими отчаянными криками, которые я издавал постоянной борьбе с фантомами и невидимыми врагами, ни одного звука жалобы не срывалось с твоих уст. Ты улыбалась мне с ангельским терпением и продолжала свою самаритянскую службу около меня».
Свифт
Со Свифтом, этим английским Вольтером, приключилась удивительная история. Отъявленный враг женщин и брака, он стал в одно прекрасное время жертвой любовной истории, которая в смысле романтичности и экспрессии вряд ли имеет себе подобные в истории любовных похождений великих людей.
Но прежде несколько слов о самом Свифте. Великий, если не величайший остроумец прошлого века родился 30 ноября 1667 года в Дублине, через несколько месяцев после смерти отца, бедного, но знатного ирландца. Мать его была также из хорошей семьи, но, не имея состояния, вела довольно грустное существование. Своего единственного сына она воспитывала за счет дяди, который только считался богатым человеком, но далеко не был богат, вследствие чего очень бережливо тратил деньги. Это очень огорчало Свифта, и его мечтой сделалось тратить возможно меньше денег и сделаться поскорее самостоятельным человеком. Однако достигнуть цели было очень трудно, так как Свифт не любил черствые науки, в особенности математику. Он с большим удовольствием читал поэтов и охотно изучал историю. Жизнь он вел вследствие бедности уединенную, среди книг, и потому случая осуществить давнишнюю мечту — найти средства к существованию — не представлялось. Он прослыл непрактичным мечтателем, нелюдимым, даже «глупцом», так как ему не удавалось добиться докторской степени. В последнем, впрочем, виновато его упорство: Свифт никак не хотел держать экзамен по установленному порядку.
Но нет худа без добра. И самая бедность принесла пользу Свифту, так как удержала его от излишеств, которым предавались его товарищи, более обеспеченные в денежном отношении. Она же заставила его взяться за перо, которое и обессмертило его имя. Еще девятнадцати лет он написал свою знаменитую «Сказку для женщин», образцовую сатиру, блещущую остроумием. Рукопись он показал только товарищу по комнате, который, будучи так же беден и непрактичен, как Свифт, делил с ним житейские невзгоды. Однако у этого товарища хватило сообразительности, чтобы посоветовать Свифту покинуть родной Дублин и поехать в Лондон. И вот с рукописью в кармане великий сатирик пустился в широкое море жизни, предварительно заехав к матери, которая жила в одном маленьком городке. Мать вспомнила, что у нее есть богатый родственник, сэр Вильям Темпль который может оказать покровительство молодому человеку, и родственник этот действительно оправдал ее ожидания. Он взял Свифта к себе, и с этой минуты материальное благосостояние будущего гения было обеспечено. Темпл был благородным, умным, гуманным и ученым человеком, и, конечно, от него не могли укрыться выдающиеся способности бедного родственника. Благодаря ему Свифт тотчас без труда сдал в Оксфордском университете экзамен на докторскую степень. Темпл обращался с ним как с равным и даже показывал ему свои литературные произведения для поправок. В то время Свифт еще считал себя поэтом, насильно заглушая в себе страсть к сатире и сочиняя стихи a la Пиндар, проникнутые ложным пафосом. Под просвещенным покровительством Темпла он не свернул на ложную дорогу, а впоследствии пошел по его же стопам на поприще политической деятельности.
Судьбе было угодно, чтобы и любовная история Свифта началась под гостеприимными сводами Мурпарка, великолепного поместья Темпла. Великий писатель давал дочери своего покровителя уроки по научным предметам и во время этих уроков познакомился с ее подругой, мисс Эсфирь Джонсон, хорошенькой пятнадцатилетней девушкой. Первое время его очаровали в ней превосходные способности. Он любовался ею как учитель, не предчувствуя, что вскоре наступит время, когда это чувство сделается более глубоким. О женитьбе на ней он, конечно, не думал, тем более что пережил уже маленький душевный кризис, едва не окончившийся ужасавшим его браком. Дело в том, что еще до встречи с Эсфирью Джонсон он написал сестре своего товарища по комнате письмо, в котором просил ее руки. Письмо написано в странных выражениях, свидетельствующих о том, что автор его, видимо, заранее был уверен в отказе и само письмо написал только для того, чтобы поскорее покончить с тягостными отношениями, прервать которые иным путем было нельзя. Между прочим, он говорит в этом письме: «Если вам будет угодно ответить утвердительно на мои вопросы, то я почту себя счастливым, когда вы согласитесь взять мою руку и сердце. Красивы ли вы или богаты, до этого мне нет никакого дела. Меня только интересует чистота и бережливость. Я, правда, ничего не имел бы против этого, если бы мои жалкие материальные обстоятельства улучшились благодаря богатой свадьбе, но я никогда не позволил бы, чтобы жена моя упрекала меня в этом. Во всяком случае, по-моему, лучше и приличнее, если муж будет давать пропитание жене, а не наоборот». Нечего говорить, что ответом на это письмо был категорический отказ.
Что Свифту не приходила в голову мысль о возможности связать судьбу с судьбой Эсфири Джонсон, свидетельствует его письмо к одному из своих друзей, которому он сообщает, что его чувство к Джонсон исключает ревность и что он будет очень рад, если другу этому удастся добиться ее руки. Друг действительно сделал попытку в этом роде, но она не увенчалась успехом. С этих пор отношения между Свифтом и Эсфирью сделались иными. Они перестали скрывать взаимные чувства. В письмах к ней Свифт начал называть ее самыми ласкательными именами, из которых наибольшим почетом пользовалось имя Стелла (звезда). И это доставляло молодой девушке большое удовольствие. Она на самом деле хотела сделаться его звездой. Однако о женитьбе и теперь не заходило речи. Стелла была действительно звездой для сатирика, то есть отстояла от него так же далеко, как и звезда. Дело в том, что Темпл строил обширные планы насчет будущего Свифта, но ни одно из них не привел в исполнение. Когда он умер, Свифт получил место пастора в Лорракоре (в Ирландии). Стелла последовала за ним и заняла в Дублине вместе со своей пожилой подругой, миссис Дингли, маленькую квартиру, где Свифт ее часто посещал. Он ежедневно ей писал письма или, вернее, посылал ей свой дневник. Удивительно, но он относился к ней все время как к посторонней, избегая оставаться с ней наедине. Все, что он писал, дышало нежностью, уважением, дружбой, но слов любви не было, тем более не заходила речь о браке. Это очень огорчало Стеллу, которая искренне любила угрюмого Свифта. Зная, что он боится брака, так как на горьком опыте родителей мог наглядно убедиться в «прелестях» супружеской жизни, лишенной солидной материальной основы, она надеялась, что время это пройдет. Свифт обеспечит свое положение, и тогда для него откроется возможность соединиться с любящей его девушкой. Правда, Темпл, умирая, завещал ей небольшую ренту (говорят, будто Эсфирь была даже его побочной дочерью), но суммы этой было недостаточно, чтобы вести безбедную жизнь вдвоем. Положение было печальное.
Но вот наступает поворот. Свифт, который часто отлучался в Лондон, начал мало-помалу погружаться в омут политической борьбы. Шли последние годы царствования королевы Анны, против которой Свифт вооружился со всей силой гения и которая больше боялась его острого слова, чем оружия своих врагов. Неустрашимость и энергия сделали знаменитого сатирика общим кумиром, и, конечно, больше всего симпатии завоевал он в кругу женщин. Среди последних особенной страстью к сатирику пылала мисс Вангомрай, прелестная богатая девушка, решившая во что бы то ни стало влюбить в себя Свифта. Знакомство завязалось так же, как и со Стеллой. Свифт стал обучать молодую девушку наукам. Но о каких науках могла идти речь для молодой девушки, признававшей в настоящем случае одну только науку — науку страсти нежной? Девушка трепетала, когда Свифт усаживался с ней за одним столом. Она ждала минуты, когда он, увлеченный, поддастся ее чарам и произнесет заветное слово. Но он не произносил. Наоборот, он был корректен. Спокойствие его никогда не покидало. Девушка не выдержала и в одно прекрасное время разрыдалась и открыла учителю сердце.
Но учитель молчал. Ни единым словом сочувствия не ответил он на горячие признания девушки. Наоборот, он постарался обратить ее слова в шутку, предлагая взять их назад. Девушка была огорчена, поражена, разбита. Но страсть в ней клокотала, и она продолжала твердить ему о любви. Он, конечно, мог воспользоваться ее чувством, но был слишком для этого благороден. С другой стороны, и жениться на ней он не мог, так как прими он решение жениться, то должен был бы остановить свой выбор на Стелле, которая страдала и любила столько времени и для которой поэтому рай его любви должен был бы открыться прежде всего. Осталось одно средство — бежать, и Свифт ударился в бегство.
Какое чувство, однако, привез он в родной ирландский уголок! Тоска, горечь. Он начал враждебно относиться к Стелле, которая от этого приходила в отчаяние. Не зная причины его томления, она в порыве самопожертвования предложила ему даже вернуться в Лондон, который, по-видимому, действовал на него благодатно. В это время он получил от своих политических друзей письмо с просьбой приехать скорее ввиду министерского кризиса и поэтому, не долго думая, поехал в Лондон. А чтобы освободиться от пламенных ухаживаний своей лондонской ученицы, написал великолепную поэму «Каденус и Ванесса», в которой проповедует самоотречение. Однако предмет этой поэмы, Ванесса, до того украшен цветами его поэтической фантазии, Свифт поднимает ее на такую высоту и отводит ей в своем сердце такое почетное место, что страсть девушки, для которой поэма эта была написана, еще более усилилась. Она даже стала называть себя с. этих пор не иначе как Ванессой. Наконец, в одно прекрасное время Свифт в присутствии ее матери заявил, что сам любит ее дочь, но жениться на ней не может, так как связан долгом по отношению к другой девушке. Затем он отдался обязанностям, связанным с его священническим саном, думая, что уединение и твердая решимость забыть все происшедшее выведут его из затруднительного положения.
Но он обманулся в своих расчетах. Однажды Ванесса приехала в Дублин, желая во что бы то ни стало завладеть сердцем строптивого человека. В то же время он узнает, что Стелла опасно больна. Эти два обстоятельства его до того поразили, что он окончательно потерял присутствие духа. Думая, что болезнь Стеллы вызвана приездом Ванессы, о настойчивой любви которой она не могла не знать, так как ее знали все, в особенности после выхода названной поэмы, он написал Ванессе письмо, в котором, осыпая ее упреками, категорически предлагал вернуться домой. Что же касается Стеллы, то, так как болезнь ее была следствием безнадежной любви, он решил ее спасти обещанием жениться, но только тайно. Ванесса, получив суровое письмо от любимого человека, не выдержала удара. Но и Стелла недолго наслаждалась счастьем: через несколько лет после тайного брака со Свифтом умерла и она.
Когда Свифт женился на Стелле (в 1716 году), ему было 49, а ей 35 лет. Когда же она поехала за ним, решившись посвятить ему свою жизнь, ей было 18 лет. Итак, целых семнадцать лет ждала Эсфирь Джонсон счастливой минуты, когда ей можно будет назвать любимого человека своим.
Аддисон
К числу несчастных мужей нужно также отнести Аддисона. Бедняга долго домогался руки овдовевшей графини Уорвик и добился цели с большим трудом. Брак был очень несчастен, так как графиня относилась к нему свысока, третируя как человека низшего порядка. В шутку тогда говорили, что дом Аддисонов, несмотря на свои огромные размеры, не может вместить в себя Аддисона, графини Уорвик и третьего жильца — мир. Когда Аддисон был назначен статс-секретарем, леди Мэри Монтегю писала одному другу: «Такой пост и графиня рядом, — это, мне кажется, человек, страдающий одышкой, вряд ли будет в состоянии долго выносить, и мы еще доживем до такого дня, когда он охотно откажется от того и другого». Несчастный брак был причиной того, что талантливый человек, не находя успокоения дома, проводил дни в кабаках и в конце концов подорвал здоровье.
Александр Поп
Таким же неудачником в любви был Александр Поп. Он влюбился в одну молодую женщину, некую Витенбург, которая ответила ему взаимностью, несмотря на все его безобразие, и даже лишила себя жизни, когда опекун, и слышать не хотевший о том, чтобы она вышла замуж за знаменитого юмориста, отправил ее на континент, прекратив всякие сношения между влюбленными. Поп был еще влюблен в Марту Блоунт и остался верен своему чувству до могилы, хотя она относилась к нему далеко не любовно. Умирая, он послал к ней человека с просьбой прийти, но она встретила посыльного словами:
— Как, он еще не умер?
Поп, однако, завещал ей все свое состояние.
Одно время он был влюблен также в Мэри Монтегю, но любовь эта превратилась мало-помалу во взаимную ненависть, скрываемую только под маской обычной вежливости. Леди Мэри отправилась однажды к лорду Бэрлингтону. На вопрос, дома ли лорд, слуга ответил:
— Нет, миледи, но в приемной вы найдете мистера Попа.
— А, мне хотелось бы на него посмотреть. Покажите-ка мне комнату.
Слуга повел ее наверх и, отворив дверь в комнату, в которой был Поп, удалился. Через несколько секунд раздался резкий звонок. Слуга бросился туда, но леди Монтегю в комнате уже не было. Она выбежала оттуда. — Позвольте, — воскликнула она в испуге, — вы сказали, что там Поп, между тем там спит в кресле большая обезьяна!
История эта дошла до ушей Попа, и он решил отомстить ей. Леди Мэри была близорука и скрывала свой недостаток. Поп это знал и поэтому предложил ей однажды прогуляться, чтобы посмотреть, как великолепен вид на сады Кенсингтона после того, как удалили каменную стену, скрывавшую перспективу, и заменили ее решеткой. Думая, что стена действительно удалена, леди Монтегю стала восторгаться великолепным видом, которого на самом деле не было, так как никаких решеток не оказалось и стена стояла по-прежнему на своем месте. Поп сам позаботился рассказать о случившемся друзьям. В этом заключалась его месть.
Ричард Шеридан
Когда знаменитый автор «Школы злословия» Ричард Бринсли Щеридан находился в Бате, там жила семья композитора Линлея, пользовавшаяся всеобщей известностью под названием «Соловьиное гнездо». Между прочим, его старшая дочь обладала великолепным голосом, с которым могла поспорить только ее красота. В концертах ее отца она всегда выступала в качестве самой крупной звезды. У ног ее были не только молодые люди, но и старики, представители высших слоев общества. Так, одним из ее горячих поклонников был капитан Матьюс, преследовавший девушку своим упорным ухаживанием, несмотря на то что был женат.
Шеридан познакомился с очаровательной девушкой через свою сестру, ее лучшую подругу, и стал ее тайным покровителем. С этой целью он завязал знакомство с Матьюсом, преступные намерения которого ему нетрудно было вскоре открыть. Преследования капитана привели Линлей в такое отчаяние, что она однажды, находясь у сестры Шеридана, пыталась отравиться. К счастью, во флаконе оказалось до того мало яду, что Шеридан и его сестра отделались только испугом. Тут Шеридан нашел нужным разоблачить злые козни преступного воздыхателя, показав ей письмо, в котором Матьюс говорил о своем намерении увезти девушку силой. Что было делать? Елизавета Линлей, по-видимому, далеко не была уверена, что найдет покровителя в отце. К тому же ей не хотелось рассорить его с доброжелателем. Тут Шеридан предложил ей бежать вместе с ним во Францию и там искать покровительства до тех пор, пока минует опасность. Девушка согласилась, и оба уехали в Кале. Чтобы избежать скандала, Шеридан убедил ее вступить с ним в фиктивный брак.
Когда отец узнал, что дочь его во Франции, он поехал туда и склонил ее вернуться в Бат, обещав Шеридану Дать позднее согласие на брак с его дочерью (о фиктивном браке он не знал). Вскоре после того капитан Матьюс опубликовал письмо, в котором называл Шеридана негодяем и лжецом. Следствием этого была дуэль, после которой Шеридана отвезли домой раненым.
От Елизаветы Линлей вся эта отвратительная история долго скрывалась. Друзья, однако, проболтались как-то в ее присутствии. Узнав, что Шеридан ранен, она крикнула: «Мой муж, мой муж!» К счастью для нее, на крик этот никто не обратил внимания в общей суматохе. Вот что она писала своему фиктивному мужу, брак с которым она тогда еще не считала нужным разглашать: «Двенадцать часов ночи. Бессовестное существо, заставляющее меня в такое позднее время царапать всякую бессмыслицу, так как ты и словечком мне не обмолвился, когда я могу ждать тебя на этой неделе! О, дорогой мой, ты поистине тиран! Ты ведь, конечно, не думаешь, что я здесь сидела бы, если бы мне не было приятно болтать с тобой? Верь мне, возлюбленный, что я только тогда считаю себя счастливой, когда нахожусь вблизи тебя или когда я тебе пишу. Почему ты сегодня вечером так рано убежал? Хотя я и не могу свободно наслаждаться твоими беседами, тем не менее мне доставляет утешение чувствовать тебя вблизи себя. Как только ты вышел из комнаты, я бросила свои карты, так как не могла больше сосредоточить свои мысли на игре.
Сегодня мы — мать моя и я — были у девицы Роскэ и много о тебе говорили. Роскэ убеждала, что я и ты должны сделаться мужем и женой. Она дошла до того, что стала утверждать, будто это произойдет не дальше как через месяц и что все такого же мнения. Что ты скажешь на это? Прощай, мой милый. Я до того устала, что должна лечь в постель. Только одно могло бы еще меня заставить теперь бодрствовать — твое общество. Еще раз прощай.
Полунагая, на коленях прихожу я еще раз, чтобы обременить тебя своим безумием. Я не могла утерпеть, не могла отправить тебе письмо, в котором есть неисписанное место. Правда, я не знаю, что мне еще написать тебе, возлюбленный, так как написала все, что мне известно».
Как, однако, ни была велика любовь между Шериданом и Елизаветой Линлей, нашлась женщина, сумевшая вызвать взаимное недовольство между ними, некая миссис Листер, жена жившего недалеко врача. Красавица и знаменитая певица нашла после этого нужным написать Шеридану следующее письмо:
«Вам известно, что, покинув вместе с вами Бат, я считала вас только своим другом. Мое расположение к вам вы завоевали не вашей особой, а своими нежными чувствами и интересом, с которым относились ко мне. Даже в том случае, если бы мне представился повод еще раз положиться на вас, непреодолимые препятствия сделали бы невозможной нашу связь. Кажется, я не напомнила вам о самом важном; теперь же должна это сделать, дабы вы убедились, что дело серьезно. Знайте же, что, прежде чем я покинула недавно Бат, отказав из-за вас сэру Клерджау и другим состоятельным господам, я в душевной тоске, исполненная раскаяния и гнева, стоя на коленях перед своими родителями, дала священный обет никогда не быть вашей женой, что бы ни произошло. Отец мой воспользовался моим настроением и вынудил у меня обещание выйти за первого мужчину с безупречным характером, если он попросит моей руки. Потом я, правда, раскаялась, так как у меня не было намерения отдаваться другому, хотя я твердо решилась не быть вашей женой. Я утешилась, что моей руки никто спрашивать не будет, но ошиблась.
Один лондонский господин выразил моему отцу желание жениться на мне, а отец напомнил мне о моем обещании. Мне ничего другого не оставалось, как позволить этому господину побывать у нас. Он уже был у нас два-три раза. Он немолод, но довольно почтенная особа. Увидев, что отец мой не шутит, я решила познакомить своего воздыхателя со всеми подробностями своей жизни, чтобы напугать его, и не скрыла от него нашего фиктивного брака, заключенного священником деревеньки недалеко от Кале. Но я достигла противоположного: он продолжает просить моей руки».
Вскоре после этого Елизавета уехала в Лондон для участия в концертах. Чтобы видеть ее, Шеридан прибегал к романтическим средствам, переодевался извозчиком и несколько раз возил ее в церковь. Любовь наконец победила, и год спустя после совместного бегства в Кале очаровательная девушка была вверена ее галантному покровителю. Девятнадцать лет продолжалось семейное счастье Шеридана, чему он обязан был исключительно жене. Муж говорит о ней: «Редко можно найти в одном женском существе все качества, радующие глаз и сердце, в такой степени, как в этой обворожительной женщине. Нельзя не восхищаться при виде ее и, зная ее, нельзя не любить». И действительно, сколько терпения обнаружила она по отношению к многочисленным странностям своего мужа! Когда он составлял свою знаменитую речь против Уоррена Гастинга, жена переписывала ее, собирала нужные справки и т. д., а когда, наконец, речь была произнесена и произвела большой эффект, она от радости почувствовала боль в сердце. Едва оратор кончил, как леди Лэкен обратилась к жене Шеридана, державшей руку на груди, в которой сильно билось сердце:
— Вы должны считать себя счастливой, что нравитесь человеку, который всем нравится.
К чести Шеридана нужно сказать, что он умел ценить и любить «соединительное звено между женщиной и ангелом», как он называл свою жену, хотя иногда и давал ей повод к ревности. Во время ее последней тяжкой болезни он не оставлял ее ни на минуту, ухаживая за ней с самоотверженностью, а когда она умерла, долго не мог утешиться.
Через три года Шеридан женился вторично, взяв себе в жены дочь винчестерского декана Эсфирь Оль. Ему в то время было 42 года, невесте 20 лет. Говорят, что, увидев в первый раз Шеридана, Эсфирь воскликнула: «Прочь от этого чудовища, от этого ужасного создания!»
Это подстрекнуло Шеридана, и он пустил в ход всю свою неотразимую власть над женщинами. Девушка в конце концов согласилась быть его женой. Она получила приданое в 5000 фунтов, а жених выдал ей 15 000 фунтов. Все эти деньги она быстро истратила, так как была легкомысленным и капризным существом и то и дело меняла квартиры и лошадей. Терпение Шеридана было неистощимо даже в тех случаях, когда жена упрекала его в том, что он не умеет обращаться с деньгами. Однажды он послал ей письмо, в котором защищал себя против этого обвинения на двадцати четырех мелко исписанных страницах.
Вкусы Шеридана и его жены редко совпадали. В одном только они сошлись — в любви к общему сыну Шарлю и к сыну Шеридана Тому. Тем не менее жена Шеридана всегда восхищалась своим мужем. «О талантах своего мужа, — писала она однажды, — я говорить ничего не буду; но что он превосходнейший и честнейший человек во всей Англии, это я скажу!»
Шеридан изобретал для своей жены курьезнейшие ласковые имена. Свои письма к ней он также оканчивал курьезными замечаниями, например: «Да благословит Бог твой низкий лоб», «Да благословит Бог ямочки на твоих локтях», «Будь благословенна с ног до головы». Глаза ее, которыми он больше всего восхищался, он называл зелеными. Однажды он сравнил их с «блестящими смарагдами», в другой раз с «зелеными жемчужинами». Во время отсутствия он просил посылать ему ежедневно письма, а когда однажды письма не получил, он писал ей: «Великий Боже! Сегодня ни одной строки от тебя! Если бы мне голос с неба сказал, что земное существо будет со мной так обращаться, я никогда не поверил бы!»
На одно такое письмо жена ему раз ответила, что ей не о чем было писать, но прибавила: «Прошу тебя, дорогой Шеридан, написать мне, так как твои письма дороже мне всего… О, Шеридан, если бы ты здесь был, то твоя Гекка считала бы себя совсем счастливой… Насколько ты лучше всего на свете и как я тебя люблю! Я хочу ненавидеть все, что ты ненавидишь, и любить все, что ты любишь!»
Второй брак повлиял оздоравливающим образом на Шеридана. Он помолодел. И тем не менее «Гекке» приходилось переживать такие же неприятные минуты, как и ее предшественнице: муж ее был всегда в затруднительных денежных обстоятельствах и прибегал ко всяким искусным приемам, чтобы выйти из них. Как ни легкомыслен был он со своими собственными долгами, его занимала мысль о том, чтобы Том, сын от первого брака, женился на богатой девушке и тем оградил себя от грустного существования. Том, однако, предпочел бедную девушку. Истощив все свои аргументы, Шеридан заявил сыну, что если он действительно женится на этой бедной девушке, то лишит его наследства, то есть, по английским законам, завещает ему только один шиллинг.
— Но, папа, — отвечал со смехом сын, — ведь тебе нужно прежде занять его!
Людвиг Бёрне
Чтобы познакомиться с первой любовью Людвига Бёрне, этого мужественнейшего и благороднейшего представителя молодой Германии первой четверти XIX столетия, нам нужно было бы подробно остановиться на литературно-философских кружках Берлина, являвшихся в то время средоточием умственной и политической жизни Германии. Во главе этих кружков стояли просвещенные еврейки, такие как Рахиль фон Фарнгаген, с которой мы познакомились выше, в главе о Гейне, или как Генриетта Герц. Кружок Рахили выбрал главным предметом культ Гёте и довел его до такой степени, когда непонятно, где кончается восторг и начинается безумство. Каждая фраза, каждое слово великого олимпийца признавались откровением. Гёте был вне спора. Даже явно слабые его вещи превозносились до небес.
Этого одностороннего увлечения был чужд кружок Генриетты Герц, красивой, талантливой дочери еврейского врача де Лемоса, подруги Шлейермахера, который после смерти ее мужа, Марка Герца, и строго религиозной матери обратил ее в христианство, сам же преподав ей начала христианской религии. В ее салоне собирались сливки тогдашней духовной аристократии: Гумбольдты, Шлетели и другие. Бывал там и Берне. Он попал в ее салон почти тотчас же по приезде в Берлин из своего Франкфурта, родного города многих германских знаменитостей; и хотя Генриетте было в то время уже 38 лет, он воспылал к ней сильной страстью, на которую только способен мужчина его возраста. «Я не весел и не печален, — писал он вскоре после того, как встретился с предметом своей страсти, — мое сердце бьется медленными сильными ударами». Через месяц чувство его уже выразилось определеннее: «Я чувствую, что горю и все мое существо изменилось… Когда она читала „Ифигению“, я с трудом удерживал слезы. Я не слушал слов, я замечал только ее выражение. Бог мой, зачем люди стыдятся плакать?» Долго крепился молодой писатель, в душе которого не начинали еще пробуждаться бурные громы будущего, и наконец, не выдержав, признался ей в любви. «Ваша красота, ваша любезность, ваше дружеское ко мне участие давно уже зажгли в моей груди страсть, которая сделает меня счастливым или несчастным, которая будет для меня пагубна или благодатна, смотря по тому, как вы захотите или как судьба это решит. Ваша любовь к людям служит мне залогом того, что вы не станете сердиться, ваше доброе сердце заставляет меня надеяться, что вы будете терпеть меня, но во мне нет никаких достоинств, и это отнимает у меня всякую надежду».
Конечно, Генриетта отнеслась к любви пылкого юнца так, как сделала бы всякая разумная женщина на ее месте. Но зато она тотчас же заметила, что из этого неукрощенного житейской дисциплиной юноши выйдет знаменитый писатель, и всячески старалась содействовать этому. Берне до конца дней своих сохранил о ней самое светлое воспоминание, переписывался с ней, пользовался ее советами. Когда почти через двадцать лет после отъезда из Берлина ему пришлось вернуться в этот город, первый визит был им сделан предмету первой страсти, которой, к слову сказать, в то время было уже 64 года…
Не так началась и не так кончилась другая любовь Берне, сильная, могучая, несокрушимая по своему существу, благодетельная по своим последствиям, — любовь к г-же Воль. В своей обширной оценке литературной деятельности и жизни германского публициста Е. Утин высказывает по поводу этой любви странную мысль. «Какого рода были отношения между Берне и г-жой Воль, — пишет он, — до этого, собственно говоря, никому нет никакого дела. Людям мало того, что они считают своим неотъемлемым правом проникать в частную жизнь писателя, нет, им нужно еще докапываться до самого дна, до самых сокровенных тайн, тайн, ни для кого не интересных и принадлежащих исключительно одному человеку. По какому праву люди так бесцеремонно обращаются с сердечной внутренней жизнью человека, этого никогда никому не понять. Жил ли Берне с г-жой Воль, или не жил он с ней, это, по крайней мере мне так кажется, должно быть совершенно безразлично для всех и не имеет никакого значения ни для знакомства с литературной деятельностью Берне, ни для знакомства даже с его частной жизнью». Это то же, как если бы сказать: совершенно безразлично, воспользовался ли преступник похищенными у убитой им жертвы драгоценностями или не воспользовался. Конечно, убийство остается и в том, и в другом случае, но какая разница в характере их! Раскольников убил старуху, но не воспользовался захваченными вещами, которыми мог воспользоваться, потому что они были у него, и убил заправский злодей, для которого лом и топор — кормильцы. Дело именно в том, что пользование любовью, как конечная грань влечения, основанного на родстве душ или тождестве характеров, есть тот пункт, при отсутствии которого не было бы и самого стремления. Пуля летит к цели, к которой она направлена, и только в этом случае мы следим за ее полетом и удивляемся меткости стрелка в случае удачи. Выстрелы в воздух, без всякой цели, не обратят на себя ничьего внимания, за исключением, может быть, городового. То же нужно сказать и об отношениях писателей, мыслителей, художников и других носителей культурных начал цивилизованного общества к женщинам. Обладание любимым предметом являлось для них всегда не только физиологической потребностью, но и импульсом к творчеству. Вспомним великолепный пример Абеляра и Элоизы, с отношениями которых мы познакомимся ниже: они сделались совершенно другими людьми, когда перестали существовать друг для друга как мужчина и женщина…
В Германии, где благодаря примерам Гёте, Шиллера и других корифеев отечественной письменности, отлично понимали, что значит для вопроса о литературном влиянии женщины вопрос об истинном характере ее отношений к литератору, любовь Берне и г-жи Воль подняла целую бурю. Сам Гейне не устоял и разоблачил многие тайны, не пощадив даже чести женщины, бывшей еще в живых.
Не будь истинной любви между ними, не было бы многих произведений Берне, не было бы, может быть, его главного произведения — «Писем из Парижа», писанных г-же Воль. Она вышла замуж за человека, который не понимал ее и вообще не подходил к ее высшей натуре, вследствие чего она покинула его в очень скором времени. Тем с большим увлечением отдалась она молодому, пылкому, благородному борцу за свободу, который мог ее вывести на широкую арену жизни и для которого она сама могла быть помощницей, сподвижницей, товарищем. У тин признается, что г-жа Воль была для Берне «литературным судьей», ни одна строчка не выходила в свет без того, чтобы он сначала не прочел ее своему другу, а Она была взыскательна и строга и всегда требовала, вероятно предполагая, что его переписка со временем должна сделаться известной, чтобы даже его письма были «хорошо написаны и интересны». Она постоянно принуждала его работать, писать, бранила, когда он ленился, не давала ему покоя, пока он не кончит какой-нибудь начатой статьи. Нужно ли прибавлять, что ничего этого не могло бы быть, если бы между Берне и г-жой Воль существовали платонические отношения, и не свидетельствуют ли одни уже эти факты, как важно для истории литературной деятельности того или другого выдающегося писателя знать, пел ли он своей возлюбленной песни, полные страсти и огня, или, по выражению Гёте, он пел, «как птица меж ветвей, вольна и солнцу рада»?
Отметим для полноты, что Берне и г-жа Воль не стали мужем и женой, хотя были свободны и могли освятить свои отношения. В то время как страсть их достигла апогея, он был уже христианином, она же продолжала быть еврейкой. Брак был невозможен.
Жан Поль Рихтер
«Женская душа, как и женское тело, всегда в корсете», — сказал однажды Жан Поль. К этому нужно только прибавить, что корсет, затягивавший души женщин, с которыми приходилось встречаться этому немецкому писателю, далеко не отличался твердостью и упругостью, присущими настоящим корсетам.
После долгого и бурного плавания по морю жизни Жан Поль Рихтер вошел в тихую гавань семейного счастья. Ему было в то время 38 лет. Каролина Мейер, дочь одного прусского офицера, была миловидной девушкой, отличавшейся всеми добродетелями истинной немки. Чистая сердцем, она любила свою семью и жила, полная прекрасных и возвышенных идеалов. Жан Полю были знакомы женщины, умевшие одеваться с большим вкусом, женщины, беседа которых отличалась большим умом, которые и внешне не уступали многим красавицам, но ни одна из них не удовлетворяла знаменитого писателя. Каролина оказалась девушкой, в которой воплотился его идеал. Она, по его словам, «была проникнута той несказанной любовью ко всем существам в мире, которой я до сих пор не находил в женщинах, обладавших чистотой и совершенством алмаза». Девушка эта сразу привязалась к Жан Полю. Любовь ее граничила с поклонением. Через несколько месяцев после свадьбы она писала отцу: «Жан Поль — самый чистый, самый святой и богоподобный человек в мире. Если бы другие могли заглянуть внутрь его так, как я, с каким тогда еще большим уважением стали бы относиться к нему!»
В свою очередь и Рихтер писал своему другу Атто: «С тех пор как мы поженились, моя любовь к Каролине сделалась еще более романтической, еще более глубокой и бесконечной, чем прежде. Вряд ли можешь себе представить, в каком я был волнении, когда мамка подала мне „мою вторую любовь“, утопающую в кружевах. Большие голубые глаза, красивый высокий лоб, губки, предназначенные для поцелуев, меня привели в восхищение! Бог присутствует недалеко при рождении всякого ребенка!» Когда Каролина праздновала в доме мужа первый день своего рождения, Жан Поль Рихтер писал ей: «Я хочу быть для тебя отцом и матерью. Ты должна быть счастливейшим существом в мире, дабы и я мог быть счастливым!»
Густав Фрейтаг
Знаменитый декламатор Александр Стракош мог с полным правом повторить классическую фразу: «Боже, храни меня от друзей, а с врагами я сам справлюсь!» — когда Густав Фрейтаг похитил у него жену. Курьезнее всего тут было то, что известный писатель уже был стариком в то время, когда согрешил против десятой заповеди, запрещающей зариться на чужую жену.
По словам венского фельетониста Сигизмунда Шлезингера, дело произошло следующим образом. Анна Стракош была пикантная женщина, обладавшая к тому же недюжинным умом. В Вибладене, где Стракош выступал в качестве учителя декламации, она познакомилась с Фрейтагом, который вскоре сделался другом ее дома. В короткое время писатель и декламатор стали близкими друзьями, до того близкими, что, когда Стракош предпринял артистическое турне по Америке, Фрейтаг поместил в американских газетах открытое письмо, в котором расхваливал искусство своего друга в самых восторженных выражениях. И в письмах к Стракошу знаменитый писатель не скупился на восторженные выражения, уверяя его в искренней дружбе и привязанности. Конечно, во всем этом не было чего-либо предосудительного. Фрейтаг действительно был другом Стракоша. Но «рука судьбы», как поется в «Прекрасной Елене», все изменила. Фрейтаг, который никогда не хотел быть в Австрии и которого Лаубе напрасно умолял приехать хотя бы на короткое время в Вену(чтобы посмотреть какую-нибудь из своих пьес на сцене, появился вдруг в Бреславле, где и поселился в доме Стракоша. Недоставало только последнего шага — чтобы жена Стракоша сделалась женою Фрейтага. Это вскоре и произошло. Стракош не негодовал. Он добровольно, без борьбы уступил сопернику женщину, бывшую много лет его подругой, и даже после разлуки сохранил о ней самое хорошее воспоминание. Несколько всего лет прожил с Анной Стракош знаменитый писатель и умер. Он был стар, и любовь к молодой женщине блеснула только прощальной улыбкой на его закат печальный.
Мориц Йокаи
Нам хотелось бы окончить главу о прозаиках знаменитым венгерским писателем Мором Йокаи, который продолжает еще здравствовать, но который воздвиг уже себе нерукотворный памятник в истории литературы целым рядом талантливых произведений. Чтобы познакомиться с любовными похождениями знаменитого венгерского писателя Мора Йокаи, нам нет надобности рыться в его биографии. Он сам рассказал их в будапештской газете «Magyar Nemzet», поместив в ней целый ряд статей под названием «Роман моей жизни». Йокаи женился недавно вторично, несмотря на свой преклонный возраст. Мы приведем его рассказ без всяких комментариев.
«Я женился. Во второй раз. Вопреки сильным протестам, добрые намерения которых признаю. Мой первый брак был заключен пятьдесят один год тому назад. Как сделала это судьба?
Есть в истории нашего народа число, имеющее историческое значение, — 15 марта 1848 года. Накануне этого дня несколько мечтательных молодых поэтов решили провозгласить на следующий день на публичном базаре свободу народа, освобождение печати и земли, равенство между людьми, преобразование Венгрии.
Я провел беспокойную ночь. Добрый и дурной человек вели между собой во мне упорную борьбу. Первый шептал: „Не сходи с ума, уходи, беги домой в свой родной город, в комнатку, где стоит твоя спокойная кровать, продолжай честное ремесло, за которым отец твой поседел, и предоставь тех, которые стремятся к недостижимым идеалам, их судьбе“.
Если бы я последовал совету своего дурного друга, который давал мне разумный совет, то мои сто томов не были бы написаны и я, наоборот, был бы теперь бургомистром в Коморне. Правда, я был бы и так довольно знаменитым человеком. Но я послушался доброго друга, который дал мне неразумный совет, и на следующий день совершил поступок, пятидесятилетний юбилей которого обошел в прошлом году весь венгерский народ.
В этот день мне попалась на сцене Роза Лаборфальви. Мы не играли: у нас была серьезная роль. Нам нужно было успокоить возбужденное народное море, привести к разуму безголового великана. Тогда и там получил я от „нее“ первый орден — кокарду с лентами национальных цветов на грудь. Это была наша помолвка. Мы почувствовали искреннюю, настоящую любовь друг к другу. Мы таяли друг в друге, как только это могут делать две чистые души. Одна часть нашла в другой дополнительную половину собственного „я“. Мы этого и не скрывали.
Все, кто меня знал, мои родственники и друзья, тревожась за мою судьбу, зная, что у меня нет таланта для обмана, для обмана женщины, которую я Люблю, что я, беря сердце, даю взамен свое, и что там, где платят честью, не уплачивают позором, — все делали всё, чтобы уберечь меня от рокового шага. Не говорю уже о циниках-клеветниках, которые выставляли мою возлюбленную в черном свете, — этих я просто прогнал. Но и мои доброжелатели кое-что имели против нее.
Один сделал открытие, что у нее больше долгов, чем волос на голове (а какие у нее великолепные волосы!). Другой хотел меня напугать указанием на то, что я хлопочу о холодной, бессердечной женщине, около которой я замерзну. Мой врач напомнил мне, что я только что едва оправился от опасной для жизни болезни. Каждый доказывал, что невеста на семь лет старше жениха: „Ты — несовершеннолетний мальчишка, у тебя еще молоко не обсохло на губах, а она — матрона!“
И все-таки я взял Розу. Лаборфальви в жены. Не дурного друга я послушал, который дал мне умный совет, а доброго друга, за что. меня прозвали дураком. Наконец, мои благожелательные друзья прибегли к внушительнейшему средству. Мой наилучший друг, Александр Петефи, душа которого срослась с моей душой, был настолько жесток, — что привез в Будапешт мою мать, больную женщину, и мою сестру, которую я люблю больше всех. Он сам доставил их в укромный уголок леса на Швабенберге, о котором, кроме него, никто не имел понятия. Там я скрывался со своей невестой. Почти за несколько минут до их прибытия нам было сообщено об этом.
Мы вскочили из-за стола, стоявшего под деревьями. У меня не было времени, чтобы сбегать в комнату за шляпой, поэтому с красно-бело-зеленой комнатной шапкой на голове (она сделана была для меня Розой Лаборфальви в память 15 марта, я храню ее еще и теперь) я побежал оттуда, держа невесту за руку, через кустарник, через лес без тропинок.
Меня преследовали! Меня!
Если враг преследует кого-либо, это ужасно; но быть преследуемым теми, которых любишь!.. За мной бежали обожаемая мной добрая мать, моя дорогая сестра и мой возлюбленный Александр Петефи.
И все-таки Роза Лаборфальви стала моей женой. Я привез ее в бедную маленькую деревню, и там нас сочетали; нашими брачными свидетелями были пономарь и звонарь (деревня называется Пилис-Шаба). Каждый бросал камни нам вослед; только два человека этого не делали: один родственник и один добрый друг. Родственником был мой добрый брат Карл, написавший мне в день, означавший поворот в моей жизни, латинское письмо, латинское, чтобы женщина не могла его понять: „Хотя ты обманул нашу мать, я никогда тебя не оставлю!“ И он не только обещал, но и сдержал обещание. Во все дурные дни моей жизни он был около меня, он не покидал меня. Добрым другом был Эдуард Тилигети, который достал нужные для брака документы и прислал их мне.
Таков был мой брак пятьдесят один год тому назад. А женщина, которую каждый хотел оторвать от меня даже силой, она стала руководительницей моей судьбы, моим верным, любящим товарищем, моей избавительницей от смерти, от скитаний, она стала участницей моей славы, моей гордостью! Никогда не раскаивался я, что последовал совету доброго друга: „Соверши эту глупость“. Та высшая сила превратила ее в добро. И полтора года спустя моя дорогая добрая мать сама пришла к нам, чтобы назвать мою жену „милой дочерью“ и пригласить ее в наш старый очаг, в коморненский отцовский дом.
Почему?
Потому, что она этого заслужила».
Глава III Художники
Рафаэль. — Микель-Анджело. — Леонардо Да-Винчи. — Тинторетто. — Тициан. Андреа дель-Сарто. — Рубенс. — Рембрандт. — Дюрер. — Горас Вернэ. — Милле. — Гогарт. — Сенсборо. — Джордж Ромней. — Блэк. — Стотгарт. — Констебль. — Альма Тадема.
Достаточно просмотреть картины великих мастеров кисти, чтобы тотчас убедиться, что представляли женщины для художников. Не подруги только, не временные или случайные спутницы на жизненном пути их были все эти прекрасные существа, увековеченные в неувядаемых красках. Они были музами, вдохновительницами. О, не будь их, не было бы не только великолепных портретов, на которых они изображены, но не было бы также множества других произведений, внушенных ими, не было бы, может быть, стольких имен в грандиозной галерее художников, растянувшейся по всей бесконечной дороге цивилизованного человечества, начиная с Апеллеса и Фидия и кончая прерафаэлитами или импрессионистами нашего времени.
Когда речь заходить о художниках, то мысль невольно переносится в Италии. Волшебный край! Там жили Рафаэль и Микель-Анджело, там творили да-Винчи, Тинторетто, Тициан — все эти колоссы красок и мрамора, произведения которых останутся вечным памятником могущества и широты человеческого духа. Но и в Италии прежде всего приковывают к себе внимание мастера прежних времен, эти удивительные гении Возрождения, которые как бы похитили огонь с неба и унесли его с собой в могилу. Шестнадцатый век… Никогда еще искусство и поэзия не процветали там в такой степени, как в этот радостный, бурный, жизнью и счастьем пенящийся век. Макиавелли, Корреджю, Ариосто, Тассо, Рафаэль, Микель-Анджело, Леонардо да-Винчи их много, не счесть по именам. А художницы? А женщины-ораторы, поэтессы, писательницы? Тогда жили и действовали женщины-скульпторы: Проперция де-Росси и Изабелла Маццони (Проперция обладала даже выходящими из ряда познаниями в редко культивируемой женщинами области искусства архитектуре); художница Ирена Спиллемберго, ученица Тициана, успевшая сделаться гордостью венецианской школы, несмотря на то, что умерла девятнадцати лет от роду; Пловтилла Нелли, благородная флорентинка, дочь Тинторетто, который изобразил на великолепной картине её смерть и свое горе, вызванное этой смертью. Особенно удивительно в этих женщинах их умение соединить талант с женственностью. Ни одна из них не была «синим чулком», ни одна не низводила своего таланта до крайней степени эксцентричности, не терпящей чистого платья и в подражании общим правилам обихода усматривающей низменность натуры. Наоборот, они все соединяли с гениальностью изящество, грацию и миловидность. Даже Лукреция Борджиа не было чужда дара истинной женственности. Любовь, красота и поэзия были главными устоями жизни. Люди наслаждались ими полною мерой. Они как бы впервые после долгого томительного сна снова увидели Вселенную с ее красотами и радостями и. Спешили вкусить от всего, как бы боясь, что опять наступит мрак и над озаренною солнцем Возрождения страною опять опустятся густые средневековые завесы.
Рафаэль
Сердечная жизнь Рафаэля была почти неизвестна до последнего времени, и темь не менее ни для кого не было тайною, что он обладал большим сердцем, способным увлекаться, любить, страдать, восхищаться. В его произведениях, обессмертивших его гений, нет, правда, намека на бурную страсть, клокотавшую в его груди, но зато его сонеты, огнем и неукротимой страстностью дышащие сонеты раскрывают перед нами картину его внутренних желаний, его стремлений к женскому существу, его душевные страдания. К сожалению, Рафаэль не выносил своих любовных чувств на улицу. Он воспевал возлюбленных, во тщетно искать в его сонетах имя какой-либо из них. И в письмах его ни словом не упомянуто об этом. Его друзья и биографы того времени удостоверяют, что Рафаэль страстно любил и страстно искал любви, но ни один из них не указал, кто была царицей его сердца, кому посвящал он свои восторги в минуты отдыха после великих трудов, увенчавших его имя неувядаемою славою.
Во Флоренцию Рафаэль приехал молодым человеком и там, между 1504 и 1508 годами, из под его кисти вышли удивительные Мадонны, в которых красота флорентинок нашла себе наиболее полное выражение. Возможно ли, чтобы из всех великолепных женщин и девушек, которых он встречал во Флоренции и из которых, несомненно, многие служили для него моделью, ни одна не заставила его сердце биться тревожно? Мы ничего не знаем об этом. Известно только, что он питал страсть к какой-то аристократке, которой посвятил нисколько стихотворений. Вот одно из них:
В сиянии лучей твой образ милый — Всегда его хранит моя душа. Начну писать и вижу — нет той силы, Той прелести… О, как ты хороша!* * *
И кисть моя смела, и краски живы, Но как мертвы они перед тобой! Как этих нежных лилий, роз отливы Изобразить с такою красотой?..[100]В 1508 году Рафаэль переселился в Рим, где ждали его слава, почет, уважение, богатство. То обстоятельство, что он мог жить, благодаря своим огромным доходам, по-царски, заставило кардинала Бибиену предложить ему в жены свою племянницу. Рафаэль не мог отказаться сразу от предложения, но заявил кардиналу, что женится не раньше, как через три или четыре года. Он не хотел жениться. По крайней мере, он был равнодушен к племяннице, как видно из письма его к дяде Симону, где говорится: «Вы на меня сердитесь, но вы несправедливы ко мне! Вы знаете, как мало у меня времени для писем, и я пишу только тогда, когда есть что-нибудь важное. Теперь как раз важные дела — и вот я пишу вам. Первым делом — моя женитьба. День и ночь я благодарю Бога, что не женился ни на той, кого вы мне сватали, ни на другой, в этом отношении я был благоразумнее вас. Я думаю, вы теперь сами убеждены, что женись я, разве был бы я тем, чем есть теперь? У меня дом в Риме оценен в 3.000 дукатов, с доходом в 50 золотых скуди. Его святейшество, наш папа, дал мне, как главному строителю храма Петра, жалованье в 300 золотых дукатов в год, которое, вероятно, со временем увеличится. За посторонние работы я беру, что хочу. Теперь я расписываю новую ставцу его святейшества, и мне придется получить за нее 1.200 дукатов. Видите, милый дядя, я не посрамлю ни своей фамилии, ни родины!
Кардинал Бибиена предложил мне жениться на его родственнице; я дал ему слово и нарушить его не могу. Более чем когда-нибудь нас связывает с ним дружба. О дальнейшем буду извещать вас; потерпите, и посмотрим, к какому концу все это приведет; если брак не состоится, я готов поступать согласно вашей воле… Мне знакома в Риме чудесная нравственная девушка из почтенной семьи; за ней приданого 3.000 скуди золотом, а в Риме 100 дукатов все равно, что ваших двести».
Когда пришел срок, указанный Рафаэлем кардиналу Бибиене, художник уступил его просьбам и согласился на помолвку. Последняя состоялась, в 1514 году. До свадьбы, однако, дело не дошло, хотя кардинал постоянно настаивал на этом. Его сердце принадлежало другой. «Я побежден, прикован к великому пламени, которое меня мучит и обессиливает. О, как я горю! Ни море, ни реки не могут потушить этот огонь, и все-таки я не могу обходиться без него, так как в своей страсти я до того счастлив, что, пламенея, хочу еще более пламенеть». Знаменитый сонет, из которого приведены эти строки в переводе, был написан Рафаэлем в то время, когда он был женихом Марии Бибиены; но он не ей посвящен и не к ней относится. Стихотворение было написано для необразованной простушки, для дочери булочника, удивительной, очаровательной, но для нас мало знакомой Форнарины, для которой великий художник пренебрег племянницею кардинала.
Мария Бибиена умерла в 1517 году. Когда год спустя Рафаэль лежал на смертном одре, его, очевидно, мучили угрызения совести, так как он потребовал, чтобы его похоронили рядом с бывшей невестой. Желание это не было исполнено, тем не менее рядом с могилою Рафаэля в Пантеоне поставлен памятник и Марии Бабиене.
Рафаэль и Форнарина
Кто была таинственная девушка, с которою Рафаэль провел лучшие годы жизни, которую он воспел в столь пламенных выражениях в своих сонетах и в угоду которой откладывал брак с Марией Бибиеной? Современники Рафаэля только мимоходом упоминают о ней в своих биографиях, как о любовнице художника. Никто из них не называет ее имени, не указывает даже, к какому классу она принадлежала.
На одно только мгновение выплывает из густого мрака образ очаровательной незнакомки, да и то тогда, когда Рафаэль был при смерти. Ученики и друзья художника собрались вокруг его смертного одра и плакали. Его возлюбленная стояла на коленях у его постели. Она хотела громко молиться, но слезы душили ее и она в отчаянии закрыла лицо руками. Вдруг открылась дверь и вошел посол папы, чтобы передать умирающему благословение главы римской церкви. Увидев стоящую на коленях женщину, посол приказал удалить ее, так как он не мог передать отходящему в вечный мир Рафаэлю папское напутствие в присутствии девушки, жившей с ним в преступной любви. Девушке предложили уйти, но она судорожно ухватилась за ножки кровати. Пришлось употребить силу. Девушка была удалена. Рафаэль принял папское благословение и, вспомнив с раскаянием о невесте, жизнь которой была им разбита, испустил дух. Вот и все, что оставили современники о любви Рафаэля к Форнарине, бросившей из страсти к художнику родителей и поселившейся в его доме.
Вокруг имени Рафаэля и его возлюбленной составилось много легенд, но записываться они стали только через сто лет после его смерти. Имя девушки, которую любил великий художник, по-прежнему осталось неизвестным. В легендах говорилось только о Форнарине, о булочнице. Так ее и стали называть после. Булочная ее отца находилась недалеко от церкви св. Цецилии. Около нее был садик. Там, в этом садике, часто сидела Форнарина, и так как молва о ее красоте распространилась по всему Риму, то мимо садика то и дело блуждали молодые люди, преимущественно художники. Рафаэль, которому по приезде в Рим было 25 лет, не мог, конечно, быть исключением и при первом же взгляде на красавицу-булочницу тотчас же воспылал к ней неукротимой страстью. Можно, конечно, думать, что между великим живописцем и скромной девушкой завязались такие же отношения, как между Фаустом и Маргаритой. Но это ошибка. Форнарина далеко не ценила великого таланта человека, к которому сама привязалась со всем пылом молодой страсти. Все ее мысли были сосредоточены только на красивых платьях, на маскарадных удовольствиях и на любви к своему любовнику.
Одновременно с именем долгое время не знали также и портрета Форнарины. Еще недавно портретом Форнарины слыла красивая женская головка работы Рафаэля в галерее Уффици, во Флоренции. Теперь не подлежит никакому сомнению, что портрет этот вовсе не принадлежит кисти Рафаэля (полагают, что он написан Фра-Себастиано) и изображает одну куртизанку, по имени Беатриче ди-Феррара. Другие знатоки Рафаэля придерживались мнения, что Рафаэль увековечил свою возлюбленную на портрете, известном под названием «La donna velata» — женщины с вуалью (он находится в галерее Питти во Флоренции). Только благодаря новейшим исследованиям и, главным образом, благодаря римскому художественному критику Антонио Валери, работа которого впервые появилась три года тому назад в римском журнале «La Vita italiana», мы знаем настоящий портрет Форнарины. Описывать ее черты — излишне: они известны всем. Форнарина — это Сикстинская Мадонна. Для нее, для этого величайшего из произведений величайшего художника, служила моделью дочь простого булочника! Милое личико девушки с благородными чертами, дышащее безыскусственною свежестью, искренностью и внутренней любовью, превратилось под гениальной кистью Рафаэля в удивительную Мадонну, спокойно шествующую в небесах со своею божественною ношею — младенцем Христом на руках. Жуковский в избытка восторга назвал эту Мадонну «одушевленным престолом Божьим, чувствующим величие сидящего». Любовь Форнарины была некоторым образом также престолом для божественного гения Рафаэля, так как благодаря ей, благодаря её влиянию, выразившемуся не в непосредственных указаниях и советах, которых она дать не могла, а в способности вызвать необычайный подъем духа, в умении близостью своею одухотворить работу возлюбленного, Рафаэль поднялся на недосягаемую высоту художественного совершенства.
Раз мы знаем портрет Форнарины («Святая Цецилия» также напоминает ее), мы знаем также и ее душу, потому что Рафаэль обладал редким даром отражать душу в чертах лица. У Форнарины был прекрасный полный бюст римлянки. Она не отличалась страстным темпераментом. Основными свойствами ее характера были искренность и преданность. Ум не сквозить в ее глазах, но зато в них, как и на всем лице, видно глубокое чувство. Она была скорее немецкой Гретхен, чем итальянской Ниной.
Благодаря Валери, мы знаем теперь также и настоящее имя Форнарины: ее звали Маргаритою Лути. Итальянский исследователь нашел его в одной из рукописей флорентийской библиотеки и в списке монахинь одного монастыря, куда бедная девушка поступила после безвременной смерти своего возлюбленного.
Микел-Анджело
Если оставить в стороне Викорию Колонну, с которой Микель-Анджело встретился в то время, когда он уже остыл для страсти под влиянием возраста, то надо признаться, что сердечная жизнь этого титана Возрождения также покрыта мраком неизвестности. В одном сонете, написанном в 1508 году, он говорит о красоте какой-то девушки, завладевшей всем его существом. Девушка эта — жительница Болоньи. Она произвела на него большое впечатление, но никаких сведений о ней нет. По всей вероятности, она была предметом мимолетного увлечения, которое ничём не закончилось, как и все другие его увлечения.
В этом отношении Микель-Анджело представляет полную противоположность Рафаэлю. Творец Сикстинской Мадонны остался до конца дней своих веселым, жизнерадостным юношей, гений которого открывал для него сердца всех женщин, попадавшихся ему на жизненном пути. Для того, чтобы понравиться Рафаэлю, женщине достаточно было обладать свежим личиком. Ума женского ему не нужно было. Оттого-то ему и не приходилось искать любви. Она сама шла к нему навстречу. Его великий соперник, наоборот, искал любви всю жизнь. Поэтому-то он, подобно Бетховену, не мог найти женщины, которую так страстно жаждал, которой он мог бы посвятить всего себя. Не был ли этому причиной удар в лицо, полученный им в детстве, удар, который, как известно, обезобразил его на всю жизнь? Флорентийские и римские женщины, несомненно, разделяли слабости женщин всех времен и народов и в их глазах красивый мужчина, конечно, был предпочтительнее некрасивого; но мало ли примеров, когда безобразие мужчины не только не служит отталкивающим элементом, но, наоборот, окружает его ореолом особой прелести для женщины! Бет, не безобразие Микель-Анджело было причиной его неудачных исканий в области любви. Он был слишком велик для женщин. Он хотел чувства, которое равнялось бы его чувству, а этого, конечно, он найти не мог. В истории редко встречаются примеры, когда великий мужчина встречается с великой женщиной и заключает с нею союз тесной дружбы. Гораздо чаще противоположные примеры, примеры дружбы между великими деятелями в области культуры и полными умственными ничтожествами, не обладающими к тому же даже добрым сердцем, которое искупило бы отсутствие у них идейных интересов.
Обратимся, поэтому, к Виктории Колонне, женщине, достойной великого создателя Ватикана, но попавшейся ему на глаза слишком поздно, почти на закате дней, когда и жизнь, и могучий гений его уже клонились к печальному концу — к могиле.
Микель-Анджело и Виктория Колонна
Возрождение, как было сказано выше, дало много великих женщин, прославившихся в области литературы и искусства; но ни одна из них не поднялась на такую высоту, как Виктория Колонна, знаменитая поэтесса и подруга одного из величайших мастеров кисти — Микель-Анджело. Она родилась в 1490 году в Марино и уже четырех лет от роду была помолвлена с д’Авалосом, маркизом Пескарою. Девочка так привязалась к своему жениху, что влюбилась в него не на шутку, не раз отвергая для него предложения высокопоставленных особ. Любовь увенчалась счастливым браком, который, однако, продолжался недолго, так как муж её был убит в сражении под Павией (1525 г.). Колонна оплакала его смерть в звучных стихотворениях, искренность и красота которых тем более были трогательны, что только любовь к мужу пробудила в ней поэтические наклонности. Горе ее было неописуемо. Она собиралась даже постричься в монахини. Счастье, казалось, покинуло ее навсегда. Но оно вернулось к ней, когда она неожиданно встретилась с Микель-Анджело.
Что представляла собою Виктория Колонна, как личность? «Она, — говорит Герман Гримм, один из лучших биографов Микель-Анджело, — одна из самых знатных и знаменитых женщин во всем мире. Красота, чистота образа жизни, знание латинского языка, — словом, ее украшают все добродетели, которые служат похвалою для женщины. Пресыщенная блестящею жизнью, которую вела когда-то, она после смерти мужа отдалась всецело мысли о Христе и науках, поддерживала нуждающихся женщин и служила образцом истинно-католического благочестия. Столь же кротко, — продолжает Гримм, она совершила в Неаполе свой первый опыт, превратив племянника своего мужа, молодого д’Авалоса, именно того д’Авалоса, который под Волтеррой боролся против Ферруччо, из дикого, необузданного юнца в мужа, любящего искусство и науки. Она гордилась тем, что это сделала. И как нежно пользовалась она своей властью над Микель-Анджело, с которым другими средствами ничего нельзя было поделать, которому она теперь в первый раз внушила счастье согнуть выю перед женщиною и для которого она превратила годы, проведенные ею в Риме, в период счастья, бывшего до тех пор ему чуждым… Она стояла во главе партии, которой, по-видимому, принадлежало будущее. Если бы ее друзья имели такой же успех, то имя Виктории было бы теперь окружено еще большим блеском. Она, Рената Феррарская и Маргарита Наваррская, — все три, связанный дружбою и находившиеся в постоянных сношениях, составляли триумвират женщин, под предводительством которых вся образованная Италия вступила тогда в. борьбу. Стоило только Поло или Контарини достигнуть после смерти Павла высшей власти — а на это оба могли рассчитывать, — и победа, была бы одержана. Эти надежды возбуждали и возвышали Викторию. После долгих лет печали и одиночества и для нее, по-видимому, началось новое время. В 1538 году были впервые напечатаны ее стихотворения. В Ферраре она приняла приветствия двора, всецело склонного признавать идейные заслуги. Ариосто увековечил это время своими стихотворениями, посвященными Виктории. Вернувшись в Рим, она была встречена там другом с большой радостью. Это продолжалось пять лет, несомненно самые счастливые в жизни Микель-Анджело».
Виктория Колонна была единомышленницей Диры Оркино, того именно человека, который явился в Италии представителем более свободного направления в области мысли. В то время, когда Карл V выпустил приказ, по которому не только всем еретикам, но даже и тем, которые приходили в соприкосновение с еретиками, грозило поплатиться жизнью и имуществом, Оркино считал его в числе своих слушателей и поклонников, искусно умея скрывать свои внутренние мысли. Благодаря, вероятно, влиянию Виктории, он был самим папою назначен духовником и призван в Рим. «Она, — говорит Гримм, — дочь Фабрицио Колонны и вдова маркиза Пескары, мечтавшего сделаться неаполитанским королем, играла, здесь, равная высшим представителям дворянства в Европе, огромную роль. Папа оказал ей прием, приличествующий царственной особе ее ранга. Император посещал ее в ее дворца во время своего пребывания в Риме, и если кого-либо не привязывал к ней интерес к реформам в области мысли, то притягательной для него силой были ее красота, любезность и то, что современники просто называли ее ученостью. Считаться ее другом, почитателем и протеже было гордостью».
Микель-Анджело послал ей однажды набросок, изображавшей Распятие. Виктория должна была одобрить его и отослать назад, после чего художник взялся бы за работу. Набросок, однако, ей до того понравился, что она решила оставить его у себя во что бы то ни стало. Вот что она ему писала по этому поводу: «Несравненный художник Микель-Анджело и единственный друг! Я получила ваше письмо и видела Распятие — произведение, которое в моей памяти поистине пригвоздило к кресту все известные мне другие изображенич. Ничего не может быть более живого, более совершенного, чем это изображение Христа: с такой непостижимой нежностью и удивительной силой оно изготовлено. Но вот что: если оно сделано чьей-либо другой рукой, а не вашей, то я не хочу, чтобы кто-либо другой его выполнил. Известите меня, действительно ли это нарисовано кем-либо другим или вами, простите мне эту просьбу. Если вами, то вы должны во что бы то ни стало оставить его для меня; но если не вами и вы хотите поручить его какому-либо работнику, то нам необходимо предварительно поговорить об этом, так как мне известно, как трудно будет так работать вторично по такому рисунку. Мне бы лучше хотелось, чтобы тот, кто это написал, сделал мне что-нибудь новое, другое. Но если набросок принадлежит вам, тогда простите, если я его не возвращу. Я рассматривала его при свете, под стеклом и в зеркале. Ничего более совершенного я никогда не видела. Преданная вам маркиза Пескара».
Особенно ярко обнаруживается влияние Виктории Колонны на Микель-Анджело из его следующего сонета: «В душе исполненный образом человека, художник начинает лепить то, что видит духовными очами, из дурной глины; потом из мрамора, медленно, удар за ударом, при помощи резца извлекает он образ, чтобы он появился чистым, как ему хотелось; и вот оживленный является он в мир. Таким был я вначале: только своей собственной моделью, только тобою, владычица, преобразованный, чтобы показаться в высшей законченности. То указуешь ты, чего недостает, то опять властвуешь, подобно стреле. Но что ждешь мое дикое сердце, раз ты переделала его?».
«Каким бы человеком сделался Микель-Анджело, — восклицает Гримм, — если бы судьба свела его с Викторией в молодые годы и если бы также и она пошла к нему навстречу, менее истомленная годами и пережитыми событиями! В том виде, как они встретили друг друга, она ничего не могла ему дать, кроме мягкой дружбы, которою она его успокаивала, а он не мог требовать ничего, кроме того, что она могла дать». В этом сознается сам Микель-Анджело в следующем сонете: «Чтобы и в будущем твоя красота пребывала на земле, но у женщины, которая более тебя благосклонна и менее тебя строга, природа, полагаю, требует назад твои прелести, повелевая им постепенно покинуть тебя. И она их берет. Твоим небесным личиком украшает она в небе милый образ, а бог любви заботливо старается вложить в нее исполненное сострадания сердце. Он берет также и все мои вздохи и мои слезы собирает он и отдаст тому, кто будет любить ее, как я тебя люблю. И, счастливее меня, он, может быть, трогает моими мучениями её сердце, и она оказывает ему расположение, в котором мне было отказано».
Дружба между великим художником и Викторией Колонна не прекратилась до конца ее жизни. Он не изменил ей в тяжелые дни, когда члены ее семьи, столь могущественной когда-то, один за другими сходили со сцены вследствие ненависти Медичи и Фарнезе. Когда он рисовал ее портрет, перед ним была далеко не молодая красавица. Белокурые волосы, когда-то украшавшие ее голову, поседели. Она изображена в черном шелковом платье, стройно сидящею в кресле с рукою на открытой книге, которая покоится на коленях. Во всех ее чертах величественное спокойствие, вокруг глаз и рта — выражение страдания. Она стара, но не дряхла, с резкими линиями, благородна и энергична. Микель-Анджело присутствовал при ее смерти (в феврале 1547 года) и потом долго не мог простить себе, что поцеловал одну только руку умирающей, а не лоб и щеки. Горе его было безгранично. Семидесятилетний старик потерял в ней единственную подругу и единственным утешением его было то, что и он уже находится на закате дней.
Свою печаль он выразил в прекрасном стихотворении следующего содержания: «Когда ты, к которой стремятся мои желания, удалилась, природа, никогда не создававшая ничего более прекрасного, была пристыжена. Кто тебя видел, проливал слёзы. Где ты теперь пребываешь? О, как неожиданно погибли безнадежные мечты! Теперь у земли твое чистое тело, у неба твои святые мысли. Смерть была твоим жребием, потому что только в смертном виде может к нам нисходить божественное. Однако, смерть уничтожила только то, что смертно! Ты живешь. Слава твоя блестит в ярком свете и всегда будет тебя показывать в твоих делах и стихотворениях».
Микель-Анджело не быль женат. Он боялся брака, опасаясь, что семейная жизнь отвлечет его от искусства. «Я, — сказал он однажды, — сочетался законным браком с искусством и оно мне доставляет достаточно домашних забот, потому что мои произведения — дети мои и поглощают меня всего, Чем был бы Лоренцо Гиберти, если бы не создал „Врат св. Иоанна“? Его дети растратили его состояние, но его „Врата“, достойные называться вратами рая, будут существовать вечно».
Но, оставаясь холостяком, Микель-Анджело в то же время заботился о том, чтобы имя Буанаротти не исчезло со сцены жизни. «Конечно, — говорил он, — если оно и исчезнет, то мир будет существовать по-прежнему; но все-таки всякое существо старается сохранить свой род». Вследствие этого он стал настаивать, чтобы его племянник женился. Но жениться на ком? Микель-Анджело требовал, чтобы племянник оставил в стороне вопрос о приданом. Приданое не должно его интересовать. Наоборот, он должен обратить внимание на самое девушку, чтобы она была хорошо воспитана, добра, здорова. И если у нее вовсе нет денег, то это даже лучше, так так тогда будет обеспечен мир домашнего очага.
Так доказывал Микель-Анджело, но не так думал племянник. Он охотно предпочел бы приданое. Великий художник, однако, уладил дело: он сам вызвался дать приданое. И он исполнил обещание. А через год после женитьбы племянника на девице Ридольери мир обогатился новым человеком: родился мальчик, которого назвали Микель-Анджело Буанаротти. Род был обезпечен.
Леонардо да-Винчи
Нам по необходимости приходится сократить рамки нашего изложения, так как, желая дать полную картину отношений между всеми известными художниками и женщинами, влиявшими на их творческую деятельность, мы должны были бы уделить им целую книгу.
Вот почему мы отметим только главные моменты этих отношений.
В жизни третьего из гигантов Возрождения, Леонардо да-Винчи, большую роль играла Джоконда.
Встретился он с нею случайно. Однажды явился к нему богатый ростовщик Франческо Джоконда и попросил нарисовать портрета его красавицы жены Моны-Лизы.
«Около дюжины музыкантов придется нанять, — заметил да-Винчи, — чтобы поддержать в благородной даме хорошее настроение. Может быть, в интересах разнообразия, было бы желательно пригласить еще нескольких певцов и клоунов».
Но у да-Винчи оказалось лучшее средство поддерживать в своей модели хорошее настроение духа: он влюбился в нее и начал за нею ухаживать. Франческо был уже стар, а художник имел всего 43 года, был красив, умен, красноречив и уже тогда считался гением. Про отношения между Моной-Лизой и да-Винчи рассказывают столь многое, что трудно проверить. Несомненно только, что на его творчество она имела решающее влияние, так как с той минуты, как он познакомился с этой очаровательной женщиной, лицо ее начало появляться на всех крупных произведениях великого мастера.
Тинторетто
Тинторетто влюбился в красивую энергическую дочь венецианского дворянина Марко де-Вескови, Фаустину, на которой и женился. Они занимали великолепный дом, управление которым находилось всецело в ея руках, что доставляло Тинторетто возможность работать свободно, не увлекаясь побочными делами. Тинторетто любил искусство для искусства. Он работал для себя, а не для денег, и, увлеченный работою, совершенно забывал, что хозяйство требовало расходов, а следовательно и презренного металла. Он никогда не считал находящихся у него в кармане денег, которые к тому же клала туда сама жена. Когда деньги истощались, Фаустина заботливо наполняла его кошелек. Она же заботилась о костюме мужа, заставляя выходить на улицу непременно в лучшей одежде венецианского гражданина и каждый раз напоминая, чтобы он остерегался дождя. Для истинно художественной натуры Тинторетто Фаустина была самой подходящей женой.
Тициан
Столь же аккуратной и точной в хозяйственных делах была и жена Тициана. Властная и решительная, обладая диктаторским характером, она ежедневно требовала от мужа точного отчета о сделанных им накануне расходах. Если ему приходилось бывать в веселой компании и истратить несколько больше того, что предписывалось строгой женой, то он прибегал к разным уловкам. Тем не менее, Тициан очень любил свою подругу жизни, а когда она умерла, горько ее оплакивал.
Андреа дель-Сарто
Андреа дель-Сарто женился на молодой вдове. Это было злое существо, к тому же чрезвычайно ревнивое, отравлявшее жизнь великому художнику. До его же женитьбы у него было много друзей, которые охотно посещали его; после женитьбы они мало-помалу начали удаляться, пока Андреа дель-Сарто не оказался совершенно без друзей и товарищей. Те из учеников его, которые хотели во что бы то ни стало поучиться у знаменитого мастера, должны были выслушивать всевозможные резкости и колкости. Наконец, когда художник заболел, жена покинула его, боясь заразиться.
Лоренцо Бернини
Ни один из великих скульпторов Италии, кроме Рафаэля и Микель-Анджело, не пользовался при жизни таким почетом, как знаменитый Лоренцо Бернини, соединявший, подобно другим художникам того времени (он родился в 1598 и умер в 1680 году) в своем лице скульптора, художника, поэта. Современники боготворили его. Чтобы иметь возможность любоваться также и с задней стороны его статуями на мосту Сан-Анджело, группа римских дворян устроила в Тибре леса, с которых можно было видеть эту часть статуй. Теперь многие находят недостатки в его произведениях, но тогда самые недостатки его высоко ценились, так как они соответствовали вкусам известной части римского общества, под которые Бернини умел хорошо подделываться.
Во всяком случае, огромный талант его и теперь вне спора. Особенной известностью пользуется его фонтан на площади Навуа в Риме. Это — одна из великолепнейших достопримечательностей Вечного города. Бернини сосредоточил на ней всю силу своего гения, так как дело шло о победе над соперником — Борромини, который незадолго перед тем украсил церковь св. Агнесы на той же площади новым фасадом, вызвавшим всеобщее одобрение. Папа поручил Борромини осмотреть модель фонтана работы Бернини, и Борромини, исполнив задачу, заявил, что фонтан не даст воды. Причину, однако, он указать не хотел. Никакими средствами нельзя было выманить у него тайну. «Фонтан — бездна красоты, — отвечал он на многочисленные вопросы, — но воды он не даст». Бернини едва с ума не сошел от бешенства и злобы. Наконец, он обратился к жене Борромини и обещал ей 5.000 скуди, если она откроет ему тайну мужа. Жена скульптора согласилась на сделку и начала мучить мужа расспросами до тех пор, пока тот, наконец, не сказал:
— Разве ты могла бы дышать без рта?
По этому намеку Бернини понял, чего недостает его фонтану — отверстия для притока воздуха. Тихо, никому не говоря ни слова, он велел пробуравить отверстия в огромном камне, из которого вода должна была литься четырьмя струями. 2 августа 1667 года состоялось освящение фонтана. Папа Иннокентий X и весь Рим собрались на площади Навуа. Фонтан произвел превосходное впечатление. Посредине красовалась огромная скала, на которой поднимался египетский обелиск. У подошвы скалы — колоссальные статуи Дуная, Нила, Ганга и Риo-де-ла-Плата. Но вода не шла. Все ждали с нетерпением — воды не было. Борромини торжествовал!. Вдруг Бернини велел открыть отверстия для воздуха, и тотчас же из огромного камня вырвались четыре струи. Папа и народ ликовали, а бедный Борромини отправился домой и со стыда и отчаяния вонзил себе шпагу в грудь. Он умер в тот же день.
Беррини получил от папы большую сумму, вознаградив себя с лихвою за потерю 5.000 скуди, которые он должен был отдать синьоре Борромини. Кроме того, в его честь была выбита медаль. Он получил титул «префекта источника Феличе» (питающего фонтан), а сын его Пьерфилиппо был назначен каноником собора св. Петра. Сделка с женою Борромини увенчалась полным успехом.
Питер Пауль Рубенс
Первую жену Рубенса звали Изабеллою Брандт. Он прожил с нею 16 лет. И так как лучшими женщинами считаются те, о которых менее всего говорят, то жена эта вероятно, была прекраснейшая из женщин. По крайней мере, биографы ничего не сообщают о ней достопримечательного. Через четыре года после ее смерти (в 1630 году) Рубенс женился на богатейшей и красивейшей во всей Фландрии девушке, Елене Фурман. Красоту этой женщины он увековечил на многих портретах. От этой жены у него родилось пятеро детей. Когда Рубенс умер, она вышла замуж за испанского посла в Лондоне.
Рембрандт
Первая жена Рембрандта, Саския фон-Уленбург принадлежала к знаменитой фамилии, обладала большим состоянием и сама была замечательным кладом, который Рембрандт ценил очень высоко. Он увековечил ее на многих портретах и гравюрах. Рембрандт был очень счастлив в семейной жизни, но недолго пользовался этим счастьем: Саския умерла 30 лет от роду, глубоко оплакиваемая преданным мужем. Двенадцать лет оставался он вдовцом, не решаясь заместить покойную подругу другой женщиной. Наконец, он женился на Генрикти Стоффельд. Но и она прожила недолго. Третью жену Рембрандта звали Катериною Ван-Вейк.
Дюрер
«Германский Микель-Анджело», как называли лучшего из художников Возрождения в Германии, Альбрехт Дюрер, был несчастен в семейной жизни. Жена его была очень красива, но отличалась злым, неуживчивым характером. Ему приходилось работать сверх сил, чтобы удовлетворять ее расточительный наклонности. Семейные разногласия были причиной многих его неудач. Почести, которые сыпались на него отовсюду, не смягчали его горя. Карл V возвел его в рыцарское достоинства, городской совет Нюрнберга выбрал его своим старшиною, но он принужден был покинуть этот город, в котором семейные бури отравляли ему жизнь. Он переселился в Голландию, но так как семейные неприятности продолжались и там, то в конце концов он начал страдать меланхолией. В то же время в нем проявилась наклонность к мистицизму, следы которой обнаруживаются на его последних произведениях.
Горас Вернэ
Известный представитель батальной и исторической живописи Горас Вернэ женился на Луизе де-Пюжоль, когда ему еще не было 20 лет. Вскоре после того он завоевал симпатии императорского двора жанровыми картинами вроде «Полковая собака», «Лошадь трубача» и др. и начал вести подвижную жизнь. Он предпринял путешествие в Рим, на Восток, в северную Африку, Россию и на Кавказ. Имя его сделалось всемирно знаменитым. Тем не менее, ничто не могло порвать узы, соединявшие его с семьею. Отовсюду, куда ним увлекал его беспокойный дух, он писал своей Луиз нежные письма, в которых подробно излагал все виденное и слышанное, присоединяя в ним горячее желание увидаться скорее. Живые, увлекательные письма Вернэ рисуют его лучше всяких биографий, как мужа и художника.
Тэрнер
Знаменитый английский художник Тэрнер влюбился в одну хорошенькую девушку, которая ответила ему тем же. Отношения между ними кончились бы браком, если бы не мачеха молодой девушки. Она восставала против выхода падчерицы за «пачкуна», как она называла художника, не ожидая от такой партии ничего хорошего. Когда Тэрнер предпринял путешествие для развития своего таланта, она скрывала письма, которые он посылал любимой девушке. Последняя, не получая от него вестей, решила, что художник забыл ее, и приняла предложение другого. Когда Тернер вернулся, девушка заявила ему, что хотя и питает к нему прежние чувства, но взять свое слово назад не может.
Через нисколько лет художник влюбился в другую девушку, но, будучи робкого характера, не решался предложить ей руку и сердце, хотя и желал этого всем сердцем. Девушка не сделала с своей стороны ничего, чтобы вывести его из нерешительности. Тем дело и кончилось.
Альма Тадема
Первой женой другого знаменитого английского художника Альма Тадема (по происхождению он — голландец) была француженка. Она умерла рано, оставив ему двух дочерей. Вскоре после ее смерти он переселился в Англии и водворился в Лондоне, где через несколько лет сделался английским гражданином. В 1871 году он женился на Лауре-Терезе Ипс, прекрасное личико и удивительные волосы которой можно видеть на многих картинах Тадемы. Она сама была превосходная художница, которая могла бы прославить имя Тадемы даже и в том случае, если бы ее муж не был знаменитостью. Художническая чета занимает великолепный дворец, представляющий одну из достопримечательностей Лондона. Обстановка в нем сказочная, и немудрено: два таланта употребили всю творческую силу, чтобы придать ей законченно-художественный отпечаток.
Милле
Жена современного английского художника Милле была женою художественного критика Джона Рэскина. Этим все сказано. История эта столь же характерна для Милле, сколько и для самого Рэскина, так как оттеняет благородные душевные качества английского художественная критика. Рэскин явился однажды к Милле и предложил нарисовать портрет его жены. Художник принял заказ. Остальное понятно: модель и мастер влюбились друг в друга. Рэскин восторгался классической красотой своей жены, но не питал к ней глубокого чувства, так как встретился с нею случайно на балу и случайно же женился. К тому же их отделяла друг от друга разность интересов. Рэскин любил уединение, книги, тишину; жена увлекалась радостями света. Несмотря на то, что прерафаэлистское братство, основателем которого был Милле обязано своим успехом именно Рэскину, усердному пропагандисту его идей, тем не менее, критик не только не протестовал против ухода жены, но сам ускорил развод и даже был в церкви, где совершалось венчание его жены с художником. Милле некоторым образом получил в жены жену Рэскина из рук самого Рэскина.
Гогарт
Когда английскому художнику Гогарту было 32 года, он просил руки дочери лорда Джемса Торнвилля. Отец, однако, отказал, боясь, что художник не будет в состоянии содержать жену так, как она привыкла в родительском доме. Так как девушка была влюблена в Гогарта, то мать ее, которая сама была в восторге от его произведений, решила прибегнуть к хитрости. Она купила гравюру Гогарта и посоветовала дочери поставить ее в комнате отца так, чтобы она тотчас же бросилась ему в глаза, как только он переступит порог. Совет был исполнен. Войдя в кабинет и увидев рисунок, Торнвиль воскликнул:
— Чья эта чудесная гравюра и как она попала в мою комнату?
— Это последняя работа Гогарта, я купила ее, — ответила лэди Торнвилль.
— Великолепно, — ответил лорд, — человек, способный создать такую вещь, способен также получить жену без приданого.
Действительно, лорд Торнвиль был первое время очень скуп, желая испытать художника, но потом, когда испытание дало прекрасные результаты, заменил скупость щедростью.
Гейнсборо
Генсборо рисовал портрет одной хорошенькой 16-летней девушки, по имени Маргарита Вэр. Во время работы девушка влюбилась в него. Когда портрет был готов, она выразила ему восторг и недвусмысленно намекнула, что, если он захочет, то может обладать оригиналом. Гейнсборо не заставил себя ждать и вскоре получил руку молодой девушки вместе с ежегодной рентой в 200 фунтов. Злая молва говорила, что Маргарита Бэр незаконная дочь одного английского принца и что она даже гордилась этим происхождением.
Джордж Ромней
Джордж Ромней был хорошим художником, но сам Ромней весьма дурным мужем. В двадцать два года он женился на одной молодой девушке из благодарности за то, что она ухаживала за ним во время болезни. Но он вскоре расстался с нею, боясь, как бы жизнь в браке не повлияла на его творчество. Ромней был большим поклонником красоты. Судьба было угодно, чтобы он познакомился с знаменитой леди Эммой Гамильтон, известной столь же красотою, сколько своим легкомысленным образом жизни. Низкого происхождения, она после смерти отца была последовательно нянькой, служанкой в одном кабаке, моделью и, наконец, любовницею лорда Чарльза Гревилля, которому родила трех детей. Однажды лорд послал ее к своему дяде сэру Уильяму Гамильтону с какою-то просьбой. Прелестная женщина до того вскружила ему голову, что он взял ее с собою в Неаполь, где был посланником, а позднее даже женился на ней в Лондоне (в 1791 году). По словам биографов, Ромней нарисовал двадцать четыре портрета ее в разных позах. Бедная жена его томилась на Севере, между тем как «божественная женщина», как он называл леди Гамильтон, вдохновляла его в Кавендиш-сквере в изображении всевозможных красавиц, служа ему моделью. В области мимики она соперничала с артистами. Пластические позы она изучала на античных статуях. При этом она великолепно пела, декламировала и танцевала. Ничего нет удивительного в том, что художник вполне поддался ее влиянию.
Когда Ромней сделался стар и ему все надоело, он вспомнил про жену, которой пренебрегал столько времени, и вернулся к ней. Эта простая женщина из народа была до того благородна, что простила мужу его сорокалетнюю жизнь на стороне и начала за ним ухаживать, как в первые годы супружеской жизни.
Уильям Блэйк
Совершенно иначе вел себя в качестве мужа не менее известный английский художник и гравер Уильям Блэйк. Он был чудаком, о чем свидетельствует его ухаживание за девушкою, сделавшейся его женой. Однажды он жаловался Катерине Бучер (так звали эту девушку) по поводу страданий, который доставляет ему одна капризная особа, очень его интересовавшая.
— Мне вас очень жаль, — ответила темноглазая Катерина.
— Правда? — воскликнул Блэк. — За это я вас очень люблю.
— А я вас также люблю, — ответила девушка.
Блэйк, не долго думая, решил на ней жениться. Он нарисовал ее портрет, описал ее прелести в стихотворениях и, наконец, сочетался с нею законным браком. Катерина оказалась прекрасной женой. Она довольствовалась самыми простыми туалетами, оставаясь всегда веселой и жизнерадостной. Единственно, к чему она стремилась, была слава мужа, в картины которого она вкладывала много своего. Главным образом колорит принадлежал жене Блэйка, которой одной только он вверил тайну своего колорита.
Блэйк умер 71 года от роду. Последними словами его были: «Единственно, что меня мучает, это то, что я покидаю тебя здесь. Мы долго и счастливо жили». За три дня до смерти он, лежа в постели, набрасывал последние штрихи на свою любимую картину. Жена его разрыдалась.
— Постой, Кэтти! — воскликнул Блэйк. — Не трогайся с места. Мне хотелось бы на прощание нарисовать еще раз твой портрета, потому что ты всегда была моим ангелом.
Жена послушалась, и умирающий художник, не сходя с постели, написал один из удачнейших портретов Катерины.
Стотард
Стотард был до того прилежным художником, что не хотел оставить работу даже в день своей свадьбы. Доставив свою невесту из церкви домой, он по обыкновению отправился в академию, чтобы порисовать с одной античной статуи до трех часов пополудни, когда академия запиралась. Уложив по окончании работы свои принадлежности, он заметил товарищу:
— Иду домой, чтобы принять участие в семейном обеде. Тебе, вероятно, известно, что сегодня утром я женился. Меня ждет жена.
Семейная жизнь Стотарда ознаменовалась крупными несчастьями. Один из его сыновей был застрелен по несчастный случайности, другой свалился с лестницы и тут же испустил дух. Бедная мать от страха впала в болезненное состояние. Стотард ухаживал за нею с большим терпением и энергией, которую раньше трудно было предположить в столь флегматичном человеке, как он.
Джон Констебль
Мария Бикнель, в которую влюбился портретист Джон Констебль, представляет яркое доказательство того, что счастливый брак может обойтись и без предварительной романтической истории на любовной подкладке. Как дочь искусного адвоката, она посмотрела на предложенье художника с чисто-практической точки зрения и на первое любовное письмо его ответила следующей деловой запиской:
«Милостивый государь! В ответь на ваше лестное для меня предложение сообщаю вам, что я говорила об этом деле с папашею. Его единственное возражение заключается в том, что ваших средств пока не хватит для поддержанья бюджета. Поэтому советую вам прилежно заняться своим делом, обратившись к тому роду живописи, который лучше всего оплачивается, так как для основания собственного очага нельзя обойтись без столь необходимого зла — денег. Позвольте мне подписаться вашей преданной подругой Марией Бикнель».
Практическое письмо расчетливой девушки не испугало Констебля и он продолжал свои ухаживания. В своих ответах на его новые предложения чуждая романтических наклонностей девушка только то и делала, что советовала ему раньше заработать много денег и только потом жениться. Может быть, это именно и повлияло на художника, так как он в короткое время приобрел себе имя в качестве портретиста. Ему охотно начали платить по 15 гиней за маленький портрет. Только после этого Мария Бикнель позволила ему отвести себя к алтарю. Брак, к величайшему удивлению, оказался счастливым. Мария оказалась очень умной и милой женщиной, сумевшей превратить для мужа жизнь в рай. У нее родились семеро детей, которых она воспитывала с большою нежностью.
Флаксман
Когда английский скульптор и живописец Флаксман женился, его товарищ по искусству Рейнольдс быль очень огорчен.
— Послушай, — сказал он при встрече с ним, — правда ли, что ты женился? Если правда, то ты погиб для искусства.
Флаксман побежал домой, уселся около молодой жены и, взяв ев за руку, меланхолически проговорил:
— Анна, я погиб для искусства.
— Что случилось, Джон?
— Это случилось в церкви, когда я повенчался с Анною Денман.
Затем он рассказал ей о встрече с Рейнольдсом и о его теории, по которой художник, если хочет создать нечто ценное, должен отказаться от всего, не иметь никаких других мыслей в голове, кроме одной, и, конечно, должен основательно изучить великих мастеров, как Рафаэль, Микель-Анджело и друге, а для этого нужно поехать в Рим, Флоренцию…
— Что мне делать? — продолжал Флаксман. — Я люблю искусство и, в самом деле, хотел бы сделаться крупною величиною.
— Поезжай в Рим, если это нужно.
— Но как?
— Работай и копи. Мне вовсе не хочется, чтобы говорили, будто из-за меня ты отстал от искусства. Как только наши средства позволят, мы тотчас поедем в Рим.
Пять лет работал после этого Флаксман с большим усердием и, скопив нужную сумму, поехал в Рим, где пробыл семь лет и сделался если не великим, то, несомненно, выдающимся мастером. Жену он обожал и в течение 38 лет совместной жизни с ней никогда не покидал ее. Она понимала многое в искусстве, и, если возникало какое-либо сомнение насчет композиции, он говаривал обыкновенно: «Обратитесь к моей жене, она мой словарь». После её смерти (в 1820 году) он впал как бы в летаргическое состояние, от которого так и не освободился до конца жизни. Только на шесть лет пережил он жену, которая при жизни не только оказывала ему прямую помощь при работе, но и освобождала, его, человека совершенно не практичного, от сложных обязанностей по ведению большого хозяйства.
Нолькенс
Скульптор Иосиф Нолькенс женился на очень скупой девушке, и тем не менее он был очень доволен женою, так как и сам был скуп. Когда, вследствие болезни спинного мозга, она принуждена была остаться в постели, ей ничего не было так жаль, как того, что она сама не может ходить на базар, где так «дешево» все покупала. Скупость ее доходила до того, что, когда муж её работал над бюстом лорда Кастельро, она плохо топила комнаты. Зима была очень суровая, уголь вздорожал, и г-жа Нолькенс сидела, закутанная в одеяла перед камином, дрожа всем телом. Заметив это, лорд встал и бросил несколько углей в огонь. Скульптора в эту минуту в комнате не было.
— Ах, милорд, что вы делаете? — воскликнула она в ужасе. — Что скажет муж!
— Скажите ему, чтобы он уголь поставил мне в счет, — ответил лорд.
Супруги отказывали себе во всем, даже в самом необходимом, и жили душа в душу, хотя он принадлежал к католической церкви, а она — к англиканской. Каждое воскресенье можно было видеть парочку, шедшую вместе до одного угла; затем супруги расставались: он отправлялся в костел, а она — в англиканскую церковь.
Глава IV Музыканты
Бетховен. — Шуберт. — Моцарт. — Бах. — Гайдн. — Шопен. — Шпор. — Вебер. — Мендельсон. — Шуман. — Россини. — Доницетти. — Беллини. — Верди. — Рихард Вагнер. — Лист. — Бюлов. — Брамс.
Бетховен
Свежо предание, а верится с трудом: Бетховен был неудачником в области сладких вздохов! Он всю жизнь рыскал в погоне за женщиной, которую мог бы назвать своею, и не нашел. Первым предметом его любви была графиня Джульетта Гвичарди, которую он называл в письмах «бессмертной возлюбленною», «ангелом», «всем», «жизнью» и т. д., но она предпочла богатство и спокойную жизнь тревожному существованию рядом с великим гением. Потом он влюбился в Беттину фон-Арним, известную отчасти из главы о Гёте, но и она не отвечала ему взаимностью. Волей-неволей гениальному композитору пришлось ограничиться платонической любовью и быть довольным, когда восторгавшиеся его произведениями, но не им самим женщины вязали для него чулки, угощали пудингом и разрешали посидеть после обеда у них на диване.
Шуберт
Шуберт выдавал себя за женоненавистника, что не помешало ему в одно прекрасное время влюбиться в графиню Каролину Эстергази. Однако, различие возрастов и общественного положения сделало так, что брак оказался невозможным. Однажды девушка спросила его:
— Почему вы не посвятите мне какого-либо произведения?
— Для чего? — возразил Шуберт. — Ведь все мои песни и без того посвящены вам!
Моцарт
Первым предметом любви Моцарта была Элоиза Вебер, завоевавшая себе впоследствии большую известность в качестве певицы. Долгое время она подавала ему надежды, но когда нашелся более красивый воздыхатель, начала издеваться над композитором, бывшим тогда еще очень скромной величиной. «Я, — оправдывалась она потом, — не замечала тогда величия его гения и видела в нем только маленького человека».
Потерпев неудачу у Элоизы, Моцарт перенес свою любовь на её молодую сестру Констанцу, менее одаренную талантами, по более домовитую. Но строгий опекун запретил Моцарту поддерживать сношения с девушкой до тех пор, пока он не пришлет ей письменного предложения. В конце концов ему пришлось подписать документ, которым он обязался жениться на Констаце в течение трех лет, а в случае отказа от женитьбы — выплачивать ей ежегодно по 300 гульденов. Едва опекун успел удалиться, как Констанца разорвала документ и, бросившись на шею Моцарту, воскликнула:
— Твои письменные обязательства мне не нужны. Верю тебе на слово!
С тем же доверием относилась она к Моцарту и во все время супружеской жизни. Каждый раз, когда ей докладывали, что Моцарт позволяет себе любовные интрижки на стороне, она пожимала плечами и говорила: «Сплетни!». Муж и жена неизменно любили друг друга. Правда, Констанца, как сказано, не отличалась талантами, и даже образование ее оставляло желать весьма многого, но зато Моцарт ценил в ней здравый ум и усердие. Она сносно играла на фортепиано и пела с листа, вследствие чего Моцарт обыкновенно сочинял свои произведения вместе с нею. В то время, когда он работал, жена сидела около него и рассказывала разные легенды и сказки.
Император Франц-Иосиф спросил однажды Моцарта; почему он не женился на богатой женщине. На это композитор ответил с достоинством:
— Ваше величество, я полагаюсь на свой талант. Он всегда даст мне возможность поддерживать существование женщины, которую я люблю.
К сожалению, самонадеянность Моцарта не оправдалась. Публика не понимала его произведений, а потому не покупала. Супружеская чета была до того бедна, что у них иногда зимою не бывало дров и они должны были прыгать по комнатам, чтобы согреться. К тому же Констанца стала хворать. Моцарт выказал себя нежным мужем. Однажды, когда он работал около спящей жены, в комнату вошел слуга. Боясь, что вошедший разбудит больную, Моцарт быстро вскочил с места; открытый перочинный ножик упал и вонзился ему в ногу. Не издав ни малейшего звука, знаменитый композитор поспешил из комнаты и позвал врача. И хотя он долгое время не мог владеть ногою, тем не менее от жены он свою рану скрывал.
Если Моцарту приходилось по утрам уходить из дома в такое время, когда жена еще спала, он оставлял ей нежные записки с наставлениями и любезностями вроде следующих: «Желаю тебе доброго утра, моя милая женка. Надеюсь, что ты сладко спала и ничто тебя не потревожило». — «Будь осторожна, а то простудишься. Не поднимайся так скоро, не наклоняйся, ничего не доставай и не сердись на горничную». — «Смотри, не споткнись о порог, когда идешь в другую комнату, и оставь все домашние заботы, пока не вернусь домой, а это будет очень скоро».
Когда Моцарт бывал вместе с Констанцей, он работал прилежно, стараясь быть возможно более образцовым мужем; но когда супругам приходилось расставаться, он сбивался в сторону, не будучи в состоянии устоять против искушений. К концу 1790 года он предпринял путешествие во Франкфурт, Мангейм и Мюнхен и, попав в дурное общество, начал позволять себе разные выходки. Вскоре он одумался и вспомнил о своей «сладкой возлюбленной, сердечной жене», — как он назвал ее в одном письме, в котором с раскаянием обещает исправиться. «Я чувствую себя счастливым, что могу к тебе вернуться! Какую приятную жизнь будем мы вести! Я буду работать и работать, чтобы больше никогда не попадать в такое безвыходное положение».
Но напрасны были надежды Моцарта. Через несколько месяцев он уже лежал на смертном одре. «Неужели мне в самом деле придется умереть, — жаловался он, — теперь, когда я только начал пользоваться спокойной и мирной жизнью? Неужели мне придется покинуть жену и детей теперь, когда я в состоянии лучше их поддерживать?».
Моцарт умер от тифа. Жена в отчаянии легла в его постель, чтобы заразиться тифом и также умереть. Но смерть редко приходить к тому, кто ее призывает. Констанца еще долго жила в кругу своих детей. Несмотря на затруднительное положение, она не успокоилась до тех пор, пока не уплатила всех долгов мужа.
Бах
Бах был дважды женат и оба раза счастливо. Его первая жена была прекрасной хозяйкой. Он прожил с нею тринадцать лет в полном согласии. Через короткое время после смерти жены он женился вторично. Вторая жена его понимала толк в музыке, переписывала его ноты, с удовольствием слушала его сочинения и часто помогала ему в работе. О домашних концертах заботились дети Баха, которых было ровно двадцать.
Гайдн
Гайдн начал свою карьеру в качестве хориста в церкви св. Стефания в Вене. Он был веселым малым, всегда готовым на сумасбродные выходки. Однажды вечером он во время богослужения отрезал у другого хориста конец косы от парика, что заставило многих молящихся улыбнуться. Хормейстер, человек строгого нрава, несколько раз уже предупреждавши Гайдна воздерживаться от всяких выходок, немедленно его уволил. Так как у бедняка не было ни денег, ни друзей, то ему не осталось ничего другого, как пробродить всю ночь по улицам, покрытым снегом. Утром следующего дня он встретил парикмахера Келлера, с которым был мало знакомь. Парикмахер спросил его, что он так рано делает на улице. Гайдн рассказал ему о своем горе.
— Так как ты потерял место из-за парика, — ответил Келлер, — то справедливость требует, чтобы парикмахер взял тебя под свою защиту.
У Келлера, который приютил композитора, было две дочери. Молодой музыкант влюбился в одну из них — старшую. Это была хорошенькая скромная девушка, но она поступила в монастырь. Говорили, что она сделала это для того, чтобы избавиться от острого языка младшей сестры. Прошли годы. Гайдн находился в хороших материальных условиях, когда парикмахеру пришлось худо. Из благодарности к своему благодетелю Гайдн женился на его младшей дочери.
К несчастью, дочь эта ничем не напоминала старшей сестры и превратила жизнь Гайдна в настоящий ад. Будучи сварливого характера, она в то же время питала страсть к монахам, и дом композитора был всегда наполнен ими. Монахи входили и выходили во всякое время дня; их громкие разговоры мешали Гайдну работать. Кроме того, чтобы избавиться от присутствия на их обременительных проповедях, ему приходилось бесплатно снабжать монастыри этих монахов мессами и мотетами[101].
Так как жизнь с женою стала в тягость, Гайдн бросил ее и завязал любовные сношения с знаменитой певицей Бозелли. Он заказал ее портрет и почти опустошил свои карманы, чтобы удовлетворить ее желания и капризы.
Позднее он завязал любовную интригу с другой певицей, мистрисс Биллингтон, столь же отличавшейся красотой, как и хорошим голосом. Он заказал Рейнольду ее портрет, на котором она изображена в виде, св. Цецилии, слушающей божественную музыку.
— Что вы скажете о портрете восхитительной Биллингтон? — спросил Рейнольд, когда Гайдн вошел к нему в мастерскую.
— Удивительный портрет, — ответить Гайдн, — и очень похож. Вы сделали только странную ошибку.
— Какую?
— Вы изобразили ее слушающей ангелов; лучше было бы изобразить ангелов, слушающих ее.
Шопен
Шопена часто называли «музыкальным Гейне». Это очень подходящее название. Как и Генрих Гейне, Шопен испытал много радостей и горя от женщин, и в то же время никем так высоко не ценились его произведения, как именно женщинами. Есть писатели, музыканты, художники, которым как бы на роду написано быть женским пестуном и во всяком случае быть связанным с женщинами неразрывными узами. Таким был Альфред де-Мюссе, Рафаэль, Гейне; таким был и Шопен. Он не мог жить без них. Страдания не отталкивали, а, наоборот, поощряли его. Он сам был некоторым образом женщиною — по характеру и даже по наружности. Стоит только посмотреть на его портрет, тонкий, нежный, поэтический, чтобы тотчас убедиться в этом.
Мы остановимся нисколько подробнее на отношениях Шопена к прекрасному полу, потому что в созвездии женщин, озарявших путь вдохновенного композитора, сверкала крупная звезда (светившая, впрочем, не одному только Шопену) — Жорж Санд.
Мать его была полька. Крупных талантов у нее не было, зато было много фантазии. Во всяком случае, она отличалась мягкостью характера, и эту-то черту, несомненно, унаследовал от нее Шопен.
У него было три сестры. Все они выдавались в умственном отношении, но о влиянии их на брата вряд ли можно говорить. Старшая и средняя сестры занимались литературой (оне писали главным образом по вопросу о средствах к поднятию благосостояния ремесленных классов), и это как будто отразилось на самом Шопене. По крайней мере, он уже во время пребывания в Париже решил отказаться от участия в общественной жизни, вернуться на родину, в Польшу, и, поселившись там где-нибудь в родном уголке с любимою женою, образ которой не переставал носиться перед его духовными очами, заняться устройством школ для подъема уровня образования в народе. Этот план не был осуществлен. Но и самое зарождение его нисколько не свидетельствует о влиянии сестер. Наоборот, он соответствовал скорее общим политическим тенденциям того времени, царившим главным образом в польском обществе.
Итак, родственницы в общем мало влияли на Шопена в смысле непосредственного воздействия на его умственные способности и талант. Зато другие женщины — а их было много — имели на него большое влияние. Еще девятилетним ребенком он сделался их кумиром, и варшавские салоны редко видели у себя собрание гостей, на котором не было бы маленького гения. Польские аристократки наперебой старались выразить ему свой восторг. Там же, в этих салонах, он и научился изящным манерам, которыми приковывал в себе женщин впоследствии.
До все это были призраки, мимолетные искры. Настоящее женское влияние ждало его впереди. Прежде всего Шопен встретился с Констанцией Гладковскою. Это была его юношеская любовь. Несмотря на то, что он был тогда юношей, а может быть благодаря этому, чувство его к молодой девушке было до того сильно, что он не мог себя представить в будущем иначе, как рядом с нею. Когда он уехал в Вену, образ любимой девушки сопровождал его туда. Он беспрестанно думал о ней и в сочельник писал своему другу Матушинскому: «В прошлом году в это время я был в церкви св. Бернарда, теперь же сижу в халате, совершенно один, целую свое милое кольцо и пишу». Именно в церковь св. Бернарда часто ходила прекрасная Констанция, а кольцо, которое он целовал, было надето ею самою на его палец при прощании.
Констанция была молодой певицей, посещавшей варшавскую консерваторию. Шопен, ничего не скрывавший от своих родителей, скрыл на этот раз свои чувства к любимой девушке. Почему? Боялся ли он, что они не одобрят его выбора? На этот вопрос трудно ответить, так как мы ничего не знаем об этой девушке, кроме того, что сказал о ней сам Шопен. Но чего не скажет влюбленный! Можно ли поверить всему, что он скажет?
Однако, нет неистощимого огня. Он должен потухнуть. Даже солнце, как говорят, медленно гаснет. Погасла и страсть Шопена. Он из Вены поехал в Париж, где думал заработать побольше денег, чтобы быть в состоянии жениться. Но надежды его не оправдывались. Тем временем Констанция ждала и, не дождавшись, в одно прекрасное время вышла за другого. Когда Шопен узнал об этом, он был очень огорчен. Его злила неверность любимой девушки, которая клялась и нарушила клятву, его мучило собственное бессилие. О, если бы у него были средства! Сколько счастья ожидало бы его впереди!
Вдруг… Это случилось совсем неожиданно. Шопен сам не помнил, как оно произошло. В Париже оказалось несколько молодых людей из хорошей семьи, учившихся когда-то в пансионе его родителей, — братья Воджинские. У них была сестра Мария. И к этой-то Марии он почувствовал вдруг такое же влечение, как и к Констанции. Возможно ли? Он думал, что чувство к ученице Варшавской консерватории умрет вместе с ним, между тем он еще жив, я чувства как будто уже нет и оно даже сменилось полным равнодушием…
Это было в 1836 году. Шопену было известно, что Мария будет с матерью в средних числах июля в Мариенбаде, и он поэтому поехал туда. Нужно ли прибавлять, что он влюбился в молодую девушку и что молодая девушка ответила ему тем же? Родственники ничего не имели против нежных чувств Шопена, и тут же, в Мариенбаде, состоялась помолвка. Шопен прожил еще нисколько недель вблизи невесты в Дрездене, где жила семья Воджинских. Он чувствовал себя на вершине счастья. В это-то время зародились в нем человеколюбивые планы, о которых мы упомянули выше. Раз он счастлив, отчего не осчастливить заодно и все человечество? У юности это так просто, а у любви это так легко!
Сияя от радости, живой, веселый, восторженный, Шопен вернулся в Париж, где через несколько месяцев узнал, что его невеста предпочла ему графа, за которого и вышла замуж…
Гениальный жрец искусства и граф! Поэзия и проза! О, как часто предпочитают эти милые неземные создания звон шпор или громкий титул очарованию того, что составляет истинное счастие, потому что оно жизнь жизни, потому что в нем зерно глубокого, полного, всестороннего существования!
Но факт был фактом: Мария ему изменила. Она вышла за другого. Она поняла, что Шопен создан для любви и страсти, а не для монотонной прозы жизни. И она взялась за роман вместо того, чтобы углубиться в поэму…
Этот второй удар оказался для Шопена роковым, и не столько потому, что он разбил сердце великого композитора, сколько потому, что вследствие безжалостного поступка его невесты Шопен сошелся с Жорж Санд, — обстоятельство, имевшее для него гибельное значение. Он хотел заглушить свое горе, он думал утопить отчаяние в любви к другой женщине, но ошибся, так как попал только из огня в полымя. Спасения не было.
Случилось это следующим образом. Как-то раз Шопену сделалось грустно. Он часто грустил. Погода была скверная, шел дождь. Надо было куда-нибудь пойти, чтобы рассеяться. Куда? Он вспомнил, что у графини К. был в этот вечер журфикс, и так как часы показывали десять, то он, не долго думая, отправился туда. Когда он поднимался по устланной коврами лестнице, ему показалось, будто за ним шел какой-то призрак, распространяя вокруг себя запах фиалок. Шопен нашел в салоне графини блестящее общество и, сев в углу, стал осматривать гостей. Только после того, как часть их удалилась и остались наиболее близкие друзья дома, Шопен, несколько развеселившись, уселся за фортепиано и начал импровизировать. Окончив свою музыкальную сказку, он поднял глаза. Перед ним, опершись на инструмент стояла просто одетая дама, от которой веяло ароматом фиалок. Она смотрела, на него, как бы стараясь проникнуть темными огненными глазами в его душу.
Через некоторое время, собираясь уходить, он увидел ту же даму. Она подошла к нему вместе с Листом и стала рассыпаться в похвалах по поводу блестящей импровизации. Шопен был польщен и только. Он кое-что знал про Жорж Санд, знал, что она пользуется большой известностью, что у нее было несколько любовных связей, что она вообще необыкновенная женщина, но, взглянув на нее, остался совершенно спокоен. Знаменитая писательница ему даже не понравилась. «Я, — писал он после этой встречи родителям, — познакомился с большой знаменитостью, г-жею Дюдеван, известной под именем Жорж Санд; но ее лицо мне несимпатично и вовсе не понравилось. В нем есть даже нечто такое, что меня отталкивает».
Но не красотой одною побеждает женщина. Как ни несимпатична она кажется на большом расстоянии, если принять во внимание, что она не только часто меняла любовников, но нисколько не церемонилась с ними и бросала при первом удобном случае, находя даже возможным издеваться над ними и позорить в своих романах, как это она сделала с А. Мюссе, тем не менее было, вероятно, в ней, в ее натуре, в ее умении держаться с мужчинами нечто притягательное, против чего не могли устоять даже люди, явно не симпатизировавшие и не любившие ее. Лучшего доказательства, чем любовь Шопена, нельзя и привести. Нежный, хрупкий, с женственною душою, проникнутый благоговением ко всему чистому, идеальному, возвышенному, он вдруг влюбляется в женщину, которая курит табак, носит мужской костюм, ведет открыто самые свободные разговоры и имеет за спиною таких бесспорных свидетелей ее вольной жизни, как Жюль Сандо, Альфред де-Мюссе и доктор Паджелло. Когда она сошлась с Мюссе, они уехали в Венецию; когда она сблизилась с Шопеном, местом их совместного пребывания сделалась Майорка. Сцена другая, но обстановка та же и, как мы увидим, даже роли оказались одинаковыми и с одним и тем же грустным концом. В Венеции Мюссе, убаюкиваемый близостью Жорж Санд, одевал стройные стихи в искусные рифмы; на Майорке Шопен, также убаюкиваемый близостью Жорж Санд, создавал свои баллады и прелюдии. В разгар страсти Мюссе заболел; заболел также в минуты высшего любовного экстаза и Шопен. Словом, повторилась та же история. Болезнь Мюссе охладила жар талантливой женщины. То же самое произошло и во время болезни Шопена. Когда у него появились первые признаки чахотки, она стала тяготиться им. Красота, свежесть, здоровье — да; но как любить больного, хилого, капризного и раздражительного человека? Так думала Жорж Санд. Она сама признавалась в этом, стараясь, конечно, смягчить причину своей жестокости указанием на другие побочные мотивы.
Нужно было покончить. Но как? Шопен слишком к ней привязался и не хотел отстать. Знаменитая женщина, опытная в таких делах, испытала все средства, но напрасно. Тогда она вспомнила выходку, которую себе позволила по отношению к Мюссе, — правда, после его смерти. Как и тогда, она написала роман («Lucrezia Floriani»), в котором под именами вымышленных лиц вывела себя и своего возлюбленного, причем героя, т. е. Шопена, наделила всеми слабостями, а себя возвеличила до небес. Казалось, после этого разрыв был неизбежен; но Шопен медлил. Он не мог расстаться с Жорж Санд. С другой стороны, ему не хотелось разрывом тотчас после выхода романа подтвердить слухи, распространяемые на этот счет.
— Если, — сказал он, я оставлю теперь эту женщину, которую любил и уважал, то превращу ее роман в истинную историю и сделаю ее жертвою общего презрения.
Шопен еще думал, что можно вернуть невозвратное. Действительность, однако, показала, что этого сделать нельзя. В 1847 году, ровно через десять лет после их встречи, любовники расстались.
Через год после разлуки Шопен и Жорж Санд встретились в доме одного общего друга. Встреча поразила писательницу. Она вспомнила зло, которое причинила композитору, вспомнила свою несправедливость, жестокость, и ей захотелось помириться с ним. Полная раскаяния, подошла она к бывшему возлюбленному и протянула ему руку. Красивое лицо Шопена покрылось бледностью. Он отшатнулся и вышел из зала, не промолвив ни слова…
Не следует думать, что после исчезновения Жорж Санд со сцены жизни Шопена прекратилась нить, связывавшая его с женщинами. У него еще была такая же «Муха», как у Гейне, женщина, влетевшая неожиданно в его комнату в то время, когда он уже был почти на смертном одре и фактически перестал существовать не только для женщин, но и для самого себя. Мы говорим о княгине Марселине Чарторыжской. Она ухаживала за Шопеном в последние дни его жизни, не отходя от его постели и оставаясь до последней минуты верною сиделкой. Нужно еще упомянуть и о графине Дельфине Потоцкой, которая, узнав о безнадежном положении Шопена, поспешила из Ниццы в Париж, где дала ему некоторым образом музыкальное напутствие, пропев, по его желанию, несколько трогательных песен в то время, когда у него уже смежались веки, чтобы никогда не открываться. Наконец, надо назвать еще мисс Стерлинг, ученицу и восторженную поклонницу Шопена, шотландку, которая после его смерти купила всю обстановку обеих комнат Шопена и отвезла в Лондон, где поместила в устроенном ею Шопеновском музее.
Людвиг Шпор
Как видно из приведенных примеров, музыканты часто влюбляются в певиц или музыкантш, на которых весьма часто и женятся. Не избег этой участи и Шпор[(нем. Louis Spohr, 1784–1859) — немецкий скрипач, композитор, дирижёр и педагог, один из первых представителей романтического стиля в музыке]. Он влюбился в Доретту Шейдлер, которая аккомпанировала ему обыкновенно на придворных концертах на арфе и приводила всех в восторг. Однажды после одного такого концерта Шпор спросил:
— Не играть ли нам так вместе всю жизнь?
Доретта была того же мнения, и брак был заключен. Целые двадцать восемь лет играли они вместе великую симфонию семейной жизни, после чего Доретта умерла. Во время своей болезни она с большим интересом следила за его работою над новой ораторией «Кальвария», и Шпор постарался окончить ее по возможности скорее. «Мысль о том, что жена моя не дожила до первого исполнения этой моей вещи, отравляет удовольствие, которое доставил мне ее успех», — рассказывал он впоследствии. Два года печали и одиночества прошли, прежде чем Шпор нашел в Марианне Пфейфер другую подругу жизни, которая также была хорошей музыкантшей…
Бернгард Вебер
Такие же сладкогласные сирены играли большую роль и в жизни Бернгарда Вебера [(1766–1821) — немецкий композитор.]. Жизнь его во время пребывания в Штутгарте была далеко не веселая, и вот одна восхитительная певица, но имени Гретхен, решила вывести его из состояния уныния. Однако, влияние ее было скорее отрицательное, так как она склоняла его к разным необычайным выходкам и пробудила в нем желание играть роль щедрого кавалера, что совсем не гармонировало с его тогдашними средствами. К счастью, во время первого представления его «Сильваны», 16 сентября 1810 года, он познакомился с Каролиною Брандт, певшей главную партию и имевшей огромный успех, вследствие чего публика стала бурно вызывать автора. Каролине пришлось буквально вытолкнуть на сцену робкого юношу, прятавшегося за кулисами. Тогда Вебер еще не предчувствовал, что твердая рука, которая схватила его, чтобы вывести к публика, принадлежит его будущей жене.
Через шесть лег после этого случая Вебер сделался капельмейстером при саксонском дворе и писал избраннице своего сердца: «Долго смотрел я на письмо графа Вицтума, не решаясь его открыть. Что в нем — приятное или неприятное? Наконец решился. Что за радость! Я тотчас бросился ко всем друзьям. Они поздравляли меня, смеялись и отвешивали поклоны новоиспеченному придворному капельмейстеру… За эту приятную весть я должен получить от тебя особый поцелуй». Вскоре они повенчались.
Как серьезно смотрел Вебер на женитьбу, видно из его заметок в дневнике: «Да благословит Господь наш союз и да даст он мне силу и мощь сделать мою возлюбленную Лину счастливою и довольною так, как я этого хочу в глубине души и как она вполне заслуживает». Молитва его была услышана. Вебер был образцовым мужем и отцом и усердно работал для семьи до последней возможности.
Феликс Мендельсон
Мендельсон был любимцем женщин. Его гений и красивая наружность служили для них неотразимой притягательной силой. Доказательством может служить пример талантливой Иоганны Кинкель, жены поэта Готфрида Кинкеля, часть дневника которой, с подробностями о первом знакомстве с Мендельсоном, опубликована была только в начале текущего года[102]. Иоганна родилась в 1810 году в Бонне и с малых лет начала обнаруживать большие музыкальные способности. Тем не менее, родители и не думали дать ей систематическое музыкальное образование, опасаясь, как бы она не засиделась в девах. Повинуясь воле родителей, она в 1833 году вышла замуж за одного кельнского книгопродавца, питая тайное желание освободиться в качестве жены от родительской опеки и свободно посвятить себя музыке. Но замужество оказалось несчастным. Муж, бывший раньше таким любезным и предупредительным, превратился вдруг в тирана. Полгода мучилась Иоганна и, не выдержав, вернулась в родительский дом, куда принесла вместе с разбитыми надеждами также и разбитое в истинном смысле слова сердце: у нее сделался порок сердца. Тут только упорные родителе уступили и предоставили ей посвятить себя музыке, чтобы в искусстве найти забвение.
Первым ее шагом на пути к полному забвению прошлого была, поездка во Франкфурт, где остановился на время знаменитый композитор Мендельсон, произведениями которого она не переставала восхищаться. Узнав о ее намерении поехать во Франкфут, родители вспомнили свою прежнюю власть и хотели удержать ее от этого шага; но Иоганна на этот раз не подчинилась. С другой стороны, муж, которого она бросила, не хотел ей дать отдельного вида на жительство. Иоганна сломя голову поехала без паспорта. Как только пароход отчалил от берега, она рассказала капитану о своем положении, и он обещал помочь ей. Уже в первый день в Кобленце ее ожидала неприятность: в гостиницу к ней явился полицейский чиновник и потребовал паспорт. Иоганна спаслась хитростью: она заявила, что ей не было известно, нужны ли женщинам паспорта, тем более, что личность ее может быть удостоверена теми или другими знатными жителями города, которых, однако, она знала только по имени. Чиновник извинился и ушел. Такая же история произошла и в Майнце, но там ее спас капитан, занявший чиновника посторонним разговором, чтобы Иоганна могла укрыться и затем незаметно выскочить на берег. Она села на первого извозчика и велела ехать. Только под Кастелем она решилась остановить его, чтобы поговорить с ним о цели дальнейшей езды — Редельгейме. Но и тут ее ждало горе: извозчик, которому было всего 15 лет, не знал, где Редельгейм. С большими мучениями, блуждая, сбиваясь с дороги, добралась она, наконец, до Редельгейма, откуда до Франкфурта было уже рукой подать.
Однако, и во Франкфурте ей не сразу удалось познакомиться с Мендельсоном! Он редко кого принимал у себя из посторонних, и доступ к нему был очень затруднителен. После долгих хлопот она хотела обратиться к вдове Фридриха Шлегеля, Доротее, дочери философа Моисея Мендельсона, а следовательно тетке композитора; но ей сказали, что и она сама редко видит племянника, а потому Иоганне лучше отказаться от намерения познакомиться с неприступным гением. Наконец, она все-таки познакомилась с ним у вдовы Шлегель и получила приглашение приехать к нему на дом.
Вся опубликованная часть дневника Иоганны представляет сплошной дифирамб, понятный только под пером влюбленной женщины. У Мендельсона нет недостатков! Он — неземное создание. Его произведения божественны и стоят выше критики… Нам нет надобности повторять все славословия любящей женщины: они слишком однообразны, тем более, что откровенности насчет дальнейших отношений к гениальному композитору от Иоганны ожидать нельзя, — по крайней мере, в опубликованной части своего дневника она ни единым словом не упоминает об этом. Мендельсон и Иоганна часто бывали вместе, они восторгались взаимной игрой, расточали друг другу любезности, вот все, к чему сводится содержание этих страниц!. В дальнейшей части дневника, вероятно, мы узнаем остальное. Но и одного упорного ухаживания Иоганны достаточно, чтобы убедиться, каким культом окружали Мендельсона женщины.
Год спустя Иоганна опять посетила своего кумира в Лейпциге. Мендельсон извинился перед ней при этом, что в прошлом году так избегал людей во Франкфурте. Тут же он объяснил ей причину: он был влюблен в Цецилию Жанрено и его мучило опасение, не оставит ли она его любовь без ответа. Цецилия, однако, не могла быть исключением из общего числа: она не только ответила на его чувство, но сделалась его женою, и в то время, когда Мендельсон виделся с Иоганной в Лейпциге, он был уже женихом очаровательной девушки.
Прибавим, что Цецилия Жанрено была прелестной дочерью не менее прелестной матери, вдовы одного протестантского пастора, которая до того бдительно следила за отношением Мендельсона к ее дочери, что дала пищу молве, будто его ухаживания имеют целью не ее дочь, а ее самое…
Шуман
Нелегко далась Шуману женитьба на Кларе Вик. Клара была дочерью композитора, у которого Шуман учился и жил на квартире. Он ежедневно виделся с нею и ежедневно же имел возможность слушать её превосходную игру на фортепиано. Молодые люди влюбились, но Вику вовсе не хотелось иметь зятем бедняка-музыканта, каким был Шуман, и поэтому он запретил ему встречаться с дочерью и даже писать ей. Шуман нашел гениальный выход: редактируя одну музыкальную газету, он завел в ней отделы «Письма к Кларе» и начал помещать в нем настоящие любовные письма рядом со статьями и рецензиями. Наконец, Вик уступил и дал согласие.
У Шумана и Клары были одинаковые мысли и им не нужно было много разговаривать, чтобы понять друг друга. Самое объяснение в любви было у них безмолвное: Шуман изложил Кларе на фортепиано, как сильно ее любит, и она ответила, что вполне разделяет его чувство. Уже много лет спустя после женитьбы их часто можно было видеть сидящими за фортепиано, причем она играла одной рукою piano, он — forte, а обеими свободными руками они обнимали друг друга. Шуман часто попадал в затруднительное денежное положение, но жена каждый раз выводила его из этого затруднения. Когда же он сошел с ума, она сама поддерживала и воспитывала своих семерых детей. После его смерти Клара исполняла публично его концерты и играла так, как только могла играть Клара Шуман, королева пианисток, как ее называли по справедливости. Перед каждым концертом она обыкновенно перечитывала старые любовные записки, который писал ей муж. Она сама объясняла это тем, что хотела при истолковании его произведений воспроизвести их дух.
Россини
Если кто из знаменитых музыкантов-композиторов пользовался особенной любовью у женщин, так это, конечно, Россини. Своей красивой наружностью и талантом он до того приводил в восторг женский мир, что несколько раз едва не падал жертвою ревнивых женихов или мужей.
Однажды к Россини явился хорошенький паж и, вручив записку, удалился. В записке какая-то влюбленная дама назначала ему свидание. Россини отправился в указанное место, за городом, и начал напевать одну из своих арий, по которой его должны были узнать. Вскоре открылись ворота парка и оттуда выступила прекрасная незнакомка. Разговор был очень важный и при прощании милая парочка условилась, что паж на следующий день снова принесет записку с указанием места, где можно опять увидаться. Россини догадался, что паж и прекрасная незнакомка — одно и то же лицо, и поэтому на следующий день, как только паж удалился, последовал за ним. Подозрение подтвердилось: паж оказался очаровательною женою одного богатого сицилийца. Когда он в третий раз пришел на свидание с нею, у самого входа в парк раздался выстрел и пуля пролетела мимо его головы. В то же время двое мужчин в масках бросились на него с обнаженными рапирами. Так как при Россини оружия не было, то ему ничего другого не оставалось, как удариться в постыдное бегство.
Одной из причин большого успеха Россини у женщин было то, что он сам был о себе очень высокого мнения. Однажды он сказал одной хорошенькой женщине, случайно очутившейся между ним и герцогом Веллингтоном:
— Сударыня, какой счастливой вы должны считать себя, что стоите между обоими величайшими людьми в Европа.
Россини женился на певице Колброу. Через три года он посетил Англию и не мало рассердился, когда его любимой жене был там оказан далеко не восторженный прием.
Доницетти
Сладкие мотивы, разбросанные в операх Доницетти, лучше всего свидетельствуют о его влюбчивости и поклонении женщинам. Жену свою он боготворил и она отвечала ему тем же. Два года супруги пользовались безоблачным счастьем, как вдруг жена умирает от холеры. Доницетти потерял всякий интерес к жизни. Он перестал заботиться о себе, мир ему начал казаться безнадежною пустынею, в которой ему суждено было блуждать без цели и смысла. Он принадлежал по-видимому, к тем Азра, которые, по свидетельству Гейне, «умирают, когда любят».
Беллини
Жизнь мечтательного Беллини была отравлена печально-романтическим любовным романом. Он влюбился в одну прекрасную неаполитанку, дочь одного судьи, который, однако, отклонил ухаживания композитора, так как положение Беллини мало могло бы льстить ему, как тестю. Когда же Беллини сделался знаменит, судья переменил свое решение, но гордость композитора не позволила ему взять то, что было прежде отвергнуто. Он отказался. Вскоре после того умерла молодая девушка, продолжавшая любить своего прежнего поклонника, и Беллини, как говорят, не мог оправиться после этого удара.
Верди
Родители Верди были простыми поселянами, жившими недалеко от Буссето. Маленький Джузеппе с удовольствием слушал игру на органе в скромной деревенской церкви, куда он охотно ходил. Сделавшись юношею, он однажды прошел мимо одного из лучших домов в Буссето. Вдруг за окнами послышались звуки фортепиано. Он остановился и начал слушать. Кто-то играл хорошо, и с тех пор молодого Верди начала тянуть к этим окнам неведомая сила. Антонио Барецци, образованный и богатый купец, хозяин дома, в котором раздавались чудные звуки, заметил мальчика и спросил, что он тут делает.
— Я немного играю на пианино, — ответил Верди, — и мне очень приятно слушать здесь музыку.
— Вот как! Так не лучше ли зайти ко мне в дом?.. Там тебе будет гораздо удобнее слушать мою дочь.
Получив разрешение посещать дом Барецци, восхищенный молодой человек не заставил себя долго ждать. Купец оказался человеком гуманным. Он взял пианиста под свое покровительство и всячески помогал проложить дорогу в жизни; когда дорога была проложена, отдал ему в жены свою дочь, игрою которой Верди так восхищался раньше. Новое доказательство того, как влияет музыка на человеческое сердце.
Рихард Вагнер
Бедность и любовь не всегда уживаются. Это блестяще подтвердил Рихард Вагнер. Когда ему было 26 лет, он влюбился в одну хорошенькую оперную певицу. Молодой композитор, носившийся уже тогда с грандиозными планами, возлагал большие надежды на «музыку будущего», но на надежды эти, к сожалению, нельзя было купить ни дров, ни пальто — две вещи, в которых, как Вагнер сам признался Листу после свадьбы, он очень нуждался. Если бы Лист не выводил его иногда из затруднительного положения и если бы по временам он сам не получал приглашения дирижировать оркестром, то вряд ли бы он прожил с женою долго. Вагнер был очень нервозен и легко раздражался. Жене пришло в голову, что он тяготится ею, и она сделалась морфинисткой. Композитор всеми силами старался отвратить ее от этого порока, но напрасно. Муж и жена всё более и более отчуждались друг от друга. Они тяготились совместной жизнью, и если бы только не общая любовь к маленькой собачке и канарейке, которых они оба любили и с которыми ни за что не хотели расстаться, разрыв был бы неизбежен. Когда же обоих этих любимцев не стало, последнее препятствие исчезло, и супруги развелись.
Ганс Бюлов
Ганс Бюлов, друг Вагнера, был человеком очень раздражительного и неприятного характера. Жил он в Мюнхене, где тогда ставились оперы его знаменитого друга. Женою его была дочь Листа, Козима, женщина тихая, спокойная, не выносившая резких выходок мужа. Страдая от человека, с которым ее связал закон, она искала утешения у его друга и товарища по профессии — Вагнера, с которым ничем не была связана. В конце концов супруги развелись, и Козима Бюлов сделалась Козимою Вагнер. Творец «Лоэнгрина» ожил, так как во второй жене нашел тот идеал, которого напрасно искал в первой. Этому, конечно, не мало способствовали успехи Вагнера. Музыка его вошла в моду, оперы начали обходить все сцены. Жена сопровождала его во всех поездках, которые он предпринимал в погоне за лаврами.
Когда Вагнер умер (в 1883 году) в Венеции, она в доказательство любви и преданности к мужу отрезала себе волосы, которыми покойный муж ее так восхищался, и положила их на красной подушке в гроб под его голову.
Брамс
Брамс остался холостяком подобно Бетховену, с которым, которым, по мнению немцев, у него было так много общего, не исключая музыкального таланта. Он был угрюм, раздражителен, резок. Но это все-таки не мешало женщинам восторгаться им. Особенно любил он посещать дом доктора Феллингера, жена которого боготворила великого композитора. До чего доходил культ Брамса в этой семье, видно из того, что г-жа Феллингер, умевшая рисовать, писала с него портреты красками, снимала фотографии во всевозможных видах, вышивала ноты-песни самого Брамса, а в день его рождения поднесла ему однажды пирог, на котором был выпечен ряд искусно сделанных из теста нотных фраз; по этим фразам композитор тотчас же узнал одну из своих народных песен. Брамс со смехом мог только сказать: «Вы поете меня, вы рисуете меня, вы вышиваете меня, вы печете меня!».
Семья Феллингера делала все возможное, чтобы нисколько озарить грустное существование Брамса. Однажды в рождественский сочельник г-жа Феллингер взяла его под руку и подвела в дамскому туалетному столику, установленному всевозможными пудреницами, банками для помады, флаконами с разными парфюмерными жидкостями и т. п. Все это было убрано цветами, кружевами, лентами. Брамс остолбенел.
— Неужели это для меня? Да что я буду с ними делать?
— Очень многое, г-н Брамс, — отвечала хозяйка.
— Боже сохрани! Как могут вам придти в голову такие вещи? Я — и одеколон или помада! А столик такой изящный и красивый! Нет, нет, нет!
И он решительно повернулся спиною к подарку.
— Но присмотритесь лучше, г-н Брамс! — заметила хозяйка и как бы нечаянно сбросила крышку с одной коробки. Оказалось, что в коробке были анчоусы, в других туалетных коробках и чашках сардины, скумбрия, копченые и некопченые сельди, во флаконах — коньяк, ром, вишневка и т. д.
Ужас Брамса прошел моментально и заменился доброй улыбкой благодарности. Весь вечерь после этого он был в превосходном настроении.
Франц Лист и княгиня Витгенштейн
Франц Лист пережил один из удивительнейших романов. Он любил, был любим и, тем не менее, не мог жениться на предмете своей страсти. Препятствий было много. Когда же препятствия исчезли, он сам отказался от цели, к которой стремился много лет. Вот в общих чертах содержание этого удивительного, далеко еще не выясненного романа.
Возлюбленной его была княгиня Сайн-Витгенштейн, урожденная Ивановская. Благодаря своему отцу, человеку серьезному и строгому, она получила основательное воспитание, научилась мыслить логически, познакомилась с хозяйственными делами и выработала в себе глубокий практический ум. Затем, дальнейшим воспитанием ее занялась мать, человек совсем иного рода. Мать любила свет, удовольствия, блеск, знакомства с знаменитостями, путешествия. Таким образом, в душе Каролины ужились два противоположных течения: идеализм и практицизм. Одно не мешало другому. Поэзия и проза шли об руку, дополняя друг друга.
По настоянию отца, Каролина 17-ти лет вышла замуж за князя Николая Сайн-Витгенштейна, сына русского фельдмаршала, человека грубого, развратного, расточительного. Жить с ним было нельзя, и она обратилась к императору Николаю I с просьбою о разводе, намереваясь потом просить о том же папу. К этому склоняла ее еще любовь к Францу Листу, с которым она познакомилась в 1847 году во время его пребывания в Киеве и произведения которого приводили ее в восторг еще раньше. На почве взаимной любви к музыке и начались между ними близкие отношения. Лист тогда носился с грандиозным музыкальным планом. Он хотел, чтобы его «Божественная Комедия» (по Данте) была исполнена с иллюстрациями соответствующих сцен из бессмертного произведения флорентийского поэта путем диарамы (нечто подобное сделал Лист у Мункачи, когда за полотном его картины «Смерть Моцарта» играл реквием, при звуках которого Моцарт испустил дух). Но план, требовавший для своего исполнения огромной суммы, не удался, хотя Каролина вызвалась дать эти деньги.
Близость отношений между Листом и Каролиной еще более усилилась, когда композитор-виртуоз приехал к ней в одно из подольских поместий, чтобы погостить. Конечно, дело кончилось бы браком, если бы просьба о разводе имела успех. Но она не имела успеха. Наоборот, получился приказ о конфискации ее имений и о запрещении ей самой возвратиться в Россию (она жила в то время в Карлсбаде). Положение было ужасное. С одной стороны — закон, преграждающий путь к любимому человеку; с другой — общество, которое не простит ни единого шага через границу, проложенную давно установившимися понятиями и обычаями. Что было делать?
Н вот она решилась. Как свидетельствует ее дочь, Мария Липсиус, выпустившая в марте 1900 года в Лейпциге «Письма Франца Листа к княгине Каролине Сайн-Витгенштейн», она, т. Е. Каролина, «принесла для Листа в жертву все: свое отечество, свои хозяйственные занят в поместьях, свое видное положение и даже — в глазах близоруких, которым недоставало способности ценить ее высокую, строгую нравственность, — свое доброе имя; она начала удивительным образом борьбу с тираническими силами и одновременно с мелкими затруднениями и довела ее до конца… Она создала ему дом, следила там за его духовной деятельностью, пеклась о его здоровья; для его блага она урегулировала малейшие привычки, оберегала его от излишеств, заботилась обо всех его делах с неустанным участием, отдалась попечению о его матери и детях и творила гостеприимство, которое вряд ли можно было оказывать более дружески, более благородно».
Что Лист, питавший большую склонность к идеальным женщинам, одною из которых, несомненно, была Каролина, отвечал ей такою же искренностью и привязанностью, понятно само собою. Его письма к ней дышат не только поэзией, но и вдохновением. «Пусть добрые Божьи ангелы несут вас на своих крыльях вместе с Маньолеттой» (княжна Мария) пишет он ей в одном письме. В другом он замечает: «Потерпите, возлюбленная и бесконечно дорогая невеста, сестра, подруга, помощница и опора, радость, благословение и слава моей жизни». В третий раз он посылает ей следующую фразу, которую мы оставляем непереведенною: «Elle (речь идет о дочери княгини) est devenne pour moi le signe manifesto de la bont de Dieu pour nous et son image se relie saintement dans ma pensée A vos traits de fiamme, comme la figure de la Viferge a celle du Christ». Это уже не любовь, а экстаз, не страсть, а умиление…
Когда над княгиней Каролиной разразился неожиданный гром, она уехала в Веймар. Туда же последовал и Лист, и влюбленные поселились в одном замке, который отдала Каролине великая герцогиня, принявшая большое участие в судьбе пострадавшей. Двенадцать лет, проведенных в Веймаре, были лучшею порою в жизни Листа. У него действительно оказался собственный «дом». За ним ухаживали, охраняли его вдохновение. Каролина была сотрудницей Листа в его книге о Шопене и, когда ее спросили, что принадлежит в этой книге Листу и что ей, отвечала: «Раз два человека настолько связаны, что составляют одно целое, то нельзя указать, что сделал один и что было сделано другим». Она же вдохновила ему ораторию «Св. Елизавета». Лучшие представители тогдашней умственной знати Германии, Франции и Англии собирались в ее салоне, где, кроме нее, блистала еще ее дочь Мария, вышедшая впоследствии за князя Гогенлоэ.
Как, однако, ни счастливы были возлюбленные, но им нельзя было не сознавать, что они занимают ложное положение в глазах общества. Но оно вскоре переменилось. В России вступил на престол император Александр II, а вместе с этим была удовлетворена просьба Каролины о разводе. Наконец, можно было осуществить давнишнюю мечту. Оставалось еще испросить у папы согласие на развод, но папа даст! И действительно, папа согласился. Уже был назначен день бракосочетания, как вдруг получается из Рима весть: папа берет согласие назад! Говорили, что какие-то темные личности были накануне у папы и убедили его переменить мнение. Во всяком случае то, что было близко и возможно, сделалось невозможным и далеким.
Отчаяние Каролины не знало границ, но подоспела неожиданная помощь: умер муж. Теперь уже не могло быть и речи о препятствиях. Пала последняя преграда. Но радость Каролины и на этот раз была непродолжительна: Лист, бывший всегда религиозным неожиданно постригся в монахи. После этого надежды уже не было.
Что заставило Листа постричься в монахи как раз в то время, когда давно желанная цель могла быть осуществлена, так и остается тайною до настоящего времени. Ни воспоминаний близких в нему или в Каролине лиц, как, например, французской писательницы Мелегари, ни опубликованные недавно дочерью Каролины письма ее к Листу не раскрывают этой тайны. Лист и Каролина унесли ее в могилу: он в 1886 году, она — через семь месяцев после его смерти, которую пережить не могла.
Франц Лист и графиня д'Агу
Не менее замечательны были отвошения Листа к графине д'Агу, по времени предшествовавшие его связи с княгиней Сайн-Витгенштейн. Чтобы познакомиться с историей этих отношений, достаток прочесть роман Бальзака: «Les amours forces», в котором графиня д’Агу выведена под именем Арабеллы. Впоследствии сама графиня выпустила воспоминания, в которых довольно подробно говорит о своей любви к Листу. К несчастью, любовь эта кончилась не менее печально, чем любовь к княгине Сайн-Витгенштейн, с которой, мы только что познакомились.
Графиня д’Агу, урожденная Флавиньи, родилась во французской семье, но в немецком городе — во Франкфурте. Когда Наполеон жил на острове Эльбе, семья эта вернулась во Францию, но в тревожный 1815 год, когда великий корсиканец вызвал новые военные бури во Франции, опять переселилась во Франкфурт, так как глава семьи, граф Флавиньи, мог, как приверженец Бурбонов, опасаться подозрений завоевателя. Будущей графине д’Агу было в то время только 10 лет, но она обращала уже на себя внимание своим умом и красотою. Когда она выросла, вокруг нее, как общепризнанной красавицы, начала толпиться целая армия воздыхателей, к числу которых принадлежали, между прочим, английский посланник Вильям Лем (муж возлюбленной Байрона Каролины Лэм), датский посланник Пехлин, Шатобриан. Впоследствии она переселилась с матерью в Париж, где успех ее, как светской красавицы, был не менее велик. Один из ее современников описывает ее как высокого роста блондинку с длинными рыжеватыми волосами, большими мечтательными глазами, белой бархатной кожей, изящным носом и благородно очерченным лбом. Руки и ноги были у нее маленькие и красивые. Тогда ее сравнивали с какой-то петербургской красавицей и пальма первенства осталась за нею. «Как можно сравнить русскую кожу с белым французским атласом?», сказал по этому поводу один из ее поклонников. Ко всему этому она обладала недюжинным музыкальным талантом.
Несмотря на все эти качества, никто не предлагал руки графине Флавиньи. С другой стороны, и она оставалась равнодушною к ухаживаниям и комплиментам, которыми ее осыпали. К одному только генералу Лагарду, человеку пожилому, но обладавшему всем арсеналом французского лоска, она почувствовала некоторое влечение, и между ними завязалось нечто вроде романа, но он окончился в самом начале. Изящный генерал вдруг уехал, так и не объяснившись в любви своей прекрасной подруге. Она осталась в полном неведении, грустная, тоскующая, и, может быть, это-то и было причиною того, что она вышла замуж за нелюбимого человека — графа д’Агу, бывшего к тому же старше нее на целых двадцать лет (графине в то время было 23 года). Впрочем, граф этот был не без достоинств, пользовался большим престижем при дворе Карла X, был очень строг в делах чести, умел занимать общество приятным разговором, рыцарски вел себя по отношению к дамам, и графиня, вероятно, была бы счастлива с ним, если бы не отличалась беспокойным характером и жаждою впечатлений. Несмотря на то, что у нее было трое детей, она то и дело ездила на балы, блистала в свете, куда всегда являлась в восхитительных, но бросающихся в глаза туалетах. Считая себя богато одаренною в умственном отношении, она старалась играть роль в парижских салонах, отживавших тогда последние минуты своего расцвета. В одном из них и встретил ее Франц Лист.
Произошло это в салоне герцогини Дюрас, автора известного романа «Урика», в котором главную роль играет негритянка. Поэзия и музыка преобладали в этом салоне: читались стихотворения, играли на фортепиано. Лист, посещавший этот салон, был еще совсем молодым человеком. Длинный, стройный, худой с бледным мраморным лицом и высоким лбом мыслителя, он сразу производил впечатление человека необыкновенного. Его религиозность была известна всем. Все знали, что он часто колебался еще в то время, сделаться ли ему жрецом искусства или священником. Как музыкант, он приковывал к себе общее внимание, и в числе его пламеннейших поклонников были такие лица, как Альфред Мюссе и Жорж Санд произведения которых имели на него большое влияние. Дамы ухаживали за ним, за этим «Паганини фортепиано», как называли Листа. Никто не обращал внимания на то, что Лист простого происхождения, так как отец его был второстепенным чиновником: светские манеры и музыкальный гений заставили аристократические сферы Парижа забыть об этом. Лист сделался настоящим божком, на алтарь которого женщины нередко приносили свою стыдливость, честь и репутацию.
Принесла их в жертву и графиня д’Агу. Она влюбилась в Листа. То обстоятельство, что гениальный юноша не ответил сразу на ее чувство, только еще более придало ей силы. Нужно было во что бы то ни стало расположить его к себе. И старания графини увенчались полным успехом, тем более, что господствовавшая в то время идея свободной любви, находя художественное оправдание в романах Жорж Санд, широко открывала ему в его совести дорогу к сердцу замужней женщины.
Близкие отношения между влюбленными кончились тем, что графиня д’Агу бросила мужа и уехала с Листом в Швейцарию. Лист был наверху блаженства, как можно судить по следующему его письму к одному другу-писателю: «Если хотите описать историю двух счастливых любовников, то выберите берег озера Комо. Никогда еще небо не судило мне столь благословенного уголка на земле. Очаровании любви должно там действовать с удвоенною силою. Представьте себе идеальный образ женщины, небесная прелесть которой внушает благоговение, а рядом с нею — юношу, который верен и счастлив не в меру… О, вы, наверно, уже догадываетесь, как зовут эту любовную парочку!».
Счастье Листа продолжалось долго, потому что за время пребывания в Швейцарии графиня родила ему трех детей: Даниэля, Христину и Козиму. Лист был любящим отцом, но не обладал в то время большими средствами, как впоследствии, когда золото обильно сыпалось в его карманы. Жизнь становилась в тягость. Между тем, графиня д’Агу не привыкла к лишениям. Начались обычные сцены, ссоры, и дело кончилось тем, что любовники расстались. Лист предпринял большое артистическое путешествие, а графиня, по его требованию, поехала в Париж, где поселилась у его матери.
Вскоре и последняя тень близости между влюбленными исчезла. Графиня д'Агу тяготилась независимостью и, чтобы выйти на самостоятельную дорогу, занялась литературой. Ея первый роман «Нелида» имел большой успех, так как она описала в нем собственную жизнь. Конечно, Лист был в нем выставлен в самом черном свете. В этом отношении она сделала только то же, что сделала и Жорж Санд, оклеветавшая Альфреда Мюссе после разрыва, и леди Лем, подвергшая такой же участи своего бывшего любовника Байрона. Роман вызвал много порицаний, но его много читали. Шатобриан находил его даже образцом остроумной иронии, а молодой писатель Ронсар, бывший в восторге от графини, ставил ее произведена на одинаковую высоту с романами Жорж Санд. Последнее и было причиной того, что графиня посвятила Ронсару свои мемуары.
К удивленно, в этих мемуарах ничего не говорится о Листе. В предисловии она замечает по этому поводу: «Умно ли, хорошо ли передавать равнодушным читателям книгу своих наиболее тайных влечений? Разумно ли или бессмысленно писать и печатать свои мемуары? Вряд ли есть более щекотливый вопрос. Более десяти лет я тщетно искала удовлетворительный ответ. Мысль об этом меня часто до того мучила, что мне пришлось в конце концов совершенно ее бросить. Однако, она каждый раз возрождалась. И во время чтения мемуаров, что я делала с удовольствием, меня обуревали те же сомнения и те же искушения. Кроме Гёте и Альфиери, которые при своей откровенности всегда оставались в пределах добропорядочности, все писатели меня столь же отталкивали от себя своими автобиографиями, как и привлекали. Особенно Руссо вызвал во мне одновременно восторг и ужас своими удивительными и все-таки подлыми признаниями».
Себя, впрочем, графиня д’Агу считает «исключительным существом», потому что она обладает талантом и не пошла проторенными дорожками, а проложила себе в жизни собственную дорогу. По этой именно причине она нашла возможным опубликовать свои мемуары, изобразив своего прежнего любовника самым мрачными красками. Нужно ли прибавлять, что под словами «самостоятельная дорога» графиня д’Агу разумела полное пренебрежение ко всем приличиям и жизнь вопреки нравственному кодексу, начавшему складываться тотчас же после первого грехопадения?
Графине д’Агу не давали спать лавры Жорж Санд. Она ей подражала не только в жизни, но и в литературе и даже выбрала себе мужской псевдоним — Даниэль Стерн[103]. Под ним, между прочим, она издала свою историю революции 1848 года. В этой истории графиня высказывает демократические воззрения, что, конечно, объясняется остракизмом, которому она подверглась в аристократических сферах из-за незаконной связи с Листом.
Глава V Ученые и мыслители
Гальвани. — Гюбер. — Ляйэль. — Фарадей. — Агассис. — Оуэн. — Тиндаль. — Дженнер. — Руссо. — Карлейль. — Бентам. — Ренан. — Юм. — Бокль.
Вместе с учеными и мыслителями мы вступаем в совершенно другую область сердечных отношений. Если в мире поэтов, художников, музыкантов, вообще в мире представителей творчества мы сплошь и рядом наталкивались на бурные страсти, огонь и лаву в проявлениях любовного чувства, то в мире жрецов науки и отвлеченной мысли нас поражает спокойствие и тишина. Точно мы вступаем в мирную гавань после бурного плавания. Все позади: и шум волн, и ломающиеся мачты, и небо, покрытое свинцовыми тучами. Перед нами земля…
Гальвани
Кто бы мог подумать, что животный магнетизм не был бы открыт знаменитым ученым Гальвани, если бы он не женился на дочери профессора Галеацци? Это была превосходная во всех отношениях женщина, вышедшая за Гальвани без особой любви, но с твердым намерением быть ему преданной спутницей жизни. Она следила за его работами, и благодаря именно ей мир познакомился с великим открытием, носящим имя ее мужа. Однажды Гальвани случайно положил ножку лягушки около электрической машины. Жене его бросилось в глаза, что ножка эта вздрагивает каждый раз, как приходит в соприкосновение с ножом, и она обратила на это внимание мужа. Гальвани проверил опыт — жена не ошиблась: отрезанная ножка лягушки действительно вздрагивала. Это заставило его заняться изучением нового явления, и следствием этого явилось открытие, обессмертившее изобретателя и давшее толчок к дальнейшим работам в том же направлении.
Франц Гюбер
Еще более характерен в этом отношении пример женевского ученого Франца Гюбера, благодаря которому мир обстоятельно познакомился с жизнью пчел. Несчастный был слеп. Но зато его у жены было чудесное зрение и оно заменяло ему недостававшие глаза. Эмэ, так звали г-жу Гюбер, следила за пчелами и обо всем виденном подробно рассказывала мужу. Когда Гюбер решил жениться на ней, друзья советовали ей не принимать его предложения.
— Что пришло тебе в голову? — говорили они ей. — Подумай, ведь он слеп!
— Оттого-то я ему и нужна, — твердо отвечала девушка.
Ничего удивительного в том, что Гюбер уже стариком говорил:
— Для меня Эмэ никогда не. состарится. Она и теперь еще кажется мне таким же прелестным созданием, как то, которое привело меня в восторг, когда я еще мог видеть, и отдало свою жизнь и сердце слепому ученому. Своим тихим нравом и терпением она украсила мою печальную судьбу.
Чарльз Лайель
Не менее счастливым чувствовал себя и знаменитый Ляйель[104], геолог Чарльз Лайель, после женитьбы на девице Горнер. Как и Гюбер, он страдал глазами, болезнь которых часто не давала ему работать. В этих случаях жена продолжала дело, начатое мужем, пока боль проходила и Лайэль мог опять вернуться к работе. Целых 40 лет безотлучно сопровождала его жена в его скитаниях с научной целью, до последней минуты оставаясь его усердной помощницей. После ее смерти великий ученый утешался только мыслью, что скоро свидится с нею: «Так как мне уже 76 лет, — сказал он однажды, — то разлука моя с женою может быть только кратковременной».
Майкл Фарадей
Жизнь не менее знаменитого физика Фарадея после женитьбы на Саре Барнард была сплошной песней торжествующей любви. Когда Сара показала отцу письмо, в котором Фарадей просил ее руки, отец заметил, что любовь не раз превращала в глупцов даже величайших философов. Сара колебалась, принять или не принять предложение, и просила дать ей время на размышление. «Размышлять» она поехала в один курорт на берег моря, куда, однако, последовал ее ученый воздыхатель, решившись услышать смертный приговор из ее собственных уст. Там, однако, дело до трагической развязки не дошло. Наоборот, Фарадей и Сара предприняли продолжительную прогулку в горы. Солнце давно уже закатилось, когда они вернулись домой. Знаменитый физик писал в тот вечер в своем дневнике: «Я был очень печален, опасаясь, что никогда не испытаю еще раз такого счастья, и не мог укротить своих чувств, не мог также помешать тому, чтобы из глаз у меня текли слезы». Он упрекал себя за то, что не знал, как расположить к себе девушку, которую хотел бы назвать своею. Бедный! Он свободно углублялся в сложные явления природы, но глубины сердца возлюбленной девушки остались для него недоступными.
Наконец, наступило время, когда она заявила Фарадею, что принимает его предложение. Через неделю после того великий ученый писал: «Каждая минута дает мне новое доказательство того, какую власть ты имеешь надо мною. Раньше мне казалось невозможным, чтобы я или кто-либо другой мог быть охвачен таким сильным чувством». Год спустя Фарадей и Сара Барнард вступили в брак — тихо, скромно, потому что великому ученому хотелось, чтобы день их свадьбы ничем не отличался от прочих дней года. Об этом дне он писал через 28 лет: «12 июня 1821 года, я женился — событие, которое больше всяких других содействовало моему счастью на земле и моему здоровому состоянию духа».
Фарадей прожил с женою 47 лет. Он расставался с нею только в редких случаях. Когда однажды ему пришлось уехать в Бирмингем, где происходило собрание английских ученых, жена получила от него письмо со следующими словами: «Я пришел к убеждению, что нет на земле удовольствия, которое могло бы сравниться с тихим миром семейного очага. Даже здесь мне хотелось бы быть около тебя. О, как мы счастливы! Поездки, как нынешняя, научают меня только еще больше ценить наше счастье!».
Луи Агассис
Передать жизнь знаменитого французского естествоиспытателя Агассиса[105], поскольку в ней играла роль его жена, значило бы повторить то же, что было сказано о женах других ученых. Как и те, она была вся — преданность и терпение. Известен интересный случай, относящийся к ученым опытам Агассиса. Однажды утром жена великого естествоиспытателя, надевая туфли, резко вскрикнула и поспешно вытащила ногу. Профессор проснулся и спросил, что случилось.
— Из моей туфли выползла маленькая змея! — воскликнула жена, дрожа всем телом.
— Только одна? — ответил профессор и спокойно опять улегся в постель. — Там их должно быть три. Я положил их на ночь в твою туфлю, потому что они на меху, чтобы им было потеплее.
Ричард Оуэн
Столь же не сразу привыкла к разным случайностям, связанным с научной деятельностью мужа, жена другого естествоиспытателя Оуэна[106]. Вот одно место из ее дневника:
«Сегодня Рихард провел вечер в микроскопическом наследованы нескольких крошечных червей, найденных в мускулах одного человека. Я видела, как он вырезал гадов из разложившихся мускулов, и теперь еще чувствую отвратительный запах в носу. Рихард смеется надо мною и говорит, что это благоухание в сравнены с запахом анатомическаго зала. Мне нужно преодолеть себя и привыкнуть к этому».
Она вскоре привыкла, как видно из следующего места того же дневника: «Вчера принесли из зоологического сада мертвое кенгуру. Еще рано утром Ричард разрезал его и я ему при этом помогала. Он с большим искусством удалил несколько червей, похожих на нитки, из внутренностей и сделал несколько великолепных препаратов, которые открывают внутреннее строение, бывшее почти невидимым для глаза. Я завидую ловкости Рихарда, граничащей с гениальностью».
Жена помогала в работах Оуэну до конца жизни, читала вместе с ним Кювье или переводила на английский язык произведения немецких ученыхх.
Джон Тиндаль
Кратка и ужасна история отношений между Тиндалем[107] и его женою, дочерью лорда Клода Гамильтона. Супруги были очень преданы друг другу. Сам Тиндаль сказал однажды: «Она расширила мои понятия о дееспособности человеческой натуры». Однако, страшная драма положила конец этому счастливому браку. Тиндаль страдал бессонницей и около его постели всегда стоял хлористый раствор. По ошибке жена как-то подала ему слишком большую дозу снотворного, думая, что это магнезия. «Ты меня отравила!», воскликнул Тиндаль, когда узнал, в чем дело. Врачебная помощь оказалась бессильной, и знаменитый ученый умер.
Конечно, нашлись люди, которые смерть Тиндаля приписывали действительному отравлению, а не случайности. Но друзья и близкие покойного, хорошо знавшие семейную жизнь Тиндалей, восстали против этого. Между прочим, д-р Бэзард, ученик, друг и домашний врач Тиндаля ответил на предложенные ему вопросы: «Отношения между профессором Тиндалем и его женою были самыми нежными и искренними, какие только можно представить. Я в своей жизни не видел ни одной женщины, которая превосходила бы г-жу Тиндаль в смысле нежности и преданности. Предумышленное преступление в данном случае невозможно».
Эдвард Дженнер
Эдвард Дженнер, которому мы обязаны прививкою оспы, был женат на Катерине Кингскот, очень образованной и изящной молодой женщине. Он был столько же ханжа, сколько завистлив, но Катерина умела своим тактом сглаживать эти недостатки. Когда ему приходилось испытать какую-либо неприятность, он всегда искал утешения у жены и находил его. Однажды, разговаривая с одним товарищем о несовершенствах человеческого организма, человеческих преступлениях и т. п., он вдруг оборвал разговор и сказал: «Поговорите обо всем этом с моей женой. Она вам все это разъяснит. Ей это нетрудно будет, как вы увидите сами».
Катерина много лет была больна и не выходила из комнаты. Однако, и тут она не переставала быть ангелом-хранителем мужа. В ее комнате всегда царило веселое настроение. Когда же она умерла, Дженнер почувствовал, что жизнь его лишилась устоя. Смерть ее для него была невознаградимою утратою.
Жан-Жак Руссо
«Новая Элоиза» Руссо яркой кометой всплыла на горизонте европейской общественности. Все невольно обратили к ней взоры. Какая новизна форм! Какая красота очертаний! Все в ней было таинственно и заманчиво. Образованное человечество бросилось к ней, как к новому светочу, который должен был озарить жизнь незнакомым еще светом. Мужчины упивались замечательною книгою, женщины считали ее откровением. Правда, матери строго держали ее под замком, скрывая от дочерей, сердца которых должны были оставаться в стороне от источника нового света; но и дочери ее читали. У каждой из них был заветный экземпляр, из которого она черпала уроки новой жизни. Со временем яркая комета исчезла, но не исчез свет, которым она когда-то озаряла умы. Он жив в памяти — лучшем хранилище всякого света.
«Новая Элоиза» не была вымыслом, она действительно существовала. Это была графиня Удето, женщина далеко не красивая, так как глаза у нее сильно выступали вперед и все лицо было изрыто оспой. К тому же она страдала близорукостью. Единственно, что у нее было великолепно, это роскошные волосы, «лес волос», по выражению самого Руссо. Зато оживдение и кротость, естественность движений в связи с детской робостью делали ее очень милою. Её настроение менялось часто. То она была меланхолична, то становилась наивною, то вдруг проникалась бесконечной веселостью. Все это в совокупности придавало ей своеобразный оттенок, и немудрено, что Руссо, который был большим поклонником всего естественного, выбрал именно ее первообразом для своей «Новой Элоизы».
До выхода замуж имя ее было Мими Бельгард. Она не любила графа Удето, за которого ее выдали еще очень молодой; не чувствовал к ней влечения и юный граф, влюбленный в другую женщину. Брак был очень несчастлив, так как в основе его лежали денежный соображения родственников молодых людей, и когда графиня встретилась с Сен-Ламбером, знаменитым красавцем, отбившим, как мы знаем, у Вольтера маркизу дю-Шатлэ, ничто ей не мешало вступить с ним в близкую связь. Этому содействовал также немало дурной пример близкой родственницы молодой женщины, г-жи д’Эпиней, покровительницы Руссо, которая, не зная, чем отплатить мужу за его беспрерывные измены, стала делать то же самое. Вскоре отношения между графинею Удето и Сен-Ламбером перестали быть тайною.
В то время, когда Руссо встретился с графиней, ей было тридцать лет; но это не мешало ему увлечься ею. В своих откровенных признаниях он рассказывает, что г-жа Эпиней очень злилась на него за его восторженные отзывы о графине. Но Руссо не только отзывался о ней восторженно, он ее любил. Однажды он сидел у ряда розовых кустов, тянувшегося в виде ограды вдоль шоссейной дороги. Вдруг послышался конский топот. В ту же минуту показался молодой всадник, который одним прыжком перескочил через ограду и очутился в объятиях Руссо. Философ не мог придти в себя от изумления, когда почувствовал, что в руках у него стройное женское тело и что лицо его покрыто морем волос. Это была Мими Удето. Она поселилась на даче в домике Монморанси и решила познакомиться с философом, о котором ей так много рассказывал ее возлюбленный Сен-Ламбер. С тех пор графиня часто посещала Руссо, и все в мужском костюме, хотя это далеко ему не нравилось. Однако, их свидания ограничивались только дружескими разговорами. Графиня не делала ничего, чтобы еще более сблизиться с философом, и даже охлаждала его невольные порывы; с другой стороны, и Руссо не хотел склонить ее к неверности Сен-Ламберу, с которым он был в дружбе. По словам Руссо, он был необычайно счастлив, когда графиня посещала его вместе с своим любовником. «Сладкое безумие, — говорит он, — усиливалось во мне после всякого свидания с графиней Удето. Я поместил в своем новом романе несколько писем, дающих понятие о моих высоконапряженных чувствах; в особенности письмо, в котором описывается прогулка на чудеснейшем швейцарском озере, должно быть прочтено для этой цели. Горе тому, кто может не чувствовать себя при этом тронутым. Пусть он закроет мою книгу, потому что он неспособен судить о делах сердца».
А вот и само письмо:
«Вам известно, дорогой лорд Эдуард, что я десять лет тому назад провел в Мельери печальные и все-таки драгоценные дни, посвященные исключительно ее памяти. Мне очень хотелось снова увидеть теперь это место в присутствии Юлии. Я так жаждал показать ей тот уголок, в котором пламенная, неугасимая страсть к ней оставила столько следов.
После трудного блуждания, продолжавшегося час, мы добрались туда. Я чувствовал себя близким к обмороку, когда увидел, что все осталось по-прежнему. Уединенное место дико и ужасно, но в нем есть красоты, которые нравятся людям с чувствами, между тем как обыкновенные люди их даже не замечают или находят страшными. Прямо около нас бурный горный поток несся через камни. Он вытекал из глетчеров, из которых летом всегда течет ледяная вода. Мрачный сосновый лес лежал в виде черной короны над источником горного потока и под нами выступали колоссальные дубы, которые также образовали рамку для голубой поверхности моря, растянувшегося на бесконечное расстояние перед нами.
Мы уселись на мох, осеняемый плодовыми деревьями, — двое влюбленных, одни в беспредельном уединении природы! Я показал Юлии скалистую стену, на которой написал тогда для нее стихи Петрарки и Тассо. „О, Юлия, вечное очарование моей жизни, — воскликнул я бешено, — здесь думал я о тебе, не предчувствуя, что сумею соединиться с тобою когда-нибудь!“.
Юлия отвернулась, закрыла глаза от окружавших нас бездн и стала умолять, чтобы я ее снова повел на верную дорожку. Я молча, повиновался, но глубокая меланхолия исполнила мое сердце и усилилась, когда мы снова сидели в челнок, и луна гляделась в волны свежей холодной воды.
Вдруг меня охватило отчаяние. Я почувствовал сильнейшее желание насильно соединить с собою Юлию, которая не могла и не хотела принадлежат мне, желание крепко охватить ее и вместе с нею найти могилу в волнах… Когда же я увидел, что она плачет и так же печальна, как я сам, мои чувства переменились, я стал спокоен и рассудителен».
Так окончилась любовь Руссо к графине Удето. Она осталась подругою Сен-Ламбера до глубокой старости. К концу жизни отношения между ними были уже не те, что в начале. Шатобриан замечает по этому поводу:
«Это наказание за то, что они соединились без достоинства брака и жили вместе только для того, чтобы импонировать свету и обезоружить упрек, который им делали раньше за нарушение морального закона».
Когда Сен-Ламбер умер, место его в сердце графини занял некий Коммарива, который и записал с ее слов много интересных подробностей о Руссо и других знаменитостях французской литературы.
Карлейль
В жизни знаменитого английскаго философа, историка и романиста Карлейля женщины играли особенно большую, во далеко не счастливую для него роль.
Еще в бытность учителем в Кирколди он познакомился с серьезной, остроумной, красивой девушкой Маргаритой Гордон, которую впоследствии обессмертил в своем философском романа «Sartor Resartas» под именем Блюмины. «Среди всех женщин и девушек, — говорится в романе, — она затмевала, как звезда, скромностью земные источники света… Однажды утром он нашел свою утреннюю звезду омраченной и побледневшей. Она заявила ему дрожащим голосом, что больше им никогда уже нельзя видеться». Между Маргаритою Гордон и Карлейлем стала тетка молодой девушки, никоим образом не соглашавшаяся на брак своей племянницы с мыслителем. Девушка по этому поводу написала ему письмо, в котором советовала работать и прославиться и в особенности отрешиться от своего беспокойного сурового характера, после чего ему можно будет завоевать женское сердце. Через двадцать лет Карлейль встретился с нею случайно в Гайд-Парке. Маргарита была уже в то время женою новошотландского губернатора. Их отделяла целая пропасть.
Исполнил ли Карлейль совет Маргариты Гордон? Смягчился ли он душою? История его жизни после женитьбы на своей ученице Иоанне-Бэл-Вельси доказывает, что, наоборот, характер его сделался еще более суровым, чему особенно способствовал столь же суровый характер его жены. Вельси была ученицею богослова Эдварда Ирвинга, в которого и влюбилась. Ирвинг, однако, женился на другой. Когда Карлейль занял место Ирвинга, он решил заменить молодой девушке не только учителя, но и предмет сердца. Вельси писала ему по этому поводу: «Я люблю вас… Мои благороднейшие и лучшие чувства сосредоточиваются в этой чистой любви в вам. Я любила бы вас, если бы вы даже были моим братом, но сделаться вашею женою не могу никогда, никогда!». Карлейль ответил ей: «Вы любите меня, как сестра, и я люблю вас во всех смыслах этого слова! Вы не хотите вступать в брак, я также!». И тем не менее 17 октября 1826 года Карлейль женился на Иоанне Вельси. Ему было в то время 32 года, ей 25 лет.
Как видно из писем Карлейля и его жены, оба страшились брака. Еще за четыре года до женитьбы философ писал одному знакомому: «Говорю вам, что эти гениальные женщины — чистейшие дьяволы, если не умеешь правильно понимать их! Я убежден, что если женюсь когда-либо (а это очень возможно), то мне попадется именно такая женщина, и я только и жду, что жизнь наша будет самою беспокойной, самою неприятной на земле, смесь меда и полыни, самого сладчайшего и горчайшего — совершенно в духе природы: то великолепное солнечное сияние, то сейчас же после этого вихрь, град и мороз, гром и молния. Словом, страшная буря. Боюсь даже, что непогода возьмет верх над солнечным сиянием!».
В свою очередь и жена Карлейля писала, еще будучи совсем молоденькой девушкой, одной подруге, которая сообщала ей о своей предстоящей свадьбе: «Ты, вероятно, сочтешь меня сумасшедшей, если я тебе признаюсь, что почти вскрикнула, когда прочла твои слова: „Я намерена вскоре выйти замуж!“. У меня захватило дыхание, так как мысленно я видела, что ты сделала скачок в неизвестность. Поздравлять тебя значит, по моему, искушать Провидение. Наши свадебный церемонии кажутся мне с тех пор, как я начала мыслить, крайне бессмысленными и безбожными. Если есть время, когда человеческое существо должно молиться и серьезно сосредоточиться и когда ему нужно отказаться от суетливой возни и болтовни, то это, конечно, тот день, когда два человека соединяются, чтобы остаться верными друг другу „в хорошие и злые дни, пока смерть не разъединит“. И вот как раз этот-то серьезный, важный шаг ознаменовывают у нас праздничными пирушками, поздравлениями и подарками».
При таких условиях был заключен брак между Иоанною Вельси и Карлейлем. Чем более приближался день свадьбы, тем более охватывали их «страшные предчувствия». Они старались поддерживать друг друга. Иоанна говорила о свадебных приготовлениях, как о «страшных вещах», а Карлейль искал попеременно успокоения то в «Критике чистого разума» Канта, то в романах Вальтер Скотта. Незадолго до свадьбы он писал невесте: «Мне кажется, что мы уже. слишком близко к сердцу принимаем эту историю. Разве до нас не решались уже множество людей на этот отважный шаг? И все-таки без помощи табака мне не обойтись. Прошу тебя поэтому не делать никаких возражений, если я выкурю до трех сигар в дороге, кода представится случай. Этого вполне достаточно для моего успокоения». Не менее характерен заголовок последнего письма невесты к жениху: «Лебединая песнь девы Иоанвы-Бэль Вельси». Карлейль на это ответил: «Поистине восхитительная лебединая песнь! В ней кроются нежность и теплота, преданность и доверие, вполне достойные девы, прощающейся с девственною землею, лучшим украшением которой она была».
Предчувствия их оправдались. Когда Карлейль окончил свое великое произведение, посвященное французской революции, жена его писала подруге: «Quelle vie![108] Ни одной женщине, которой дорог душевный мир, не нужно и думать о том, чтобы выйти замуж за писателя! Это были страшные дни!». И действительно, Карлейль был невыносим во время работы, особенно в то время, когда писал своего «Фридриха Великого» (работа эта продолжалась 13 лет). Ему мешал каждый шорох и он приходил в нервное раздражение из-за пустяков. Говорят, что г-жа Карлейль решилась однажды посидеть с шитьем в руках в комнате, где работал ее муж. Через несколько минут она должна была отложить работу в сторону, так как ему мешал шум иголки. Г-жа Карлейль сложила руки и сидела неподвижно на своем месте; но и этого было много для Карлейля, который вдруг воскликнул: «Иоанна, но я положительно слышу, как ты дышишь!». Отказаться от дыхания уже нельзя было, и Иоанна поспешила уйти из рабочей комнаты мужа, чтобы никогда более туда не возвращаться.
Семейная жизнь Карлейля была исполнена беспрерывных тревог. Супруги постоянно ссорились. Никто не хотел уступить или приноровиться к характеру другого. Одна современница разссказывает следующую сцену:
«Однажды я пошла к своим друзьям (Карлейлям) и нашла хозяина дома с опущенною головою, сердитым и нахмуренным лицом. Он собирался уходить из дома, только безмолвно поклонился мне и ушел. Горничная повела меня в темную комнату, где я увидала остатки только что выпитого чаю и лежащую на дивана г-жу Карлейль.
— Вы встретили Тома? — спросила она тоном, в котором. слышались еще отзвуки едва только промчавшейся бури.
— Да, — ответила я, — я встретила его на лестнице. Он выглядел очень рассеянным и печальным. Что случилось, милая?
— Что случилось? — воскликнула г-жа Карлейль с сверкающими глазами. — Уже два дня, как страшная головная боль приковывает меня к этому дивану, а он только две минуты тому назад входит сюда и спрашивает, что со мною! Ну, я… я швырнула ему в голову чашку…»
Впрочем, леди Карлейль тогда еще ревновала мужа к знатной лэди Ашбертон. Чашка, следовательно, могла иметь символическое значение.
Бентам
Знаменитый философ утилитаризма Джереми Бентам обнаружил редкую устойчивость сердца. Он влюбился в одну женщину еще совсем молодым человеком, просил ее руки, но получил отказ. С тех пор он не переставал носиться с мыслью б том, что рано или поздно все-таки сделается мужем любимой девушки. Когда ему было шестьдесят лет, он возобновил свое предложение, но избранница его сердца была неумолима и опять отвергла его. Бентам никогда не мог говорить о ней спокойно и каждый раз при упоминании ее имени у него слезы наворачивались на глаза. Когда ему исполнилось восемьдесят лет, он написал ей письмо, в котором есть следующее место: «Я еще жив; мне уже перевалило за восемьдесят и, тем не менее, я испытываю такие же сильные чувства, как и тогда, когда вы мне подарили цветок на зеленом лугу. С тех пор не прошло ни единого дня (о ночах я и говорить уже не хочу), чтобы вы не занимали моих мыслей больше, чем это мне было полезно».
Эрнест Ренан
Эрнест Ренан родился в Бретани, этом удивительном уголке Франции, в котором живет мечтательный, но серьезный и энергичный народ, свято придерживающийся обычаев и нравов старины. Дико-романтические окрестности, несомненно, сильно влиявшиея на развитие народного характера, повлияли также и на воображение Ренана.
Первой любовью знаменитого ученого и мыслителя была его сестра Генриэтта, которая, будучи старше него на двенадцать лет, всем существом своим отдалась попечению о молодом брате. Она же руководила его воспитанием. Ренан говорит о ней в своей книге «Моя сестра Генриэтта»: «Она примкнула ко мне со всею силою своего нежного робкого, жаждущего любви сердца. Я хорошо еще помню свою детскую тиранию, к которой она относилась терпеливо. Однажды она уже была готова выйти (ее пригласила подруга), но я уцепился за подол ее платья и просил не оставлять меня одного. Без всяких гримас она поцеловала меня и отказалась от визита, лишь бы угодить мне. В другой раз она грозила мне отчасти в виде наказания за проступок, отчасти в шутку, что она умрет, если я не буду вести себя хорошо. Так как я не вел себя хорошо, то она откинулась на спинку стула и, закрыв глаза, сделала виде, что умерла. Никогда еще не испытывал я такого горя, как тогда, когда увидел любимое существо без движения. В диком ужасе я прыгнул к ней на колени и укусил ее в руку! Я теперь еще слышу её крик и чувствую свой восторг! Она меня нежно упрекнула, и я ей ответил: „Почему ты умерла? Не смей больше умирать!“».
У Ренана было полное основание любить свою сестру… Она отказывала себе во всем, лишь бы ее возлюбленный Эрнест с матерью не чувствовали ни в чем недостатка. Даже одну хорошую партию она отвергла в угоду им, так как ухаживавший за нею молодой человек дал ей понять, что не будет иметь с ее семьею ничего общего. Генриэтта жила уроками в Париже, потом поехала на десять лет в Польшу, куда ее пригласили в качестве учительницы. Оттуда она поддерживала Ренана во время его бурной жизни в Париже, уплачивала долги отца. Она сумела даже скопить некоторую сумму, которая дала возможность осуществить заветную мечту — вести совместное хозяйство с дорогим Эрнестом по возвращении в Париж.
Можно было знать заранее, что при такой любви к брату Генриэтта не останется равнодушною, когда речь зайдет о женитьбе Ренана. И действительно, она выступила настоящего соперницей. Ренан влюбился в племянницу голландского художника Шеффера, с которым близко сошелся. Девушку звали Корнелией. Вместе с красотою она соединяла в себе большие познания, и Ренан мог говорить с нею о научных вопросах, как с товарищем по науке. Первое время Генриэтта не обращала большого внимания на беседы молодых людей, потому что она знала нерасположение брата к женитьбе; но когда Ренан, поддавшись невольному чувству, заявил сестре, что должен отдать сердце любимой девушке, Генриэтта восстала. Сам Ренан вполне сочувствовал сестре, которая не могла примириться с мыслью, что отныне в сердце брата будет жить другая женщина. В нем происходила борьба между любовью и долгом, как это он сам называл. «Долг» в конце концов победил. В одно прекрасное время Ренан явился к сестре и заявил ей, что исполнил ее желание — раз и навсегда стался с любимой девушкой. Это вызвало в душе Геериэтты новую бурю. После бессонной ночи она рано утром отправилась к Шефферу и заявила, что ей нужно поговорить с Корнелией. Можно себе представить, что произошло между ними. Соперницы бросились друг другу в объятия и со слезами на глазах поклялись быть сестрами на всю жизнь. Свадьба состоялась.
Началаеь самая счастливая пора в жизни Ренана. Генриэтта по временам давала еще чувствовать, что прежняя ее вражда к Корнелии не угасла, но окончательно примирилась с нею, когда Корнелия родила сына. Она боготворила ребенка и мало-помалу полюбила также и его мать. В 1860 году Ренан предпринял по поручению Наполеона III, путешествие с археологической целью в Финикию. Генриэтта сопровождала его туда в качестве секретаря, казначея и бухгалтера. Она была счастлива и спокойно переносила трудности пути. В январе 1861 года к ним присоединялась Корнелия и весною все они вместе поехали в Палестину, где Ренан продолжал свои исследования, а оттуда в Бейрут, так как в мае жара в Сирии невыносима.
Вскоре Корнелия вернулась во Францию, почувствовав себя еще раз матерью. С Генриэттой она больше ее виделась, так как сестра Ренана умерла от своеобразной лихорадки. Корнелия еще долго была счастлива с мужем, которого пережила всего на два года, прожив с ним почти сорок лет. Ренан скончался 12 октября 1892 года.
Давид Юм
Знаменитый английский философ Давид Юм остался холостяком. Он сделал однажды предложение понравившейся ему девушке, но получил отказ. Друзья Юма и любимой девушки вмешались в дело и вскоре сообщили философу, что девушка переменила мнение.
— Я также переменил мнение, — ответил Юм, но только в том смысла, что жениться уже не хочу.
Этим дело кончилось.
В Париже Юм имел большой успех у женщин, хотя он далеко не был красавцем. Этим он был обязан графине Буфлер, с которою перед тем находился в переписке и которая ввела его в лучшие дома Парижа. Переписку с нею он поддерживал до самой смерти. В одном из писем он говорит: «Не прошло еще и трех месяцев, как я вас оставил, и уже жду не дождусь, когда же я буду иметь счастье снова увидаться с вами. Мне бы хотелось не повидать Парижа и быть в стороне от всяких обязанностей, кроме одной, исполнение которой мне было столь сладко и приятно, — культирование вашей дружбы и пользования вашим обществом… Вы спасли меня от полного равнодушия к миру и людям».
Бокль
Таким же старым холостяком, как и Юм, остался и Бокль. Семнадцати лет он влюбился в свою кузину, которая, однако, была помолвлена с другим кузеном. Бокль вызвал его на дуэль. Результата дуэли неизвестен, но он, очевидно, был в пользу кузена, так как девушка осталась за ним. Вскоре после того Бокль влюбился в другую кузину, благородную, великодушную и к тому же богатую девушку, которая ответила ему тем же. Однако, матери влюбленных сделали все, чтобы потушить в них огонь любви и этим предотвратить брак между кровными родственниками. Следствием этого было то, что, когда умерла мать Бокля, последний остался совершено одиноким. Ему предлагали жениться, но он отвечал, что сделает это только после того, как обеспечит себе ренту по меньшей мере в 3.000 фунтов, так как истинное воспитание детей, по его понятиям, должно стоить очень дорого. На соответствующее же приданое он не рассчитывал. «Я, — сказал он однажды по этому поводу, — жду от своей жены столько хороших качеств, что не могу еще притязать еще и на деньги».
Глава VI Изобретатели и путешественники
Стефенсон. — Аркрайт. — Уатт. — Эдиссон. — Франклин. — Вашингтон Ирвинг. — Нансен.
Джордж Стефенсон
Джордж Стефенсон, изобретатель паровоза, был женат три раза. Еще в то время когда ему было 20 лет, он влюбился в дочь одного фермера, Елизавету Гиндмарш. Свидания с хорошенькой девушкой он обыкновенно имел в огороде фермера, но они «в одно прекрасное время» были открыты и его попросили прекратить ухаживания. Стефенсон удалился. Спустя некоторое время он влюбился в дочь другого фермера, Анну Гендерсон. Прогуливаясь однажды вместе с нею, он заметил, что ее башмаки нуждаются в починке. Недолго думая, он заявляет, что отнесет их к сапожнику. Девушка благосклонно это ему разрешила. На следующий день Стефенсон с гордостью принес предмету своего сердца башмаки, причем счёл нужным излить перед нею свои пламенные чувства. Удивление его, однако, было очень велико, когда очаровательная девушка, надев башмаки, прибавила, что при всей своей благодарности за услугу выйти за него замуж не может!
Но не так поступила старшая сестра Анны — по имени Фанни. Когда Стефенсон излил перед нею свое горе, она заявила, что может занять в его сердца место, которого не захотела занять сестра. Через некоторое время состоялась свадьба. Однако, брак с Фанни продолжался только четыре года. Бедная женщина страдала чахоткою, от которой умерла. Тридцать лет после этого работал Стефенсон над своим великим изобретением и вдруг случайно встретился с предметом первой любви, Елизаветою Гиндмарш. Елизавета осталась девушкой, так как поклялась, что ни за кого ее выйдет, кроме Стефенсона. В награду за преданность создатель паровоза сделал ее своей женой. После ее смерти он женился в третий раз, но умер сам через семь месяцев.
Ричард Аркрайт
Жена Аркрайта, изобретателя прядильной машины, мало что понимала в его работах и не раз случалось, что модели, которые изготовлял ее муж, она уничтожала одну за другою. Впрочем, у нее было основание: Аркрайт принадлежал к числу мечтателей, надеявшихся изобрести perpetuum mobile[109]. Его постоянные неудачи выводили жену из терпения, тем более что он, углубленный в свои опыты, игнорировал интересы семьи.
Джеймс Уатт
Джеймс Уатт, первый устроивший паровую машину, пережил две любопытные полосы в области отношений к женщинам. Он женился на своей родственнице Маргарите Миллер и был с нею очень счастлив. Хозяйство у них было маленькое и скромное, но Маргарита своим веселым нравом и нетребовательностью придавала ему особый привлекательный отпечаток. К сожалению, счастье его было непродолжительно. Ему однажды пришлось уехать по делу, а когда он вернулся, его ждала печальная весть: жена умерла. Это печальное событие произвело на него потрясающее впечатление. Он был совершенно подавлен; но так как жена оставила ему нисколько маленьких детей, то волей-неволей пришлось встряхнуться. Очень часто, возвращаясь домой, он останавливался на пороге и не знал, войти ли или удалиться оттуда, где раньше жила его верная подруга, лежащая теперь в земле.
Вторая жена его была совсем иного рода женщина. Она ненавидела кожаные фартуки и запачканные руки мужа, так что Уатту пришлось перенести мастерскую на чердак, где он мог считать себя в безопасности от ее веника и ведра с водою. От ее мании к чистоте страдали даже ее собачки, которые не смели переступить порог, прежде чем у них не будут обтерты лапки. Когда она ложилась спать, а муж в условленное время не следовал за нею, она приказывала слуге затушить у него свечи, даже в том случае, если у него бывали гости. Суровый режим домашней обстановки сделал то, что Уатт по целым дням оставался у себя на чердаке, где сам же приготовлял себе свои скромные обеды. Трудно поэтому сказать, сделал ли бы Уатт свое великое открытие, если бы жена у него была более ласковая и приковывала бы его больше к себе, чем к мастерской.
Томас Эдиссон
Томас Альва Эдиссон долгое время не думали о женитьбе. Друзья ему наперебой доказывали, что большое хозяйство и многочисленная прислуга требуют присутствия хозяйки в доме, но он оставался равнодушен к их советами. Однако, пришло время, когда и в нем заговорило сердце. Однажды, стоя за стулом служившей у него телеграфистки Мэри Стилуэлл, он был не мало поражен, когда молодая девушка неожиданно повернулась в нему и сказала:
— Г-н Эдиссон, каждый раз, как вы стоите за моими стулом или находитесь недалеко от меня, я чувствую ваше присутствие.
Тут пришла очередь удивиться телеграфистке, так как Эдиссон со свойственною ему откровенностью посмотрел ей в лицо и сказал:
— Я в последнее время очень много думали о вас, и если вы согласны сделаться моей подругой жизни, то я охотно женюсь на вас.
Девушка смутилась и попросила некоторое время на размышление. К тому же ей нужно было поговорить с матерью. Через месяц она повенчалась с великими изобретателем и до сих пор пользуется семейными счастьем.[110]
Джон Франклин
Памятниками любви известного американского путешественника-моряка Джона Франклина служит теперь открытые ими острова Пордон в Ледовитом океане и мыс Гриффин на американском берегу. Достаточно сказать, что Пордон и Гриффин — имена его обеих жен.
Первая жена отважного моряка была очень красива и талантлива, но умерла от чахотки через год после выхода замуж. Муж ее был в отчаянном положении. День, когда он должен был предпринять свое второе путешествие, приближался. Экспедиция была готова. Между теми, врачи заявляли, что жена его может с минуты на минуту также предпринять путешествие, но в край, откуда уже нет возврата. Франклин колебался, но в конце концов обязанность одержала верх — и он уехали. После его отъезда жена умерла, о чем он узнал в дороге.
Три года оплакивали Франклин ее смерть, после чего женился на Иоанне Гриффин. Бедную женщину ждала печальная судьба: муж предпринял экспедицию и не вернулся. Долго ждала она его возвращения и, наконец, сама снарядила экспедицию и отправилась его разыскивать. Все её старания, однако, не увенчались успехом.
Вашингтон Ирвинг
Другой американский путешественник (но еще и писатель) остался холостяком, так как не мог забыть предмет первой любви, безжалостно похищенной смертью. Матильда Гофман — так звали очаровательную девушку, с которою он был помолвлен. Она умерла в 17 лет от чахотки. Несчастная женщина испустила дух в его объятиях. Ея молитвенник и Библию он взял себе на память и не расставался с ними во всех своих путешествиях. Ночью он их клал под подушку. Никто не решался заговорить с ним когда-либо о его горе. Через тридцать лет после ее смерти он посетил отца несчастной девушки. Какая-то родственница вынула при этом из комода ноты и шитье.
— Вашингтон, — сказал отец, — это осталось от Матильды!
Вашингтон Ирвинг, который до этой минуты вел веселый разговор, вдруг умолк и, сделавшись серьезным, ушел. В одном из своих сочинений он посвятил своей возлюбленной следующие слова: «Я любил, как никогда не буду любить в жизни; я был любим, как никогда уже меня любить не будут». После его смерти в его записной книжке была найдена заметка следующего содержания: «Она умерла в расцвете юности, в моей памяти она останется вечно молодой и прекрасной».
Фритьоф Нансен
Фритьоф Нансен очень счастлив в семейной жизни. Его жена — замечательная певица, но она больше занимается поездками мужа с научной целью, чем своим искусством. Хотя она получила тщательное воспитание и с детства привыкла к комфорту всякого рода, но безропотно подчиняется суровому образу жизни, который ведет Нансен. Ей нипочем холод в какой-нибудь конуре под северным морозом и она с удовольствием проглатывает разные неудобоваримые продукты, которые Нансен берет с собою в путь. Часто ей приходится вовсе не есть по целым дням, когда она сопровождает мужа в мелких поездках. Недаром Нансен посвятил ей свою книгу: «В стране ночи и льда». Вот это посвящение: «Ей, которая крестила судно и имела мужество ждать».[111]
Глава VII Политические деятели
Бисмарк. — Биконсфильд. — Гладстон. — Лорд Лейчестер и королева Елизавета. — Робеспьер. — Мирабо. — Марат. — Лассаль. — Лафайет. — Бенджамин Франклин. — Селсбюри.
Вместе с политическими деятелями мы вступаем в новую область отношений между великими людьми и женщинами. Тут женщине принадлежит огромная роль. Тут она является не только спутницей мужа или лица, с которыми связала свою судьбу неразрывными узами, но и законодательницей его деятельности, а иногда даже и вершительницею судеб целого государства.
Бисмарк
Остановимся прежде всего на Бисмарке. Железный канцлер объединенной Германии пережил две полосы в истории сердечных отношений. Первая из них ознаменовалась бурными порывами в родных поместьях; вторая текла мирным ручейком в тени густолиственных садов Фридрихсруэ[112]. В начала своей политической деятельности Бисмарк пользовался не особенно лестной репутацией. Его имения Кнейпгоф и Шенгаузен были обременены долгами, и лишь упорным трудом и силою воли владельцу удалось привести их в порядок. Еще со времен университета и военной службы Herr Otto прославился, как отчаянный гуляка и бретёр, и, поселившись в своем родовом имении, сохранил за собою прозвище «сумасбродного юнкера из Кнейпгофа» (toller Junker vom Kneiphof). Несмотря на это, Бисмарк не сторонился общества и усердно посещал всевозможные «Thés dansants», «Kränzchen» и тому подобные увеселительные места. Дамы очень охотно его принимали, но ни одна не могла похвалиться, что завладела его сердцем. Сам он ухаживал за всеми, никому не выказывая предпочтения, как о том свидетельствует выдержка из его письма к сестре Мальвине, в котором он отзывается об одной девушке следующим образом: «Я познакомился с нею. Минутами она бывает хороша, как картина, но скоро она потеряет свой цвет лица и будет некрасива. Я был влюблён в нее целых двадцать четыре часа». Все это, конечно, не исключало всевозможных увлечений. «Сумасбродный юнкер» никого не любил, но за всеми волочился.
Но вот началась вторая полоса: Бисмарк женился и остепенился. Эта женитьба была предметом особенного любопытства биографов великаго деятеля. Как старый биограф его д-р Ганс Блюм, так и Адольф Когут, выпустивший в 1894 году книгу: «Князь Бисмарк и женщины», сообщили мельчайшие подробности о браке его с Иоганной Путкаммер и об их долголетнем супружестве. Встретился Бисмарк с Иоганной в 1844 году. На свадьбе своего друга Морица фон-Бланкенбурга с девицею Тадден-Триглаф он заметил среди подруг невесты молодую девушку, прелестное личико которой, исполненное достоинства и сознания собственной красоты, сразу привлекло его внимание. Это и была Иоганна фон-Путкаммер (родилась 11 июля 1821 г.), единственная дочь Генриха Путкаммера и его жены Луитгарды, урожденной Глазенап. Девушка произвела на Бисмарка сильное впечатление, но в течение последующих двух лет они ни разу не встречались, и лишь случай свел их, наконец, в 1846 году, во время путешествия в Гарц, куда родные Иоганны взяли ее с собою. Во все время путешествия Бисмарк не отходил от молодой девушки и, убедившись, что и она ему симпатизирует, решил на ней жениться.
Но если Иоганна была не прочь сделаться женою Бисмарка, то родители ее были далеко от мысли вверить дочь человеку, пользовавшемуся репутацией сумасброда. Дом Путкаммеров славился благочестием, а реноме гуляки и безумца все еще сопутствовало Бисмарку. На согласие родителей поэтому трудно было рассчитывать. «Никто не хотел верить, что язычник Савл был в самом деле на пути в Дамаск». Нетрудно поэтому представить себе переполох в Рейнфельде(так называлось имение Путкаммеров), когда в конце 1846 г. там было получено от Бисмарка письмо, в котором он просил руки Иоганны. Отец девушки не раз рассказывал потом, что письмо это ударило его по голове, «как обухом». Однако, сумасбродный юнкер не дал ему долго отчаиваться. Через три дня после письма он подкатил неожиданно к дому Путкаммера и, ворвавшись в его комнату, тут же на глазах удивленного отца и пораженной матери обнял девушку и начал осыпать поцелуями. Сопротивляться дальше нельзя было, тем более, что сама Иоганна со слезами на глазах призналась, что любит Бисмарка.
Две недели прогостил «сумасброд» в Рейнфельде и 12 января 1847 года отправил сестре в Ангермюнд краткую депешу следующего содержания: «All right».[113]
Наконец, была назначена свадьба. Она состоялась бы раньше, если бы на 10-е апреля не было назначено открытие «соединенного прусского сейма», в котором Бисмарк должен был заступить место захворавшего депутата Браухича. Заседания длились до 26 июня. Имя Бисмарка начинало тогда греметь не только в Германии, но и за ее пределами, и, стоя 28 июля того же года перед алтарем, юная Иоганна фон-Путкаммер отдавала руку не какому-нибудь безызвестному человеку, а энергичному деятелю, успевшему уже сделаться главой парламента.
Бисмарк не обманул доверия Иоганны. Он искренно полюбил ее и всю долгую жизнь никогда не нарушал согласия с нею. Чем он обязан ей, можно судить по его собственным похвалам, который он обильно расточал жене и в дружеских кружках, и в обществе.
— Вы не поверите, — говаривал он, — что сделала из меня эта женщина!
В письмах, который он посылал ей в первые годы супружества, Бисмарк называет ее «моё сердце». В бытность посланником в России он посылал ей ветки жасмина из Петергофа; из Бордо он отправлял ей полевые цветы; из Гаштейна эдельвейсы. В одном из писем, посланном жене после шестнадцати лет брачной жизни, Бисмарк вспоминает о дне своей свадьбы, как о «солнечном луче, осветившем его существование». В письме к сестре весной 1854 года он пишет: «Я страшно тоскую по полям и лесам, по дорогой жене и милым, послушным детям». 1 апреля 1859 года, будучи посланником в Петербурге, он одиноко справлял день своего рождения, и вот как писал об этом жене: «Сегодня день моего рождения и в первый раз за двенадцать лет провожу его без Иоганны».
Любопытна также выдержка из письма, посланного им в том же 1859 году из Варшавы, где он жил в павильоне Лазенковского дворца. «Ветер, — пишет он, — носится, как безумный, над Вислою и приводит в движение каштаны и липы. Их желтые листья так и бьют в мои окна. У меня же тепло и уютно, и, сидя с сигарою за чаем, я думаю о тебе и о детях, мечтаю о том времени, когда мы вместе будем пить чай». Письма, относящиеся к эпохе войны с Австрией, также весьма характерны. В одном из них, отправленном из Гичина 2 июля 1806 года, т. е. за день до битвы под Кениггрецом, он просит жену присылать ему с курьерами по 1000 сигар в 20 талеров для лазаретов, так как раненые очень скучают без них. Вместе с этим он просит также какую-нибудь книгу для чтения, но «только по одной сразу», прибавляет он, как бы опасаясь, что не сумеет сделать выбора между двумя. Из кампании 1870 года до сведения общества дошло содержание только одного письма Бисмарка к жене, да и то помимо автора. Письмо это писано из Вандреса на другой день после сражения под Седаном. Оно не дошло по адресу, так как «вольные стрелки» перехватили немецкую почту, а в том числе и корреспонденцию Бисмарка. Много времени спустя письмо это было напечатано в одной французской газете.
Таковы были отношения Бисмарка к жене, с которою он прожил много лет (28 июля 1897 года он отпраздновал свою золотую свадьбу). Она была тихим ангелом, усмирившим и успокоившим бури, которые клокотали в душе этого железного человека в годы расцвета молодости и сил; она была мягким и упругим в то же время парусом, направлявшим буйный вихрь, а вместе с ним и могучее судно к далекой гавани германского единства. Недаром Бисмарк говаривал часто:
— Она меня сделала тем, что я есмь.
Известен следующий анекдот из семейной жизни Бисмарка. Однажды железного канцлера посетил какой-то посол. Поговорив долгое время, посол заметил, что Бисмарка, наверно, многие тревожат и подолгу, и тут же полюбопытствовал узнать, как он освобождается от назойливых или неприятных визитеров.
— Очень просто, — ответил Бисмарк. — Как только жене покажется, что тот или другой гость меня задерживает слишком долго, она посылает за мною человека, и наша беседа кончается.
Не успел Бисмарк окончить свое объяснение, как в комнату вошел лакей и доложил, что княгиня просить в себе Бисмарка на нисколько минут. Посол покраснел и тотчас же удалился.
Дизраэли (лорд Биконсфильд)
Лорд Биконсфильд[114], оставивший такой крупный след в истории английской политики и литературы, был слишком сух, чтобы любить. Ум у него царил над чувством. Его жена не обладала ни молодостью, ни красотою, к тому же она была старше его на целых пятнадцать лет. Но зато она отличалась одним преимуществом, которое вознаграждало первого министра Англии за недостаток красоты и молодости: у нее было 100.000 фунтов ежегодного дохода. Сам Биконсфильд не раз говаривал ей, что сделался ее мужем только из-за денег.
— Пускай так, — отвечала обыкновенно жена, — но если бы тебе пришлось жениться на мне еще раз, то ты бы это уже сделал из любви.
И действительно, с годами между Биконсфильдом и его женою начались дружеские отношения, которых не омрачало воспоминание о том, что до выхода замуж за него г-жа Биконсфильд была женою его друга Уиндгема Льюиса. Она сделалась в полном смысле слова подругою, доверенным лицом и советницею Дизраэли. Впоследствии он признавался, что часы, проведенные в уединении с нею, была самыми счастливыми в его жизни. Он делился с нею горем и радостями. Она же никогда не допускала и мысли, что он может ошибаться. Величайшее удовольствие он испытад тогда, когда мог украсить ее пэрским достоинством. Ей же посвятил он свой роман «Сивилла». Вот это посвящение: «Посвящаю это произведение женщине, скромный характер и благородный дух которой заставляют ее сочувствовать всем страдающим, приятный голос которой меня часто ободрял, а хороший вкус и правильное суждение руководили этими страницами, — самому строгому критику, но самой совершенной жене».
Однажды нисколько молодых людей позволили себе в присутствии Биконсфильда пройтись насчет возраста и наружности его жены и спросить, что его заставило на ней жениться. Биконсфильд вспыхнул и, встав, чтобы уйти, с негодованием сказал:
— Господа, разве никто из вас не знает, что такое благодарность?
Парламентские победы доставляли жене Дизраэли большую радость. Когда он в 1867 году одержал победу над Гладстоном в вопросе о выборной реформе, молодые члены его партии решили почтить его банкетом, но Биконсфильд отклонил это предложение, заявив, что намерен провести вечер в обществн своей жены. После знаменитой речи 3 апреля 1872 года он также отправился тотчас же домой из палаты. Жена поехала раньше, чтобы встретить его должным образом. Услыхав стук экипажа, она бросилась в переднюю и, обхватив его руками, крикнула вне себя от радости:
— Диззи, Диззи! Это лучший из всех вечеров! Он вознаграждает нас за все.
После другой ораторской победы — на этот раз в Эдинбурге — Дизраэли и жена танцевали в спальне, как дети. Тридцать лет прожил с женою лорд Биконсфильд в полном счастье. Когда она умерла, он сказал:
— В течение тридцати лет, проведенных мною вместе с нею, я не скучал ни одной минуты.
В последние годы культ мужа доходил у леди Биконсфильд до смешного. Так, она носила всегда на груди нечто вроде ордена. На самом деле это был портрет Биконсфильда в овальной золотой рамке. Раз как-то в дамском обществе зашла речь о красивых мужчинах. Дамы перечисляли мужчин, достойных, по их мнению, названия красавцев. Леди Биконсфильд молчала некоторое время, но потом воскликнула:
— О, если бы только вы видели моего Диззи в ванне!
Гладстон
Жена Гладстона — поистине одна из замечательнейших женщин XIX столетия. Почти в течение целого полувека она не только вела хозяйство своего великого мужа[115], но была его верной подругой и спутницей, вся задача жизни которой заключалась в том, чтобы поддерживать бодрое настроение мужа и охранять его диету. Так, она всегда заботилась о том, чтобы муж ее медленно ел, и Гладстон имел полное право сказать, что ему приходилось тридцать два раза пережевывать каждый кусок, который он отправлял в свой красноречивый рот, чтобы лучше переварить его.
В бытность свою девушкой леди Гладстон была известна под именем «хорошенькой Глинн». Однажды за обедом она сидела около одного министра. Последний обратил ее внимание на молодого Гладстона, бывшего в то время депутатом.
— Видите, — сказал он, — этого молодого человека против вас? Он со временем будет премьером.
Молодая девушка начала с любопытством рассматривать красивое выразительное лицо депутата, но познакомилась с Гладстоном только зимою в Италии. В 1839 году они отпраздновали свадьбу, а на торжестве по случаю золотой свадьбы великий государственный деятель заявил, что ему недостает слов, чтобы выразить свою благодарность жене. Счастье лэди Гладстон омрачалось только тем, что она не часто могла быть вместе с мужем во время его пребывания на посту первого министра. Ей доставляло большое удовольствие, когда лондонские друзья приглашали ее на обеды во время «season», так как тут же можно было просить, чтобы ее усадили рядом с мужем.
— Иначе, — прибавляла она, — мне не удается с ним побеседовать, так как дела удерживают его в Лондоне. Я его не вижу по целым неделям!
Лорд Лейчестер и Елизавета Английская
Отношения между английской королевой Елизаветой и лордом Лейчестером представляют один из замечательнейших романов, какие когда-либо знала всемирная история.
Красавица Анна Болейн, мать Елизаветы, была казнена в 1536 году, так как мужу ее, Генриху VIII, хотелось возвести на престол Иоанну Сеймур. Иоанна умерла в родах. У короля после того были еще три жены, которые, однако, детей ему не принесли, вследствие чего он восстановил наследственное право своих обеих дочерей от первого и второго браков. У них это право было отнято, когда у короля родился сын; но так как сын этот отличался большой болезненностью, то право дочерей было восстановлено. Смерть короля, однако, сделала так, что воля его не была исполнена.
Как только умер Генрих VIII, начались интриги из-за престолонаследования. Граф Варвик, герцог Нортумберлендский, склонил молодого Эдуарда VI сделать своей наследницей далекую родственницу, внучку герцогини Суффолкской, Иоанну Грей. Королевские дети, из которых ни одному еще не было шестнадцати лет, питали друг к другу нежные чувства. Они, вероятно, вступили бы в брак, но у герцога Нортумберлендского были другие намерения. Желая удовлетворить собственное честолюбие, он тайно обвенчал Иоанну Грей с своим сыном, лордом Гильфордом Дэдлеем. Затем он отравил сына и скрывал его смерть в течение нескольких дней, чтобы погребение его могло состояться одновременно с коронованием Иоанны. Последняя против воли была сделана королевою, к тому же в такую минуту, когда она оплакивала безвременно умершего мужа. Судьба Иоанны известна: молодая королева не просидела на престоле и двух недель. Ей отрубили голову, прежде чем она могла даже освоиться с новым положением. Старшая дочь Генриха VIII, Мария, прозванная «кровавой», нарушила завещание своего сводного брата и, сославшись на предоставленное ей отцом право, заставила себя в 1553 году провозгласить королевою. Она тотчас же приказала арестовать Иоанну, а когда нисколько смелых заговорщиков попытались удалить ее с престола, приказала казнить несчастную женщину с ей молодым мужем, и при том тайно опасаясь, как бы красота, молодость и невинность молодой четы не вызвали слишком много сострадания. Одновременно с этим Мария приказала заключить свою сестру Елизавету в Тауэр, так как возникло подозрение, что она была солидарна с заговорщиками.
В то время Елизавете было всего 20 лет. Белокурые волосы, блестящие голубые глаза, орлиный нос и свежие розовые щеки — такова была в то время будущая королева. По тому, как она держалась, было ясно видно, что она надеялась занять со временем престол. Тюрьма для нее была тем более мучительна, что сердце ее пылало страстью. Она любила Роберта Дэдлея, лорда Лейчестера — двадцатидвухлетнего красавца, изящного, галантного, любившего нарядно одеваться и как бы созданного для того, чтобы владеть сердцем королевы. Над ним висел Дамоклов меч — он мог также потерять голову, так как был одной из жертв неукротимого гнева Марии; но красота его спасла. Когда его представили Марии, чтобы она произнесла над ним приговор, грозная королева остановилась перед ним в восхищении и помиловала его. Лорд Лейчестер невольно расплакался.
Неизвестно, успел ли молодой лорд завоевать сердце красивой арестантки еще в тюрьме. Вышел он из заключения 5 годами раньше Елизаветы, по ходатайству Филиппа II Испанского, женатого на сводной сестре будущей королевы, Марии, которая исполняла все его желания: жестоко преследовала протестантов, ввела инквизицию в Англии и подписала более 500 смертных приговоров в течение своего кратковременного «кровавого» правления. Марии, однако, не удалось приковать к себе своего мужа-испанца. Он покинул ее и вернулся на родину.
Когда Мария, впав в уныние, умерла (17 ноября 1558 года), Елизавета сделалась королевою и неограниченной властительницей Великобритании. Тотчас же вокруг нее столпилась целая стая воздыхателей. В числе последних был, между прочим, и Филипп II Испанский, ухаживавший за нею еще раньше. Елизавета ненавидела его, как фанатического католика, но не дала ему заметить это и с большим искусством держала его в неизвестности насчет своих чувств, а когда взошла на престол, категорически заявила, что хочет остаться королевой-девственницей. Лорда Лейчестера неприятно поразило это заявление. Ему хотелось продолжать ухаживание за женщиной, к которой он почувствовал сильное влечение еще в тюрьме. Впрочем, Елизавета его скоро успокоила. Она сделала красавца-лорда, бывшего всего только на два года старше ее, своим первым министром и осыпала его знаками милости. В конце концов лорд Лейчестер стал думать, что ему удастся вступить в брак с королевой. Чтобы очаровать ее окончательно, он пригласил ее в свой замок, где устроил целый ряд неслыханных по роскоши празднеств, превосходно описанных в романе Вальтер Скотта «Кенилворт». Вот портреты Лейчестера и Елизаветы в том виде, как они вышли из-под пера английского романиста: «Конная процесия прибыла по широкой аллее дворцового парка. Двести восковых факелов, несомых таким же числом наездников, бросали яркий свет на главную группу процессии, в которой королева Елизавета составляла центральный пункт; она сидела на белом, как молоко, коне, украшенном красным бархатным ковром с золотою бахромою. С грациозной уверенностью и достоинством держала она поводья; цветущее, с благородными чертами лицо было обрамлено вьющеюся волною белокурых волос; голубой шелк с серебряными узорами облекал ее стройную фигуру, удивительным образом сопоставляя ее юношескую прелесть с величием ее осанки. Рядом с королевой ехал лорд Лейчестер на черном, как ночь, коне, члены которого, красиво оформленные, были обрызганы пятнами пены, так как твердая рука его всадника сдерживала слишком огненные движения, чтобы не оскорблять королевы и ее благородного спокойного животного. Граф Лейчестер великолепно выглядел на гордом хребте своего темного коня, магически освещенный красным сиянием факелов. Шляпу с вьющимися белыми перьями держал он в руке; непокрытые кудрявые волосы порхали по высокому лбу; в больших светлых глазах сиял восторг по поводу того, что скоро исполнится его пламеннейшее желание».
Вообще лорд Лейчестер много обращал внимания на свою наружность. Так, на банкете в Кенильворте он однажды появился весь в белом. «Его башмаки были из белого бархата, его подвязки — из белого шелка, его белые бархатные панталоны имели серебряные прорезы на бедрах, его тесно прилаженный жилет был из серебряной ткани с жемчугом; пояс и даже ножны также были из белого бархата. Меч и кинжал имели золотые рукоятки. Все это обнимал широкий белый плащ из блестящего атласа с крупными золотыми узорами. Цепь ордена Подвязки и голубая лента вокруг колена завершали костюм, который удивительно шел к стройной фигуре и смуглому лицу лорда Лейчестера, вследствие чего все присутствовавшие должны были признаться, что никогда не видели более красивого мужчины. Королева, по-видимому, была того же мнения, так как в ту минуту, когда он стал перед нею на колени, чтобы поблагодарить ее за милостивое посещение, она ласково провела своей красивой белой рукой по его душистым локонам и стала смотреть на него глазами, исполненными удивления»…
Так описывает влюбленных Вальтер Скотт, рабски следуя одной современной хронике.
Почему Елизавета не вступила в брак с лордом Лейчестером? Говорят, что причина — злые слухи, приписывавшие благородному лорду преступление. Дело в том, что во время кенильвортских празднеств лорд Лейчестер был женат на некой Эми Робсарт. Эту-то женщину, как утверждали, он отравил. Елизавета верила, по-видимому, в его преступление и поэтому отказала ему в надежде на ее руку, которую обещала отдать ему раньше. Однако, она по-прежнему продолжала относиться к нему милостиво, пока не наступило событие, сразу положившее конец добрым отношениям между нею и ее близким другом.
Произошло это следующим образом: однажды Елизавета застала лорда в ту минуту, когда он осыпал ласками одного хорошенького мальчика, и спросила, не его ли это сын. Лорд Лейчестер ответил отрицательно, тем не менее королева приказала следить за лордом и вскоре узнала, что Лейчестер уже год женат тайно на красивой вдове графа Эссекса. Ребенок, о котором идет речь, быль её сыном от первого брака. Так как граф Эссекс умер скоропостижно, то опять пошли слухи, что убийца — лорд Лейчестер. Последнему удалось убедить королеву в своей невиновности, вследствие чего положение его снова упрочилось, но не надолго. Однажды собралась в одном месте толпа, желая видеть королеву, которая должна была пройти вместе со свитою. В толпе обращал на себя внимание молодой человеке, отличавшийся необыкновенной красотой и великолепным костюмом. Главной частью последнего был плащ из ярко-алого бархата. На нем красовалась того же цвета шапочка, к которой были прикреплены золотая цепь и драгоценная кокарда; в ушах висели большие кольца с настоящим жемчугом. Башмаки с носками, украшенные серебряными пряжками, и кинжал у пояса, а также перчатки с отворотами завершали туалет, производивший особенный эффект, благодаря миловидности и решительному виду его носителя. В давке плащ спал с него наполовину и ему пришлось держать его обеими руками. Когда королева приблизилась к нему, юноша выступил вперед с выражением почтительного любопытства и скромного, но пламенного восторга, которые очень шли к его красивому лицу. При взгляде на него Елизавета остановилась на мгновение, как бы пораженная: мужская красота всегда интересовала ее, хотя ей и хотелось быть добродетельной. Вдруг юноша распростер перед нею на землю плащ, в виде ковра. При этом он сильно покраснел и попросил извинения за свою дерзость. Королева также слегка покраснела, но милостиво наклонила голову и грациозно перешла через плащ.
Через несколько минут явился один из кавалеров ее свиты, чтобы узнать имя красавца. Красавцем оказался Вальтер Рэлей. Он быстро добился милости королевы, которая никогда не забыла его рыцарского поступка. Она покровительствовала его отважным предприятиям. Будучи очень богат, Рэлей снарядил на собственный счет экспедицию, чтобы основать в Америке собственную колонию, которую он и назвал в честь королевы-девственницы Виргинией. Когда он вернулся назад, Елизавета стала относиться к нему с еще большим доверием и вверять ему лучшие посты. Когда так называемая «непобедимая армада» Филиппа II начала грозить Англии, Рэлей снарядил опять за свой счет несколько военных судов, чем оказал существенную услугу английскому флоту и содействовал в 1588 году гибели армады.
Поэтому нет ничего удивительного, что лорд Лейчестер возненавидел графа Рэлея. С той минуты, как последний сделался приближенным королевы, все мысли его устремились на то, как бы свергнуть соперника-графа. После долгих неудачных попыток добиться цели он решил прибегнуть к… сводничеству! Он именно сблизил королеву с самым красивым из юношей Англии — графом Робертом Эссексом, своим пасынком. Молодому графу не было еще в то время и двадцати лет, но он обладал уже пламенным честолюбием. В бытность свою еще ребенком он обратил на себя как-то внимание королевы и уже тогда начал втайне питать мысль сделаться ее любовником и вследствие этого властителем государства. Лорд Лейчестер всячески покровительствовал сближению молодого красавца с неравнодушной к красивым мужчинам королевой и имел уже удовольствие видеть, как работа его увенчивается успехом, как вдруг, почти накануне своего торжества, умер. Он скончался 4 сентября 1688 года, когда молодой граф Эссекс уже занимал официальное положение королевского фаворита, вытеснив Рэлея.
Робеспьер
Давно уже известно, что величайшие преступники пользуются большим успехом у женщин, если только они «интересны». Фра-Дьяволо, Иосиф Собри, Ринальдо Ринальдини пользовались горячей любовью красивых женщин. Дон Жуан и Цезарь Борджиа погубили более тысячи женских сердец. Максимилиан Робеспьер, казненный более ста лет назад (10 термидора, т. е. 16 июля 1794 года), любимец парижских «безштанников» (санколотов), является также доказательством того, как часто женщины увлекаются «интересными» преступниками. Он, человек ужаса и крови, которому доставляло большое удовольствие отправлять на гильотину сограждан обоего пола, был идолом французских женщин! Они не только восхищались его «величием», не только удивлялись его «гению», его непоколебимой честности, неподкупности и т. д., но и питали к нему чувства страстной любви. И это несмотря на то, что бывший аррасский адвокат нисколько не отличался красотою. По крайней мере, у него не было той грации в выражении лица, которою обращал на себя внимание его близкий друг, превратившийся впоследствии в его злейшего врага, Дантон, этот геркулес французской революции, обладавший бычачьим затылком, широкой грудью и громовым голосом.
Невысокого роста, с узким лицом, на котором заметен был слабый болезненный румянец и которое к тому же было изборождено оспою, с зелеными жилами, просвечивавшими через кожу его щек и рук, с острым носом, большим ртом и быстрыми беспокойными глазами, Робеспьер был скорее отвратителен, чем красив, и отвратительность эта нисколько не окупалась любезным обращением, которым он отличался в частной жизни. Смеяться он не мог. Смех его напоминал хихиканье, носившее иногда слишком дружеский, иногда отталкивающий характер. Вечно суетливый и нервный, постоянно кусая ногти пальцев и беспрерывно подергивая руками, плечами и шеею, он с первого же взгляда производил крайне неприятное впечатление. Несмотря на это, Робеспьер все же был кумиром у женщин.
Как свидетельствуют в один голос все современники французского диктатора, Робеспьер отличался большой умеренностью в еде и питье, а также был чужд эротических наклонностей, в противоположность Мирабо и Дантону. Не он обожал женщин, а, наоборот, женщины обожали его. Искренно любил Робеспьер только одну женщину и только ей оставался верен — Элеонору Дюплей, одну из дочерей его домохозяина, столяра Дюплея. Шутники называли ее Корнелией, насмешники — «мадемуазель Стружка». Когда будущий глава революции поселился в их доме, m-lle Дюплей было 25 лет. Судя по сохранившимся до настоящего времени портретам ее, это была высокая, стройная девушка с нисколько резкими чертами лица. Хотя Робеспьер обратил благосклонное внимание только на нее, тем не менее остальные дочери Дюплея наперерыв ухаживали за ним, стараясь хоть сколько-нибудь ему понравиться. Особенно сильную нежность к нему стала проявлять также его вероятная теща-г-жа Дюплей. Она оберегала его, как зеницу ока, ухаживала за ним во время его болезни, не позволяла никому другому давать ему лекарства пли приготовлять постель. Удивительно, как мог этот зверь в человеческом образе, для которого пролитие человеческой крови было инстинктивной потребностью, вести столь мирную, идиллическую жизнь в этой семье! Даже находясь на вершине своего величия, неограниченно управляя судьбами своего отечества, он находил возможным уделять некоторые вечера для прогулки с г-жею Дюплей и ее дочерьми по Елисейским Полям или в «Jardin Marbuf», сопровождаемый большим датским догом Груэтом. В течение трех лет, проведенных им в этой семье, он только шесть раз обедал вне дома. Каждый раз по окончании обеда Робеспьер вместе с членами семьи Дюплей отправлялся в комнату хозяина дона, где дамы принимались обыкновенно за какую-нибудь работу, а Робеспьер читал им что-либо из Вольтера, Руссо, Расина или Корнеля. По четвергам у г-жи Дюплей собирались гости и на этих вечерах диктатор почти никогда не отсутствовал. Вечера эти носили музыкальный характер. Робеспьер, отличавшийся безграничным тщеславием, декламировал иногда на них с большим пафосом стихотворения излюбленных поэтов. Горе несчастному, дерзавшему не аплодировать фанатическому комедианту! Одно движение бровью — и мастер Самсон, так называемый «monsieur de Paris», или попросту палач, принимался за свою страшную работу.
Впрочем, Робеспьер был предметом пламенных мечтаний не только для женщин низшего сословия, но и для представительниц высшего света. Еще в Аррасе, когда он выиграл какое-то дело в пользу одной женщины, последняя тут же на суде громко заявила: «Он — настоящий ангел, поэтому ему суждено, чтобы его обманывали дурные люди и чтобы он в конце концов сделался их жертвою». Что он не оставался бесчувственным в начале политической деятельности к курениям, которыми кадили ему женщины, видно из следующего мадригала, составленного им еще в родном городе Аррасе:
«Верь мне, о, юная, прекрасная Офелия, оставайся довольною тем, что ты прекрасна, не имея об этом никакого понятия. Сохрани в себе всегда свою скромность. Постоянно заботься о власти твоих прелестей; ты будешь еще более любима, если будешь опасаться, что тебя не будут любить».
Робеспьеру поклонялись даже образованнейшие и высокопоставленные женщины. Однако, страстное поклонение одной женщины скорее повредило ему, чем принесло пользу, и было одной из причин его гибели. Весною 1794 года распространился по Парижу с быстротою молнии слух, что Робеспьер находится в близких сношениях с одной гадалкой. Имя гадалки было Тео, но враги диктатора изменили его в «Теос» (греческое слово, означающее Бог), чтобы иметь возможность называть ее «матерью Бога». Эта сумасшедшая мечтательница питала сильную любовь к диктатору, который, по ее предсказанию, должен был изменить социальный и политически строй всего мира и иметь великую будущность. Отличаясь, как уже сказано, безграничным тщеславием и будучи в то же время крайне суеверным, Робеспьер был очень рад предсказаниям гадалки. Придавая большое значение ее словам относительно роли, которая ожидает его впоследствии, он часто заставлял ее гадать о будущих событиях. Обошелся он с нею следующим образом. Одной из самых ревностных поклонниц Екатерины Тео была некая женщина, отличавшаяся редкою красотою. У нее была дочь столь же приятной наружности, как и она сама, но не отличавшаяся особенно строгим нравом. В ее салоне собирались большей частью знаменитые парижские жуиры. Этой-то красавице и хотелось сблизиться с Робеспьером. Чтобы залучить его как-нибудь к себе, она пустила в ход все пружины женской политики. Очарованный ее красотою и грацией, диктатор навестил ее в ее салоне и через ее посредство познакомился с гадалкой. Когда плутовка Тео запуталась в какой-то темной истории и была арестована, у нее оказалось письмо, в котором она называла Робеспьера словами «мой милый сын». Этого было достаточно, чтобы против Робеспьера поднялась страшная буря.
В случае с Тео обнаружился трусливый характер Робеспьера. Чтобы устранить от себя всякое подозрение в покровительстве этой подозрительной женщине, он даже пальцем не двинул для спасения несчастной. Ту же самую трусость обнаружил он и по отношению к семье, благодаря которой сошелся с гадалкою. Вскоре после ареста Тео были также арестованы красавица-мать и дочь, хозяйки веселого салона. На них-то и выместили свою злобу враги Робеспьера. Когда Фукье-Тенвиль, знаменитый прокурор республики, увидел, что красивая женщина и ее цветущая дочь бесстрашно сели в арестантскую телегу, он цинически крикнул:
— Смотрите, что за дерзость! Когда они будут подниматься на эшафот, мне будет очень интересно посмотреть, сохранят ли он тогда такое же спокойствие духа, как теперь. Я непременно пойду посмотреть, хотя бы для этого мне пришлось опоздать к обеду.
Так называемые «революционные женщины» были также без ума от Робеспьера. К их числу принадлежали те выродившиеся, сумасбродные женщины, который, отвыкнув от домашней жизни, постоянно толкались в клубах и национальном Конвенте, основывали собственные женские клубы, в которых проповедовались революционныя идеи, и т. п. Обнаруживая крайнюю душевную грубость и дьявольские страсти, они избрали своими девизами слова: «братство обоих полов» и «братство республиканских женщин». На диктатора они просто молились, так как он своими лукаво-слащавыми речами о любви, браке, материнских чувствах, воспитании давал им возможность прикрывать безнравственность своего поведения. Женщины эти до того огрубели и прониклись животными страстями, что во время сентябрьских убийств открыто пили вместе с убийцами кровь еще трепещущих жертв. Во время террора они получали плату за то, что издавались над осужденными на смертную казнь или сидели вокруг гильотины с вязанием в руках, вследствие чего их и прозвали «вязальщицами Робеспьера».
Несмотря, однако, на это общее поклонение женщин человеку, навеявшему ужас на всю Францию, нашлось несколько благородных представительниц прекрасного пола, которые имели мужество протестовать против кровавого режима тирана. 13 декабря 1793 года они явились в Конвент и стали просить, чтобы их мужей освободили из заключения. Однако, у бездушного палача нашлись только красивые слова и напыщенный фразы для несчастных.
— Женщины! — воскликнул Робеспьер, обращаясь к пришедшим с мольбою женщинам. — Слово это пробуждает в душе чувство любви и представление о высшем идеале. Жены! Слово это вызывает в сердце приятные ощущения любви к человечеству. Но разве жены не являются в то же время и республиканками? Разве эта принадлежность к республиканкам не кладет на них известных обязанностей? Разве республиканки должны отказаться от названия гражданок, чтобы иметь возможность быть женами? Добродетельные республиканские супруги идут по совершенно другой дороге: они твердо следуют за теми, которым вверена охрана народных интересов.
Тем из несчастных женщин, которые следовали совету бездушного палача, приходилось жестоко расплачиваться за свою неосторожность. В виде примера можно указать на г-жу Дюплесси, мать Демулена, обратившуюся к Робеспьеру с просьбою помиловать ее дочь. Вместо всякого ответа тиран приказал отрубить ей ее великолепную голову…
Любопытно, что у Робеспьера была своя Шарлотта Кордэ, по имени Цецилия, обвиненная им в мнимом покушении на его жизнь, чтобы получить возможность казнить еще несколько сотен невинных граждан. Наивный подросток, дочь одного парижского гражданина, Цецилия пробралась 23 мая 1793 года в дом Робеспьера с намерением «хоть раз посмотреть, как выглядит тиран». Так как у неосторожной девочки оказались в корзине два небольших ножа, то Робеспьеру было нетрудно ударить себя одним из них в грудь, а затем выставить себя мучеником свободы. Этот совершенно ничтожный случай диктатор раздул до крайних размеров, превратив простое детское любопытство в дело огромного государственного значения. В речи, которую он произнес вскоре после этого инцидента, Робеспьер воскликнул с пафосом:
— Клянемся кинжалами, которые обагрились кровью мучеников революции, а затем были направлены против нас, что мы искореним всех преступников, не оставив в живых ни одного из них!
Несчастная «преступница», конечно, должна была сложить голову на эшафоте и увлечь еще туда за собою также и своих родителей. В числе осужденных на смерть, которых везли на казнь в одной телеге с Цецилией, был также некий Ламираль, присужденный к смерти за покушение на жизнь Колло д’Эрбуа. Во время следования колесницы к лобному месту он обратился к бедной девочке, все время усердно читавшей молитвы, со следующими словами:
— Ты хотела видеть тиранов? Посмотри вокруг себя (при этом он указал ей на множество санкюлотов, окружавших колесницу). Здесь перед тобою их множество!
Недолго, однако, продолжалось поклонение женщин Робеспьеру. Любовь их угасла тотчас, как угасла звезда диктатора. Те же самый нечеловеческие существа, которые все время превозносили тирана, повернулись к нему спинами или стали кидать в него грязью, когда наступил час его падения. Когда великий преступник, столько времени державший в своих окровавленных руках судьбу Франции, совершал свой последний путь — к эшафоту — с бледным лицом и раздробленным подбородком, за его колесницею шла отвратительная банда революционных женщин, протягивая к нему угрожающие кулаки и оглашая воздух страшными проклятиями. У дома Дюплей, мимо которого ему пришлось проехать, женщины остановили колесницу и стали кружиться вокруг нее в бешеном вихре, между тем как какой-то ребенок из толпы обрызгивал стены дома Дюплея кровью из находившегося в его руках сосуда. Заметив это, Робеспьер с ужасом закрыл глаза…
Мирабо
Мирабо жил страстями. Он не мог любить спокойно. История его любовных похождений есть в то же время история его душевных тревог. Наибольшей известностью пользуется его любовь к Софии Монье, которую он прославил в своих знаменитых письмах. В то время, когда он встретился с этой женщиной, жизнь его уже была богата всевозможными приключениями и бурями. Он несколько уже раз сидел в тюрьме, был выслан с помощью lettres de cachet, которыми воспользовался против него его собственный отец и за которые он впоследствии отомстил, вызвав в стране революцию. Он был даже уже женат, имел долги, любовные связи, писал опасные книги и вел упорную, беспрерывную борьбу с отцом, от деспотизма которого хотел освободиться.
Самая встреча между Мирабо и Софией произошла при исключительных условиях. Была пора, когда Людовик XVI только что вступил на престол. Вся страна шумно и радостно праздновала событие. которое должно было окончиться столь трагически. Мирабо сидел тогда в тюрьме недалеко от маленького города Понталье. Чтобы чем-нибудь ознаменовать отрадное событие и для заключенного, начальник тюрьмы решил предоставить ему некоторую свободу и даже взял его с собою в дом маркиза Монье, бывшего президента счетной палаты в Доле, капризного, старого, противного мужа молодой очаровательной женщины Марии-Терезы Ришар де-Рюффей. Таково было настоящее имя Софии. Она вышла за маркиза против воли и уже несколько лет томилась в оковах ненавистного и несчастного брака, оставшегося к тому же бездетным Увидев Мирабо, она тотчас влюбилась в него. Великий трибун был очень некрасив. На его огромном теле покоилась безобразно большая голова, казавшаяся еще более безобразной под густой шевелюрой. Выпученные глаза с толстыми бровями, большой искривленный нос и кожа, изборожденная оспою, завершали его безобразие; но тем не менее он все же был увлекателен. Женщины узнавали в его глазах великий гений, а в словах и движениях — поэтическую душу и сильные страсти. Мирабо, может быть, сделался бы величайшим поэтом Франции, если бы его не поглотила революция. Впрочем, и сама революция была поэтической, хотя ж с мрачным оттенком страницей французской истории.
Но если Мирабо отличался некрасивой наружностью, то София была прелестна. Сам Мирабо писал о ней: «Ее душа вышла из рук природы в одну из счастливейших минут творчества; лицо ее изящно, нежно, сладострастно, дышит откровенностью и очень мило. У нее были капризы, которые столь естественны и быстры, что похожи на молнию и всегда поражают. Ее беседа проникает в сердце, как тихий ручей». Мирабо стал ее вскоре называть Софией, а себя Гавриилом. Первое время он боролся со своим чувством, которое было одинаково преступно для него и для нее. Для этой цели он даже предлагал жене, с которою развелся, сойтись снова с ним, умолял отца освободить его из тюрьмы, лишь бы только ему можно было уйти от Софии. В конце концов, однако, влюбленные все-таки сошлись и бежали в Швейцарию, а оттуда в Голландию, где Мирабо, не имея средств к существованию, поступил на службу к одному кровопийце-книгопродавцу по имени Рей, высосавшему уже раньше соки из Жан-Жака Руссо. Чтобы София, подарившая его к тому времени дочерью, не чувствовала лишений, великому демагогу пришлось даже давать уроки. В конце концов его место нахождения было открыто и он вместе с беглянкою был предан суду. Мирабо был приговорен за увод и обольщение Софии к смертной казни, а сама София — к лишению всех прав в качестве жены или вдовы маркиза Монье, пожизненному содержанию под арестом, штрафу в 10 луидоров и позорному ношению внешних знаков проституток, т. е. одежды из волосяной ткани и подстриженных волос. Мирабо должен был также уплатить штраф и возместить судебные издержки. София хотела отравиться, но Мирабо приказал ей не налагать на себя рук. Ее доставили в монастырь, откуда она и начала писать пламенные письма к Мирабо, заключенному тем временем в Венсенне. Наконец, отец Мирабо смягчился и заявил, что простит сына, если он откажется от Софии. Мирабо условия этого ее принял и, представ перед судом в Понтарлиэ, произнес замечательную речь, которая доставила ему оправдательный приговор и спасла Софию от позорного наказания.
К несчастью для Софии, разлука ее с Мирабо продолжалась слишком долго — целых два года. Она в это время томилась за монастырскими стенами, он — в венсенской тюрьме. Этого времени было достаточно, чтобы вызвать в душе Мирабо охлаждение. К тому же чувствительное сердце его не могло устоять перед чарами жены венсенского губернатора. С другой стороны, и принцесса Ламбаль, сделавшаяся впоследствии жертвою революции, также обратила на него благосклонное внимание. Между прочим, она добилась того, что его начали отпускать из тюрьмы ежедневно в Париж под честное слово до захода солнца. Отношения к Софии начали становиться в тягость знаменитому демагогу. Вскоре он совсем отвернулся от нее и вступил в открытую связь с Генриэттою Нера, которую увел из одного монастыря. Последнее, впрочем, не огорчило Софии, у которой также оказалась любовная связь на стороне. Один из ее поклонников, некий Потера, хотел было даже жениться на ней, но умер от чахотки. София не хотела расстаться с его трупом и отравилась у смертного одра возлюбленного. Она умерла 8 сентября 1789 года.
Марат
Ни одна из знаменитых картин, на которых изображена смерть Марата от руки Шарлотты Кордэ, не передает, по-нашему, с такою силою этого замечательного момента не только в истории французской революции, но и в истории французской женщины, как картина Давида. Па этой картине Шарлотты Корда нет. Есть только часть ее платья и конец руки, нервно и с неслыханной твердостью сдавливающей кинжал, которым был только что заколот бездушный проповедник массовых казней, беспомощно поникший в ванне с зияющей на груди раной. Да, Шарлотта Кордэ действительно неопределенное лицо. Это — символ. Это — протест против всякой тирании, против всякой преступности, против всякого забвения основ человеческого общежития.
Шарлотта Кордэ родилась 27 июля 1769 года в Нормандии. Отец ее носил еще тогда имя д’Армана, которое пришлось потом переменить, когда дворянское достоинство было отменено. Со стороны матери она была в родстве с поэтом Корнелем. Воспитывалась она в одном монастырском институте для бедных девушек и обладала незаурядным образованием, ясным взглядом на вещи, твердостью воли и чувствительным, склонным к романтизму сердцем. Усердное изучение истории пробудило в ней любовь к свободе и ненависть к деспотизму. Она была всею душою республиканка. В эпоху брожения она жила в Кане. Революционные смуты проникли и туда, но население города осталось к ним равнодушно. Дикая анархия, царившая кругом, не была той свободой, к которой стремились бесхитростные жители этого города. Они боролись за торжество братства, но вместо братства появлялись один за другим кровожадные деспоты. Для Марата не было тайною настроения умов в Кане. Когда ему донесли, что в заговоре против республики участвует один офицер, последний был немедленно убит. Шарлотта знала этого человека. Она знала, что офицер поплатился жизнью без всякой причины. К тому же она любила его, и в ее сердце загорелось двойное чувство негодования против убийцы: чувство патриотки и влюбленной женщины.
С этой минуты в представлении благородной девушки смерть Марата начала связываться с понятием об освобождении от всяких бед. Стоит только убить злодея-демагога, и все будет кончено. От мысли о возможности спасения одним взмахом до исполнения — всего один шаг. И вот Шарлотта Кордэ готова. Она сама совершит подвиг. Для этой цели она отправляется к депутату Барбару и просить рекомендательное письмо к депутату Дюперрэ в Париж, у которого ей хочется получить документы для одной подруги по монастырю. Отцу своему она пишет, что едет в Англию, и просить простить ее и забыть. 9 шля 1793 года она выезжает в Париж, сопровождаемая только одним старым слугой. Молча сидит она в почтовом экипаже, ничем не выдавая своего плана. В четверг приезжает она в Париж и останавливается в гостинице «De la Providence» («Провидение»). Она не обнаруживает ни малейшей тревоги. Спокойный сон не покидает ее. На следующее утро она отправляется к Дюперрэ и наводит справку. В Конвенте она не находит Марата, так как он болен и сидит дома. Итак, ей нужно пойти к нему домой. В воскресенье она покупает кинжал и отправляется в улицу Медицинской школы, № 44, где живешь демагог. Она велит доложить о себе, но Марат не принимает. Тогда она пишет ему записку, в которой сообщаешь, что приехала из Кана, очага восстания, и хочет предоставить ему случай оказать великую услугу Франции. Тщетно ждет она ответа до 15 июля и пишет настойчивое письмо. «Гражданин, — восклицаешь она в нем, — я только что приехала из Кана. Ваша любовь к отечеству заставляет меня предполагать, что вы осведомитесь о несчастных событиях в этой провинции. Будьте добры разрешить мне доступ к вам на одну минуту. Я хочу вам открыть необычайно важную тайну». В то время, когда Марат получил это письмо, он собирался выйти из ванны. Он приказываешь ей войти. Шарлотта входит. Она рассказывает ему о свиданиях недовольных людей в Кальвадосе. Марат ее внимательно слушает и торопливо заносишь некоторые имена на бумагу.
— Все эти господа, — злорадно замечаешь он, — появятся вскоре на эшафоте!
В ту же минуту Шарлотта выхватывает кинжал и вонзает его в грудь Марату.
— Как, меня! — восклицает демагог.
Он издаешь крик о помощи и через минуту испускает дух. В ту же минуту вбегает прачка и поднимает страшный крик. Начинается суматоха. Чернь, боготворящая Марата, хочет растерзать Шарлотту, но она энергично отбивается. Когда же появляются жандармы, она покорно отдает себя в их руки. Первое время власти думают, что существуешь заговор. Дюперрэ и Фошэ подвергаются аресту, но вскоре обнаруживается, что никакого заговора нет. Шарлотта пишет отцу письмо, в котором просить о прощении и для успокоения семьи приводит слова Корнеля: «Преступление причиняет позор, но не эшафот!». Барбару сообщает ей о предстоящем суде и говорит, что она «еще в тот же день сойдется с Брутом и другими стариками в Элизиуме». Все кончено.
Но вот и суд. Когда Шарлотта появилась перед революционным трибуналом, в толпе прошел странный шум. Восторг, ненависть, сострадание — всё это слилось и смешалось. Шарлотта спокойна, и спокойствие это так идет ее стройной фигуре, напоминающей ее норманнских предков. Она — воплощение героизма. В ее красивом лице нет и тени страсти. Одно только выражение меланхолической мечтательности сквозит в нем. Ее ответы благородны, серьезны и спокойны. Когда допрашивается ножевщик, у которого она купила кинжал, она прерывает его словами:
— Все эти вещи бесполезны. Марата убила я.
— Кто вас подговорил?
— Никто.
— Какова была ваша цель, когда вы убивали Марата?
— Моя цель была положить конец тревогам Фравции.
— Думаете ли вы, что убили всех Маратов?
— Раз этот казнен, другие, может быть, испугаются.
— Давно ли вы решились?
— После событий 31 мая, когда были изгнаны депутаты народа (Жиронда).
Затем она пояснила, что считала Марата анархистом и преступником, который вовлечет Францию в погибель.
— Я убила одного, чтобы спасти сотни тысяч, убила негодяя, чтобы освободить невиновных, убила кровожадное животное, чтобы доставить своему отечеству спокойствие.
Она с негодованием защищается против обвинения, что она простая убийца, и говорит, что намеревалась первое время умертвить Марата в Конвенте или на улице. Все слушают ее с удивлением. Шаво-Лагард, назначенный ей защитником, восклицает:
— Вы сами слышите обвиняемую! Она сознается в преступлении, она говорит, что хладнокровно обдумала его, она не скрывает ни одного обстоятельства, она сама не хочет никакого оправдания! Это непоколебимое спокойствие, это безусловное самоотречение, эти свидетели полного спокойствия совести — они не в природе вещей. Такие явления можно объяснить только политическими бреднями, положившими ей в руку кинжал. Вам, граждане-присяжные, остается теперь судить, какое значение имеет этот моральный взгляд для весов правосудия!
Но слова адвоката напрасны. Шарлотта приговаривается к смерти.
— Мне бы хотелось дать вам доказательство уважения, которое вы внушили мне, — говорит она своему защитнику после приговора, — но господа эти мне сообщают, что мое состояние погибло. Мне остается еще уплатить в тюрьме некоторые долги и эту обязанность предоставляю вам.
Вечером того же дня Шарлотта была казнена. Она спокойно смотрела на толпу. Правда, она слышала немало проклятий, но и слез сострадания она также видела немало. Какой-то юноша просил, чтобы его казнили вместо нее; депутат Адам Люкс не мог удержаться от крика: «Смотрите, она выше Брута!». Но все это не помогло: красивая голова Шарлотты Кордэ скатилась под ножом гильотины…
Лассаль
Жизнь Лассаля, как и жизнь Гейне, представляет сплошной ряд противоречий. Глубокий мыслитель, призванный проводить за письменным столом в глубине кабинета долгие годы, он вышел на арену боевой деятельности, самую науку и философию превращая в орудие борьбы; серьезный и вдумчивый, для которого, казалось, не могло существовать никаких интересов вне политики и общественных вопросов, он в отношениях к женщинам является самым заурядным воздыхателем, готовым принести своему чувству в жертву все: и науку, и политические идеалы, и самого себя. Он сам о себе говаривал не в шутку: «Двух вещей я не мог терпеть: евреев и журналистов, и судьба заставила меня быть и тем, и другим».
Лассаль был единственным сыном богатого отца, который дал ему образцовое воспитание. Его превосходные манеры, обширные познания, редкий ораторский талант, поэтические способности (Лассаль написал немало красивых стихотворений, и даже несколько трагедий) сделали его в Берлине предметом всеобщего внимания. К тому же он обладал редкой красотой, был высокого роста. Дамы обожали его. В салоне г-жи Бонсери он играл самую выдающуюся роль. Эта Бонсери была долгое время одной из достопримечательностей Берлина. Маленького роста, она, несмотря на то, что ей было более шестидесяти лета, отличалась необыкновенно живым характером, вследствие чего была прозвана «старым воробьем». Она поставила себе целью устраивать любопытные вечера. В ее салоне собирались всевозможные представители общества. Художники, артисты, офицеры, дипломаты и врачи были ее завсегдатаями. За знаменитостями она вела правильную охоту. В виде приманки для них она приглашала к себе красивых женщин. Свои приглашения она рассылала направо и налево, без разбора, вследствие чего народу в ее салоне всегда бывало много.
В этом именно салоне появилась зимою 1882 года двадцатилетняя красавица Елена фон-Деннигес. Она произвела уже фурор во время пребывания своего в Мюнхене, Париже и Риме и была не прочь добиться таких же триумфов в Берлине, куда приехала, чтобы повидаться с бабушкой, некоей Вольф, обладавшей большим состоянием и исполнявшей все ей желания. В салоне г-жи Бонсери она появилась одетой не как молодая девушка, а как фея — в драгоценнейших тканях (она любила главным образом белый атлас и белые перья), и сразу же произвела большое впечатление. Вся ее оригинальная красота покоилась на великолепном море рыжих волос. Елена умела всегда поворачивать голову так, чтобы ее резко очерченный профиль казался античной камеей на сверкающем фоне. Ослепительно белый цвет кожи еще более усиливал впечатление. Среднего роста, стройная, подвижная, она никогда не теряла сознания своего достоинства. Она всегда была в возбужденном состоянии и жаждала приключений, преимущественно таких, который удовлетворяли женскому самолюбию.
Из числа поклонников новой звезды тотчас же выдвинулись двое: барон Корф, зять Мейербера, и Карл Ольденберг, наполовину вивёр[116], нравившийся берлинцам своими остроумными словечками и парижскими манерами. Оба они были в дружеских сношениях с Лассалем и взяли на себя удивительную миссию сблизить его с Еленой Деннигес. Средство у них было простое: они очень много рассказывали Лассалю про новую красавицу, а ей — про Лассаля. Следствием этого было то, что Елена и Лассаль заинтересовались друг другом и при первой же встрече тотчас загорались одним и тем же чувством. «Le coup de foudre»[117], — так охарактеризовала впоследствии это чувство сама Елена. Лассаль до того был очарован при виде молодой девушки, что тут же стал рассыпаться в пламенных изъявлениях восторга, а когда она уходила, взял ее под руку и вне себя от волнения вместе с нею побежал вниз по лестнице. «Божественная грубость» Лассаля, которою Гейне так восторгался, не оскорбила Елены; наоборот, она произвела на нее сильное впечатление.
Началась бурная пора. Молодые люди уверяли друг друга в любви. Однако, решительного шага Елена избегала. Она даже запретила возлюбленному просить ее руки у отца, зная заранее, что отец не согласится, так как Лассаль прослыл революционером. Кроме того, Деннигес слишком гордился полученным недавно дворянским достоинством и дипломатическим постом, чтобы не восстать против брака его дочери с демагогом и евреем. Он сам происходил из буржуазной семьи, жившей во Франкфурте на Одере, был красивым, статным, умным мужчиной, сумевшим расположить к себе баварского короля Максимиллиана II и пройти блестящую чиновничью карьеру, а за тем и сделаться дворянином. По словам его собственной дочери, он занимался воспитанием детей очень поверхностно, предоставив это дело исключительно боннам и матери, веселой, красивой и беззаботной женщине, но бывал иногда домашним тираном, когда это было нужно. Узнав, что за его дочерью ухаживает Лассаль, он вызвал ее в себе. Елена жила после этого в доме отца, чувствуя себя превосходно. Вскоре она наполовину помолвилась с одним молодым валахом княжеского происхождения, Янко фон-Раковица, которого она всегда называла «негритянским принцем». Янко влюбился в нее еще в Берлине, а когда Елена уехала в Швейцарию, последовал за нею и туда. Отец Елены покровительствовали его ухаживаниям, но она сама не давала своему поклоннику решительная обещания. Янко был невысокого роста, некрасив, тщедушен. Только глаза у него были прекрасны. Своими глазами и верной любовью он пробудили в сердце молодой девушки некоторое чувство, которое, однако, далеко еще не могло называться любовью.
Елена все еще любила Лассаля. Узнав, что он в Риги-Кальтбаде, она поехала туда вместе с одной подругой и неожиданно предстала перед глазами своего покинутого друга. Это был решительный момент в жизни Лассаля и Елены. Оба почувствовали, что безусловно нужны друг другу. Лассаль потребовал решительного ответа и получил его, как видно из следующего письма Елены:
«Друг сатана! Когда я вас покинула у подошвы Риги и ваши уста в последний раз коснулись моей руки, я сказала себе, что должна принять решение на всю жизнь. Ну-с, а вам с вашим прекрасным, великолепным умом и вашим превосходным, но для меня милым тщеславием известно, каково мое решение: я хочу быть вашей женой и буду ею! Я ставлю только нисколько условий. Я хочу — подумайте только, я, дитя; хочу! — чтобы мы попытались сделать все, что в наших силах (а вы, мой прекрасный сатанический друг, в силах сделать так много!), чтобы приличным образом достигнуть нашей цели, именно: вы приедете к нам, мы попытаемся расположить родителей столько же в вашу пользу, сколько и в мою, и таким путем получить их согласие. Если нет, если они останутся неумолимы, tant pis[118], то нам все еще можно бежать в Египет. Это одно условие, а вот другое: я хочу, чтобы тогда дело было сделано возможно скорее, так как не выдержу долгих тревожных дней и мучительно неопределенной обстановки и серьезно заболею. Для этой поспешности у меня есть еще одно основание: я не хочу, чтобы все говорили о нас и высказывали мнение о деле, которое их не касается, подвергая меня целому ряду сцен, который легко предупредить. Как только дело будет окончено к нашему удовольствию, пусть они тогда раскрывают свои глаза и рты, сколько им угодно; ведь тогда, Фердинанд, вы будете моей опорой, et je m’en moque du reste[119]. Знаю, что препятствия, которые нам нужно преодолеть, очень велики, даже колоссальны, но зато и цель наша велика. На мою долю выпадает самое тяжелое: я должна хладнокровно умертвить верное сердце, которое проникнуто ко мне истинной любовью; я должна грубо, эгоистично уничтожить красивый юношеский сон, который, осуществившись, сделал бы одного благородного человека счастливым на всю жизнь. Поверьте, это мне страшно тяжело, но я хочу теперь и поэтому хочу также быть дурною ради вас.
Ваша Брунгильда».
С этой минуты брак казался несомненным. В Берне, на вилле подруги Елены, Арсон, была отпразднована помолвка влюбленных. Почти целую неделю провели они там в полном счастье. В эти именно дни Лассаль открыл Елене свои планы насчет будущего. Он имел в виду достигнуть высшей ступени, до которой только может добраться человек, не будучи в состоянии сделаться королем: он надеялся стать со временем президентом «республики Германии», выбранным народом. Он мысленно уже видел экипаж с четверкою, в котором он въедет в Берлин, и диадему, которую он подарит жене в знак победы. Он сообщил также Елене о своих сношениях с Бисмарком, который старался залучить его на свою сторону. Влюбленные распрощались в лунную ночь, обменявшись самыми пламенными выражениями любви и восторга. Елена называла Лассаля «королем» и «богом», отзывалась с восхищением о его царственной красоте, орлиной отваге. Оба верили, что все отныне пойдет благополучно, так как родители должны непременно дать теперь согласие на брак.
Разочарование наступило раньше, чем можно было ожидать. Вот что писала Лассалю Елена из отцовского дома:
«Мое милое сердце, мой красивый, великолепный орел! Часу еще не пробыла я в отцовском доме и уже должна тебе сообщить столько печального! Когда я приехала, мне представили мою маленькую сестру Маргариту, как невесту графа Кайзерлинга. Счастье и довольство моих родственников по этому поводу не поддается описанию. О Фердинанд, мне больно подумать, как иначе подействуете на них мое счастье! Но все равно: в радости или в горе, я — твоя верная жена».
«Воспользовалась радостною минутою и сообщила маме о твоем близком посещении. Бедная маленькая женщина представляла себе моего прекрасного Фердинанда, как обтрепанную курицу. Встретив столь энергичный отпор, я сказала: „Слушай, мама, мне нужно с тобою серьезно поговорить. Я говорю сегодня в первый раз: хочу и исполню свою волю, как верно то, что я стою перед тобою. Мне очень жаль, что должна вас огорчить, так как вижу, что ты вне себя, но иначе поступить не могу. Будьте благоразумны и согласитесь. Когда вы его узнаете и полюбите, все пойдет хорошо и спокойно. Если же нет, то я должна буду прибегнуть к защите закона, чтобы добиться своего права и счастья“. Мать заплавала и вышла из комнаты, я же сделалась действительно твоею Брунгильдою: не дрожала, не плакала, я смотрела на твой портрет и тихо просила тебя: „Приходи, мой возвышенный, мой гордый, царственный орел, дай мне силы своим орлиным взором!“. Так я просила, и моя вера в тебя помогла мне, — благодарю тебя, мой сильный Зигфрид! Некоторое время спустя вошла мама и заявила: „Отец его никогда не примет“. Туте я спросила: „Что он имеет против Лассаля? Его политическое положение не есть ведь достаточное основание“. Она отвечала: „Не политическое, а социальное положение его, а затем история с денежной шкатулкой и его связь с графиней, и многое другое. Ты не можешь этого потребовать от папы, особенно в то самое время, когда другая дочь помолвилась с графом, чтобы он принял в свою семью такого человека“. Я сказала: „Вы не берете его в свою семью, вы даете только согласие на то, чтобы я вышла из этой семьи. Если вы этого требуете, то, как мне ни больно, — Бог свидетель, что сердце у меня разрывается на части, — я обещаю вам никогда не переступать вашего порога!“. Мама ничего не ответила, еще больше расплакалась, а когда успокоилась, обратилась ко мне с маленькой строгой речью, в которой упрекала меня, что я всегда подчинялась влияниям минуты. Она решила все рассказать папе. Папа теперь с нашим родственником д-ром Арндтом у Женевскаго озера. Бог знает, что произойдет, когда он вернется. Во всяком случае, я останусь тверда, как скала».
Это было началом трагедии. Самая страстность, с которою Елена выражала свои чувства в письмах к Лассалю, свидетельствовала, что отделявшая их пропасть слишком глубока. Вот что, например, она писала ему спустя некоторое время: «Уже половина седьмого, и ты, мой господине и бог, уже, наверно, здесь? О, мысль эта придает мне снова силы и крепость, так как мне нужно чувствовать близость и всесилие своего господина и повелителя, чтобы не отступать, чтобы не быть ребенком и по отношению к другим, как по отношению к тебе! Но я чувствую тебя и твою любовь и поэтому не боюсь ничего. Я теперь навсегда твоя жена, твое дитя, твоя вещь, которая тебя обожает. О, если бы только графиня была здесь! Сообщи мне только в маленькой записке, что ты меня любишь, так как я очень люблю тебя, Фердинанд!.. Свершилось, они говорили. Мой отец заявил, что я больше не его дочь. Бог весть, что теперь будет!».
Семейные сцены были ужасны. Жестокий отец таскал Елену по комнате за ее великолепные волосы, мать и сестры на коленях умоляли ее отказаться от безумной любви к Лассалю. Елена была в отчаянии и в одно прекрасное время, воспользовавшись тем, что за нею не следили, бежала из отцовского дома к возлюбленному. Лассаль был поражен, когда, едва прочитав приведенное письмо, увидел на пороге своей комнаты саму Елену. Она пришла, чтобы больше никогда не вернуться к родителям.
— Я несчастнейшее существо на земле! — воскликнула она, вбегая. — Возьми меня, делай со мною, что хочешь, я — твоя вещь.
Однако, вместо того, чтобы сразу достигнуть цели своих долгих исканий, Лассаль медлил. Он не хотел похищать Елену. Она должна была принадлежать ему, как равная равному, без уловок, обманов, без насилия. Лассаль взял ее за руку, но не для того, чтобы отвести к алтарю, а для того, чтобы отправить к матери. Неблагодарные родители не были тронуты этим доказательством благородства и продолжали настаивать на своем протесте. Они совершенно заперли Елену и, заставив ее уехать, вызвали Янко фон-Раковица из Берлина для формальной помолвки. Этот Янко продолжал любить Елену по-прежнему и, конечно, тотчас же простил ей поступок с Лассалем. Елена оборонялась, но не могла устоять против энергии родителей. Какие только доводы ни были пущены в ход! Ей говорили, что брак с Лассалем будет унижением для семьи, одна из дочерей которой вышла за графа; что Лассаль находится в сношениях с графиней Гацфельд, которая никогда его не покинет, и т. д. Все эти доводы нашли благоприятную почву, так как сама Елена чувствовала себя оскорбленной поведением Лассаля, который, по ее мнению, не должен был отводить ее обратно к родителям. В конце концов она написала ему письмо, — конечно, под диктовку отца, как она сама призналась впоследствии, — в котором просила забыть ее.
«Милостивый государь! — было сказано в этом письме. — Помирившись в глубоком раскаянии по поводу совершенных мною поступков со своим женихом, г-ном Янко фон-Раковицем, и снова приобретя его любовь и прощение, а также известив вашего адвоката г-на Гольтгофа в Берлине, заявляю вам добровольно и с полным убеждением, что о союзе между нами никогда не может быть и речи, что я отказываюсь от вас во всех отношениях и твердо решила питать вечную любовь и верность к своему жениху.
Елена фон-Деннигес».Лассаль был поражен, как громом. Он находился в то время в Мюнхене, где искал помощи у друзей Деннигеса, надеясь этим путем склонить сурового отца к согласию. Он написал ей тотчас же письмо следующего содержания:
«Елена! Пишу тебе со смертью в сердце. Ты, ты мне изменяешь! Это невозможно! Не могу еще поверить такой подлости, такому страшному предательству. Твою волю, может быть, временно сломили, тебя рассорили с самой собою, но немыслимо, чтобы это была твоя настоящая твердая воля. Ты не можешь отбросить от себя до такой крайней степени всякий стыд, всякую любовь, всякую верность, всякую правду! Ты опозорила бы себя и обесчестила бы все, что носит человеческий облик. Ложь была бы лучшим чувством, а если ты способна лгать, если ты способна нарушить священную клятву, разрушить преданнейшее сердце, — то под солнцем больше нет ничего, чему человек мог бы еще верить! Ты меня исполнила желания обладать тобою, ты требовала, чтобы сначала были исчерпаны всевозможные средства перед тем, как увести тебя; ты мне устно и письменно приносила священнейшие клятвы и, насильно привлекши к себе это верное сердце, которое, раз отдавшись, отдалось уже навсегда, ты меня через две недели, когда борьба едва началась, ввергаешь с язвительным смехом в бездну, изменяешь мне, губишь меня! Да, тебе бы удалось то, чего никогда не удалось судьбе, ты уничтожила бы, сломила бы крепчайшего человека, который не моргая бровью шел наперекор всем бурям. Такого предательства я бы не перенес! Я был бы убит внутри! Невозможно, чтобы ты оказалась столь бесчестною, столь бесстыдною, столь неверною долгу, столь позорною и недостойною! Ты заслужила бы мою ужаснейшую ненависть и презрение всего света!
Елена, не твое это решение. Внимай, о, внимай моему слову: если ты от него не откажешься, ты будешь оплакивать его всю жизнь!
Елена! Верный своему слову, я нахожусь здесь и делаю все возможное, чтобы сломить упорство твоего отца. У меня уже имеются превосходные средства, которые, несомненно, не останутся без результата, а если они не приведут к цели, я пущу в ход тысячи других средств. Я хочу превратить в ничто все препятствия, если ты останешься верна, так как ни у моих сил, ни у моей любви к тебе нет границ. Je me charge toujours du reste[120], сражение едва началось, малодушная! И в то время, когда я здесь сижу и достиг уже невозможного, ты мне изменяешь там, уступая любезностям другого мужчины! Елена; моя судьба в твоих руках! Но если ты меня погубишь этим коварным предательством, которого я не преодолею, пусть участь моя постигнет и тебя, и проклятие мое да преследует тебя до могилы! Это — проклятие преданнейшего, тобою коварно сломанного сердца, с которым ты играла позорную игру. Оно верно поразит!».
Доставить это письмо Елене Лассаль поручил своему другу, полковнику Рюстову, чтобы быть уверенным, что оно попало в ее руки. Отец Елены вежливо принял Рюстова и заявил, что никаких насилий по отношению к дочери он не употреблял и что она совершенно добровольно отказалась от Лассаля. Рюстов выразил желание увидеться с Еленою, чтобы услышать из ее уст то же заявление. Елена вышла к нему в ярко-красном платье, которое очень шло к ее волосам, и сухо передала, что она твердо стоит на точке зрения, высказанной ею в письме, и что она ни под каким видом не хочет видеться с Лассалем. Затем она удалилась. Рюстов был возмущен ее поведением и тотчас же написал Лассалю: «Бедняжка, твои акции стоят очень плохо!».
Он еще один раз добился свидания с Еленою, чтобы узнать, чем объясняется происшедшая в ней перемена, но она и на этот раз оказалась воплощением равнодушия и язвительности. Рюстов просил позволить Лассалю с нею повидаться, но Елена презрительно заметила:
— К чему? Я знаю, чего он хочет. Мне уж это надоело.
Перед второю беседою с Еленою Рюстов взял с собою адвоката Гэенле в качестве свидетеля. После беседы они составили формальный протокол, в котором не только привели содержание разговора, но и указали, как вела себя Елена, и послали его Лассалю. Прочитав протокол, Лассаль пришел в ярость и тотчас же послал отцу Елены письмо следующего содержания:
«Узнав от полковника Рюстова и д-ра Гэенле, что ваша дочь Елена — презренная девка и что, следовательно, я уже не могу питать намерения опозорить себя браком с нею, я больше не вижу основания откладывать свое требование удовлетворения за ваши выходки по отношению мне и оскорбления, а потому прошу вас вступить в соответствующие переговоры с моими обоими друзьями, которые доставят вам это заявление».
Одновременно с этим он написал и жениху Елены, Янко фон-Раковицу, письмо, в котором познакомил его с содержанием первого письма. Но отец вызова не принял, предоставив драться с Лассалем своему будущему зятю. Лассаль был сначала вне себя от этого отказа, но в конце концов согласился стреляться со своим «заместителем», как он язвительно называл Янко. Елена знала, что предстоит дуэль, но надеялась, как она уверяла впоследствии, что Лассаль останется победителем и, таким образом, она еще сблизится с ним. Но тщедушный Янко, приняв вызов, стал усердно упражняться в стрельбе. 28 августа 1864 года состоялась дуэль. Лассаль был смертельно ранен в живот и через три дня умер в страшных страданиях.
Трагедия кончилась. Главный герой сошел со сцены. Через пять месяцев Елена фон-Деннигес сделалась женою Янко фон-Раковица, по не принесла ему счаспя: он умер через полгода после женитьбы. Его красавица-вдова жила еще некоторое время в Берлине, где намеревалась поступить на сцену. Учителем ее был известный артист Фридман. Она вышла за него замуж, переехала в Вену, но вскоре после свадьбы развелась с ним. Отец Елены умер в начале девятидесятых годов в Риме от натуральной оспы.
Теперь Елена живет в Америке. Говорят, что она по-прежнему хороша…
Бенджамин Франклин
Бенджамин Франклин начал свою блестящую карьеру тем, что он с одним долларом в кармане приехал в Филадельфию и там стал искать работы. Усталый и голодный, он вошел в одну булочную и купил три сайки. Две из них он взял под мышку, а третью начал уплетать за обе щеки по выходе из булочной. Проходя мимо дома некоего Рида, он заметил в дверях девушку, которая при виде столь «курьезного молодого человека» не могла удержаться от смеха. Она не предчувствовала тогда, что станет его женою. Вскоре после того один общий знакомый представил Франклина смешливой девушке, которая на этот раз уже не нашла его заслуживающие осмеяния. Между молодыми людьми началось взаимное расположение, которое, однако, продолжалось недолго, так как Франклин уехал в Лондон, где пробыл нисколько лет и совершенно забыл про свою прежнюю любовь. Молодая девушка долго ждала возлюбленного и, наконец, убедившись, что он о ней и думать перестал, вышла замуж за другого. В супружестве она жила недолго: через несколько лет муж умер. Когда Франклин вернулся в Америку, женщина, бывшая предметом его страсти, уже была вдовою. Он опять сошелся с нею, и так как любовь ее не остыла за продолжительное время разлуки, вскоре сделался ее мужем. Около сорока лет жили они вместе.
Франклин впоследствии писал: «Мы осчастливили друг друга и превратили в настоящую науку заботу о том, как бы доставить друг другу радость. Таким именно путем старался я исправить ошибку моей молодости».
Президент США Стивен Гровер Кливленд
Покойный президент Соединенных Штатов Кливленд пользовался необыкновенным семейным счастьем. Лучшей иллюстрацией тому может служить карикатура, появившаяся в одном американском юмористическом листке, когда Кливленд был вторично выбран в президенты.
На рисунке была изображена жена Кливленда, несущая мужа на плечах в Белый дом. Дальнейшие комментарии излишни.
Лорд Солсбери
И нынешний английский премьер пережил любопытный романъ он именно влюбился в дочь знаменито судьи Олдерсона, племянницу писательницы Опай, произведения которой пользовались в свое время большой популярностью в Англии. Однако, отец не одобрил этой партии и слышать не хотел о женитьбе сына на девушке. Лорд Солсбери не мог примириться с этой мыслью, надеясь со временем все-таки стать мужем любимой девушки, но сделал маленькую уступку: он согласился не встречаться с предметом своего сердца в течете целого года и даже не переписываться с нею. Испытание было им выдержано блестяще и в награду за это строгий отец согласился на его женитьбу. Лэди Солсбери быстро освоилась с своим новым положением и вскоре сделалась помошницей мужа. В подражание ему же она занялась журнальной деятельностью. Говорят, что она — автор лучших статей, когда-либо появлявшихся в «Saturday Review».
Лорд Рэндольф Черчилль
Знаменитый английский политический деятель лорд Рэндольф Черчиль[121] обязан значительной долей своей популярности жене, красивой американке, красота и фигура которой повсюду производили большое впечатление. Дженни Джером, так звали жену Черчиля в то время, когда она была девушкою, была старшей из трех дочерей одного американского миллионера. С своим будущим мужем она познакомилась за одним обедом в Париже. Хотя молодой еще в то время государственный деятель не много заботился о дамах, остроумная и живая американка обратила на себя его внимание умной беседой на прекрасном французском языке. Отправляясь домой, он сказал одному другу: «Это — умнейшая из девушек, которых я когда-либо видел». Девушке в свою очередь он также понравился и она охотно приняла его предложение. По свидетельству самого Черчиля, жена его была превосходным выборным агентом, так как, благодаря её агитации, он однажды был выбран в парламент.
Глава VIII Полководцы и флотоводцы
Нельсон. — Адмирал Коллинвуд. — Гарибальди. — Граф Мольтке. — Фрэнсис Дрейк. — Лафайет. — Вальтер Рэлей. — Гердог Веллингтон. — Георг Вашингтон. — Джексон. — Лорд Уольслей.
Горацио Нельсон
Знаменитый английский адмирал Нельсон едва не женился, когда командовал судном «Albemarle». Судно собиралось выйти из Квебека и уже стояло на якоре в гавани. Друг Нельсона, Александр Девисон, прогуливаясь по берегу, заметил, к своему удивлению, что Нельсон, который, как он думал, должен был уже находиться в открытом море, высадился только что из лодки. Девисон спросил, в чем дело, и Нельсон, переминаясь с ноги на ногу, ответил, что не покинет Квебека до тех пор, пока не увидится еще раз с женщиною, с которою провел столько счастливых часов и не предложил ей руки и сердца.
— Если ты это сделаешь, — ответил его друг в ужасе, — ты погиб.
— В таком случае я уже погиб, потому что твердо решил исполнить своё намерение.
— А я столь же твердо решил помешать тебе, — возразил Девисон и, не говоря ни слова, повернул друга в противоположную сторону и повел его к судну.
Через час «Albemarle» уже была в открытом море.
Нельсон вскоре забыл свою любовь и, находясь в Сент-Амере, влюбился в дочь одного английского священника, мисс Эндрюс. Страсть эта была не так сильна, как первая, и когда Нельсон уехал из Франции, от его чувства не осталось и следа. После того ему дали судно «Boreas», с которым он и отплыл в Вест-Индию. В Антигуа г-жа Монтрей относилась к нему с тою предупредительностью, без которой Нельсон обойтись не мог.
— Если бы не было Монтрей, — писал он, — я повесился бы в этом адском гнезде.
Когда г-жа Монтрей уехала в Англию, галантный моряк утешился с г-жою Нисбет, молодой вдовой одного врача. Она жила у своего дяди, президента Невиса. Нельсон нанес визит президенту, который после ухода Нельсона сказал:
— А ведь я нашел великого маленького человека, которого все так сильно боятся, под столом! Он играл с ребенком г-жи Нисбет.
Через нисколько дней г-жа Нисбет была сама представлена Нельсону. Она поблагодарила его за любезность, с которою он отнесся к ее сыну. Ее скромный характер очень понравился великому полководцу и он женился на ней 11 марта 1787 года. Вскоре после свадьбы ему пришлось покинуть жену, но он с дороги писал ей нежные письма. Вот одно из них: «Слышала ли ты, что соленая вода и разлука всегда смывают любовь? Я до того маловерен, что не верю в это положение, ибо велю себе каждое утро выливать по шесть кадок соленой воды на голову, и матросская поговорка не только не исполняется, но, наоборот, любовь так возрастает, что ты увидишь меня до условленного времени».
Через одиннадцать лет после свадьбы он писал ей: «Ты можешь быть вполне уверена насчет моей безусловной любви, привязанности и уважения; чем больше знакомлюсь с миром, теми более удивляюсь твоей личности и характеру твоему. Только повелительный зов моей чести, требующий, чтобы я служил моему отечеству, держит меня вдали от тебя; но надеюсь, что если выдержу еще короткое время, то буду не состоянии доставить тебе ту маленькую роскошь, которой ты придаешь такое большое значение. Молю Бога, чтобы мы скоро увидались в мире и чтобы нам можно было поселиться в нашей хижине».
Как и все моряки, Нельсон мечтал о любви и жизни в какой-нибудь хижине.
Переде нападением на Тенерифе Нельсоне старался отклонить своего пасынка от поездки вместе с ним.
— Что станет с твоею матерью, если мы оба погибнем? — сказал он.
Но молодой человеке стоял на своем и требовал, чтобы ему разрешили участвовать в сражении. В этом сражении, как известно, Нельсоне потерял руку. После этого случая он писал жене: «Дорогая Фанни! Я до того уверен в твоей любви, что убежден, что радость твоя будете одинаковая, пишу ли я это письмо правой или левой рукой. У меня все причины быть благодарным военному счастью, и я знаю, что тебе доставит удовольствие слышать, что после Провидения жизнью обязан твоему сыну… Меня не должно удивлять, если я буду скоро забыт и затерян, так как, вероятно, меня больше не будут считать полезным. Что бы ни произошло, я буду чувствовать себя богатым, если и впредь буду наслаждаться твоей любовью».
В другом письме он жалуется. «Вдали от тебя я нечувствителен ко всякому удовольствию. Ты для меня — все. Без тебя для меня в мире не имеет никакого значения, так как в последнее время он мне не доставляет ничего, кроме досады и озлобления. Это мои нынешние чувства. Дай Бог, чтобы они никогда не изменились! Не думаю, чтобы это когда-либо произошло. И насколько человек можете предусмотреть, существует нравственная уверенность, что они никогда не переменятся».
Но напрасна была «нравственная уверенность Нельсона», так как, встретившись в Неаполе с леди Гамильтон, он неожиданно для самого себя почувствовал, что охвачен юношеской страстью. Лорд Гамильтон сам свел его с своей женой:
— Я представлю тебе, — сказали он жене перед визитом Нельсона, — маленького человека, который не можете похвалиться особенною красотою, но который, если не ошибаюсь, поразит в одно прекрасное время весь мире.
Жена Гамильтона была еще очень красива, когда с нею познакомился великий человек, и нет ничего удивительного, что, слабый к женскому полу вообще, он тут же в нее влюбился. Много лет после этого тревожилась его жена слухами об отношениях ее мужа к леди Гамильтон. Сам Нельсон очень часто говорил о ней в своих письмах к жене или во время редких приездов в самой восторженной форме. Катастрофа произошла зимою 1801 года. Лорд Нельсон и жена его сидели однажды за завтраком. Во время беседы Нельсон как-то затронул любимую тему, упомянув, что тогда-то или тогда-то «милая леди Гамильтон» сказала то-то. Жена Нельсона вскочила и с волнением воскликнула:
— Мне, наконец, надоело слышать всегда о «милой» леди Гамильтон. Предлагаю тебе отказаться от неё или от меня!
Нельсон спокойно ответил:
— Успокойся, Фанни! Подумай, что ты говоришь. Я люблю тебя искренно, но не могу забыть, чем обязан леди Гамильтон. Я о ней никогда не буду говорить без любви и восторга.
Леди Нельсон что-то пробормотала о каком-то твердом решении, прежде чем выйти из комнаты, а вскоре после того уехала в своем экипаже. С тех пор Нельсон только раз увидался с женою, причем воскликнул:
— Бог свидетель, что ни в тебе, ни в твоем поведении не нахожу ничего такого, чем бы я мог быть недоволен.
Когда Нельсон лежал с раною в Неаполе, жена не поспешила к нему на помощь, а предоставила уход за ним все той же ненавистной ей леди Гамильтон. Однако, она несомненно любила мужа, о чем свидетельствует следующее обстоятельство. Старшей внучке леди Нельсон было около 10 лет, когда она умерла. Внучка эта, по словам биографов великого моряка, часто видела, как она вынимала из своей рабочей корзины миниатюрный портрет Нельсона и, нежно прижав к губам, клала на прежнее место. Однажды она ей сказала:
— Когда подрастешь, Фанни, то, может быть, узнаешь, что значить страдать надломленным сердцем.
И Нельсон также любил жену, несмотря на разрыв. После сражения под Абукиром один друг спросил его, не считает ли он этот день победы счастливейшим днем в жизни.
— Нет, — ответил адмирал печально, — счастливейшим днем моей жизни был тот, когда я женился на леди Нельсон.
Грустно проводил жизнь великий человек, когда ему приходилось жить вдали от жены на суше. Только с трудом удавалось ему скрывать от людей свое уныние и тревогу. Однажды леди Гамильтон застала его в саду бродящим взад и вперед в сильном гневе и отчаянии.
— Нельсон, — сказала она, прикоснувшись к его плечу, — вы чувствуете себя несчастным. Как нам ни неприятна разлука с вами, могу вам только посоветовать, чтобы вы снова предложили стране свои услуги. Они, конечно, будут приняты с радостью, и вы опять обретете душевное спокойствие. Одержав несколько новых блестящих побед, вы вернетесь к нам. Мы всегда охотно будем принимать участие в вашем счастье.
— Славная Эмма, добрая Эмма! — воскликнул Нельсон со слезами на глазах. — Если бы на свете было больше таких Эми, то было бы также больше и Нельсонов.
И действительно, Нельсон предложил стране «услуги». Страна их приняла, снарядила экспедицию, и в результате получилась знаменитая победа под Трафальгаром. Этим перед английским народом был искуплен грех леди Гамильтон, первоначально до того приковавшей к себе Нельсона, что он почти забыл великие задачи, осуществления которых страна ждала от его таланта. Как жена британского посланника, как подруга и доверенное лицо неаполитанской королевы, бывшей дочерью Марии-Терезы и сестрою Марии-Антуанетты, леди Гамильтон играла большую роль во всех неурядицах, в центре которых находился Неаполь. Неурядицы эти в то время составляли зерно великой европейской драмы, в которой Франция через посредство Наполеона, а Англия через посредство Нельсона вели титаническую войну из-за гегемонии. Благодаря леди Гамильтон, Нельсон до того запутался в этой тонкой игре интриг, что по временам совершенно забывал свое великое призвание. Но в конце концов та же женщина, которая едва не погубила его, принесла ему спасение.
Катберт Коллинвуд
Говоря об адмирале Нельсоне, нельзя не упомянуть об одном из героев Трафальгарского сражения — адмирале Коллинвуде[122]. Этот старый морской волк этот был до того хорошим отцом семейства, что в самом разгаре опасной, трудной и тревожной деятельности находил возможным заботиться о воспитании детей. Всё это время он не переставал переписываться с ними и с женою. Так, незадолго до одного серьезного столкновения с неприятелем он писал обеим дочерям: «Дорогия мои! Ваше последнее письмо привело меня в восхищение. Прошу вас писать ко мне почаще и сообщать обо всех нью-кастльских новостях. (Леди Коллинвуд была дочерью одного нью-кастльского советника и во время отсутствия мужа часто гостила у отца). Надеюсь, что после окончания этой войны мы еще проживем много счастливых и веселых дней». Во всех своих письмах он давал указания дочерям, как вести себя, как писать письма и т. д. Жене он между прочим писал о воспитании детей: «Умоляю тебя, возлюбленная Сара, чтобы они всегда были чем-нибудь заняты. Пусть они тебе читают, но не легкомысленное что-нибудь, а историю, так, как мы это обыкновенно делали каждый вечер. Что за благословенные вечера это были! Человеческий ум расширяется, когда его поддерживают в постоянной деятельности; он делается глупым и ленивым, когда ему дают дремать… О, как расширился бы умственный горизонт наших детей, если бы они могли усвоить столько познаний в математике и астрономии, чтобы получить понятие о красоте и чудесах творения! Мне хочется, чтобы дети мои вникли в глубокие тайны творческого дела, чтобы потом самим составить мнение о природе того Существа, Которое может быть создателем такого мира. Раз они приобретут такие познания, здешняя жизнь не будет в состоянии тревожить их душу или их ум».
Дня почти не проходило, чтобы леди Коллинвуд не получала от мужа письма. Если служебные обязанности отрывали его от семьи, он поддерживал, по крайней мере, духовное общение с нею. Между прочим, он ей послал однажды письмо, помеченное: «Океан, 16 июня 1806 года». В нем было сказано:
«Сердце мое, ты, которая составляешь для меня все! Сегодня годовщина нашей свадьбы. Желаю, чтобы она еще много, много раз повторялась. Когда наступит, наконец, мир, надеюсь провести свое время отдыха в кругу своей семьи, что для меня служить воплощением всякого счастья».
У Коллинвуда не было сыновей, и он поэтому употреблял все усилия, чтобы пожалованное ему дворянское звание перешло на дочерей. Цели этой, однако, он не добился, хотя и прослужил отечеству пятьдесят лет.
Джузеппе Гарибальди
Великий борец за свободу Гарибальди влюбился в свою будущую жену в одну минуту и притом… в телескоп. Вот как он сам рассказывает об этом в своей автобиографии:
«Я страстно искал любви какого-либо человеческого существа. Существование без этой любви начало делаться для меня невыносимым. Я достаточно прожил для того, чтобы знать, как тяжело найти бескорыстного, истинного друга. Но женщина! Я всегда считал женщин совершеннейшими существами: они именно еще способны па чистую, настоящую любовь. Погруженный в свои печальные мысли, я прогуливался по палубе „Итапарики“ и там решил возможно скорее подыскать себе подругу жизни. Взгляд мой случайно упал на домик в Барре (мы стояли на якоре в лагуне св. Екатерины, в Бразилии). С помощью подзорной трубы, которую я, будучи на палубе, всегда держал в руках, я увидел одну молодую девушку. Выйдя на берег, я отправился в поиски за домиком, в котором видел прекрасную незнакомку, но тщетно. Я хотел уже вернуться ни с чем, как вдруг встретил одного господина, с которым познакомился раньше. Он пригласил меня к себе на чашку кофе. Тотчас при входе в зал взор мой упал на Аниту, которую я искал, на мать моих детей, верную подругу моей жизни в хорошие и дурные дни. Мы безмолвно созерцали друг друга некоторое время, как два человека, которые в жизни уже где-то встретились и ищут в чертах друг друга нечто такое, что могло бы помочь их памяти. Наконец, я вспомнил, поздоровался и, так как плохо владею португальским языком, сказал по-итальянски: „Вы должны сделаться моею“».
«Мое нахальство, вероятно, произвело на девушку магическое действие, так как мы действительно вступили в союз, разрушить который могла только смерть».
Анита была настоящей солдатской женой. Она провожала Гарибальди во всех сражениях и не раз вынимала свой меч, чтобы воспламенить солдат, терявших присутствие духа. Если какой-нибудь солдат падал мертвым к ее ногам, она хватала его ружье и начинала стрелять направо и налево. Однажды во время сражения ее окружили около десятка неприятельских солдат, но она пришпорила коня и прорвалась через их ряды. В первую минуту солдаты были ошеломлены и подумали, что перед ними неземное существо. Оправившись от страха, они начали стрелять и, убив под нею лошадь, взяли ее саму в плен. Находясь в неприятельском лагере, она испросила себе разрешение поискать труп мужа среди прочих трупов. Ей позволили. Не найдя тела Гарибальди, она решила бежать.
Предприятие было рискованное, но она не колебалась. Ночью она увела лошадь из конюшни и ускакала. Четыре дня подряд блуждала она в густом лесу без пищи. На следующую ночь ее едва не настигла погоня, но она заставила лошадь, вздымавшуюся на дыбы, броситься в вздувшуюся реку, шириною в 500 метров, и, уцепившись за ее хвост, поплыла вперед. Благородное животное вытащило ее на противоположный берег. Целую неделю после этого блуждала еще отважная женщина и, наконец, добралась до мужа, который уже считал ее погибшею.
Столь же храбра, как и на суше, была жена Гарибальди и на море. Когда муж начинал, бывало, просить ее во время морской схватки удалиться в каюту, она обыкновенно отвечала: «Я пойду, но только для того, чтобы выгнать оттуда трусов, которые там скрылись, а потом выйду опять, чтобы принять участие в сражении».
Гарибальди рассказывает еще один любопытный факт про свою жену: «Когда родился мой первый ребенок, в нашей армии царила такая бедность, что я ничего не мог достать для своей дорогой жены и ребенка, кроме одного носового платка… Через двенадцать дней Аните пришлось бежать на коне от неприятеля вместе с ребенком».
Граф Мольтке
Граф Мольтке[123] был не только великим военачальником, но и великим молчальником. Последнее тем более удивительно, что он владел шестью языками. Эта давало повод говорить, что Мольтке молчит на шести языках. Все знавши его характер только в редких случаях отваживались нарушить молчание в его присутствии. Само собою разумеется, что жена его реже всего нарушала это молчание. Этим, вероятно, и объясняется то обстоятельство, что знаменитый полководец прожил с женою 26 лет в полном согласии и счастье. Она умерла в сочельник 1868 года. Мольтке часто вспоминал о ней с сожалением. Он возвел в своем имении мавзолей на холме. Перед алтарем маленькой часовни в этом мавзолее стоял простой дубовый гроб, в котором покоились смертные останки его жены. На гробе всегда лежали свежие листья. В полукруглой нише у алтаря стояла великолепная фигура Христа, поднявшего руки для благословения, а над ним сияли слова: «Любовь — исполнение закона».
Вскоре после смерти жены Мольтке (кстати сказать, она была наполовину англичанка, урожденная Бэрг) с ним встретился в зоологическом саду верхом на лошади известный историк Банкрофт, бывший в то время посланником Соединенных Штатов в Берлине. «Первой моей мыслью было, — рассказывал Банкрофт, — повернуть в другую аллею; но я сообразил, что граф может это ложно понять, и поэтому, поклонившись ему, я поехал рядом с ним, предоставляя „великому молчальнику“ завязать разговор, если ему это захочется. К моему величайшему удивлению, он начал оживленно разговаривать, причем рассказал мне, каким бесконечно счастливым человеком сделала его жена и что он в ней потерял. Он с восторгом отозвался также о разнообразных ее добродетелях. Вдруг он погрузился в серьезное молчание. Им овладела, по-видимому, новая мысль. „Знаешь ли, — начал он, минуту спустя, — мне только что пришло в голову, что в конце концов все-таки лучше, что случилось это теперь, а не после. Я убежден, что раньше или позже произойдете вторжение французов. Представьте себе, если коварное счастье на войне повернется против нас! Печаль по поводу наших поражений сократила бы ее жизнь. Нет, нет, это было бы гораздо хуже“».
Сэр Френсис Дрейк
Не будь Френсиса Дрейка, не было бы у нас картофеля. По крайней мере, долго еще мы не знали бы об этом необходимом продукте всякой кухни. Как известно, он именно ввез его в Европу. Но, найдя во время своих блужданий по свету картофель, он едва не потерял жены. Дрейк был женат два раза: в первый раз на Мэри Ньюмен, во второй — на богатой наследнице Елизавете Сиденгем. Путешествия Дрейка носили всегда романтический характер. Его эксцентричность и слава создали ему в народе огромный круг почитателей, культ которых доходил до настоящего поклонения. В Девоншире до сих пор еще существует легенда, связанная с именами Дрейка и его жены. Прощаясь однажды с женою, чтобы предпринять большое морское путешествие, он заявил жене, что если не вернется через семь (по другой версии — через десять) лет, она может считать его мертвецом и вправе выйти замуж. Во время отсутствия мужа жена Дрейка осаждалась поклонниками, предлагавшими ей руку и сердце, но она, как Пенелопа, терпеливо ждала его возвращения. Однако, по окончании срока, указанного мужем, она приняла предложение одного из воздыхателей. Легенда рассказывает, что Дрейк тотчас же узнал об этом через посредство одного из духов, в обязанности которого входило сообщать своему господину и повелителю все касающиеся его семьи новости. B назначенный для свадьбы день Дрейк, находясь в противоположном конце земного шара, зарядил огромную пушку и сам выстрелил. Ядро прошло в секунду огромное расстояние, отделявшее Дрейка от родного города, и, попав в церковь, разъединило жениха и невесту. «Это дело Дрейка! — воскликнула его жена, обращаясь к жениху. — Он жив. О браке между нами, следовательно, не может быть и речи!».
Генерал Лафайет
Бурна и переменчива была жизнь жены знаменитого героя французской революции Лафайета. Она вышла за него замуж в то время, когда ей было всего четырнадцать с половиною лет, а ему едва исполнилось шестнадцать; тем не менее, она его скоро полюбила, и молодая чета была счастлива. Первая буря ожидала ее, когда в Америке вспыхнула война за независимость. Лафайет уехал за океан, чтобы стать на стороне притесняемого народа, и его молодой жене пришлось испытать немало горя во дни его отсутствия, тем более, что родители ее были против его поездки. Зато велика была ее радость, когда после победы Соединенных Штатов, которым оказала помощь Франция, Лафайет вернулся на родину, покрытый славою. Она еще более привязалась к мужу и начала разделять его свободолюбивые идеи. Один только раз возникло между нею и мужем разногласие. Это было тогда, когда Лафайет явно стал стремиться к революции. Будучи искренней католичкой, она не могла быть солидарна в делах веры с мужем, который отличался либеральным образом мыслей и к религии был совершенно индифферентен. Вот почему, когда духовенству было вменено в обязанность подчиниться гражданским законам, она открыто, в виде протеста, присутствовала на торжественном отказа кюре Saint-Sulpice от гражданской присяги, а когда к мужу ее пришел новый парижский епископ, подчинившийся влияниям времени, она благоразумно поспешила удалиться из дома.
Вскоре ей пришлось подвергнуться новому испытанию. Бедный Людовик XVI не был настолько свободен, как г-жа Лафайет, чтобы высказать открыто нерасположение к навязанным ему законам. Когда он выразил желание отпраздновать св. Пасху в Сен-Клу при участии священников, отказавшихся от гражданской присяги, вспыхнул мятеж, помешавший ему осуществить намерение. Вследствие этого Лафайет, употреблявший все силы к тому, чтобы сохранить свободу короля, сложил с себя обязанности командира национальной гвардии. Ему хотелось избежать упреков, которых он мог ждать в противном случай, г-же Лафайет пришлось выдержать визиты и слезные мольбы представителей всех шестидесяти батальонов, которые явились к ней, чтобы отклонить своего начальника от принятого решения. Радость ее была велика, но прошло всего четыре дня, и Лафайет уступил просьбам батальонов и вернулся на прежний пост. Впрочем, испытание ее скоро кончилось; Лафайет окончательно сложил с себя звание командира в сентябре 1791 года, когда, после принятия королем конституции, учредительное собрание было заменено законодательством, слабым и опасным продолжателем дела, начавшегося при отличных предзнаменованиях и окончившаяся накануне террора. Однако, перед этим ей пришлось испытать немало страха во время мятежа на Марсовом поле, устроенного якобинцами. «Бешеная толпа, — рассказывает дочь г-жи Лафайет, — кричала, что нужно убить мою мать, а голову ее отнести к моему отцу. Помню ужасные крики и ужас каждого из бывших в доме, но больше всего помню живую радость моей матери, которая думала, что явившиеся к нам разбойники не были на Марсовом поле! Она целовала нас, плача от радости и спокойно принимая все необходимый меры». Негодяи, однако, едва не пробрались в дом. Они уже начали подниматься на стены, как явился отряд кавалерии, который и рассеял их. После этого г-жа Лафайет уехала в Шаваньяк и с тх пор не виделась с мужем до самого Ольмюца.
Муж недолго оставался во главе национальной гвардии. Благородство характера не позволяло ему мириться с окружающими условиями. Жажда крови, царившая кругом, внушала ему отвращение и он уехал в Англию. Когда в Париже узнали, что Лафайет бежал, немедленно был послан приказ арестовать его жену и доставить в Париж вместе с детьми. К ней явился отряд вооруженных людей и, передав приказ, стал рассматривать бумаги, чтобы захватить письма Лафайета.
— Ищите, — спокойно ответила г-жа Лафайет, — вы увидите, что если бы во Франции были суды, то, конечно, Лафайет был бы оправдан, потому что он в жизни не сделал ничего, что могло бы компрометировать его в глазах настоящих патриотов.
— Суды теперь во Франции — общественное мнение, — ответил комиссар.
Эго было плохим предзнаменованием для суда, который ожидал ее в Париже. Укрыв сына и младшую дочь, она вместе со старшей дочерью последовала за комиссаром. По прибыли в Пюи она потребовала, чтобы ее немедленно отвели к местной высшей власти.
— Я, — сказала она, обращаясь к арестовавшему ее комиссару, — отношусь с уважением к приказам администрации настолько, насколько презираю приказы, получаемые мною от других. — И, отдав себя покровительству членов департаментского совета, она продолжала: — Получайте ваши приказы от Ролана (приказ об аресте г-жи Лафайет был подписан министром внутренних дел Роланом) или от кого вам угодно, но я хочу получать приказы только от вас и считаю себя вашей арестанткой.
Затем она потребовала, чтобы с писем Лафайета были сняты копии и посланы в Париж, «так как в собрании немного лгут». К тому же ей самой хотелось прочесть эти письма в собрании. Когда один из присутствующих выразил опасение, как бы чтение этих писем не было для нее затруднительно, она ответила:
— Нисколько. Чувства, выраженные в этих письмах, одни только поддерживают меня и составляют все мое утешение в настоящую минуту.
Она стала протестовать против ее несправедливого ареста, прося оставить ее в Шаваньяке на честное слово. Просьба эта была послана Ролану. Одному из советников, Бриссо, с которым г-жа Лафайет поддерживала когда-то хорошие отношения, она писала: «Если ответ Ролана будет продиктован справедливостью, он мне возвратит неограниченную свободу. Если он будет соответствовать желанию моего сердца, то даст мне возможность соединиться с мужем, который приглашает меня приехать в Англию, как только его освободят из плена, чтобы вместе поселиться в Америке. Но если хотят во что бы то ни стало держать меня заложницей, то мой плен будет смягчен разрешением подвергнуться ему в Шаваньяке на честное слово и под ответственностью властей моей деревни».
Г-жа Лафайет вскоре раскаялась, что просила оставить ее в Шаваньяке под честное слово, так как узнала, что муж не только не отпущен на свободу, но враждебной коалицией выдан прусскому королю и отправлен в Ольмюц (Моравию) под охраной австрийской гвардии после того, как Пруссия заключила мир с Францией. Бедная женщина добровольно возложила на себя обязанность быть вдали от мужа. Впрочем, ее вскоре освободили.
После известной измены Дюмурье в Париже зашла речь о заключении в тюрьму тех, которых называли в то время «благородными». Г-жа Лафайет, также принадлежавшая к числу этих «благородных», отправилась в Бриуд, чтобы протестовать против этого проекта.
— Моя жизнь и моя смерть, — сказала она, — совершенно безразличны для Дюмурье. Лучше будет, если бы меня забыли в моем уединении. Прошу, чтобы меня оставили вместе с детьми в том положении, которое единственно сносно после того, как отец их находится в плену у врагов Франции.
— Гражданка, — ответил представитель местной администрации, — эти чувства достойны вас.
— Мне мало дела до того, достойны ли они или недостойны меня, — заметила на это смелая женщина, — я хочу только, чтобы они были достойны его.
В этих словах вся г-жа Лафайет. Она могла добиться развода, если бы захотела развода, хотя бы фиктивного, как делали в то время многие жены эмигрантов для того, чтобы сохранить за собою имущество и не наносить ущерба детям; но она этого не делала. Для нее название «жена Лафайета» было выше всего. Зато она и поплатилась: 1 ноября 1792 года ее арестовали в числе многих «подозрительных», как тогда начали называть людей, не сочувствовавших новому порядку вещей. Целый год и четыре месяца промучилась она в тюрьме. Ежедневно ей приходилось слышать, как из тюрьмы уводили на казнь десятки людей, как, наконец, казнили её мать и сестру. Она испытывала нечеловеческие страдания, и вполне понятно, что когда наступило 9 термидора, день, освободивший ее из тюремного заключения, первой её мыслью было бежать, конечно, к мужу. Она выхлопотала себе паспорт в Америку и пустилась в путь. Но прежде всего надо было повидаться с горячо любимым мужем, а для этого требовалось поехать в Вену а выхлопотать свидание с пленником. Между тем, доступ в Австрию французам был запрещен. Г-жа Лафайет обнаружила неслыханную энергию и после долгих нравственных пыток добилась, наконец, аудиенции у императора. Последний был очень взволнован, когда узнал, в чем дело. Многострадальная женщина просила как милости, разрешения разделить участь мужа в тюрьме.
— Хорошо, я исполню вашу просьбу, — ответил император, — но дать ему свободу не могу: у меня самого руки связаны.
— Жены остальных ольмюцских пленников будут завидовать моему счастью! — воскликнула в порыве радости несчастная женщина, неспособная забыть подруг по горю даже в столь тревожную минуту.
— Пусть они поступают, как вы, — ответил император. — Лафайета хорошо кормят, с ним хорошо обращаются. Имя его известно. Надеюсь, что вы отдадите мне полную справедливость.
И вот г-жа Лафайет едет в Ольмюц. Военный министр предупредил ее, что в Ольмюце ее ожидают невзгоды, что ее шаг может дурно отразиться на ней и на её дочерях. Ничего не помогало. Она поехала. Когда кучер указал ей на видневшиеся вдали колокольни Ольмюца, г-жа Лафайет поднялась в коляске с влажным от слез лицом. Рыдания душили ее. Она не могла говорить, а когда, наконец, овладела собою, громко запела благодарственную песнь Товия: «Господь, Ты велик в вечности и царство Твое распространяется на все века!». Через несколько минул она уже была в объятиях мужа, три года томившегося в тюрьме, вдали от друзей, от которых не получал никаких писем, в полном уединении, которое сделалось еще более невыносимым после его попытки к бегству. Он изменился, постарел, сделался больным, но сохранил прежние идеалы и мечты. Лафайет остался Лафайетом и в тюрьме.
Два года пробыла г-жа Лафайет с мужем в тюрьме, пока, договор, заключенный в Кампо-Формио, не дал свободы пленникам, в том числе Лафайету и его героической жене.
Сэр Уолтер Рэйли
С Уолтером Рэйли мы уже встретились выше, когда говорили об отношениях между лордом Лейчестером и королевой Елизаветой. Когда вспыхнуло восстание ирландцев в Мунстере, его отправили туда в качестве усмирителя. Он блестяще выполнил задачу и по возвращении в Лондон удостоился высоких милостей при дворе. Способствовали этому, впрочем не столько его административные и военные таланты, сколько красота, сила и ум, никогда не перестававшие оказывать большое влияние на «девственную королеву». Как обратил он на себя внимание королевы, мы знаем: он пожертвовал драгоценным плащом, чтобы избавить ее от необходимости сделать два шага по влажной земле. Затем он дерзнул написать на стекле одного окна, мимо которого должна была пройти королева, следующие слова: «Мне хотелось бы вскарабкаться наверх, но я боюсь упасть». Елизавета, как говорят, написала под этими словами: «Если у тебя не хватает храбрости, то лучше не карабкайся».
Близкие отношения к королеве, однако, не помешали Рэйли жениться на Елизавете Трогмартон, пользовавшейся далеко не безупречным именем. Честолюбивая королева, требовавшая, чтобы восторг придворных сосредоточивался только на ней одной, была возмущена браком своего фаворита и, не долго думая, приказала арестовать его вместе с молодою женою и перевести в Тауэр, из которого молодая чета освободилась только спустя долгое время.
Герцог Веллингтон
Любопытный роман пережил знаменитый английский военачальник герцог Веллингтон. В бытность еще капитаном Уэльслеем он ухаживал за красавицей Катериной Пакенгем, третьей дочерью лорда Лонгфорда. Она отвечала ему взаимностью и дело кончилось бы браком, если бы не противодействие отца, который считал Веллингтона слишком бедным для женитьбы на его дочери. Последняя, однако, твердо стояла на своем, категорически уверяя возлюбленного, что непременно станет его женою. Вместе с этим она просила его считать себя её женихом. Вскоре после этого Веллингтон уехал со своим полком в Индию.
Девять лет был в отсутствии знаменитый полководец. За это время произошла большая перемена с Катериною Пакенгем. Она заболела оспой, которая не только обезобразила ее, но едва не свела в могилу. Только молодые силы и спасли ее. Когда Веллингтон вернулся, благородная девушка хотела освободить его от данного ей слова, но он не решился воспользоваться ее благородством и женился на ней. Королева Шарлотта, которой Катерина была представлена при дворе, была в восхищении от твердости воли, которую она обнаружила, ожидая жениха столько лет, и приняла ее восторженно.
— Мне очень приятно, — сказала она, — приветствовать вас при моем дворе, как образец энергии. Если кто-нибудь в мире заслужил быть счастливым, то это, конечно, вы. Правда ли, говорят, что вам удалось за все девять лет отсутствия вашего жениха не написать ему ни одного письма?
— Правда, ваше величество.
— А думать вы о нем думали?
— Всегда, ваше величество.
Около девяти лет спустя английская писательница Мария Эджеворт бывшая в очень хороших отношениях с Лангфордом, писала одной родственнице: «Как счастливо чувствует себя, вероятно, леди Веллингтон после блестящей победы ее мужа! Читали ли вы в газетах, что она стремглав бросилась навстречу лорду Бери, чтобы узнать от него первые сведения о своем муже еще до того, как он выйдет из экипажа?».
Однако, герцог не мог себя считать таким же счастливым, как его жена. Он брюзжал и часто говаривал: «Жизнь не стоит того, чтобы жить». Причина этого отчасти врожденный пессимизм, отчасти то обстоятельство, что он все свои силы и помыслы он посвятил служению отечеству. Он не мог быть чувствительным к радостям тихой семейной жизни. Кроме того, супруги не сходились также во взглядах, вкусах и привычках. Раздражительность и добродушие как-то уживались в душе Веллингтона. Родственники сравнивала вспышки его гнева с паровым клапаном. После каждой такой вспышки он тотчас старался удвоенной любезностью загладить свою вину. Однажды он послал своего второго сына, лорда Чарльза Уолслея, на остров Мальту с важным поручением по службе. Когда сын вернулся потом в Лондон на неделю позже, чем ожидал его герцог, суровый воин, думая, что неделя эта была проведена в кутежах в веселом города Париже, наказал его тем, что не обменялся с ним ни единым словом в течение нескольких дней. Случайно, однако, Веллингтон узнал, что Чарльз был задержан карантином в Марселе. И вот на третий день он подошел к нему и, нежно прижав к груди, дружески спросил:
— Чарльз, хотелось бы тебе поохотиться этой зимой?
— С удовольствием! Но у меня нет лошади.
— Я послал твоему банкиру тысячу фунтов. На лошадь хватит.
Такие сцены часто происходили в доме герцога. Из любви к мужу жена покорно переносила его раздражительность. Виделись они, впрочем, не часто, так как Веллингтону по целым годам приходилось быть в других местах по обязанностям службы.
Георг Вашингтон
Георг Вашингтон еще с четырнадцати лет начал ухаживать за хорошенькими женщинами. Тогда же он влюбился в некую Мэри Блэнд, которую называл своею «красавицей низменных мест». Предметом его второй любви была Сара Кэрей, с которою произошла в одно прекрасное время следующая любопытная история. Однажды, когда Вильямсбург был на военном положении, она засиделась у подруг, живших за городом, и спохватилась только тогда, когда было уже темно. Вместе с негритянкой-горничной она побежала домой, но была остановлена караулом, который потребовал пароль. Сара сердито затопала ногами и крикнула: «Я — Сара Кэрей!». Караульные, не говоря ни слова, дали дрожащим девушкам пройти. Оказалось, что галантный Вашингтон, будучи дежурным офицером, дал в качестве пароля имя своей возлюбленной. Вскоре после того он ей сделал предложение, но получил отказ, что надолго отбило у него охоту к дальнейшим любовным приключениям.
Спустя некоторое время он познакомился у друзей, к которым заглянул на обед проездом, везя официальные депеши, с молодой вдовой Кэстис. Эта красивая и интеллигентная женщина до того сумела опутать его своими сетями, что он забыл о деле, которое ему было поручено. Прошло много часов, наступил вечер, а Вашингтон и не думал даже ехать. На следующий день утром он пустился в путь, но все-таки остановился у дома женщины, завладевшей всем его существом, чтобы наскоро с нею помолвиться. Через несколько месяцев состоялась свадьба.
Осталось единственное письмо, относящееся к тому времени, когда он был женихом. Вот оно: «Мы держим путь на Огио. Один курьер отправится тотчас в Вильямсбург, и я пользуюсь случаем, чтобы написать тебе несколько строк, тебе, жизнь которой отныне нераздельна с моею жизнью. С той счастливой минуты, когда мы взаимно поклялись в любви, мысли мои постоянно устремляются к тебе, как ко второму моему „я“. Да защитить нас обоих всемогущее Провидение — это ежедневная молитва твоего вечно преданного и любящего тебя друга».
Великий генерал быль нежным супругом и хорошим отцом для детей своей жены от первого брака. Когда он умер, портрет его жены был найден у него на груди, где он носил его целых 40 лет. Ни одна тень не омрачила этого счастливого брака, а когда он умер, жена Вашингтона только сказала:
— Теперь все прошло! Я скоро за ним последую!
Генерал Джексон
Великий американский генерал Джексон был в любви столь же постоянен и тверд, как на войне. Первая его жена умерла уже через год и два месяца. Смерть эта на него так сильно повлияла, что он должен был уехать в Европу, чтобы рассеяться. Три года спустя он женился на дочери одного пресвитерианскаго священника. Она сделала его совершенно счастливым. Письма Джексона в жене дышат необычайной нежностью. Он никогда не называл ее по имени, а окрещивал всевозможными ласкательными словечками. Между прочим, он никогда не употреблял таких выражений, как «наш дом» или «наш сад», а всегда говорил «твой дом», «твой сад». Даже жалованье свое он называл «твое содержание». Веселое настроение духа никогда его не покидало. Когда он, будучи смертельно ранен, лежал на смертном одре, жена его горько плакала. Увидев это, он с доброй улыбкой сказал:
— Бодрее, Анюта! Ведь ты знаешь, что я люблю только веселые лица в комнате больного! Пожалуйста, говори яснее, чтобы я не потерял ни одного из твоих милых слов.
Джексон страдал прогрессивною глухотою.
Лорд Уолсли
Лорд Уолсли находится теперь во главе английской армии. Много войн пережил он. В течение двадцати пяти лет своей супружеской жизни леди Уолсли пять раз видела своего мужа принимающим непосредственное участие в сражении. Можно себе представить, какие чувства испытывала она. На лице ее ясно видны следы забот. Но зато как радостно билось ее сердце, когда муж подносил ей подарки, полученные после того или другого удачного похода. Так, население Каира поднесло ему драгоценную саблю с великолепными бриллиантами, которые он потом подарил жене. Когда лорд Уолсли вернулся из Египта, где он был главнокомандующим, королева произнесла тост в его честь, и текст этого тоста висит до сих пор в золотой рамке в будуаре леди Уолсли.
Глава IX Коронованные особы
Франциск I. — Генрих II. — Людовик XIV. — Людовик XV — Людовик XVI. — Людовик XVIII. — Наполеон I. — Наполеон III. — Генрих VIII. — Карл I. — Фридрих Великий.
Франциск I
Возрождение в Италии вызвало расцвет искусств. Возрождение во Франции создало культ любви. Провозвестником этого культа явился Франциск I. По справедливому замечанию Шерра, он мог бы с полным правом употребить фразу, которою охарактеризовал впоследствии свое правление Людовик XIV: «Государство — это я». Королевская власть была для него только средством удовлетворять личные прихоти. Государство, как он думал, существовало исключительно для него. Прибегая в излишествам сам, он покровительствовал и чужим излишествам, но придавал им элегантный отпечаток. Галантность была им возведена на степень правительственного искусства. Именно он явился начинателем того господства метресс, которое вскоре дало себя сильно почувствовать при французском дворе и имело огромное влияние на положение женщины во всей Европе.
Процветание женского элемента особенно содействовало усиление королевской власти. Людовик XI унизил французское дворянство, Франциск I поработил его, заставив жить при дворе. Король превратил баронов в титулованных лакеев, а их жен и дочерей в своих одалисок. Для достижения последнего пускались иногда в ход низменные интриги и всякие хитрости, как это произошло в то время, когда нужно было привлечь ко двору графиню Шатобриан. Несмотря на свою галантность, Франциск I для удовлетворения похоти не останавливался даже пред грубостями. Так, узнав, что один из его придворных пригрозил жене смертью, если она разделит ложе с королем, он ворвался к нему в спальню с обнаженным мечом и, выгнав мужа, занял его место. Женщина эта, как прибавляет французская хроника, была с тех пор очень счастлива, так как муж больше не осмеливался ей перечить и был послушен, как овца. И как поступал король, так действовали его слуги. Боннивэ, фаворит Франциска, стал ухаживать за сестрою своего государя, красавицей Маргаритой Наваррской, и, не достигнув цели, решил завладеть ею хитростью. Для этого он пригласил весь двор в свой охотничий замок. Ночью, когда все спало, он пробрался к принцессе в спальню, думая нахрапом достигнуть того, чего не мог добиться обыкновенным путем. Но принцесса проснулась и стала отбиваться. Острые ногти ей помогли. К тому же она стала звать на помощь. В конце концов Боннивэ должен был бежать. Когда король узнал на следующий день об этой истории, он только рассмеялся…
Вполне естественно, что подобного рода режим должен был в конце концов привести к развращенности нравов. Добродетельная женщина сделалась не только редкостью, но и посмешищем. Сами женщины начали употреблять, все силы на то, чтобы изгладить из памяти всякое представление о добродетели. Даже в неестественных пороках соперничали они с мужчинами. По свидетельству Брантома, главного хроникера скандальных историй того времени, один итальянский государь, женившись на французской принцессе, высказал на следующий день после свадьбы вслух удивление по поводу того, что его жена, живя при французском дворе, оказалась девственницею. Недаром Фравциск говаривал, что двор без женщин то же, что год без весны и весна без роз! Оффенбаховский Калхас, впрочем, наверно сказал бы: «Слишком много цветов!».
Генрих II
Начатое Франциском дело пустило глубокие корни, с тех пор французский двор представляет сплошную арену борьбы между различными интриганками, искательницами приключений и вообще всякими женщинами сомнительного и несомнительного поведения. С именем каждаго короля начинает связываться имя какой-либо фаворитки или даже имена нескольких фавориток. Так, царствование Генриха II ознаменовалось господством Дианы Пуатье. Родившись 3 сентября 1499 года, она в 13 лет вышла замуж за графа Молевриэ, но уже в 1531 году овдовела. Путь ко двору был свободен. Впрочем, еще до смерти мужа, при жизни Франциска, она сошлась с этим государем. По крайней мере, когда ее отец был приговорен к смерти за участие в заговоре против Франциска, она обратилась к королю и добилась отмены приговора. Говорят, что она купила эту милость ценою своей супружеской верности.
Герцог Генрих Орлеанский, второй сын Франциска I, был по природе слаб и робок. Молодость его прошла очень печально. Когда его отец был взят в плен после сражения у Павии и был отпущен, ему пришлось вместе с братом провести в одном монастыре целых четыре года в качестве заложника. Вернувшись в Париж, он был ослеплен царившим там блеском и сам начал искать для себя эгерии[124]. Эта эгерия вскоре нашлась в лице Дианы Пуатье, которая, по словам Брантома, «одевалась красиво и величественно, но только в черное и белое». Это был траур по мужу. Сам принц не думал сближаться с нею, тем более, что считал ее образцом добродетели и ума; но Диана сразу поняла, какое она может иметь на него влияние. Она была на много старше принца — на целых 18 лет, но красота искупала этот недостаток. Между нею и принцем завязались близкие сношения, а вскоре старший сын короля умер и Генрих сделался дофином. Говорят, что в смерти его повинна Диана, которая прибегла к отраве; но факт этот не доказан.
С той минуты, как принц Генрих сделался наследником престола, при дворе началась отчаянная борьба между двумя женщинами — между Дианой, пользовавшейся расположением дофина, и герцогиней д’Этамп, любовницей Франциска I, не довольствовавшейся влиянием, которое она имела на короля, и твердо решившейся приковать к себе также и его будущего преемника. Последние годы Франциска I наполнены почти одной этой борьбой между двумя любовницами. Весь двор разделился на два лагеря. Диана была на десять лет старше герцогини д’Этамп и поэтому приверженцы последней начали уже говорить об увядшей красоте. Даже поэты и художники приняли участие в раздорах. Так, художник Приматиччо постоянно воспроизводил герцогиню д’Этамп на картинах, украшавших королевскую галерею, между тем как Бенвенуто Челлини брал моделью прекрасную охотницу Диану. Поэты лагеря герцогини возвеличивали ее красоту, не щадя красок, а Диану называли беззубою и безволосою, обязанною своей сносной наружностью только косметическим средствами Все это, конечно, была ложь, потому что Диана до конца жизни осталась красавицей, и это страшно злило фаворитку дофина. Впоследствии, когда она достигла высокой власти, ее прежние враги, позволявшие себе подобные выходки на ее счет, жестоко поплатились. Так, по ее приказу был сослан министр финансов Бояр, один из наиболее горячих клевретов герцогини д’Этамп, а вскоре также удалена от двора и сама герцогиня.
Мало-помалу дофин оказался совершенно в руках Дианы. Он не расстался с нею даже после женитьбы на молоденькой и прелестной Катерине Медичи, дочери герцога Урбино во Флоренции. Этому, впрочем, способствовал характер самой Катерины, которая не вмешивалась в государственные дела и жила исключительно для удовольствий в кругу преданных веселых дам, так называемой «маленькой шайки», занимавшейся только охотою, спортом, балами и т. п. Когда умер Франциск и на престол вступил Генрих, королева не изменила своего образа жизни, вследствие чего фактически королевою сделалась Диана. Но она была больше, чем королева. Она держала в своих руках судьбу всего государства, раздавала крупнейшие места, преобразовала министерство и парламент, решала вопросы о помиловании, управляла финансами и производила давление на судей. Король беспрекословно исполнял ее волю. В одном письме он умоляет ее всегда смотреть на него, только как на верного слугу, и прибавляет, что гордится именем слуги, которым она его окрестила.
Конечно, Диана была прекрасна. Говорили, что она никогда не увянет. У нее были правильные черты лица, красивый цвет кожи, черные, как смоль, волосы. Болезней она никогда не знала никаких. Даже в самую холодную погоду она мыла себе лицо водой из колодца. Диана Пуатье вставала обыкновенно в 6 часов утра, садилась на лошадь и в сопровождении своих гончих собак проезжала 2–3 мили, после чего возвращалась и снова укладывалась в постель, где читала до полудня. Она очень интересовалась литературой и искусством. Ум у нее был редкий. Утверждали, что она завоевала сердце короля не столько своими физическими прелестями, сколько советами, которые она ему давала, и своею любовью к искусству, в котором понимала толк. Этому мнению особенно способствовало то, что у Дианы не было детей. Родственники Дианы энергически отрицали существование интимной связи между нею и королями Франциском и Генрихом. В доказательство они указывали на то, что поведение Дианы в супружестве было безукоризненно, что даже в период апогея своей власти она никогда не снимала с себя траур, что король относился в ней всегда с уважением, что между ним и Дианою существовала большая разница в возрасте, что она не была расточительна подобно другим куртизанкам и т. д. Однако, они забывали прибавлять, что Диана разделяла другие недостатки фавориток: была жадна, честолюбива и мстительна. Историк де-Ту ее строго осуждает, приписывая ей гонения на протестантов и разрыв мирных сношений с Испанией. Во всяком случае она могла считаться лучшею из фавориток, и Брантом с полной справедливостью мог сказать: «Французский народ должен просить Бога, чтобы никогда не было более худой фаворитки, чем эта».
С годами власть Дианы все более и более упрочивалась. В 1548 году король сделал ее герцогиней Валентинуа. Все должны были преклоняться перед нею. Король поручил знаменитому архитектору Делорму построить для нее дворец «Анэ», который Диана обставила великолепно. С королевою она поддерживала добрые отношения и даже ухаживала за ее детьми, хотя, впрочем, заставляла платить себе за это. Так, письмом от 17 января 1550 года король ассигновал ей 5.500 livres tonmois (около 66.000 франков на нынешние деньги) в благодарность за услуги, оказанные королеве. Даже через два года после того венецианский посланник Лоренцо Конторини сообщал, что между королевой и герцогиней существуют добрые отношения. Брантом рисует ее великолепной женщиной. По его словам, когда король хотел узаконить одну из дочерей, прижитых им с Дианой, фаворитка ответила:
— Я родилась для того, чтобы иметь законных детей от вас. Мне вовсе не хочется, чтобы парламент объявил меня вашей сожительницей.
В этом пункте, впрочем, Брантом ошибается. У дочери, о которой идет речь, — Дианы Французской, — была другая мать, молодая пьемонтка, с которой Генрих сошелся еще во время похода 1537 года. Король узаконил ее в 1547 году. Позднее она сделалась герцогинею, благодаря браку с герцогом Монморанси.
Но блестящие дни Дианы закатились в тот же день, когда умер Генрих. Еще задолго до его смерти были распространены два предсказания. Знаменитый итальянский астролог Лука Гаврико возвестил, что король умрет на сороковом году жизни на дуэли. Предсказание это вызвало насмешки, так как у королей дуэлей не бывает. Вскоре, однако, появилось новое предсказание такого же рода[125]. Умы встревожились. Сам король в шутку выразился, что предсказания очень часто сбываются и что он умрет от дуэли столь же охотно, как и от всякой другой причины, лишь бы только противником его был храбрый человек. Он, конечно, не предчувствовал, что действительно погибнет в поединке.
Наступил роковой день. 29 июня 1559 года около дворца Турнелль состоялся турнир. Король имел на себе цвета Дианы и дрался храбро, но копье графа Монморанси попало ему в глаз и проникло до самого мозга. Через нисколько дней он умер. Тут вдруг обнаружилось, каковы были истинные отношения между королевой Катериной и Дианой Пуатье. Брантом рассказывает, что король еще дышал, когда Катерина Медичи приказала Диане удалиться от двора, отдав предварительно драгоценные каменья, которые подарил ей король. Диана спросила, умер ли уже король, а когда ей ответили, что он еще дышит, но не переживет дня, гордо воскликнула:
— В таком случае, мне никто не смеет приказывать! Пусть знают мои враги, что я их не боюсь! Когда короля больше не будет в живых, потеря эта доставит мне слишком много горя для того, чтобы я была чувствительна к досаде, которую мне хотят причинить.
Это была последняя вспышка прежней власти. Молодой король Франциск II приказал ей сказать, что, вследствие своего гибельного влияния на короля, она заслужила строгое наказание, но в своей королевской милости он решил оставить ее в покое и требует только, чтобы она возвратила драгоценности, полученные от Генриха II. Таким-то образом, бриллианты и другие украшения, попавшие из рук графини Шатобриан в руки герцогини д’Этамп, а потом в руки Дианы Пуатье, вернулись в королевскую казну, чтобы украшать потом головы других фавориток.
Диана покорно подчинилась судьбе. Она удалилась в свой замок «Анэ», где и умерла 22 апреля 1566 года на 67 году жизни, покинутая почти всеми прежними друзьями. По свидетельству Брантома, она была прекрасна до последней минуты. Перед смертью она основала несколько больниц, отдав, по выражению Шатонефа, «Богу то, что взяла у мира». В церкви замка «Анэ» ей поставили памятник с ее статуею из белаго мрамора. Статуя эта теперь в Луврском музее. Из обеих ее дочерей от брака с графом Брезе одна вышла замуж за герцога Бульонскаго, а другая за герцога Омальского. Диана увековечена на многих портретах и в скульптурных произведениях. Жан Гужон изобразил ее в виде торжествующей обнаженной охотницы, обнимающей шею таинственного оленя.
Людовик XIV
Диана Пуатье была знамением времени. Если при Франциске I французская галантность носила характер рыцарской вежливости, то при Генрихе III она заменилась такою грязью, которая напоминала времена Калигулы, Нерона и Элагабала. Противоестественные пороки царили повсюду и совершенно открыто. По словам Шерра, король Генрих III даже формально женился, по примеру Нерона, на одном из своих «миньонов». Генрих IV не отступал от своего предшественника, хотя в заслугу ему может быть поставлено то, что в пороках он, по крайней мере, выбрал естественные пути. При меланхолическом Людовике XIII при дворе наступила некоторая перемена, но основной тон отношений был тот же, что при Генрихе IV. Только благодаря этому властному правителю Франции кардиналу Ришелье могла придти в голову курьезная мысль балетными прыжками завоевать сердце королевы Анны Австрийской.
Больше успеха в этом направлены имел его преемник Мазарини, вместе с которым во Франции опять водворился «итальянский порок». Дамы вели себя непринужденно, слишком уже непринужденно, как можно судить по примеру вдовы Людовика XIII, которую обвиняли в нежных сношениях с Мазарини. Беседуя однажды с г-жой Готфор, она сказала, что обвинение это совершенно неосновательно, так как Мазарини женщин не любит, «а не любит он их, — прибавила она с улыбкою, — потому что он итальянец». Чем дальше, тем больше. Во время регентства Анны Австрийской положение было то же. Порок не осуждался. Наоборот, такие изящные грешницы, как Нинон де-Ланкло, считались даже образцами всяких добродетелей. Достаточно сказать, что матери водили к ней детей для того, чтобы они научались у нее хорошему тону. Такие моралисты, как Мольер, то и дело восхвалявшие добродетели и порицавшие пороки, не только не находили в поведении этой гетеры ничего предосудительного, но прямо возводили на пьедестал. Отец французской комедии даже увековечил Нинон де-Ланкло в Селимене, кокетливой женщине, которая вся дышит негой и обаянием.
Сама королева ничего не имела против того, чтобы ее почетные дамы вступали в предосудительный любовные связи. Так, одна из них, m-lle де-Гверчи, даже несколько раз делалась матерью, и все-таки это не мешало ей сохранить место почетной дамы. Нужно ли удивляться, что когда вступил на престол Людовик XIV, он нашел уже возделанную почву для своих сластолюбивых наклонностей?
Теперь, через много лет после смерти Людовика XIV, мы знаем, что представляло его царствование. Суровый приговор Бокля, подведшего итог блестящей деятельности «великого» короля, мог бы служить прекрасной характеристикой для всего периода французской истории, ознаменовавшегося расцветом женского влияния. Царствование было бедное, несмотря на весь его блеск. Наука, литература, искусства стали возрождаться только в последние его годы. Войны не принесли никакой пользы. А все же эпоха правления Людовика XIV останется ярким пятном на фоне всемирной истории. И яркость эта позаимствована только у женщин, веселым хороводом кружившихся вокруг королевского престола. Они оживляли французскую жизнь, давали тон Европе, обеспечивали бессмертие всем, с которыми приходили в соприкосновение. Теперь еще как живы все перипетии их бурной и сладострастной жизни, как интересуется ими история, как жадно роется она в архивной пыли, чтобы выяснить какой-нибудь мелкий факт или побочную подробность. И трудно сказать, что представляло бы правление Людовика XIV со всеми его пышными торжествами, шумными победами, со всей этой яркой декорацией дипломатических интриг, парадных приемов и фантастических балов, если бы вокруг него, как огненные языки вокруг пылающего дерева, не поднимались бессмертные типы Ментенон, Лавальер, Монтеспан с их неиссякаемым источником веселой суеты и очаровательной женственности?
Людовику XIV как бы на роду было написано быть баловнем счастья. Самое рождение его, после двадцати пяти лет супружеской жизни его родителей, могло служить хорошим предзнаменованием. Пяти лет от роду он уже сделался наследником прекрасней шагом могущественнейшего из престолов Европы. Франция находилась тогда во главе культурных движений времени. Благодаря королевам Марии Медичи (итальянке) и Анне Австрийской (испанке), цивилизация Италии и Испании была перенесена на французскую почву и дала там могучие ростки. Другие женщины завершили остальное. В знаменитом отеле Рамбулье собирались дамы и поэты, соединившиеся между собою и составившие некоторым образом идейную школу, которая навела Ришелье на мысль учредить академию наук. Сорбонна существует еще и теперь, продолжая считаться крупной умственной силой. Дамы отеля Рамбулье, во главе которых находилась прекрасная герцогиня Лонгевилль, действовали главным образом прелестью своих речей. Беседа их была фейерверком, искры которого разлетались в разные стороны и повсюду производили пожар. Не только литература, но и политика приводилась ими в движение. Остроты, исходившие из отеля Рамбулье, были причиною войн Фронды, едва не опрокинувших все правление ребенка-короля. Его матери и советнику ее Мазарини пришлось увезти ребенка и тем спасти его. Франция едва не погибла от внутренних распрей.
К счастью, король вовремя взял бразды правления в руки и, благодаря участию женщин, его главных, если не единственных советниц, поднял страну на головокружительную высоту могущества и блеска. Его вскоре начали называть «королем-солнцем». Его обожали. Высокого роста, красавец с темными локонами, правильными чертами, цветущим лицом, изящными манерами, величественной осанкой, к тому же повелитель великой страны, он действительно производил неотразимое впечатление. Ко всему этому нужно представить любящее сердце, быстро воспламенявшееся в присутствии смазливого личика. Могли ли не любить его женщины? Могли ли не тянуться они к нему, как тянутся миллионы подсолнечников к своему яркому божеству — солнцу?
В молодые годы Людовик питал нежное чувство к Марии Манчини, племяннице кардинала Мазарини, и думал даже жениться на ней. Но Мазарини был не своекорыстен. Государственные интересы у него царили над личными. Он сам воспротивился браку короля со своей племянницей, хотя, конечно, брак этот мог бы поднять его еще выше в смысла власти и престижа. Мазарини требовал, чтобы Людовик женился на испанской принцессе, инфанте Марии-Терезии. В то же время он поспешил выдать свою прекрасную, но честолюбивую племянницу за коннетабля Колонну. Так как и сестра ее, Олимпия Манчини, была также опасна для Людовика, благодаря своей красоте, то он и ее выдал за графа Суассонскаго. Олимпия эта впоследствии приобрела большое влияние при дворе и даже вмешивалась в любовные дела короля. Она прославилась, между прочим, своими отношениями со знаменитой изготовительницей ядов Вуазен, у которой, как говорили, прибрела состав для отравления мужа и некоторых придворных, за что ее и выслали из Франции.
План Мазарини удался: Людовик женился на Марии-Терезии. Это была неинтересная, робкая, спокойная женщина, которая на вопрос духовника: «Нравился ли тебе кто-нибудь из рыцарей, окружавших престол твоего отца?» — отвечала: «Нет, отец мой, ведь среди них не было ни одного короля!». Любя тишину и уединение, она дни свои проводила в молитве, чтении испанских книг или в беседе с королевой-матерью Анной Австрийской. По целым ночам, бывало, она ждет вместе со своей камеристкой возвращения короля, перепархивавшего в то время от одной возлюбленной к другой. Конечно, жена забрасывала его вопросами, где он был, что делал. Людовик целовал ей руки в таких случаях и ссылался на государственные дела. «Мы же, — говорит в своих мемуарах герцогиня Монпансье и о других дамах, присутствовавших однажды при такой сцене, — опустили глаза и начали приводить в порядок манжеты, чтобы скрыть улыбку».
Улыбка означала, что король был в кругу веселых дам, которыми окружала себя столь же веселая жена брата короля, герцогиня Орлеанская, Генриетта. Дом этой женщины был в то время самым блестящим и жизнерадостным. Старые дни романтизма как бы ожили в Фонтенебло со всем их великолепием, песнями и любовными приключениями. Празднества продолжались по целым ночам. Цветочные гирлянды окружали рамы окон и порталы замка, фонарики висели на деревьях, рыцари и дамы бродили по аллеям, оглашая воздух веселым смехом, пока, наконец, фонарики не угасали и белые ткани жаждущих любви женщин не обливались серебристым светом луны. Людовик, который еще не предчувствовал, что ему придется со временем поплатиться за грехи молодости, никогда не покидал этих увлекательных празднеств. Держа в руках шляпу с белыми перьями, он неотлучно сопровождал ее экипаж, когда она ночью медленно ехала по парку. Только свежесть воздуха охлаждала горячие лбы обоих молодых людей и еще более горячие мысли, бродившие под ними; только шум фонтанов врывался в их тихий разговор…
Но в то время, когда король галантно нашептывал герцогине слова любви, из круга дам, окружавших очаровательную женщину, устремлялась на него пара дивных глаз, как бы старавшихся своим магическим светом пронизать сердце венценосного поклонника прекрасного пола и притянуть его в себе. Это была Луиза де-Лавальер.
Не сразу, не вдруг завладела Лавальер сердцем Людовика XIV. Он любил многих. Тут была и девица Шемеро с большими черными глазами, и девица де-Понс, незадолго перед тем приехавшая из провинции и представленная королеве ее родственником, маршалом д’Альбретом. Но он все-таки полюбил в конце концов Луизу Лавальер, единственную из его возлюбленных, отвечавшую ему искренней взаимностью. Она, по выражению г-жи Кайлюс, любила именно короля, а не его величество. И таким-то образом в садах Фонтенебло началась одна из трогательнейших любовных историй, трогательных потому, что она была освящена истинным чувством обстоятельство столь редкое при французском дворе того времени, где бриллианты, цветы, кружева играют главную, если не единственную. роль в сердечных делах.
Лавальер не была красавицею. На лице у нее были некоторые следы оспы, она даже немного хромала и очаровательной выглядела только тогда, когда сидела на лошади. Г-жа Лафайет, написавшая краткую биографию герцогини Орлеанской, рассказывает, что в Лавальер был влюблен граф Гиш; но он благоразумно отступил на задний план, когда заметил, что король к ней неравнодушен. Гиш привязался тогда к Генриетте Стюарт, которую король оставил, и связь эта кончилась романтически: он был выслан, а она умерла — история, вполне соответствовавшая эпохе романтизма. Почти такой же жребий постиг также и министра финансов Фуке, полюбившего Лавальер не менее страстно, чем Гиш. Это тот самый Фукэ, который построил великолепный дворец в Во с мраморными лестницами, позолоченными залами и волшебным садом, достойным того, чтобы в нем гуляли боги, как пел один поэт того времени. В этом замке Фукэ устроил 16 августа 1661 года в честь короля роскошный праздник, на котором была впервые исполнена комедия Мольера «Les facheux»[126]. Ночью сад был освещен сотнями лампочек, имевших форму больших лилий с открытыми чашечками. Во время этого-то праздника Людовик открылся Луизе в любви. Она ничего не ответила, но ее обворожительный взгляд сказал все. Между тем, тот же праздник погубил Фукэ. Он также влюбился в Лавальер и через свою подругу Дюплесси-Бельер велел ей сказать, что у него есть для нее 20.000 пистолей. Однако, Лавальер, бывшая в то время еще очень бедною, так как она только недавно приехала из провинции и не имела еще связей при дворе, спокойно, но решительно ответила, что она не продает своей любви даже за 20 миллионов. Заметив вскоре, что король остановил благосклонное внимание на предмете его сердца, Фукэ со стесненным сердцем захотел, по крайней мере, разыграть роль ее доверенного лица; но Лавальер, не желая открыть такому человеку свою тайну, рассказала все королю. Судьба могущественного министра была решена: он был заключен в Пиньероль, где и оставался до конца жизни. На гербе его знаменитого дворца красовался девиз: «Quo non ascendam?» (куда я ни взберусь). Фукэ хотел действительно взобраться на такую же высоту, на которой находились раньше Ришелье и Мазарини; но он смог достигнуть только окон Пиньерольской тюрьмы.
Сойдясь с Лавальер, Людовик как бы ожил душою. Он писал ей нежные записки и мадригалы, расточал любезности при встречах, осыпал подарками. В свою очередь и Луиза его страстно любила. Она все забыла для него. Если ей нельзя было быть с ним вместе, она утешалась тем, что рассказывала про него своей единственной подруге Монталэ, остроумной девушке, хотевшей играть большую роль в высшем обществе. Еще в Блуа она жила вместе с Луизою при дворе овдовевшей герцогини Орлеанской и тогда уже знала все ее тайны. Между прочим, ей было известно, что в Луизу влюбился один провинциальный дворянин, который и написал ей несколько любовных писем. Отношения между молодыми людьми продолжались недолго, так как мать Луизы все узнала и возвратила провинциальному воздыхателю его письма. Монталэ как-то проболталась об этой платонической связи, и ее рассказ дошел до ушей Людовика. Как вспылил король, когда узнал эту историю! Он бросился к ней. Произошла бурная беседа. Она клялась ему, что он её первая любовь, что у неё нет и не будет никаких тайн для него, а вот оказывается, что тайна есть, что она его обманула. Ни слезы, ни мольбы, ни клятвы не помогли. Людовик ушел. Лавальер ждала его до полуночи, помня клятву, которую они дали друг другу — никогда не оставлять ссоры до следующего дня. Но он не явился. Измученная, больная, с разбитым сердцем, она отправилась рано утром в монастырь Сен-Клу. Королю во время обедни сообщили о ее бегстве. В сопровождении трех лиц, закутав голову плащом, Людовик поехал в монастырь. Через час влюбленные уже вели нежную беседу. Все было забыто, и оба торжественно вернулись во дворец.
С этого момента начинается величие Лавальер. Для нее был построен Версаль, устраивались торжества и сочинялись песни. Все, что могло придумать воображение, пускалось в ход, лишь бы угодить фаворитке, которой, впрочем, ничего не нужно было, кроме королевской любви. До какой степени любил ее Людовик, видно из того, что однажды во время родов он сам поддерживал ее в критическую минуту. Среди страшных мучений Луиза бросилась ему на шею и разорвала его ворот из драгоценных английских кружев, стоивших 10.000 фунтов. Затем она упала в обморок.
— Она умерла! — воскликнула в ужасе г-жа де-Шуази, оказывавшая ей помощь.
У короля брызнули из глаз слезы.
— Возвратите ее мне и возьмите все, что у меня есть! — крикнул он.
Однако, как ни любила Лавальер короля, его отношения к ней доставляли ей истинное горе. Она тяготилась незаконностью этих отношений и всегда краснела, когда королева устремляла на нее глаза. Вечером того же дня, когда у нее родился первый ребенок, она явилась на бал в герцогине Орлеанской, в бальном платье и с цветами в волосах.
— Лучше я умру, — сказала она предупреждавшему ее врачу, — чем вызову подозрение, что я — мать.
Тогда еще жила Анна Австрийская и из боязни перед нею Людовик XIV сам скрывал, что у него родились от Лавальер двое детей. Свидетелями при крещении были какие-то мелкие, никому неизвестные люди. Один из них поставил даже рядом с именем в церковном списке слово «бедняк», как бы этим обозначая свое звание. Эти дети умерли еще в нежном возрасте. Один ребенок родился у нее мертвым, потому что мать испугалась грома. «Это поистине не доказывает, — писала по этому поводу принцесса Монпансье, — что отец был таким великим воином».
К стыду, который испытывала сама Лавальер, присоединились еще интриги. Ей завидовали. Ее хотели унизить, погубить. Поддельные письма посылались королеве, чтобы сделать положение Луизы при дворе невозможными Когда однажды Лавальер проходила мимо королевы, последняя по-испански сказала г-же Мотвиль:
— Видите эту девушку с драгоценными серьгами? Она любит короля.
Но Лавальер действительно любила. И любовь ее была тем более искренна, что она чуждалась всякой корысти. Она никогда не пользовалась своим влиянием, никогда не просила о каких-либо милостях ни для себя, ни для кого бы то ни было из родных. Если кто-нибудь ее оскорблял, она относилась к нему еще более благосклонно. Она ходатайствовала за всех, которые попадали в немилость из-за нее. А когда, в 1667 году, Людовик возвел в герцогство имения Вожурэ и два баронства в Турени и Анжу и подарил их Луизе «за ее добродетель, красоту и редкое совершенство, как знак его склонности к ней», иными словами, сделал придворную даму герцогиней, усыновив в то же время ее обоих детей (последних), графа Вермандуа и Анну Бурбонскую, Луиза Лавальер была только опечалена.
— Отныне, — воскликнула она с отчаянием, — все знают мой позор!
Но сознание того, что всем известен ее позор, только еще более подогрело ее чувство. Вскоре после возведения Лавальер в герцогское достоинство Людовик поехал к северной границе, чтобы двинуть оттуда свои войска на завоевание Фландрии и Брабанта. Это был его первый военный поход. Королева со штатом следовала за ним. Она сидела за ужином в маленьком городке Ла-Фер, когда ей сообщили, что на следующий день утром приедет герцогиня Лавальер. В одну секунду она поднялась и удалилась, вся пылая гневом; свита за нею. На следующий день рано утром герцогиня Монпаньсе, отправляясь к королеве, нашла в передней Луизу Лавальер, которая сидела на чемодане, усталая от быстрой езды. Они обменялись только несколькими словами. Королева была в волнении. Но, ответив на поклон герцогини, она села в экипаж. Ее придворные дамы только и говорили, что о бесстыдстве Лавальер. Атенаиса Монтеспан, время которой еще не наступило, воскликнула:
— Не дай мне Бог сделаться любовницею короля! Но если бы мне даже пришлось быть настолько несчастною, я никогда не забыла бы в такой степени всякий стыд, никогда бы так не навязывалась королеве!
Тем временем экипажи поднялись на холм. Внизу, в долине, расположилась лагерем армия. Королева строго приказала, чтобы никто не ехал впереди нее, так как ей хотелось первой приветствовать короля. Однако, Луиза не обратила внимания на этот приказ и, стегнув коня, бросилась вниз по скату холма. Королева вскрикнула. Окружающие едва удержали ее в экипаже.
— Остановите нахалку! — сказала она повелительным голосом.
Но никто не решался это сделать, и королева с холма могла видеть, как Людовик бросился навстречу возлюбленной, как он поздоровался с нею, поцеловал ее руки. Потом он медленно поднялся к королеве, но после приветствия не сел в ее экипаж, как она просила, сославшись на то, что он весь в пыли. Королева с трудом удержала слезы, и сердце ее сжалось, когда она увидела, что Людовик проехал рядом с ее экипажем несколько шагов, потом повернул лошадь, вежливо снял шляпу и галопом понесся к ожидавшей его Луизе.
Недолго, однако, продолжалось счастье Лавальер. В Людовике было слишком много огня и страсти, чтобы он мог много лет подряд оставаться рядом с нею. Он охладел. Он сделался равнодушен. И вдруг на горизонте придворной жизни взошла новая звезда, Атенаиса Монтеспан, женщина с удивительными формами и столь же удивительным умом. Для скромной Луизы места уже не было. Она пробовала примириться с новым положением. Смиренная духом, она безропотно переносила господство другой женщины, и ее нередко можно было видеть в одном экипаже вместе с королевой и Монтеспан. «Три королевы», говорили в народе. Но положение было ложное. С ним нужно было так или иначе покончить. Оставался единственный выход — монастырь. Но как ей было отречься от жизни в двадцать пять лет?
В феврале 1671 года Луиза бежала в монастырь св. Марии в Шальо. Это была последняя отчаянная попытка тронуть короля. Перед бегством она сообщила королю через друга своего, маршала Бельфона, что уходит от света, потому что потеряла милость короля, которому подарила свою юность. Король послал к ней Кольбера, и она вернулась. Долго плакала она на груди у Людовика. Оба были растроганы. Но недолго продолжалось новое счастье. Звезда Монтеспан всходила все выше и выше. К тону же красота Лавальер начала увядать, а две болезни, едва не сведшие ее в могилу, еще более отразились на ее внешности. Надо было вернуться в монастырь, на этот раз уже навсегда.
— Если меня там ожидают муки, — сказала она г-же Ментенон, которая тогда была еще воспитательницею детей Монтеспан, — то я буду вспоминать муки, которын заставляли меня здесь испытывать эти люди.
Она имела в виду Монтеспан и короля, которого продолжала любить. «Двор променять на монастырь, — писала она 8 февраля 1674 года маршалу, — для меня это не имеет звачения; но увидеть короля еще раз — вот моя забота и горе». Свидание состоялось, но ничего не принесло хорошего. Король холодно расстался с нею. Надежды больше не было и она могла с искренним сердцем сказать маршалу;
— Я вижу каждый день, что будущее не принесет мне здесь больше счастья, чем прошедшее и настоящее. Поэтому, как только двор уедет в конце апреля, я также удалюсь и пойду по священному пути, ведущему к небу.
Последний вечер в Версале (19 апреля 1675 года) провела она в комнате Монтеспан. Там же с нею попрощались принцессы. Рано утром следующего дня она выслушала мессу и, вся закутанная села в экапаж и поехала в монастырь кармелиток. Встретив настоятельницу, она ей с глубоким поклоном сказала, что вручает ей навсегда свободу, которою она так дурно воспользовалась до сих пор. Затем она приняла имя: сестра Луиза милосердная. Все было кончено. «Теперь, — писала по этому поводу принцесса Монпансье, — она уже забыта. Она превосходная невеста неба и, как говорят, у нее теперь много ума. Милость Божия творить больше, чем природа».
Но Лавальер не совсем была забыта. Если она удалилась от света, то свет сам врывался иногда к ней. Так, в 1676 году ее посетили королева и г-жа Монтеспан. Королева с участием спросила, действительно ли она так счастлива, как все говорят.
— Счастлива, — ответила она, — этого я не скажу, но зато я довольна.
При прощании Монтеспан у нее спросила.
— Имеете ли что передать королю?
Луиза на мгновение побледнела, но она овладела собою и сказала:
— Скажите, сударыня, что вам угодно.
В монастыре она вела строгий образ жизни и действительно старалась загладить грехи прошлого. Когда, в 1683 году, умер ее сын, граф Вермандуа, она первое время была безутешна, но потом неожиданно спохватилась. «Столько слез, — сказала она епископу, — по поводу смерти сына, рождение которого я недостаточно еще оплакала!». Какой образ жизни вела она, видно из того, что, как рассказывают, она целый год воздерживалась от воды, конечно, насколько было возможно. Такие испытания подорвали ее слабый организм. Она начала болеть. Мало-помалу она сделалась чистым воплощением любви к Богу. Когда она говорила о Божьей милости, голос ее, восторженный и страстный, проникал в душу. Там же в монастыре написала она книгу: «Размышления о милосердии Бога», проникнутую глубоко-религиозным настроением. Немудрено, что монахини считали ее святою, а когда она умерла, в 1710 году, им казалось, что тело ее благоухало и было окружено ореолом.
Из шестидесяти шести прожитых герцогинею Лавальер лет она тридцать пять провела в монастыре. Вольтер имел полное право воскликнуть: «Кто наказал бы такую женщину даже в том случае, если бы она совершила самый дурной поступок, тот был бы тираном, и тысячи женщин добровольно выбрали бы ее участь!».
Людовик равнодушно узнал о смерти своей бывшей возлюбленной. Она для него давно уже умерла и смерть ее явилась в его глазах только подтверждением совершившегося факта. К тому же ему в то время можно было думать не об одной Лавальер, большая часть жизни которой прошла в монастырском уединении. Он мог вспомнить еще и о маркизе Монтеспан, участь которой так живо напоминает участь несчастной герцогини.
Людовик и маркиза Монтеспан
Графиня Монтеспан была женщиной совершенно много рода. Красавица в истинною смысла слова, она отличалась хитрым и коварным характером и, что хуже всего, не имела ни малейшего понятия о том, что такое совесть. Она вкралась в доверие к Лавальер, (но только для того, чтобы овладеть сокровищем, которым та обладала. И это ей удалось. Однажды, находясь вместе с королевскою фавориткою в саду, она запела какую-то песенку. Она пела для Лавальер, но песня ее предназначалась для Людовика. И действительно, Людовик вскоре показался и стал рассыпаться перед нею в комплиментах. Затеи он отвел ее в сторону и шепотом попросил придти во дворец в такой-то день и час. Монтеспан не заставила себя просить долго и в указанное время уже была во дворце. Что было дальше, мы не знаем. Известно только, что муж Монтеспан в тот же день тщетно ждал возвращения очаровательной супруги. Она не явилась. Целую ночь провел он в тревоге и, наконец, из ответов на его вопросы убедился, что жена его в объятиях короля. Вырвать хорошенькую женщину из этих объятий было очень трудно, он знал это прекрасно, и огорченный муж уехал в деревню. Целые три месяца провел он наедине с природою в ожидании возвращения блудной жены, а когда она все-таки не явилась, вернулся в Париж, облекся в траур в отправился во дворец. Удивленный необычным костюмом своего гостя, король спросил, что это значить. Муж-рогоносец ответил:
— Ваше величество, у меня умерла жена.
Король засмеялся, но возвращение мужа ему все-таки не понравилось, и незваный гость должен был переехать на жительство в Бастилию, а потом отправиться в свое имение, где он умер в декабре 1771 года.
Началось царство Монтеспан. Портрет дает только смутное понятие о ее красоте. Это была истинная красавица. Во всей Франции не было женщины, которая могла бы сравниться с нею. Но с удивительной красотой она соединяла в себе легкомыслие, страстность, мстительность, жажду власти, злость и капризы. Король был весь у нее в руках и принужден был часто покорно переносить буйные припадки ен гнева. Она устраивала живые игры в карты, причем в роли карт выступали придворные кавалеры и дамы, а самые игры носили особый чувственный характер. Королю доставляло большое удовольствие смотреть, как его «королева» забавляется в своих позолоченных покоях, окруженная целым стадом овечек, или как она запрягает в миниатюрный экипаж дрессированных мышей и дает им кусать свои пухлые пальцы. В этих случаях он приводил к ней министров, предлагая им полюбоваться «играющим ребенком», а кстати посоветоваться с этим ребенком о самых важных государственных делах. Вся Франция была у ног Монтеспан. Она издевалась даже над самой королевой, которую король заставлял ежедневно встречаться со своей метрессой. Переправляясь однажды через реку в брод, королева с ужасом увидела, что дно ее экипажа покрывается водою. Когда Монтеспан узнала об этом, она с хохотом сказала:
— Если бы мы там были, то, наверно, стали бы кричать: «Королева изволить пить!».
На портрете Миньяра Монтеспан выглядела замечательно красивою в своем красном платье, усеянном жемчугом и кружевами, и с красным пером в густых белокурых волосах. Веселого нрава, она унаследовала легкомысленное отношение в жизни от отца, искавшего везде и во всем одни только удовольствия, и ничего не заимствовала от матери, набожной женщины, проводившей большую часть времени в церкви. Отец Монтеспан находил этот брак очень хорошим, так как, говорил он, «Никогда, по крайней мере, не видишь жены». И в самом деле они никогда не виделись: она проводила дни в храме, а он ночи в кутежах. Под влиянием такого отца будущая фаворитка не могла запастись высоконравственными взглядами на жизнь, и вот почему, сделавшись придворною дамою, она все мысли обратила на то, как бы привязать к себе Людовика. Вернувшись из похода в Фламандию, король сказал маркизе Лавальер, в то время еще занимавшей первое место в его сердце:
— Видите, как г-жа Монтеспан подбирается ко мне! Ей очень хочется, чтобы я ее полюбил, но этого я не сделаю.
И действительно, первое время Людовик не хотел вступать в серьезную связь с Монтеспан. Ему нравилась любовь не веселая, не смеющаяся, а глубокая и романтическая. Как удачно выражается о нем Арсен Гуссэ, в нем было больше романтического героизма, чем настоящего героизма. В конце концов, однако, он поддался ее чарам, и результатом этого явились 6 новых незаконнорожденных детей. Сначала думали, что, вследствие маленького роста, Монтеспан не будет в состоянии произвести на свет Божий ни одного ребенка. На деле, однако, оказалось совсем иное. От связи с Монтеспан у Людовика родились: в 1670 году сын Людовик-Август Бурбонский, герцог де-Мэн, принц Донд; в 1671 году сын Людовик-Цезарь Бурбонский, граф Венсенский; в 1673 году Людовика-Франциска Бурбонская; в 1676 году Людовика-Анна Бурбонская; в 1678 году Людовик-Александр Бурбонский, граф Тулузский; в 1681 году Франциска-Мария Бурбонская. Когда последняя вышла замуж за герцога Шартрского, позднее герцога Орлеанскаго, король поднес ей в виде свадебного подарка 2 миллиона и, кроме того, драгоценных украшений на 200.000, а мужу, помимо 50.000 крон, которые он получал, как принц крови, еще пенсию в 50.000 вместе с королевским дворцом в Париже. Все это свидетельствует о несомненно сильном чувстве, которое Монтеспан сумела внушить королю и которое не погасло через много лет совместной жизни.
Однако, всему бывает конец. Десять лет бурной жизни что-нибудь да значат. У короля начали притупляться нервы. В тоже время заговорил голос совести. Ведь он усыновил шестерых детей, рожденных в двойном прелюбодеянии! Ко всему этому присоединились протесты духовенства. Когда Людовик жил беспечно, разделяя брачное ложе между королевою и фавориткою, оно молчало, хотя преступление было неслыханное; когда же он сам стал колебаться, оно выступило в лице ближайших к королю представителей вперед и заговорило голосом упрека. Один иезуит решился даже намекнуть королю, на пример прелюбодеяния царя Давида с Вирсавией и громко крикнуть ему в церкви: «Tu es ille vir!» (ты дурной человек!). На суеверного Людовика это произвело большое впечатление. Духовнику он верил безусловно и поэтому решил положить конец своей незаконной связи. Он начал убеждать возлюбленную, что им нужно расстаться, что это безусловно необходимо для спасения их душ. Монтеспан со стесненным сердцем соглашалась. Однако, расстаться нельзя было сразу. Монтеспан слишком хорошо понимала, что она теряет. В свою очередь и Людовик был слишком привязан в метрессе, от которой у него родилось столько детей. И вот началась трогательная по понятиям того времени история: чтобы привыкнуть к разлуке, Людовик и Монтеспан начали предпринимать поездки в разные стороны. Однако, как только они возвращались, между ними завязывались прежние сношения. Несколько раз проделывался один и тот же опыт, но все напрасно. Чтобы не огорчить духовника, которому король обещал во что бы то ни стало разойтись с любовницею, от него было скрыто, что у Людовика от Монтеспан родились еще двое детей, уже после обещания.
В конце концов король начал скучать в обществе Монтеспан. Его тяготила глубокая привязанность, о которой он вовсе не думал, когда сходился с маркизою, тяготили также сцены ревности, который она устраивала ему, когда он позволял себе какую-нибудь случайную «измену». И в одно прекрасное время он решился.
Людовик и госпожа де Ментенон
Впрочем, у Людовика быль неотразимый импульс — вдова поэта Скаррона, Франсуаза, известная больше под именем г-жи де-Ментенон. Она была внучка Агриппы д’Обинье, знаменитого фаворита Генриха IV. Отец ее провел много лет в тюрьму куда он попал за измену, стоившую Франции ее владений в Америке. В тюрьма же родила ему жена, бывшая дочерью тюремного сторожа, будущую фаворитку (в 1635 году). Девочке было три года, когда отец, выпущенный, наконец, из тюрьмы, уехал в Америку, где у него были поместья. Там на берегу одной реки она едва не погибла от укуса ядовитой змеи: своевременная помощь спасла ее. Осиротев. девочка двенадцати лет вернулась в Париж, где поселилась у родственницы Нельян. Зависимость ее мучила и поэтому она охотно приняла предложено старого поэта Скаррона, писателя, обладавшая оригинальным умом и пользовавшегося огромной известностью во Франции, благодаря своим сатирическим произведениям. Сатира его для людей, знавших поэта, получала своеобразный отпечаток в виду того, что он сам был калека. Во всяком случае молодой девушке не пришлось жаловаться на судьбу. Талант мужа и ее редкая красота, соединенная с природным умом, сделали то, что дом будущей метрессы короля сделался средоточием умственной и аристократической знати того времени. О ней начали говорить, как о редкой женщине. Представители лучшего общества заискивали перед нею.
Но удар разразился скоро: умер Скаррон. Франсуаза тотчас же почувствовала гнет нового положения. Она обеднела, так как со смертью мужа прекратилась пенсия, которую он получал. Спасла ее маркиза Монтеспан, с которою она познакомилась, будучи вдовою. Она выхлопотала ей у короля ежегодную пенсию в 2.000 лир, а вскоре взяла ее к себе в качества воспитательницы детей. Впоследствии маркиза Монтеспан пожалела об этом, но было уже поздно.
Хитрая Ментенон сразу поняла, что можно воспользоваться положением и достигнуть блестящих успехов. Она тотчас же повела атаку на короля; но король оставался равнодушен. Он был пресыщен. Тогда Ментенон прибегла к другому средству: она сделала вид, что сильно привязалась к детям короля, вверенным ее воспитанию. Эти дети играли оригинальную роль в жизни Людовика. Он их любил больше законных. Он любил в сущности тех и других, но любовь к детям Монтеспан соединялась у него с сознанием, что они, составляя плоть от его плоти так же, как и дети королевы, были в то же время лишены прав и преимуществ, которыми пользовались его законные дети. Этой слабостью ловко воспользовалась ловкая интриганка. Она окружила детей Монтеспан редким попечением. Дни и ночи проводила она в неусыпном надзоре за ними, не давая приставленной к детям прислуге на секунду отступить от своих обязанностей. Все силы ее были обращены на то, чтобы предстать перед королем в ореоле особенно нежной воспитательницы, причем, конечно, старания удваивались, когда было основание думать, что придет король. Маневр удался, и чадолюбивый Людовик однажды действительно был очень растроган, когда, войдя в уединенную детскую Монтеспан, увидел, как вдова Скаррона одной рукой поддерживает бывшего в лихорадке герцога де-Мэна, другою качает мадмуазель де-Нант, а на коленях держит спящего графа Венсенского. В результате оказались повышение пенсии, которую получала «самоотверженная» вдова, и подарок в 100.000 ливров.
Первый шаг оказался удачным. Оставалось сделать второй. Это произошло в 1674 году, когда вдове Скаррон уже было сорок лет. Покинув уединение, в котором жила до тех пор, она переехала во дворец, чтобы быть ближе к своей госпоже и покровительнице Монтеспан, а кстати уже и к королю. Роль, выпавшая на ее долю, была очень подходящая. Поверенная королевской любовницы, вдова поэта и недавняя гувернантка должна была служить посредницей между Монтеспан и Людовиком, приходя таким образом в непосредственное соприкосновение с предметом своих тайных желаний. Теперь нужно было только обратить на себя его внимание. Но чем? Хитрая Ментенон не долго думала. Король еще любит Монтеспан, но уже тяготится ею, тяготится ее легкомыслием, известной степенью безнравственности. Не разыграть ли роль святоши? И вдруг вдова Скаррон превращается в образец благочестия и добродетели. Она думает только о Боге. Ее уста шепчут молитвы. Из ее груди то и дело вырываются тяжелые вздохи. Она оплакивает грехи человечества и свои слабости. Этим она сразу подстреливала двух зайцев: во-первых, приковывала к себе короля новизною настроения и, во-вторых, отнимала всякие подозрения у Монтеспан, которой даже в голову не приходило, чтобы такая добродетельная особа могла в одно прекрасное время сделаться любовницею Людовика. Тактика была удачная, и не успела еще Монтеспан хорошо присмотреться к святоше-вдове, как Людовик дал ей титул маркизы де-Сюржер, а вскоре подарил имение, от которого она и получила имя Ментенон. Тут только метресса спохватилась, но, как сказано, было уже поздно. Ментенон царила. Она увлекла и приковала к себе Людовика своим смиренным видом, мягкими речами, вдохновенными проповедями. Она указывала королю на его ошибки, обращала внимание на укореняющиеся в обществе нравы, не забывая при этом очень искусно и с самым незлобивым видом разоблачать слабости Монтеспан. Король не привык в таким речам. Они действовали на него неотразимо, так как до тех пор он не слыхал ничего подобного, и поэтому невольно искал с нею встречи. Это еще более поощряло Ментенон. Однажды король сделал смотр своим дворцовым войскам и остался очень доволен ими, особенно мушкетерами. Когда он высказался в этом смысле г-же Ментенон, лисица повела носом в знак того, что она нисколько не разделяет этого мнения. Вечером в присутствии всего двора король спросил ее, почему она так немилостиво относится к его войскам.
— Потому, — отвечала святоша, — что во все время смотра меня не оставляла одна мысль.
— Какая?
— Я думала, что все эти мушкетеры развратники, а их начальник (т. е. сам король) не лучше их.
Король ответил шуткою и вышел из окружавшей его группы. Ментенон последовала за ним и, чувствуя, что их никто не слышит, сказала:
— Вы все шутите, ваше величество. Мушкетеры вам очень нравятся. Но если бы кто-нибудь из них похитил жену товарища и вы бы узнали об этом, то, конечно, сегодня же ночью он не спал бы в вашем дворце, хотя бы он был самый храбрый из ваших мушкетеров, а похищенная им женщина — самая ничтожная из тварей.
Намек был слишком ясный, но как мог сердиться на нее Людовик? Во-первых, ему нравилась эта «откровенная» речь; во-вторых, ему нравилась… сама Ментенон. Да, во время частых бесед с нею он успел увлечься ее тихим, вкрадчивым разговором, ее высоким ростом, красивой фигурой, плавными движениями и необычайно красивыми глазами. Живая по природе, она в то же время умела быть сдержанной, и эта сдержанность особенно нравилась королю, который очень часто любил заигрывать с придворными дамами, иногда даже обнимать их и запечатлевать на их устах мимолетный поцелуй, но к г-же Ментенон всегда чувствовал некоторое почтение и при встрече с нею только вежливо ее приветствовал. «О, с этою, — говаривал он иногда, — я никогда не позволю себе что-либо сделать». И тем не менее он влюбился, т. е., собственно говоря, исполнил бессознательно волю той же Ментенон. Когда он открыл ей сердце, хитроумная Ментенон, которая могла уже праздновать победу, нашла, что время еще не наступило. Она ответила отказом, тонко дав вместе с тем понять, что сама влюблена в короля, но не может примирить своих высоких понятий о добродетели с преступной любовью. «К тому же, — прибавила она, — у вас есть супруга. Ей одной принадлежит ваша любовь. И если вы обратитесь к другим, от вас отвернется небо». Это окончательно заставило короля понять, какая пропасть существует между порочною, жаждущею одних земных благ Монтеспан и богобоязненной Ментенон, отличающеюся самыми строгими правилами. Судьба метрессы была решена.
Но Монтеспан не дремала. Она уже поняла, какая опасность грозить ее могуществу со стороны бывшей гувернантки, и пустила в ход весь огромный запас рычагов, бывших в ее распоряжении. Но и король уже был за Ментеяон и, чтобы освободить ее от всякой зависимости от метрессы, назначил вдову почетной дамой при супруге дофина. Это еще более восстановило маркизу Монтеспан. Она начала делать упреки своей бывшей гувернантке, обвиняя ее в вероломстве, в неблагодарности, но в ответ слышала тихие, но решительные слова:
— Если вы меня упрекаете в любви к королю, то не забудьте, что упрек этот касается ошибки, в которой вы же мне дали пример.
В отчаянии Монтеспен бросилась к королю. Она устроила ему мелодраматическую сцену ревности, указывала на детей, но и от него ей не удалось выслушать ничего, кроме грустных слов, как бы звучавших похоронною песнею:
— Сударыня, я ведь уже сказал вам, что ценю спокойствие. Насилия я не люблю.
Несчастной маркизе, у которой почва исчезала под ногами, нужно было пустить в ход другое средство, и тут же началась целая сеть интриг, направленных к тому, чтобы удалить Ментенон со двора во что бы то ни стало. В интригах участвовали министр Лувуа и герцогиня Ришелье, почетная дама супруги дофина. Через их посредство последняя узнала о далеко не беспорочной жизни Ментенон в молодости, о ее браке с калекой Скарроном, о ее сомнительных любовных историях во время вдовства и таинственных свиданиях с Людовиком. Восстановленная супруга дофина решительно выступила против новой придворной дамы. Произошла резкая ссора, для улаживания которой потребовалось вмешательство короля. Король, конечно, решил дело в пользу Ментенон, и виновников интриги ждало удаление от двора; но Ментенон предпочла продолжать роль воплощенной добродетели и, выхлопотав у короля прощение, сама же возвестила сопернице, что избавила ее от позора изгнания из стен дворца Вместе с тем она скромно, но с затаенным злорадством довела до ен сведения, что отнять тайные свидания между нею и королем невозможно, что король согласен и впредь исполнять ее справедливые требования и просьбы, но что последние она должна сообщать предварительно ей, Ментенон, которая и будет передавать их королю.
В этом ужасном положении Монтеспан решилась на последнее отчаянное средство. Она добровольно удалилась от двора в надежде, что король вернет ее, и тогда она предъявит ему условия. Старший сын ее, герцог де-Мэн, поддержал ее решение; но как только мать уехала, он тотчас же сообщил о ее плане г-же Ментенон, находя более выгодным вступить в союз с восходящей звездой, т. е. своей прежней воспитательницей, чем обладать расположением матери. Оба они воспользовались отсутствием Монтеспан, чтобы сделать ее возвращение невозможным. Герцог де-Мэн велел наскоро выбросить из окна мебель матери, вещи ее отправить в Париж, а помещением, которое она занимала, воспользоваться для другой цели. Маркизе Монтеспан некуда было вернуться и ей пришлось удовольствоваться пенсией в 12.000 луидоров, которую король приказал выплачивать ей ежегодно.
Только после этого Ментенон решилась уступить требованиям короля и сделаться его любовницею Началось царство Ментенон. Она жила во дворце уединенно, редко выезжала, но все государственные дела вершились в ее спальне. Король ежедневно направлялся в ней в определенный час, чтобы в ее спальне работать в присутствии метрессы с министрами. По обеим сторонам камина стояли два кресла, перед каждым из них по доске, а перед королем еще две скамейки: одна для министра, а другая для корзины, в которую король клал обыкновенно нужные бумаги. В то время, когда король работал, Ментенон сидела за книгой или шитьем, по-видимому равнодушная, но на самом деле внимательно прислушиваясь ко всему, что происходит в комнате. Если король спрашивал у нее мнения, она отвечала тихо, спокойно, как будто всё это её мало интересует, на самом же деле все дела уже были ей заранее известны, так как ни один министр не осмеливался идти с докладом к королю, раньше чем повидается с его метрессою, которая тут же с ним и решала дело. Таким образом, работы короля с министрами были сплошной комедией: задача министра заключалась только в том, чтобы повести его к цели, которую наметила фаворитка. Если случалось, что король слишком настаивал на своем, то министр старался по возможности запутать дело и отложить решение до более удобного времени. Людовик, конечно, думал, что он именно раздает должности и управляет государственными делами; но на самом деле все это делала одна г-жа Ментенон. Одно только было ведомство, в котором власть ее считалась не безусловною, — министерство иностранных дел, так как относящиеся к этому ведомству дела поступали большей частью на решение государственного совета. К тому же министр Торси упорно отказывался работать у Ментенон. Зато прочие министры, генералы и высшие сановники были у нее в руках. Больше, чем сам король, г-жа Ментенон могла сказать: «Государство — это я!». Даже над принцессами имела безусловную власть коварная фаворитка, и придворным не раз приходилось видеть, как дочери Людовика XIV, повздорив с метрессою короля, с трепетом входили, по приказу короля, в комнату г-жи Ментенон, откуда через некоторое время выходили со слезами на глазах…
Тридцать лет прожил Людовик XIV с г-жой Ментенон. Он умер в 1715 году. Через несколько лет умерла и его возлюбленная.
Людовик XV
Людовик XIV жил долго. Он, можно сказать, исчерпал себя до дна и сошел в могилу в то время, когда дальнейшая его жизнь действительно не имела бы ни смысла, ни цели. Даже дети у него все умерли при его жизни и наследовать престол пришлось правнуку, которому к тому же было тогда всего пять лет. Его формула: «Государство — я», оправдалась, так как после смерти Людовика XIV государства уже не было. Были короли, фаворитки, чиновники, но не было сложного государственного организма, в котором все едино, несмотря на видимое разнообразие и пестроту.
Регентом был назначен герцог Филипп Орлеанский, расстроивший финансы государства вместе с министром Дюбуа; но он не внес ничего нового в жизнь Франции. Даже господство метресс осталось в силе. Герцог сослал свою метрессу г-жу Парабер в ее имение и отдал ее место г-же д’Авернь. Увидался он с этою красавицею впервые в театра. На следующий день он предложил ей 100.000 франков и титул фаворитки, а ее мужу — место капитана гвардии. Она отказалась. Тогда герцог предложил ей 150.000 франков. Г-жа д’Авернь уступила, но потребовала немедленного удаления Парабер и ее друга Носэ. На следующий день при дворе уже не было ни прежней фаворитки, ни ее друга, и г-жа д’Авернь въехала во дворец в качестве новой любовницы. Муж ничего не имел против этого и даже, отправившись к регенту, сказал:
— Ваше королевское высочество изволили поставить меня во главе отряда гвардии. Я воспользуюсь своим положением для охраны моей жены, чтобы к ней никто не мог приблизиться, кроме вашего высочества.
Можно себе представить, как подобная среда могла влиять на воображение Людовика XV. Он воспитывался в сфере, пропитанной развратом. Женщины были везде и повсюду. Женщины играли руководящую роль. Даже ребенка-короля не пощадили, и в 1715 году, т. е. когда ему было всего 5 лет, его помолвили с девицею Монпансье, которой было всего четыре года… Маркиз Мольриэ был послан в Мадрид, чтобы уладить все вопросы, связанные с будущим браком. Ребенка посвящали во вей тайны. Он знал многое, хотя, конечно, на свой манер. Вот один из многочисленных фактов, относящихся к данному случаю. Однажды Людовик XV, окончив вечернюю молитву, начал плакать.
— Что случилось? — спросил воспитатель Вильяр.
— Скажите, ради Бога, — отвечал король-ребенок сквозь слезы, — действительно ли мне нужно будет спать в одной постели с кузиною, когда она сделается моей женой?
Вопрос был поставлен ребром и на него нужно было ответить.
— Да, ваше величество.
— Оттого-то я и плачу. Принцесса меня не будет любить.
— Кто это сказал вам, ваше величество? Откуда вы это взяли?
— Никто мне не сказал. Я сам это знаю. Ночью я очень кидаюсь во сне, и если кузина будет спать со мною, то, конечно, я не раз ударю ее ногами. Она после этого не будет меня любить.
И Людовик опять начал плакать.
Когда приближалось совершеннолетие короля, регент начал его знакомить с государственными делами. Первый урок был ему дан 17 августа 1722 года и ознаменовался серьезным инцидентом. Войдя в комнату короля как раз в то время, когда Людовик только что встал, он предложил ему последовать за пим. Все удалились, за исключением воспитателя короля, маршала Вильруа, выразившего намерение пойти вместе с королем и герцогом.
— Я сказал, что хочу говорить с его величеством наедине, — заметил регент.
— Ваше высочество, — возразил маршал, — как воспитатель короля, я не должен оставлять его ни на минуту. Я отвечаю за его жизнь.
— Вы забываете, что король мне вверен столько же, сколько и вам, и что ваша дерзость обращена против регента Франции, который тотчас же вас накажет.
И действительно, маршал в скором времени был удален от двора.
Через два месяца состоялась торжественная церемония коронования, а 16 февраля 1724 года королю исполнилось 14 лет и, следовательно, он сделался совершеннолетним. В тот же день герцог Орлеанский вошел в комнату Людовика XV и, став перед нем на одно колено, заявил, что он отныне будет исполнять его приказы. Недолго, впрочем, он исполнял «приказы», так как отдал Богу душу 2 декабря того же года. Умер он неожиданно, после плотного ужина, заменявшего ему обед. Одна из его метресс, герцогиня Фалари, сидела у камина. Вдруг он лишился чувств. Герцогиня бросилась в соседнюю комнату за помощью, но там никого не было. Она выбежала во двор. Через несколько минут явились врач, жена герцога и другие; но перед ними уже был труп.
С этих пор началось роковое правление Людовика XV, послужившее главной причиной кровавых событий следующего царствования. Министры назначались без разбора, смотря по тому, какая партия брала верх. Пока был жив герцог, пост первого министра оставался за ним; когда же он умер, министром был назначен герцог Бурбонский по одному только желанию метрессы герцога, г-жи де Прэ, думавшей, что этим путем ей удастся захватить в руки бразды правления. В то же время иезуиты пустили в ход все свое могущество. Под влиянием своего духовника Людовик XV запретил протестантам отправлять богослужение. Их имущество приказано было конфисковать. В то же время во всей стране начался сильный голод. Появилась целая армия жадных до наживы людей, которые, скупив оказавшийся налицо хлеб, стали поднимать цены на него все выше и выше. Фунт хлеба начал стоить 10 су, т. е. около 20 копеек на наши деньги. Народ, конечно, был недоволен и бунтовал, но за это подвергался тяжким наказаниям. Королевские войска часто пускали в ход порох и штыки. Это еще более озлобляло народ.
В эту тяжкую для государства и народа пору при дворе молодого Людовика XV нашли нужным заняться вопросом о его женитьбе. Так как официальная невеста короля была слишком нежного возраста, то решено было нарушить договор с испанским двором и найти для Людовика другую невесту. Выбор был поручен г-же Прэ, которая и остановила внимание на Марии Лещинской, дочери низложенного польского короля Станислава Лещинского.
Брачный договор был подписан в Париже 19 июля, а 15 августа герцог Орлеанский, уполномоченный короля, женился от имени Людовика на Марии Лещинской в Страсбургском соборе. 3 сентября королева совершила торжественный въезд в Париж и Версаль, а на следующий день кардинал де-Роган обвенчал помолвленных в дворцовой часовне. Молодой король был очень неопытен, и священнику пришлось познакомить его с супружескими обязанностями. В день свадьбы он много плакал и, наконец, с большим трепетом отправился на половину жены. Впрочем, Мария Лещинская сумела его скоро приковать к себе свежестью губ, красивым цветом лица и прекрасными волосами. Он начал находить королеву прелестной женщиной. В свою очередь и Мария отвечала ему нежностью и, когда Людовик XV заболел оспою, не отходила от него ни на минуту, пока король не выздоровел.
С этой болонью, между прочим, связан любопытный инцидент. Узнав, что Людовик болен, Филипп V решил, что он скоро умрет и что ему, Филиппу, следует поехать в Версаль, чтобы посадить на осиротевший престол своего второго сына. Он хотел уже сесть в экипаж, как ему сообщили, что Людовик выздоровел. При шлось отказаться от поездки. Обстоятельство это вызвало немало смеха.
Людовик XV был образцовым мужем.
Он не охладел к жен и не изменил ей даже после того, как она родила ему принца, также названного Людовиком. Радостную весть об этом событии первым распространил Орсеваль, проскакав в 33 минуты все расстояние между Версалем и Парижем и всю дорогу возглашая: «У нас есть дофин!». Рождение сына доставило Людовику большое удовольствие. Через некоторое время после этого какой-то сановник обратил его внимание на одну хорошенькую молодую женщину.
— Разве, по-вашему, она красивее королевы? — наивно спросил Людовик.
Сановнику, конечно, пришлось прикусить губы.
Но скромность Людовика и привязанность его в жене не нравились вообще всему двору, отличавшемуся легкими нравами. Об этом можно судить по поступку одного принца из дома Кондэ. Из его дома был виден монастырь, и принцу доставляло большое удовольствие показываться у окна монахиням в костюме Адама. Возмущенные монахини, не зная, как избавиться от зрелища, далеко не соответствующего их понятиям о жизни, принуждены были выстроить большую стену, скрывшую от глаз благочестивых обитательниц монастыря и дом принца, и его владельца. Впрочем, и в монастырях царила большая легкость нравов. Так, в то время пользовалась большим успехом новая комедия иезуита Грессэ: «Vert-Vert». Иезуит этот находился в любовных сношениях с одной монахиней, некоей Дампьер, которой очень захотелось прочесть его пьесу. Чтение такой вещи в монастыре было совсем неподходящим делом, и поэтому иезуит, несмотря на легкомысленное поведение, отказался исполнить просьбу возлюбленной. Наконец, он согласился, и в одно прекрасное время Грессэ явился в монастырь и начал читать монахине ужасную пьесу. Вдруг, когда он дошел до особенно комического места, раздался громкий смех. Они обернулись и увидели за занавеской всех монахинь с настоятельницей, которые внимательно слушали чтение. Грессэ осталось только продолжать начатое без перерывов.
При таком настроении общества добродетель короля казалась пороком. Однажды кардинал Флери завел со своею любовницею, г-жою Кариньян, разговор о том, что король все еще любит королеву.
— Было бы ужасно, — заметила г-жа Кариньян, — если бы любовь эта прекратилась, уступив пламенному чувству к другой женщине, как это произошло с Людовиком XIV и Лавальер. Самое лучшее подыскать королю метрессу.
И тут же было решено свести короля с г-жой Мальи, которой давно уже хотелось вступить в связь с Людовиком. Для этого втянули в план духовника королевы. Он убедил Марию Лещинскую, что и супружеские обязанности имеют границу и что есть другая, высшая обязанность — целомудрие. Королева стала отдалять от себя Людовика, который в гневе на супругу, из преданной и самоотверженной сделавшуюся вдруг недоступной, и вступил в связь с г-жою Мальи. Это было началом. Остальное пошло как по наклонной плоскости.
У г-жи Мальи были болшие черные глаза, большой рот, слишком длинный нос, темный цвет лица. К тому же она была высокого роста и толста. Но зато она лучше других могла втянуть Людовика в разгульную жизнь. После первого свидания она в отчаянии бросилась к г-же Кариньян и стала ей жаловаться со слезами на глазах, что не произвела на короля никакого впечатления. Много труда стоило склонить ее к тому, чтобы она пошла на второе свидание. Ришелье, с которым она была в дружеских сношениях, сказал ей: «Вам нужно самим напасть, если вы не хотите, чтобы на вас напали». Поощренная этими словами, г-жа Мальи решилась на второе свидание и после него приехала к г-же Кариньян с разорванным воротником и растрепанным платьем, но вся сияя от восторга.
— Видите, — крикнула она, задыхаясь от радости, — это он все сделал!
Недолго, однако, продолжалась радость г-жи Мальи. Над нею одержала победу родная сестра, в сближении которой с королем она сама же была виновата. У нее были четыре сестры. Г-жа Мальи взяла младшую из них, которой было всего около 14 лет, из монастыря, надеясь рано ее выдать замуж. Но сестра эта, еще будучи в монастыре, грезила о роли при дворе и однажды сказала:
— Я еду в Версаль, чтобы быть при дворе сестры. Король меня увидит и полюбит, и я буду царить над сестрою, королем и Европою.
Она не обманулась. Действительно, король ее увидел, полюбил же через некоторое время. И мадемуазель Нэстль (таково было ее имя) превратилась в маркизу Вентимиль. Но и она царила недолго и принуждена была уступить место другой сестре своей, массивной девушке с необычайно полным бюстом, толстыми губами и мещанскими чертами лица. Так как эта дебелая фаворитка долго нравиться королю не могла, то г-жа Мальи, жившая в одиночестве после падения, начала уже было думать, что возможно возвращение прежнего счастья. Но она ошиблась. Толстая фаворитка действительно была удалена, но зато ее место заняла четвертая сестра, по имени де-Турнель. С этой дело обошлось не так легко, как с остальными. Она согласилась сделаться фавориткою только после того, как король подпишет контракт, в котором была бы точно указана цена покупаемого им товара. Вот условия, поставленные этой особой:
1. Моя сестра Мальи удаляется от двора и заточается в монастырь.
2. Мой титул маркизы заменяется титулом герцогини со всеми соответствующими этому новому достоинству почестями и отличиями.
3. Король устроит меня так, что я ни в каком случае не буду терпеть лишения. Мое состояние должно быть независимо от перемен, которын могут наступить в чувствах его величества.
4. Когда я сделаюсь фавориткою, король должен стать во главе армии, так как я не хочу подвергать себя обвинению в том, что отвращаю короля от его обязанностей по отношению к королевству.
Условия были приняты, и деловитая сестра г-жи Мальи переехала во дворец.
Однако, и ее господство продолжалось недолго. Людовик XV вошел в роль. Его аппетиты разыгрались. Он жаждал новизны. И в одно прекрасное время герцогиня Шатору — титул фаворитки — была удалена от двора. Спустя долгое время Людовик решил было вернуть ее, но бывшая фаворитка неожиданно заболела воспалением легких и умерла.
Нужно было подумать о новой фаворитке. Дамы наперебой спешили снискать благосклонное внимание Людовика. Но Людовик некоторое время оставался без метрессы и при дворе уже начали приходить в отчаяние. Думали уже, что «пост» королевской фаворитки останется незанятым. Тут вдруг Людовику во время блестящих празднеств по случаю свадьбы дофина бросилась в глаза хорошенькая женщина в костюме амазонки. Думая, что это та амазонка, которою он так часто восхищался в Сеннарском лесу, Людовик подошел к ней и сказал:
— Прекрасная амазонка, как счастливы те, которых ты пронизываешь своими стрелами.
— Ваше величество, — отвечала амазонка, — я буду бережливо обращаться с ними, так как никому не хочу доставить счастья умереть от их яда.
В эту минуту к нему подошла другая дама в маске и заговорила. Когда она сняла маску, король пришел в восхищение, готовый тут же признаться ей в любви. Он узнал амазонку, которую встречал раньше в лесу. Это была Ленорман д’Этуаль, получившая впоследствии большую известность под именем маркизы Помпадур.
Людовик XV и маркиза де Помпадур
Первоначальное имя ее было Иоанна-Антуанетта Пуассон. Она родилась в 1722 году. Отец ее торговал съестными продуктами и сколотил себе некоторое состояние. Впрочем, и жена значительно содействовала увеличению домашнего благосостояния связью с главным арендатором Ленорманом де-Турнегемом. Последний сблизился с четою Пуассон и до того раделъ о ее счастье, что даже рождением дочери она была обязана только ему. Он заботился о девочке, как отец, и дал ей превосходное образование. В восемнадцать лет образование ее было закончено. Антуанетта была удивительно хороша собой, и мать, которая понимала, что значит красота, нередко говаривала: «Эта штучка для короля, а не для какого-либо простого смертного», и была не в особенном восторге, когда ее дочери предложил руку и сердце племянникъ Турнегема д’Этуаль. Турнегем снабдил Антуанетту всем необходимым, дал ей хорошее приданое, и девушка вышла замуж. Любви, конечно, она к мужу не питала, зато жила широко, держала экипажи, устраивала балы и блестящие празднества. Поклонников у нее была тьма. Поэты, в том числе Вольтер, воспевали ее. В первый раз Людовик увидел ее в Версальской часовне, и с тех пор Антуанетта старалась всеми силами обратить на себя его внимание. Вполне поэтому понятен ее восторг, когда на придворном балу Людовик начал ухаживать за нею. Наследующий день Ришелье предложил ей придти на свидание к Людовику XV. Вечером д’Этуаль сказала мужу, что больна, и, уйдя в свои покои, задним ходом вышла к воротам, где ее уже ждал экипаж Ришелье. Через несколько минут она была у короля. Так продолжалось ежедневно. Король, серьезно влюбленный в д’Этуаль, предложил ей помещение у себя во дворце, и она согласилась. Муж, конечно, пришел в отчаяние, но ему предложили, для поправки здоровья, предпринять поездку. Что же касается матери Антуанетты, то она, узнав, что дочь ее теперь у короля, пришла в неописуемый восторг. «Теперь, — воскликнула она, — Антуанетта в положении королевы». Восторг ее был до того велик, что она даже неожиданно почувствовала себя лучше (г-жа Пуассон была в то время очень больна). Вскоре затем она умерла со словами: «Больше мне желать уже нечего».
Г-жа д'Этуаль была не первой по счету фавориткой Людовика, но первой по значение для двора и государственной жизни. Вместе с нею, казалось, вернулись прежние времена Монтеспан и Ментенон. Прежде всего она переменила имя и стала называться маркизою Помпадур[127], получив также герб этой старинной вымершей дворянской фамилии. Затем она позаботилась о родне. Между прочим, брат ее Пуассон также получил титул маркиза. Когда материальный успех был обеспечен, она стала вмешиваться в государственные дела и в скором времени бразды правления оказались у нее в руках. Только некоторые из родных причиняли ей иногда неприятности. Так, однажды, когда Помпадур сидела с королем за ужином, вошел ее отец Пуассон и, хлопнув короля по плечу, сказал:
— Здравствуй, любезный зять!
Король пришел в сильнейший гнев и «тестю» было запрещено появляться при дворе. Таких инцидентов было немало, но они скоро забывались. Маркиза сама купила отель Эврэ. Шталмейстером при ней был назначен рыцарь ордена св. Людовика, а камеристкою — дама из знатной семьи, г-жа де-Гуссэ.
Король искренно любил маркизу и, когда она однажды заболела, побывал у нее восемь раз в течение одного дня. По поводу этой болезни при дворе много шептались. Говорили, что верность Помпадур Людовику подлежит большому сомнению, и с этим именно связывали ее болезнь. Министр Морепа, который терпеть не мог маркизы, подложил ей под салфетку четверостишие соответствующего содержания без подписи. Маркиза Помпадур пришла в неистовство, когда прочла стихи. Она догадалась, кто был автор, и Морепа получил отставку.
В самом разгаре могущества маркизу Помпадур постигло несчастье: умерла дочь от брака с Этуалем. Маркиза носилась с гордыми планами: она хотела выдать дочь за сына Ришелье, но воспаление легких неожиданно свело в могилу её Александрину, расстроив в то же время план, который должен был связать ее имя родственными узами с Ришелье, В то время, когда она была больна, ей сообщили, что король умирает. Действительно, король неожиданно заболел несварением желудка и лежал в постели с оледенелыми глазами и тяжело дыша. Его обрызгали водою, дали гофманские капли и он пришел в себя. Он, конечно, спросил, где маркиза, но ему ответили, что ей нездоровится. Людовик вскоре выздоровел, после чего подарил маркизе 20.000 фунтов. Это заставило и маркизу выздороветь.
Власть Помпадур росла с каждым днем. Между прочим, она добилась ссылки Ришелье в Монпелье после того, как между нею и им произошла легкая ссора. Тем не менее наступил момент и её падения. Начался он тотчас после покушения Франца Домиана, заявившего на допросе, что хотел убить короля в отместку за притеснения, которым подвергается народ. Людовик был ранен и слег в постель. В это-то время он почувствовал угрызения совести и, решившись переменить жизнь, предложил маркизе уехать. Вместе, с этим он хотел отречься от престола в пользу дофина. Но он не сделал ни того, ни другого. Наоборот, порочные наклонности его стали обнаруживаться еще с большею силою. Он завел у себя настоящий гарем. Однажды Людовик увидел в Версальском парке, хорошенькую двенадцатилетнюю девочку. Он пришел в восторг, и через некоторое время девочка была ночью взята с постели и доставлена в павильон парка, носивший название «Кремитаж» — главный пункт любовных похождений короля. Почти целый год пришлось пробыть там подростку. Девочке еще не было тринадцати лет, когда она родила королю сына… Король ее выдал замуж за бедного дворянина, дав ей приличное приданое. Павильон, находившийся в конце парка, был соединен подземным ходом с несколькими домами, превращенными в монастырь. В этот мнимый монастырь стекались красивейшие девушки Парижа, составляя настоящий гарем. Как только какая-либо из них надоедала Людовику, ее выдавали замуж, причем не скупились на приданое. Так, одна из них, выданная за полковника, получила 800.000 франков. Туда, в этот «монастырь», была однажды насильно заключена одна одиннадцатилетняя девушка. Отец, крупный нантский торговец, долго хлопотал, стараясь освободить дочь из заключения, но принужден был уехать в родной город ни с чем. При таких условиях роль маркизы Помпадур не могла быть по-прежнему велика. Бывшая повелительница Франции все более и более отодвигалась на задний план, и, когда она умерла, король ни единым словом не выразил сожаления. Когда мимо его окна провозили останки маркизы, шел дождь. Король равнодушно стоял у окна и, глядя на великолепную колесницу, на которой покоилось тело его метрессы, только проговорил:
— Погода не благоприятствует путешествию маркизы.
Кто бы узнал в этом довольном, утомленном радостями жизни короле того наивного Людовика, который, не замечая коварного умысла своего придворного, обратившего его внимание на одну хорошенькую женщину, добродушно спросил: «Разве она красивее королевы?». Теперь ему уже не нужно было говорить о таких вещах. Он сам искал хорошеньких женщин, искал везде и повсюду усердно, упорно, превратив культ грубой любви в свою профессии. О королеве он не думал. Эта идеальная женщина, проводившая дни и ночи в молитвах о том, чтобы Бог направил ее мужа на истинный путь, не могла нравиться распутному монарху, не останавливавшемуся для удовлетворения своей низменной похоти перед высасыванием последних соков из благородного, но придавленного, приниженного, угнетенного и сломанного народа. Он падал все ниже в ниже. Красота его уже не удовлетворяла. Он искал забвения в пучине страсти, потому что только забвение могло еще поддерживать равновесие в душе человека, который видел уже приближение страшной катастрофы. «После нас хоть потоп». Это мог сказать только тот, кто действительно уже слышал отдаленные раскаты грома и чувствовал дуновение ветра, долженствующего превратиться в дикий вихрь.
Людовик XV и графиня Дюбарри
Одним из многочисленных средств, с помощью которых Людовик XV доставлял себе забвение, и была графиня Дюбарри. Для Франции, помнившей еще величие двора Людовика XIV, появление этой женщины в центре придворной жизни было поистине скандалом. Если прежние метрессы, расточительные, легкомысленные, беспощадные, имели за собою то преимущество, что были более или менее знатного происхождения, вращались в лучшем обществе или, как г-жа Ментенон, видели в своих салонах представителей умственной и аристократической знати, то г-жа Дюбарри, наоборот, не могла привести в свою пользу ничего, кроме самого дикого, необузданного цинизма, связанного с самым ярым развратом. Достаточно сказать, что до поступления в метрессы к королю Дюбарри или, как ее тогда звали, m-lle Лан, была куртизанкой низшего сорта, жившей с аферистом, который пользовался ею для того, чтобы привлекать в себе игроков. Были люди, которые встречали ее в грязных вертепах пьяною от разгула и готовою идти за всяким, кто выразить на это желание. Рассказывали даже, что ее однажды нашли в бессознательном состоянии на улице под дождем…
Как было сказано, появление этой женщины при дворе произвело сильное впечатление. Те, которые пользовались честью табурета[128] у Помпадур, находили для себя величайшим скандалом пользоваться тем же у бывшей проститутки. Мириться в конце концов пришлось волей-неволей, потому что Дюбарри быстро вошла в роль и, овладев королем, стала бесконтрольной хозяйкой Франции. Велико же было тогда обаяние женского элемента! До чего доходило влияние этой женщины на короля, видно из следующего факта. Однажды на придворном обеде Дюбарри, разливая суп королю и гостям, поднесла разливательную ложку к губам. Все невольно переглянулись, а король, улыбнувшись, сказал:
— Однако, это будет не просто суп, а суп со слюнями.
— Ну, что ж такое? — возразила Дюбарри. — А может я хочу, чтобы все пили мои слюни.
Она тогда еще не знала, что придет время, когда ее оставит мужество и она будет дрожать, кричать и плакать под ножом палача. Когда впоследствии пришла революция и смела мусор, нанесенный на благородную французскую почву властолюбивыми и эгоистичными королями, была, конечно, сметена и Дюбарри. Но куда делась ее прежняя прыть! Никто до неё не выражал столько страха перед смертью, никто так не убивался, не умолял бездушного палача о смягчении смертного приговора. Куртизанка не выдержала до конца. Низкая в апогее власти, она обнаружила крайнюю мелкость и дряблость души, с которыми спорить могли бы, пожалуй, одни ее пороки.
Людовик XVI
Графиня Дюбарри была последней из фавориток, вокруг которых, как вокруг оси, вращалась вся политическая и общественная жизнь Франции. Когда она скончалась, в королевской Франции уже некому было ее заменить. Тем не менее она продолжала царить и после смерти. Дух, ею созданный, не исчез. Она некоторым образом явилась воспитательницею целого поколения, и в этом отношении, можно сказать, Мария-Антуанетта, жившая при иных условиях и, как законная жена, занимавшая другое положение, явилась прямой продолжательницей дела, завещанного графиней Дюбарри.
Если принять во внимание среду, в которой Мария-Антуанетта провела немало лет до вступления на престол, то тут нет ничего удивительного. Графиня Дюбарри являлась безусловной законодательницей. По ее капризу назначались и смещались министры, перед нею ползали во прахе, как перед настоящею королевою. Сам дофин Людовик и его молодая супруга принуждены были оказывать ей почести. Им, конечно, это не нравилось, но что было делать? Еще в молодые годы Мария-Антуанетта была посвящена в такие дела, которые лучше было бы скрыть от нее. Ей было всего шестнадцать лет, когда она писала матери:
«Против слабости я выступила со всею сдержанностью, которую вы мне рекомендовали. Меня вечером пригласили к ней (Дюбарри) на ужин, и она взяла со мною тон, в котором чувствовались почтительность, неловкость, покровительство, Я не отступлю от, вашего совета, о котором ни разу не говорила с дофином. Дофин также не может терпеть ее, но из уважения к королю не дает этого понять. У нее оживленный двор, ее посещают послы, и каждый знатный иностранец старается быть ей представлен. Мне пришлось выслушать об этом дворе странные вещи, хотя я и делала вид, что меня они вовсе не интересуют. Там давка, как у принцессы. Она собирает у себя общество, каждому говорить какое-нибудь словцо, она царит. В то время, когда я вам пишу, идет дождь, — по всей вероятности, с ее разрешения. В сущности же говоря, она славная женщина».
Несмотря на это временное недовольство, Мария-Антуанетта чувствовала себя в общем счастливой в первые годы супружества. О политике она еще не думала. Это был веселый, живой ребенок. В её распоряжении находилось только несколько книг. Учение шло медленно. Она сама не выражала большого желания чему-нибудь серьезно учиться и немало времени проводила вместе с подругами и друзьями над постановкою во дворце театральных пьес, в которых сама выступала исполнительницей. Единственным слушателем этих пьес являлся ее муж Людовик. Постановка «Ифигении» (в апреле 1774 года) доставила ей неслыханное удовольствие.
Успех вскружил ей голову и она по этому поводу устроила целый ряд празднеств. Супруга дофина была счастлива.
Но над Францией уже клубились революционные тучи. Борьба между правительством и парламентом начала принимать острый характер. Народ был недоволен и, чтобы заглушить его грозный голос, правительство не остановилось перед государственным переворотом, решившись одним ударом сломить оппозицию. Вдруг король заболевает и вскоре (10 мая 1774 года) умирает. Молодая Мария-Антуанетта чувствует, что совершается нечто серьезное и роковое. Она пишет матери: «Да храните нас Бог! Что с нами будет? Дофин и я, мы очень боимся, что нам в таком юном возрасте надо будет управлять страною. О, мать моя, не скупитесь на советы вашим несчастным детям». А брату Иосифу она пишет на следующий день: «Я прожила четыре очень счастливых года, но теперь открывается передо мною новое, чреватое подводными камнями будущее. Молись обо мне и помоги мне».
Все правление Людовика представляло сплошную цепь колебаний. Когда он вступил на престол, ему было двадцать, а Марии-Антуанетте восемнадцать лет. Оба они были, может быть, проникнуты добрыми намерениями по отношению к народу; но что могли они сделать? Король охотно удовлетворил бы справедливые требования народа, но у него были все хорошие качества подчиненного, и не было ни одного хорошего качества повелителя. Единственное утешение, которое хоть сколько-нибудь могло примирить его с самим собою, было указано Марией-Терезией, матерью королевы, что народ должен будет относиться к молодой королевской чете снисходительно, так как с ее воцарением исчезнуть все злоупотребления, которыми ознаменовалось правление Людовика XV. Но это был обман. Положение короля сделалось затруднительным с самого начала. В королевском дворца начали получать многочисленные петиции, подписанные политическими деятелями. В них требовались реформы и говорилось, что если реформы не будут проведены, королевская власть погибнет. Людовик делается нервным. Он принимает меры. Между прочим, Дюбарри подвергается аресту и изгоняется. Королева, впрочем, была непричастна к этому. Наоборот, она благосклонно отзывалась о фаворитке. Она вообще не вмешивалась еще в государственные дела. Но в народе уже начало бродить недовольство «иностранкой», а осенью 1775 года оно до того усилилось, что брат Иосиф нашел нужным обратить ее внимание на это. Королева, однако, не обратила внимания на предупреждение. Она отнеслась к брожению в народе очень легко. «Боже мой, что думать об уличных песнях! — писала она. — Здесь все поют, и если обращать внимание на такие глупости, то придется принимать в серьез то, что совершенно безразлично для самих авторов и чего они на следующий день уже не помнят. Жить нельзя было бы. Есть более серьезные вещи, чем это. В прошлом году мы, король и я, напали на след отвратительных памфлетов, направленных против меня. Они были только перед тем отпечатаны. Обнаружено, что это проделка одного бездельника, который навязал нам то, что им самим было сделано. Что меня более всего огорчает, это упорство, с которым некоторые люди выставляют меня иностранкой, постоянно занятою своим отечеством, француженкой против воли. Это недостойно. Все мои поступки доказывают, что я исполняю свой долг, и что долг этот доставляет мне удовольствие. Но это безразлично, злые слухи носятся повсюду и самые простые вещи превращаются в тяжкие грехи. Недавно явился один бесстыдник и просил от себя и от имени одной дамы позволения посетить „мою маленькую Вену“, — так он назвал мой Трианон. Это заставило меня открыть, что я имею против себя партию, распространяющую слух, будто я этим именем окрестила подарок, сделанный мне королем. Негодяи и интриганы блуждают по аллеям замка, — разве можем мы отвечать за их сплетни? Каждый раз, когда королю приходится выслушивать подобные вещи от министров и начальника полиции, недовольство его еще более велико, чем мое; но что поделаешь в большинстве случаев? Если продолжать дело дальше, то от этого скандал только еще более разросся бы».
В другой раз она писала сестре Марии-Христине: «Думают, что очень легко быть королевою. Но это неверно. Иго этикета бесконечно велико, как будто то, что естественно, — преступление. Король предоставляет мне вообще свободу, но ему не вполне хочется санкционировать реформы. Бант, фестоны и перья там, где этикет этого не допускает, — и королевство в глазах некоторых людей погибло бы. Иго это весьма тяжело для меня». Она пробовала было стряхнуть с себя это иго, но в результате получилось только то, что против нее восстало французское дворянство.
Но одновременно с жалобами на окружающие условия Мария-Антуанетта сама давала повод к жалобам против себя самой. Всосав в себя опьяняющую атмосферу Дюбарри, она бросилась в вихрь развлечений. Ей казалось, что все сойдет благополучно. Что ей было за дело до народа, которому, очевидно, не было дела до нее? Этим она еще более восстанавливала против себя нацию. Особенно сильное негодование вызвала она склонностью к азартной игре, которая была запрещена под страхом строгого наказания. До глубокой ночи просиживала часто королева, теряя подчас все, что было у нее в шкатулке, в результате чего случалось, что не оказывалось денег на самые необходимые вещи. Производило также неприятное впечатление, что в области государственных дел она выдвигает себя особенно на первый план, когда речь шла о делах, касавшихся австрийского двора. Вполне понятно поэтому, что ее называли «австриячкой». Наконец, произошла история с ожерельем, которая совершенно уронила ее в глазах народа. Падение было неизбежно.
Известно, в чем заключалась эта история. Кардинал Роган, человек безнравственный, тщеславный и совершенно нерелигиозный, влюбился в королеву и стал добиваться ее благосклонности. Королева его ненавидела, и поэтому все его ухищрения не увенчивались успехом. Графиня Ламот, находившаяся в близких сношениях с кардиналом, узнала о его замыслах и составила дьявольский план. Убедив кардинала, что бывает при дворе и очень дружна с королевою, она шепнула ему, что Мария-Антуанетта готова на все, если только он купит ей драгоценное ожерелье, стоящее полтора миллиона франков[129]. Сумма очень велика для задолжавшего кардинала, но платить её и не нужно. Достаточно, если он только поручится. Однажды ночью Ламот повела влюбленного кардинала в Версальский парк, где уже ждала его женщина, по всем признакам сама королева. «Королева» сказала ему несколько благосклонных слов и, перед тем как удалиться, оставила в его руках розу. Но время шло, и по векселю нужно было все-таки уплатить, а у Рогана денег все-таки не было. Вдруг оказывается, что под документом имеется еще одна подпись — Марии Антуанетты! Ювелир, которому надоело ждать денег от Рогана, обратился к самой королеве, и тут интрига разоблачилась. Королева была вне себя и по требованию Людовика кардинал был предан суду. Это последнее, однако, еще более ухудшило дело. Папа выразил протест, родня кардинала облеклась в траур, весь Париж был взволнован. Десять месяцев продолжалось дело, и, наконец, суд вынес приговор, по которому кардинал быль признан только обманутым, но невиновным, а графиня Ламот — воровкою (voleuse) и приговорена к пожизненному заключений в тюрьму. Королева была вне себя от негодования по поводу оправдания кардинала.
«Это — позорное оскорбление, — писала она сестре Марии-Христине, — и я купаюсь в слезах отчаяния. Я не заслужила позора быть принесенною в жертву священнику, виновному в лжеприсяге, какой-нибудь бесстыдной интриганке. Какое это для меня горе! Но не думай, что я увлекусь до поступка, меня недостойного. Я заявила, что не иначе отомщу за себя, как стану усугублять добро, которое делала».
Но «добро» не помогало. Положение делалось все более и более критическим. Дефицит рос с неслыханной быстротой и достиг огромных размеров. Пришлось переменить министра финансов: Калон уступил место Ломени Бриенну; но положение осталось тем же. Ко всему этому на страну обрушился страшный стихийный удар: поля были опустошены чудовищным градом (13 июля 1788 г.). Французский крестьянин был обездолен. Голодный народ обратил в отчаянии глаза к королю, и король предписал открыть лотерею в 12 миллионов в пользу голодающих. Но денег не было, и в конце концов обещание помощи не могло быть исполнено. Брожение усиливается, но правительство бессильно и отвечает репрессивными мерами. В это время собирается парламент, но его свобода ограничивается. Наконец, призывается назад Неккер, в удалении которого от дел играла такую большую роль королева. Правда, на этот раз сама королева настаивала на его возвращении, но народ этого не знает, не верит этому и приветствует возвращение Неккера, как победу над «австриячкой». Наконец, собираются представители сословий, и вдруг всё во Франции переворачивается вверх дном. Распространяется слух, что престарелый Фулон сказал: «Если народ голоден, пусть ест траву». В одно прекрасное время его хватают и, обвешав шею травою, вздергивают на фонарь. Это была одна из первых жертв брожения и недовольства. Революция началась.
В это тяжкое для Марии-Антуанетты время ее постигает новое несчастье: умирает старший сын, а потом отец, император Иосиф II. Тяжкое горе сильно повлияло на королеву. Ей всего 34 года, но волосы у нее уже начинают седеть. Кто мог думать в апреле 1770 года, когда она, веселая, жизнерадостная и счастливая, впервые въезжала в Париж, что ее ожидает столько несчастий? Но считаться с положением нужно было. Нужно было принять быстрые, решительные меры. И ей приходит в голову смелый план — войти в соглашение с руководителями оппозиции. Она же первая намечает Мирабо, этого народного кумира, и Мирабо вполне отдается королеве, восхищенный ее умом, энергией, предприимчивостью… «Среди приближенных короля есть только один мужчина и этот мужчина — его жена!» сказал про нее Мирабо. Этих слов достаточно, чтобы понять, какого он был о ней мнения. И действительно, королева повела себя, как мужчина. Она составляла документы, которые исправлял Мирабо, она действовала на народ, она всеми силами удерживала на расстоянии грозный призрак революции. К несчастью для нее, болезнь унесла Мирабо в могилу. Рушилась последняя надежда.
С этой минуты началась агония Марии-Антуанетгы, а вместе с этим и агония королевской власти во Франции. Император Леопольд нисколько раз советовал королеве бежать, но она каждый раз отвергала его предложения. «Подумай, — писала она, — что я уже не принадлежу себе. Мой долг остаться там, где меня водворило Провидение, а если нужно, подставить свое тело под кинжал убийц, которые могут добраться до короля». Единственно, что она хочет, это покинуть Париж с семьею и найти безопасное место где-нибудь внутри Франции. Наконец, она решается на бегство. Не она составила план. Она только уступила. И тем не менее, когда план не удался, когда короля и королеву арестовали как преступников и доставили обратно в Париж, все стали указывать на Марию-Антуанетту, как на виновницу бегства. Она была искупительной жертвой.
Нужно было приготовиться ко всему, и она стала готовиться. В 1791 году она писала сестре Марии-Христине: «Не посылай мне моих бриллиантов. Что мне с ними тут делать? Я больше не наряжаюсь. Вся моя жизнь — совершенно новое существование. Я страдаю днем и ночью, с каждым днем меняюсь в лице. Мои прекрасные дни прошли, и если б у меня не было детей, мне бы хотелось мирно почить во гробе. Они убьют меня; после моей смерти защищай меня всеми силами… Я всегда заслуживала твоего уважения и уважения всех справедливых людей всех стран… Меня обвиняют в гнусных вещах. Мне нет нужды говорить тебе, что я в них невиновна. К счастью, король относится ко мне, как порядочный человек. Ему хорошо известно, что я никогда не игнорировала того, что составляло мой долг по отношению к нему и к себе самой».
Развязка приближалась потрясающая развязка! Тюльерийский дворец был взят штурмом, а 13 августа 1792 года королевская семья уже была в тюрьме (Тампль). Все последовало с ужасающею последовательностью — тюрьма, лишения, оскорбления, обвинение в гнусных деяниях. Мария-Антуанетта уже больше не королева. Она «госпожа Капет», как язвительно называют ее в народе. Вскоре ее разлучают с Людовиком, а 21 января она получает его венчальное кольцо — безмолвный знак последнего прощания. 4 июля у нее был взят любимый сын, а вскоре отнята и дочь Мария-Тереза, впоследствии герцогиня Ангулемская. Затем ее доставляют в жалкую тюрьму Консьержери и начинается процесс. Королева спокойно и гордо держится на суде. Она с достоинством отвечает на вопросы судей.
— Вы, значит, продолжаете отрицать?
— Мой план не отрицать. То, что я сказала, правда, и на ней я настаиваю.
Королева презрением отвечает на гнусное обвинение Гебера в безнравственных поступках и гордо-спокойно выслушивает смертный приговор. И когда, 16 октября 1793 года, она предприняла свое последнее путешествие — к гильотине, лицо ее говорило о полном душевном спокойствии и примирении с судьбой. Раздававшиеся кругом крики: «Долой тиранию!», «Да здравствует республика!» ее уже больше не смущали. Только на разрушенной Тюльерийский дворец взглянула она с чувством искреннего сожаления и с уст ее сорвались трогательный последние слова:
— Боже, просвети и тронь сердца моих палачей! Прощайте навсегда, дети, иду к вашему отцу…
Наполеон I
Много места нужно было бы уделить, чтобы заняться параллелью между Францией времен Людовиков и Францией времен Наполеона Бонапарта, поскольку дело касается женского элемента и его значения для судеб государства. Конечно, самовластия женщин при дворе Наполеона не было: он был сам слишком самовластен для этого; но они все-таки играли большую роль. Переменился только характер ролей. Раньше женщины царили, благодаря своей силе, теперь они начали господствовать, благодаря своей слабости. Результат остался один и тот же.
На протяжении всей своей бурной жизни Наполеону часто приходилось встречаться с женщинами; но из них только одна может сказать, что оставила глубока след в душе Наполеона, а вместе с тем и в истории Франции. Это Мария-Луиза. По характеру и идейной самобытности она во всех отношениях уступала легкомысленным куртизанкам, еще недавно управлявшим судьбами Франции: но зато она обладала тем преимуществом перед ними, что представляла эластичную натуру, способную принимать всякую форму и прилаживаться ко всякому настроению. В некотором роде она была дворцовой мебелью, но мебель эта была троном… Но прежде всего несколько слов о первой жене Наполеона, императрице Жозефине.
Наполеон и Жозефина
Наполеон еще был генералом, когда встретился с Жозефиной у г-жи Тальен, с которой она познакомилась в тюрьме, Муж ее, генерал Богарнэ, был за год перед тем казнен, и красивая вдова его не нашла другого средства утешиться, как сделаться любовницею Барраса. Когда Наполеон начал ухаживать за Жозефиной, он и не думал на ней жениться; Отчего не позабавиться с легкомысленной женщиной, тем более, что она своими связями, своим опытом, своим знанием людей, насколько дело касается женского влияния, может ему принести пользу? К тому же Наполеон был еще в то время жалким наемником счастья. Он служил другим, а не себе. Ему, не избалованному еще светскими связями, Жозефина показалась чем-то вроде богини. Она была представительницей высшего света, виконтессой, вдовой генерала, красивая, изящная, превосходно носила туалеты. Чего было больше ожидать грубоватому Наполеону? В конце концов Наполеон влюбился. Он начал находить в ней неожиданно особые достоинства и к этому именно времени относятся его известные слова: «Нужно понять, чтобы любить, как следует, полным сердцем». Правда, он не мог забыть прошлое очаровательной креолки; но он в то же время знал, что добродетель была далеко не лучшим качеством в той среде, которая ее окружала. Он, может быть, сам не считал ее большим достоинством. Во всяком случае он утешался тем соображением, что влюблен, а следовательно стоит некоторым образом вне круга логики. «Чтобы говорить, чтобы мыслить в особенности, — сказал он однажды брату Люсьену, — нужен разум, а у влюбленных его уже нет, если, конечно, они его имели до того, как сделались влюбленными».[130]
Наконец, он женился. Пылкая страсть удовлетворилась. И тут только он понял, что представляла собою кокетливая креолка, которая, вследствие постоянных сношений с мулатками, сделалась, по словам Массона, «ленива, как ящерица, и кокетливее туземных черных женщин». Впоследствии о ней говорили, что она достигла достоинства императрицы, переходя из одной кровати в другую, и слова эти находили оправдание в многочисленных ее поступках. Когда Наполеон уехал после свадьбы в Италию, Жозефина совершенно забыла о прежнем муже и воспользовалась новым положением не только для того, чтобы вернуться к прежней жизни, но также для того, чтобы придать ей особый отпечаток. Узнав об этом, Наполеон пришел в неистовство и потребовал, чтобы Жозефина поехала к нему. Но кокетке было более удобно оставаться в Париже и она отказалась наотрез: «Я в отчаянии, — писал Наполеон Карно, — жена не приезжает. У нее, наверно, любовник, удерживающий ее в Париже. Пусть будут прокляты все женщины!» Но вот она едет. Она приехала. И Наполеон забывает недавнюю злобу и опять любит креолку-жену, любит искренне, горячо, с признаниями, клятвами, обещаниями. Потом он опять делается подозрительным, начинать следить за нею и действительно открывает любовников Жозефины в собственном лагере. Он их удаляет, она обзаводится другими. Он удаляет и тех. Наконец, он уезжает в Египет. Жена опять свободна, и как она пользуется свободою! Слухи проникают к Наполеону и в Египет. Взбешенный, он возвращается во Францию с твердым намерением развестись. Все уже готово, как вдруг… Недаром Жозефина прошла такую широкую школу жизни. Недаром она действительно кружила головы мужчинам и до Наполеона, и при Наполеоне. Вся сеть женских хитростей была пущена в ход и великий корсиканец опять сделался ручным. Он оставил мысль о разводе. К тому же, думал он, развестись можно во всякое время, да и развод вряд ли будет способствовать увеличению его престижа, которым он очень дорожил.
Однако, от любовников надо было отгородиться, и Наполеон прибег к решительному средству, соответствовавшему его характеру: он приставил к Жозефине компаньонок (dames pour accompagner). Это были некоторым образом собаки, охранявшие ее добродетель… С тех пор Жозефина никогда не оставалась одна, никуда одна не выходила и не выезжала. Дамы оберегали ее, как зеницу ока, и императрице пришлось волей-неволей вести себя порядочно.
Но песенка ее была спета. Наполеону нужен был наследник, а Жозефина оставалась бездетной. Развод был неизбежен. Когда Жозефина узнала о решении, она упала в обморок и стала биться об пол; но отчаяние не спасло ее. Нужно было упрочить власть, купленную дорогой ценой, и не Жозефина могла быть препятствием, которое могло бы остановить всепобеждающего Наполеона на его пути. Креолка была изгнана из императорского дворца, чтобы место ее могла занять женщина царской крови — эрцгерцогиня Мария-Луиза.
Император и императрица
Что Наполеон женился на Марии-Луизе не по любви — факт слишком известный, чтобы на нем нужно было долго останавливаться. Ему просто нужна была жена из царской фамилии. Могущественный император, он все-таки сознавал, что власть его только в нем самом и, что умри он сегодня, завтра от нее и следа не останется. Кому передать власть? Где сын, который был бы ему опорой не только в жизни, но и после смерти? У Наполеона нет детей, а следовательно нет династии. И Франции грозить опасность распасться, как распались владения Александра Македонского, также умершего бездетными И вот Наполеон разводится с креолкой Жозефиной, чтобы обеспечить себе возможность вступить во второй брак, на этот раз уже с девушкой царского происхождения. Основатель династии еще может быть простолюдином, но дети его должны непременно иметь в жилах царственную кровь.
До самого приезда Марии-Луизы в Париж уже в качестве жены императора (брак ее с заместителем Наполеона был торжественно совершен в Вене) великий корсиканец не видел ее в лицо. Он знал свою будущую жену только по портрету. У нее были белокурые волосы, красивые голубые глаза и нежные розовые щеки. Будучи полного телосложения, она, может быть, не отличалась большой грацией, но обладала несомненным здоровьем, а это было более всего важно для женщины, которая должна была сделаться матерью будущего преемника Наполеона. Все это в совокупности сделало то, что император действительно влюбился в портрет эрцгерцогини Марии-Луизы, влюбился из понятного чувства влечения к здоровой женщине и преждевременной благодарности к матери будущих детей и опоре династии. «Вы ни за что не поверите, дорогой папа, — писала вестфальская королева, супруга Жерома, брата Наполеона, виртембергскому королю, — как император влюблен в свою будущую жену. Он гордится ею до такой степени, что я никогда не могла себе представить чего-либо подобного. Не могу вам передать достаточно ясно. Каждый день он посылает к ней одного из своих камергеров, снабженного, подобно Меркурию, посланиями великого Юпитера. Он показал мне пять из этих посланий, которые, правда, ничего общего не имеют с посланиями св. Павла, но которые действительно достойны быть продиктованы страстным любовником. Он говорил со мною только о ней и обо всем, что к ней относится. Не стану перечислять вам празднеств и подарков, которые он готовить для нее и с которыми он познакомил меня подробно. Ограничусь только указанием на его настроение духа, передав вам сказанные им мне слова, что, когда он женится, он подарит всем мир, а все остальное время посвятит своей Заире».[131]
Это был поразительный пример любви, выродившейся из расчета. Отправляя своего верного слугу, маршала Бертье, в Вену с предложением руки, Наполеон велел ему по прибытию на место сказать будущей невесте: «Политические соображения могут влиять на решение обоих государей, но император Наполеон хочет, чтобы вы, сударыня, ему достались добровольно». И чем более приближалась минута, когда Мария-Луиза должна была приехать во Францию, тем более волновался Наполеон. Он был в величайшем нетерпении. Сотни раз рассматривал он портрет эрцгерцогини, заказал себе фантастический костюм с шитьем, сам бесконечное множество раз гляделся в зеркало, удалил из картинной галереи произведения, напоминавшие о войне с Австрией, начал учиться вальсу, причем вместо дамы вертелся по комнате со стулом в руках. Офецеров. которые видели эрцгерцогиню, он положительно превратил в мучеников, закидывая вопросами и заставляя сообщать самые невозможные подробности. «Есть ли у нее это? Ну, а то? А не заметили ли вы у нее другого?». Вопросы подобного рода так и сыпались у него с уст. И ответы были всегда удовлетворительные, потому что эрцгерцогиня Мария-Луиза была довольно плотная особа и у нее, выражаясь словами Наполеона, действительно было и то, и это… Даже слишком было. Хотя вышла она замуж всего восемнадцати лет, но при взгляде на нее невольно вспоминались мадонны Рубенса, полные, плотные, с сочными щеками и здоровым цветом лица. Говорили, что цвета лица у Марии-Луизы розовый, но на самом деле щеки у вея были красные, и она с этой постоянной краской на лице всегда производила впечатление, будто она только что сказала глупость и ей очень стыдно. В общем это была самая обыкновенная женщина сомнительной красоты, еще более сомнительного ума и совсем уже несомненного ничтожного характера. Влюбиться в истинном смысле слова в такую женщину и притом по одному только портрету было совершенно невозможно. Но чего ни сделает знатность невесты, если с нею связаны знатность будущих детей и гарантия самой династии?
Таким образом, любовь Наполеона была во всяком случае своеобразная. Тем не менее, выражалась она в обычной форме. Так, Наполеон с нетерпением ожидал писем от невесты и сам писал ей каждый день. Говорят, что Мария-Луиза с большим удовольствием участвовала в этой переписке. Это возможно. Но что касается Наполеона, то тут уже было не удовольствие, а захватывающий интерес. Он как бы превратился в юношу, в первый раз в жизни получающего любовные записки. Церемонии, оттягивавшие день приезда Марии-Луизы, выводили его из терпения. Он проклинал их. Наполеон как бы переродился, сделался чище. Даже мысли получили у него другое направление. И это несмотря на то, что еще очень недавно он жил в полное удовольствие, свободную любовь в цинизм превратил почти в профессии, а брату Жерому, подражавшему ему в пороках, писал: «Поступайте, как я, оставайтесь полчаса за столом, имейте только мимолетные связи, а метресс вовсе не имейте!».
Наконец, пришла желанная весть: «невеста едет!» Это было сигналом также и для Наполеона, который стремительно поехал ей навстречу. Согласно им же выработанному с большою тщательностью церемониалу, встреча должна была произойти в Суассоне, где был устроен лагерь для приема императрицы. Когда он выехал из Компьена, решение подчиниться церемониалу было у него твердо; но в дороге им овладело сильнейшее нетерпение и он, узнав, что Мария-Луиза всего в двенадцати верстах от него, сел в экипаж вместе с неаполитанским королем и помчался к ней без свиты. Завидев издали кортеж в Курселле, он вышел из экипажа и подошел к карете Марии-Луизы. Лакей не знал намерения Наполеона и поэтому, открыв дверцы, торжественно провозгласил:
— Император!
Можно представить себе общий переполох. Особенно смутилась Мария-Луиза. Красная и без того, она запылала румянцем во всю щеку. Она вовсе не ждала императора, уверенная, что увидится с ним только к вечеру. Но размышлять долго нельзя было. Дверцы захлопнулись и экипаж понесся с необычайной быстротой. От церемониала, над которым Наполеон ломал голову столько времени, и след простыл.
Вечером императорская чета была в Компьене. Там был подан ужин, за которым присутствовали также король и королева неаполитанские. Нанолеон был вне себя от радости и счастья. Здоровые щеки молодой жены и династические соображения действовали на него, как удары электрической батареи. Он помнил, что, согласно церемониалу, ему необходимо после ужина удалиться из дворца, оставив супругу, с которою обвенчался только гражданским браком, да и то через посредство заместителя, одну. Но как оставить? Он умолял за ужином горевшую от стыда и охваченную робостью молодую женщину не настаивать на церемониале и, раз он оказался нарушен вначале, довести его разрушение до конца и позволить ему переночевать во дворце. Мария-Луиза сопротивлялась, но сестра Наполеона, неаполитанская королева, не раз оказывавшая брату услуги в подобных случаях, пришла ему на помощь; во и это не помогало. Девушка не понимала, чего от нее хотят, и очень удивлялась, что церемониал нарушается без всякой надобности. Между тем, Наполеон продолжал пылать и, думая, что ее смущают какие-нибудь соображения о брачных формальностях, позвал к себе кардинала Феша, своего дядю, и спросил:
— Разве мы повенчаны не как следует?
— Безусловно, как следует по гражданским законам, — отвечал кардинал, не зная, какие последствия будут иметь его слова.
Мария-Луиза уступила, а через некоторое время влюбленный Наполеон, надушенный одеколоном и в халате, тайно пробирался в опочивальню своей юной супруги.
На следующий день он спросил своего лакея, не видел ли кто, как он нарушил церемониал. Конечно, все видели, но лакей сказал, что никто не видел, и все сделали вид, что ничего не знают…
С этой минуты началось истинное семейное счастье Наполеона. Он почти не отходил от жены, присутствовал когда она одевалась, заигрывал с вею, щипал ее щеки, шею и т. п. Мария-Луиза сердилась, но тихо. Тогда он хватал ее в объятия и, осыпав поцелуями, называл своим «толстым животным». Мария-Луиза успокаивалась, и игра возобновлялась.
Кроме соображений, о которых мы упомянули выше, на любовь Наполеона влияло, по всей вероятности, еще одно обстоятельство. В глубине души он был, несомненно, человек порядочный и его сильно смущали легкие нравы, царившие кругом. К тому же он помнил еще приключения Жозефины, помнил, как мало счастья доставляли ему женщины, дарившие в одно и то же время благодарностью и других мужчин. При этих условиях порядочность Марии-Луизы должна была сильно на него действовать, и нужно призвать вполне искренними слова, обращенные им однажды к молодой жене:
— Целомудрие для женщин то же, что храбрость для мужчин. Я презираю труса и бесстыдную женщину.
В Парижа немало удивлялись пылкой любви Наполеона. «Если бы я захотел дать вам понять, как император любит нашу прелестную императрицу, — писал кардинал Мори жене одного из выдающихся генералов, — то это была бы напрасная попытка. Это истинная любовь, но на этот раз любовь доброкачественная. Он влюблен, повторяю, как никогда не быль влюблен в Жозефину, потому что, сказать по правде, ведь он не знал ее молодою. Ей уже было за тридцать лет, когда они поженились. Между тем, эта молода и свежа, как весна. Вы ее увидите и будете в восторге».
Но как относилась в Наполеону сама Мария-Луиза? Мы уже сказали выше, что она была полное ничтожество. Ей велели принять предложение Наполеона, она приняла. Ей приказали поехать в Париж, она поехала. Она была олицетворенное послушание. Требования Наполеона она исполняла беспрекословно, но это не исходило из ее разума или сердца. Она просто исполняла супружеские обязанности. Однажды Наполеон пришел к себе утомленный и попросил позвать Марию-Луизу. Императрица пришла. Наполеон поднялся к ней навстречу и крепко поцеловал в щеку. Мария-Луиза полезла в карман и, вынув платок, вытерла то место, которое поцеловал ей муж.
— Разве я тебе противен, что ты вытираешься? — спросил император.
— Нет, я по привычке.
Наполеон был, конечно, поражен и ответом, и привычкой; тем не менее он промолчал.
— Спи у меня, — сказал он через некоторое время.
Императрица, конечно, исполнила бы и эту просьбу, но Наполеон любил, чтобы в его комнатах было очень, тепло и поэтому приказывал хорошо топить печи. Мария-Луиза отвечала:
— Здесь жарко.
Действительно, жара делала то, что слишком уже розовая и плотная Мария-Луиза принимала цвет вареного рака. Поэтому она предпочла спать на своей половине без света, чтобы не выставлять наружу оборотную сторону своих прелестей. Тем не менее она часто говаривала о своей любви к императору и о том же писала в письмах к нему. Мы сейчас увидим, что разумела бывшая эрцгерцогиня под словом «любовь».
Единственное, что можно сказать в пользу Марии-Луизы, это то, что она была безусловно верна Наполеону. Никаких интрижек ни с кем она не завязывала, да они шли бы в разрез с ее гладким, спокойным, ничем не смущаемым существованием. «Если бы Франция знала все достоинства этой женщины, — сказал однажды Наполеон в минуту полного довольства, которое, по словам его биографов, всегда следовало за благосклонностью Марии-Луизы, — то она упала бы перед нею на колени». Конечно, он не ревновал и не подозревал ее. Но он все-таки не мог забыть похождения Жозефины. И вот почему Наполеон приказал, чтобы в покои императрицы никогда не входил ни один мужчина (единственное исключение было сделано для учителя музыки Паэра) и чтобы при императрице всегда находилась придворная дама.
Однажды, зайдя на половину Марии-Луизы, Наполеон застал там какого-то мужчину и пришел в сильный гнев. Его мучила не ревность, а сознание, что его приказ не исполнен. Придворная дама поспешила сообщить, что это Бьенэ, пришедший для того, чтобы объяснить секрет одной части мебели, сделанной для императрицы. Не Наполеон нахмурил брови и проговорил:
— Все равно, это — мужчина. Если я даю приказ, то не должно быть исключений, иначе скоро и самих правил не будет.
Очевидно, что не ревнивым чувством руководился Наполеон. Жена Цезаря должна быть выше подозрений, жена Наполеона также, тем более, что речь шла о династии, чистоту которой никто не смел подвергнуть сомнению. Что Наполеон не ревновал своей жены, видно из следующего случая, рассказанного князем Меттернихом. «Я, — передавал он, — нашел, Наполеона у императрицы. Беседа зашла об общих вещах, как вдруг Наполеон спросил меня:
— Мне хочется, чтобы императрица говорила с вами искренне и открыто, и пусть она вам скажет, какого она мнения о своем положении. Вы — друг, она не должна иметь тайн от вас.
Окончив эту фразу, Наполеон закрыл двери зала и, положив ключ в карман, скрылся в других дверях. Я спросил у императрицы, что означает эта сцена; она предложила мне тот же вопрос. Видя, что она вовсе не была подготовлена Наполеоном, я догадался, что ему хотелось доставить мне возможность узнать от самой императрицы подробности ее жизни и потом представить благоприятный отчет императору, ее отцу. Императрица подумала то же самое. Мы оставались запертыми почти целый час. Наконец, император вошел со смехом:
— Ну-с, — сказал он, — вы наболтались изрядно. Много дурного рассказала обо мне императрица? Плакала ли она или смеялась? Не спрашиваю у вас отчета. Это ваша тайна, других не касающаяся, хотя бы другим был сам муж.
На следующий день Наполеон искать случая поговорить со мною.
— Что сказала вам вчера императрица? — спросил он меня.
— Вы мне сказали, — ответил я, — что наша беседа не касается других. Позвольте мне хранить молчание.
— Императрица, — прервал он меня, — вам сказала, что ей ни на что жаловаться. Надеюсь, что вы это скажете императору и что он вам поварит больше, чем другим».
Случай, приведенный Меттернихом, достаточно ярко рисует чувства Наполеона. Считая Марию-Луизу единственным спасением, он делал все, чтобы она была счастлива. И для того, чтобы и ее отец знал об этом, он не остановился даже перед небывалым до тех пор поступком — оставил жену с Меттернихом на целый час. С Жозефиной, конечно, он этого не сделал бы, потому чти дело могло бы кончиться для него весьма плачевно. Как свидетельствует ее бывший любовник Баррас, она, сидя с одним мужчиною в одном экипаже, непременно оканчивала тем, что кидалась к нему на шею. А г-жа д'Абрантес рассказывает, что ее мужу пришлось однажды разыграть в присутствии Жозефины роль, весьма напоминающую роль Иосифа перед женою Пентефрия…[132]
Во всяком случае, Мария-Луиза в это время вполне подходила к идеалу, соответствовавшему душевному настроению Наполеона. Великий корсиканец был на вершине своего могущества. Он, конечно, грезил о завоеваниях, носился с огромными планами, но дома жаждал душевного спокойствия, можно сказать, буржуазная счастья. Мечтою его сделалась любовь спокойная, без сцен и возгласов. В ушах его еще звучал голос Жозефины, выходившей из себя из-за малейшего пустяка, и он ужасался при мысли, что мог столько времени выносить этот семейный ад. Сам он в свою очередь не изменял жене. Говорят, впрочем, что во время своих походов он послал лакею записку, в которой имеются слова: «Ванна, ужин и Валевская»[133], т. е. та именно полька Валевская, которая уже принадлежала ему ранее и с которою, по-видимому, он проводил редкие часы досуга и теперь; но, как основательно замечает Тюркан, напрасно приписывают эту записку Наполеону, который, конечно, мог еще, пожалуй, написать ее, но уж никак не мог послать лакею и притом в такой форме. К тому же лакей, о котором идет речь, был в то время в России. Наконец, его заботливость о жене во время похода 1812 года не свидетельствует ли о чувствах, исключающих возможность всякой измены? Между прочим, он писал Камбесересу: «Министры не должны говорить с императрицей о вещах, которые могут ее тревожить или причинять страдания. Она должна быть в восторге от дел». Словом, Наполеон не только мечтал об идеале мещанского счастья в лоне семьи, но старался довести его осуществление до крайних пределов.
И Мария-Луиза стояла на высоте этого идеала. Она ела, пила, спала и ни о чем не думала. Победы мужа, разлад между мужем и отцом, измены, поражения, — все это ее совершенно не интересовало. «Вся — важность, вся — упрямство, вся — этикет, — говорит о ней в своих воспоминаниях герцогиня д’Абрантес, — она позволяла приблизиться к себе только герцогине Монтебелло… Завтракать, делать сыну знак головою, садиться на лошадь, вышивать, пить сливки, немного поболтать с царским достоинством о наших ввутренних делах, — вот чем занималась императрица после Дрезденского дела»[134]. Политический горизонт никогда еще не заволакивался такими густыми тучами, а она, которую Наполеон любил и назначил даже правительницею Франции, ни о чем не заботилась, ничего не звала и не хотела знать!
Но вот империя рухнула. «Трехнедельный удалец», пришедший к нам, по выражению Пушкина, с грозою военною, чтобы дерзновенною рукою ухватиться за вражеский венец, пал. Наполеон в волнении. Он не отчаивается, потому что он никогда вообще не отчаивался, но просто не хочет жить и принимает яд. Что делает в это время императрица, у которой уже нет престола, потому что супруг низложен? Ничего не делает. Больше того: она занята своей наружностью. Когда пришла страшная весть о падении Наполеона и его попытке лишить себя жизни, Мария-Луиза была в Блуа. Войдя к ней, Сент-Олер, как разсказывает д’Оссонвиль в своих мемуарах, застал ее в постели. Ноги императрицы виднелись из-под одеяла. Сообщив ей грозную новость, он опустил глаза, чтобы не видеть волнения, которое, как он думал, должно было отразиться на ее лице. Но императрица вдруг сказала:
— Ах, вы смотрите на мои ноги! Мне всегда говорили, что они красивы.
И в то время, когда Мария-Луиза, нежась в постели, думала о своих красивых ногах, Наполеон, находясь еще под впечатлением сознания, что он едва не отправился на тот свет, говорит:
— На острове Эльба я могу еще быть счастлив с женой и сыном…
Как ошибался Наполеон! Едва он прибыл на остров, первой его мыслью было вызвать туда Марию-Луизу. Он был уверен, что она приедет. Разве она не говаривала ему часто: «Хорошая жена должна следовать за мужем, этого требует Евангелие». А ведь она хорошая жена. И в то время, когда для Наполеона наскоро приготовляли помещение на острове Эльба, в то время, как на потолке его зала художник изображал, по идее Наполеона, двух привязанных к одной нити голубей, которые тем более затягивают узел, чем более удаляются друг от друга, низложенный император писал безмятежной супруге, что все уже готово к ее приезду на остров и что он ждет ее с распростертыми объятиями. Ответа не было. Думая, что союзники или Бурбоны задержали ее письмо, Наполеон написал второе. Опять нет ответа. Он — третье. Ответа нет. Он посылает нарочных — тот же результат. Наконец, он начинает. думать, что Мария-Луиза находится под строгою ферулою[135] отца, который не разрешает ей переписываться с ним, и поэтому обращается к великому герцогу Тосканскому с просьбою выхлопотать разрешение на то, чтобы Мария-Луиза и г-жа Монтескью, гувернантка его сына, писали ему от времени до времени. Но ответом было безмолвие.
Наполеона, впрочем, ожидало утешение. В одно прекрасное время к нему неожиданно приехала Валевская, с которой он находился в интимных отношениях раньше, еще до женитьбы. Он был и обрадован, и разочарован. И в самом деле: вместо идеальной жены его горе пришла разделить далеко не идеальная любовница…
Что делала в это время Мария-Луиза? Она наслаждалась благоуханием воздуха и свежестью воды Экс-ле-бена. Она была не одна: ее одиночество разделял камергер Нейперг, заменявший ей, как утверждает Тюркан, мужа во всех отношениях. Что ей было за дело до корсиканского выходца, с которым соединила ее судьба? Она вышла за него по соображениям политики, в которой к тому же играла чисто пассивную роль, и когда эти соображения сделались анахронизмом, отвернулась и забыла о его существовании. С той минуты, как Наполеон был водворен на острове Эльба, он, по ее мнению, потерял всякие права на нее. Достаточно отметить, что она даже мужем перестала его называть. «Господин с острова Эльбы» — вот прозвище, которым она награждала его в редкие минуты, когда ей угодно было вспомнить о нем. Какая пропасть отделяла эту жирную австрийскую корову от жены Лафайета, перенесшей столько страданий, чтобы соединиться с любимым мужем хотя бы в тюрьме!
Но вот Наполеон бежал с острова Эльбы. Еще нисколько дней, к он в Париже. Сколько забот, сколько дела! Он работает над планом умиротворения взбаламученной Франции, стараясь в то же время задобрить врагов. И тем не менее мысль о Марии-Луизе его не покидает. Он продолжает ее любить. Едва он прибыл в Париж, как написал тестю, австрийскому императору, в Вену пламенное письмо, в котором умоляет его о возвращении жены. «Я слишком хорошо знаю принципы вашего величества, слишком хорошо знаю, какое значение придаете вы своим семейным привязанностям, чтобы не питать счастливой уверенности, что поспешите ускорить минуту нового соединения жены с мужем и сына с отцом, каковы бы ни были соображения вашего министерства и вашей политики». Так как и на это письмо не было ответа, то Наполеон послал в Вену Монрона, изгнанного им в 1811 году за то, что он слишком выставлял себя в качестве любовника принцессы Паулины, с поручением добиться во что бы то ни стало возвращения Марии-Луизы. Напрасный труд. Императрица не едет. Она никогда же приедет.
Звезда Наполеона быстро закатывалась. Союзники снова двинули против него свои полчища. Еще была надежда на поле сражения вернуть себе прежнее могущество и положение; но сражение под Ватерлоо решило все. Наполеон перестал быть Наполеоном. Он удалился в Англию, но высадился на острове св. Елены. Он рассчитывал на благородство английского народа, но забыл, что есть еще английское правительство. И действительно, его считали пленником и вместо гостеприимства, которого он требовал и на которое имел право рассчитывать, его ждал приказ об отправке на одинокий остров с нездоровым климатом, ждал смертный приговор в форме ссылки. Он быль слишком велик, чтобы его казнили, во он был также слишком опасен, чтобы слабые пигмеи, неожиданно сделавшиеся сильными, дали ему возможность долго жить.
Наполеон так и не увиделся ни с Марией-Луизой, ни с сыном. Но чувства его к жене не изменились. По свидетельству невольных товарищей Наполеона по пребыванию на пустынном острове, он беспрестанно говорил о жене и сыне, доказывая, что распространенный взгляд, будто разлука влияет гибельно на любовь, неверен.
— Я, — сказал он однажды, по свидетельству Гудсона Лоу, — очень люблю свою добрую Луизу. И после пяти лет разлуки я люблю ее еще больше, чем, может быть, любил бы, если бы мы вместе остались в Тюльрийском дворце.
Блажен, кто верует!
Людовик XVIII
Но вот кончилось владычество Наполеона. Гордый корсиканец, как вихрь, как шквал, налетел на Европу и, взволновав ее с одного конца до другого, исчез. Наступила новая пора. Повеяло миром. Разрозненные, разрушенные, разоренные европейские государства стали собираться с силами. На острове св. Елены еще жил человек, представлявший воплощение недавних бурь, но он уже был немощен. Как скованный Прометей, лежал он, пригвожденный к скале каменистой пустыни, обвиваемый грозным дыханием неприветливого океана, который с одинаковым равнодушием целовал и берега его родины, и скалы его мрачной темницы…
Людовику XVIII, младшему брату обезглавленного Людовика XVI, было уже 59 лет, когда священный союз, положивший конец бездонному властолюбию Наполеона, посадил его на французский престол. Орел был заменен индюком. Бедный! Новый король не знал, что владеет короной милостью людей, а не милостью Божией. Ему казалось, что вернулись времена его предков, времена Людовика XIV, когда все жило и радовалось, потому что горизонт был еще чист и ни откуда еще не доносилось раскатов надвигающегося грома. Начались реакционные меры, — как будто Франция не пережила грандиозной революции, которая все смела, срезала, развеяла и разнесла!
Конечно, началось и прежнее царство метресс. Правда, XIX век не XVII, и для таких властолюбивых дам, как г-жи Помпадур, Монтеспан и другие, места при французском дворе уже не было; но фаворитки все-таки существовали. Они вели прежнюю вольную жизнь, хотя и в менее широких размерах; они поглощали те же государственные расходы, хотя деньги, которые получал король, уже были подчинены строгой регламентации; они задавали даже тон политике, хотя скромно, тихо, под сурдинкой.
Остановимся на одной из них — графине дю-Кайля. Она происходила из так называемой «noblesse de robe», т. е. из чиновного дворянства. Отец ее, Омер Талон, был генерал-адвокатом и гражданским наместником Шатле. Воспитание она получила в знаменитом пансионе. г-жи Канпан, бывшей камеристки Марии-Антуанетты, В этом пансионе воспитывались одновременно с нею Каролина Бонапарт, сестра Наполеона (позднее жена Мюрата), Гортензия Богарнэ, сделавшаяся впоследствии голландской королевой, и еще несколько других молодых девушек, которым было суждено играть впоеледствии роль при дворе первой империи. О строгости нравов в пансионе не могло быть и речи, и воспитанницы, окончив учебное заведение, выходили оттуда с богатым запасом знаний не одного только образовательного свойства. M-lle Талон не была исключением. Тотчас по выходе из пансиона она была выдана за дворянина тосканского происхождения, графа Баши дю-Кайля, который до революции был прикомандирован к принцу Кондэ в качестве придворного кавалера и служил ему адъютантом во время походов эмиграции.
Брак с самого начала оказался несчастным. Правда, сам Кайля был во многом виноват, но скандальное поведение его жены сделалось вскоре предметом общих пересудов. Официальным любовником ее состоял министр полиции Наполеона, генерал Савари, герцог Ровиго, который, как говорят, пригласил ее к себе, чтобы по поручению императора предупредить ее по поводу неосторожных слов, сказанных ею, и тут же во время исполнения обязанности предостерегателя влюбился в нее. Когда пал Наполеон и трехцветное знамя снова заменилось белым знаменем Бурбонов, графиня вдруг сделала великое открытие: она почувствовала, что в душе была всегда роялисткой. Впрочем, открытие было сделано вовремя: муж возбудил против нее дело, требуя выдачи детей, а сама она, стесняемая заботами о деньгах, оказалась в самом плачевном состоянии.
Счастье вскоре ей улыбнулось: у нее нашелся новый друг в лице графа Ларошфуко. Этот потомок благороднейших родов Франции принадлежал к ультра-консервативной партии, т. е. в той именно партии, которая, не понимая духа времени, стремилась только к водворению во Франции абсолютистского режима, опирающегося на дворянство, и только в этом идеале усматривала спасение династии. Так как в то время Людовик XVIII, подпав под влияние министра Деказа, обнаружил явное намерение пойти по пути реформ, то решено было приблизить к королю человека, который быстро и решительно положил бы конец свободолюбивым тенденциям короля. Выбор пал… на графиню Кайля! Она оказалась самым подходящим для этого человеком. Людовику скоро приглянулась хорошенькая женщина с полными, округлыми формами, красивыми глазами и ослепительно-белыми зубами. С тех пор началась власть графини дю-Кайля, власть ограниченная, но несомненная. Такой умный и проницательный государственный деятель, как Деказ, не мог не догадаться, в чью пользу работает новая фаворитка, и между ним и ею началась подпольная борьба, окончившаяся поражением министра и полным торжеством графини.
Как женщина корыстолюбивая, графиня, конечно, прежде всего стала пользоваться щедротами тучного короля. Некоторые из современников Реставрации указывают в своих мемуарах, будто дю-Кайля не была корыстолюбива; но это противоречит истине. Известно, например, что король часто играл с нею в шахматы, причем, если она выигрывала, уплачивал ей 2.000 дукатов, а если проигрывала, возмещал ее проигрыш. Однажды, когда графиня собиралась на бал, король приколол ей к волосам драгоценное украшение, стоившее 200.000 франков, причем она даже не заметила этого. В другой раз он подарил ей иллюстрированную Библию, в которой каждый рисунок, вместо обычной шелковой бумаги, был прикрыт тысячефранковым билетом. Наконец, он подарил ей великолепный замок в Сан-Суси, построенный по его плану. Он же заложил его. Все думали, что замок предназначается для дочери Людовика XVI, герцогини Ангулемской. Предметы искусства и другие вещи, которыми был украшен этот замок, стоили баснословно дорого — от 7 до 8 миллионов.
Любовь тучного и неповоротливого короля к изящной графине заключала в себе много смехотворного, и вполне понятно, что она служила неиссякаемым источником для всяких острот и рассказов. Так, говорили, что Людовик, большой любитель нюхательного табака, получил милостивое разрешение графини нюхать его на ее божественной груди. Проверить этот слух, конечно, было трудно, но тем не менее ему все верили. И вот однажды, когда графиня вышла из внутренних покоев короля, гвардейцы, выстроившиеся в ряд у дверей, сразу и дружно чихнули. Эта выходка взбесила графиню, но она ничего не могла поделать. Может быть, такой факт существовал и, обратив внимание на шутку гвардейцев, она только придала бы ему характер полной бесспорности.
Рассказывали еще, что однажды Людовик, находясь наедине с графиней, упал и вследствие тучности не мог подняться. Графиня всеми силами старалась поднять его, но грузное тело ее царственного любовника было слишком тяжело для ее нежных пальцев. Видя, что королю не подняться без чужой помощи, она начала звонить. Никто, однако, не явился, так как король строго запретил входить к нему в то время, когда он с графинею. Графиня начала кричать, но и тут никто не явился. Сам король, наконец, не выдержал и стал орать благим матом. Однако, никто не отозвался и на этот раз, потому что дежурному пришло в голову, не хочет ли король его испытать. В конце концов он все-таки вошел, и можно себе представить негодование короля, сконфуженность графини и удивление дежурного.
Влияние графини Кайля росло по мере того, как уменьшалось влияние самого короля, который с годами сделался еще более дряхлым, слабым, безжизненным. Но участь всех фавориток одинакова: они сильны только при жизни их венценосных покровителей и исчезают тотчас после их смерти. Последний вздох Людовика XVIII снёс графиню Кайля с того пьедестала, на котором она сидела по его милости. Однако, она еще долго после того вела веселую, рассеянную и богатую скандалами жизнь. Она видела вторичное изгнание Бурбонов, падение Людовика-Филиппа и учреждение Второй республики. Когда ей было уже 46 лет, она дала богатую пищу скандальной хронике Парижа своей любовной связью с маркизом Лукези-Палли. Перед смертью (умерла она в марте 1852 года) графиня завещала замок в Сент-Уане графу Шамбору, но он отказался от него.
Из-за замка этого, заметим кстати, начался позднее процесс между городом Парижем и дочерью графини, княгиней Бован-Краон, которая и выиграла дело.
Наполеон III
Вторая империя была менее богата великими событиями, но зато была более богата маленькими женщинами. Вся она была вообще маленькая, как и сам Наполеон III, несмотря на весь его блеск и роскошь, и видимую внушительность. Это, можно сказать, было царство гномов или, вернее, царство гусей, всё достоинство которых заключалось в том, что их предки когда-то Рим спасли…
Но зато весело жилось во времена Второй империи. Люди как бы сбросили с себя тяжелые и стеснительные одежды и пустились в отчаянный канкан. Правда, они танцевали на вулкане. Нельзя было просто, одним ударом, одним мановением руки, хотя бы оно и называлось государственным переворотом, стряхнуть с себя наследие двух кровавых революций. Наполеоновский жандарм мог еще крепко зажимать рот парижскому рабочему, без хлеба, без угла, без надежды на лучшие дни, шатавшемуся по освещенным богатым бульварам; но за этим рабочим поднимались сотни и тысячи других рабочих, поднималась вся трудящаяся, в поте лица своего добывающая право на существование Франция. Но во всяком случае это был только призрак. И его тщательно затушевывали другими призраками — призраками внешнего могущества в внутреннего умиротворения. Казалось, ожила пора великого корсиканца, когда Франция диктовала законы всей Европе и готова была проглотить весь мир, как это уже было однажды с классической страной при Александре Македонском. Впечатлительное воображение француза уже рисовало картины новых войн и новых побед. Великая армия громила Англию, Пруссию, Австрию, Россию — всё это гнездо явных друзей и тайных врагов, сплотившихся когда-то воедино, чтобы общими силами сразить непобедимого врага. И признаки этого яркого будущего как будто действительно существовали. Париж как будто опять делался центром; Франция как будто опять становилась законодательницей политических судеб, и голос императора твердо и самоуверенно парил над хором других европейских голосов… Вот отчего так весело жилось во времена Второй империи.
Более всего весело было, конечно, самому Наполеону. Он шел по следам великого корсиканца, и это выражалось не только в политике, но и в частной и семейной жизни. Тотчас после государственного переворота 2 декабря министры и друзья принца-президента стали высматривать для него принцессу королевской крови в качестве невесты. И пусть эта принцесса так же была бы мебелью, как и Мария-Луиза; но ведь и Наполеону III, положение которого первое время было столь же шатко, как и положение Наполеона I, также нужен был трон…
На первых порах, однако, поиски не увенчивались успехом, так как европейские дворы относились еще недоверчиво к новому властителю Франции, считая его престол непрочным и опасным. Один раз как будто переговоры готовы были увенчаться успехом. У вдовствующей великой герцогини Баденской Стефании, урожденной Богарнэ, приемной дочери Наполеона I, были от покойного великого герцога Карла-Фридриха (умер в 1818 году) три дочери: Луиза-Амалия-Стефания, супруга принца Густава Вазы, Жозефина, бывшая замужем за князем Карлом-Антоном Гогенцоллерн-Зигмарингеном, и Мария, жена маркиза Дугласа, позднее герцога Гамильтонского. Принц Густав Ваза, супруг старшей из этих трех принцесс, был сыном шведского короля Густава IV, которой был низложен в 1809 году в которому наследовал его дядя Карл XIII, усыновивший маршала Бернадотта. Высланный из Швеции, принц Ваза жил в Австрии, где имел титул товарища фельдмаршала. От его брака с баденской принцессой, с которою он развелся в 1844 году, родилась в 1833 году дочь, принцесса Каролина Ваза, нынешняя саксонская королева. На ней именно остановили внимание друзья Наполеона. Отец её, принц Густав, заявил, что ничего не имеет против брака, но согласие даст только в том случае, если брак будет одобрен австрийским двором. Однако, император Франц-Иосиф дал понять, что в виду печальной участи эрцгерцогинь Марии-Антуанетты и Марии-Луизы он мало склонен благословить этот брак. План поэтому расстроился.
Пришлось волей-неволей обратить взоры к какой-нибудь обыкновенный смертной. Ею оказалась молодая испанка, о красоте, грации и уме которой говорили тогда во всех салонах Парижа. Это была Евгения Монтихо, графиня Теба.
Наполеон и Евгения
Супруга Наполеона III родилась в Гренаде 5 мая 1826 года, ровно через 5 лет после смерти Наполеона I. Как рассказывает Энбер де-Сен-Арман, в свидетельство о рождении она была занесена в качестве Марии-Евгении-Игнации-Августины, дочери дона Киприано Гузман-Палафокса-и-Порто-Карреро, графа Теба, маркиза Ардальскаго, гранда Испании, и Марии-Мануэлы де-Киркпатрик-и-Гривенье, графини Теба и маркизы Ардальской. В то время, когда родилась Евгения, отец ее носил еще титул графа Теба. Титул графа Монтихо, принадлежавший тогда его старшему брату, как главе семьи, он начал носить только после его смерти. Настоящая фамилия семьи — Гузман. Род этот старинный и из его среды вышло немало храбрых воинов и умных государственных деятелей. Граф Теба, по-видимому, унаследовал воинственный дух предков. Увлекшись Наполеоном, он перешел на военную службу во Франции и в сражении под Саламанкой потерял глаз и ногу. Впоследствии, при обороне Парижа, в 1814 году, он еще раз был ранен. После падения империи он первое время оставался во Франции. В доме Матвея Лессепса он познакомился с его племянницей Марией-Мануэлой Киркпатрик, родившеюся в Малаге. Отец ее был родом из Шотлавдии, мать, урожденная Гривенье, — из Голландии. Так как жена Матвея Лессепса, ек сестра, была матерью Фердинанда Лессепса, то строитель Суэцкого канала был двоюродным братом матери императрицы Евгении. Этим близким родством и объясняется живой интерес, с которым императрица относилась ко всем предприятиям великого француза.
Дочери графа Теба получили строгое, но простое воспитание, так как состояние графа было небольшое. В этом воспитании не произошло перемены и после того, как граф после смерти брата (он умер в 1834 году) стал носить его титул, а вместе с ним очутился в хороших материальных условиях. В том же 1834 году вспыхнули беспорядки в Испании, заставившие нового графа Монтихо отправить жену с детьми во Францию. Три года спустя Евгения Палафокс — так ее тогда звали — была отдана вместе с сестрой в монастырь св. Сердца Иисуса. Получив известие о болезни мужа, графиня Монтихо поспешила в Мадрид с дочерьми, а когда он умер (15 марта 1839 года), решила там остаться.
Салон старой графини Монтихо в Мадриде сделался одним из лучших. В нем собирались и политические деятели. В центре находились, конечно, дочери графини, Франциска и Евгения, вызывавшие общий восторг необыкновенной красотой. Франциска вышла в 1841 году за одного из знатнейших представителей испанского дворянства, герцога Альбу. Некоторое время спустя графиня Монтихо была назначена обер-гофмейстериной королевы. Вскоре, однако, положение ее при дворе сделалось невозможным. Говорят, что главная часть вины падает на кокетство молодой графини. Во всяком случае в 1849 году ей пришлось отказаться от занимаемой должности и переехать в Париж. Там ей было нетрудно войти в близкие сношения со знатью, с которой она была на хорошей ноге еще раньше. Само собою разумеется, что она присутствовала также на торжествах, которые устраивал в Елисейском дворце принц-президент. Таким-то образом и познакомился Луи-Наполеон с Евгенией Монтихо. Очень может быть, что красота, молодость и грация молодой графини уже тогда произвели большое впечатление на Наполеона, но он не выдал своих чувств. Скрытность была основной чертой его характера. Никто ни в какое время не мог с уверенностью сказать, что кроется в его душе в настоящую минуту, и с этой стороны, может быть, он вполне заслужил прозвище сфинкса. Даже в ноябре и декабре 1852 года, незадолго до государственного переворота, когда молодая графиня Монтихо не раз посещала вместе с матерью охоту, спектакли или балы, которые Наполеон устраивал в замках Фонтенебло и Компьена, никто не мог подметить даже признак нежного внимания его к очаровательной девушке. Он, правда, охотно разговаривал с Евгенией, но это скорее приписывали влиянию ее ума, чем требованиям его сердца. Впрочем, была еще одна причина, по которой общество не замечало настоящих чувств Наполеона. Он находился еще в интимных сношениях с красавицей, последовавшей за ним из Лондона в Париж. Наполеон тщательно скрывал эту связь, но она была известна всем и каждому. По общему убеждению, он непременно покончил бы с этою связью только в том случае, если бы решил жениться, а так как связь продолжалась, то из этого выводили, что такого намерения у него нет.
Но время близилось к развязке. 21 и 22 ноября 1852 года состоялся плебисцит, кончившийся тем, что из 8.140.060 голосов. 7.824.189 высказались за империю, а 253.145 — против. 1 декабря сенат и законодательный корпус сообщили этот результат президенту Луи-Наполеону, который тут же принял императорский титул и имя Наполеона III. Комедия окончилась. Началась драма с великолепным прологом, продолжавшимся почти двадцать лет. Каким блеском окружил себя Наполеон в первые же дни своего правления в качестве императора!
12 января 1853 года состоялся первый большой придворный бал в Тюльрийском дворце. Графиня Монтихо с дочерью, конечно, находилась в числе приглашенных, и дочь ее превзошла красотой всех прочих дам. Император протанцевал только две кадрили: одну с леди Коулей, другую — с Евгенией. Только с этой минуты начало французское общество догадываться, что между Баполеоном и молодой Монтихо завязывается нечто большее, чем обыкновенное близкое знакомство. И действительно, через 10 дней император, собрав в тронном зале Тюльрийского дворца представителей законодательного собрания, возвестил им о своем предстоящем браке. Известие всех поразило, потому что Евгения не была царского происхождения, но оно было встречено одобрительно, потому что Евгения была слишком прекрасна, слишком умна, слишком любезна и обходительна в обращении, чтобы кто-нибудь решился высказаться против нее. 29 января 1853 года в Тюльерийском дворце был подписан гражданский акт, а на следующий день состоялась церковная церемония в соборе Парижской Богоматери.
Было бы напрасно думать, что Евгения во всей этой истории играла чисто пассивную роль. Наоборот, отличаясь большим честолюбием, она с первых дней появления на горизонте придворной жизни в Париже решила приковать к себе императора. Она всегда старалась быть около него и держать его постоянно под влиянием своих чар. Вот как описывает ее в своей книге одна из современниц, Клара Чуди: «Красивая испанка, — говорит она на страницах, посвященных описанию охоты в Компьене, — была в элегантном амазонском костюме и сидела на чистокровной андалузской лошади. Над длинным, широким охотничьим платьем и серыми панталонами красовалась стянутая талия ее изящной, красивой фигуры. Одна из маленьких ручек, одетых в перчатки, держала поводья, другою она погоняла благородную лошадь с помощью маленького хлыста, рукоятка которого была усеяна настоящим жемчугом. Ноги были в лакированных сапожках, снабженных высокими каблуками и шпорами. Она сидела на лошади, как кавалерист, без седла. Длинным косы ее лежали под поярковой шляпой, которая была украшена длинным великолепным страусовым пером, прикрепленным бриллиантовой булавкой и развевавшимся на воздухе. Ее огненные глаза сверкали и очаровательная улыбка, игравшая на ее губах, почти все время обнажала двойной ряд ее красивых зубов».
Заметишь кстати, что на одном из празднеств в Компьене была устроена лотерея и Евгения выиграла на ней смарагдовую брошь. Эту брошь она считала своим «счастьем» и носила всегда до смерти Наполеона в качестве талисмана. Сделавшись вдовою, она сняла с себя всякие украшения, в том числе и брошь; но когда ее сын поехал в область зулусов, где, как известно, был убит, она опять надела на себя эту брошь. Когда же умер сын, она окончательно рассталась с драгоценной вещью, которая, по-видимому, не оправдывала своего названия талисмана, и впоследствии подарила ее племяннице и подруге — герцогине Муши.
Достигнув высшей цели своих желаний, Евгения отдалась всем существом обаянию власти и страсти к роскоши. По случаю ее свадьбы в парижских мастерских были заказаны для нее не менее 24 платьев, в числе которых были 3 утренних из белого шелка, богато отделанных кружевами; ярко-красное муаровое платье с отделкой и фестонами из белых перьев; зеленый туалет с воланами и белыми перьями; белое шитое бархатное платье с двумя рядами цветов; красное бархатное платье, отделанное золотыми узорами и орлами. Гражданский акт носил сравнительно спокойный характер. В сопровождении матери (отца потеряла она еще в ранние годы), испанского посланника, своего придворного штата и обер-церемониймейстера Наполеона, поехала Евгения в половине девятого вечера в Тюльрийский дворец, где ее уже ждали принц Наполеон, двоюродный брат, и принцесса Матильда, кузина императора, чтобы отвезти к Наполеону. На ней было белое атласное платье, отделанное кружевами. Вокруг шеи обвились две нити жемчуга, в волосах красовался цветок. Для присутствия на церемонии были приглашены 1000 человек. После того, как контракт был подписан, общество отправилось в театральный зал, где была исполнена кантата, музыку к которой написал Обер. В 11 часов император удалился в свои покои, а Евгения и графиня Монтихо поехали в Елисейский дворец, где жили в период между помолвкой и бракосочетанием.
На следующий день, как сказано, состоялась церковная церемония, которая по роскоши и великолепию превзошла все виденное Парижем со времени Наполеона I. Около половины двенадцатого Евгения отправилась в Тюльрийский дворец. Слева от нее сидела мать. Красота невесты еще более выступала и бросалась в глаза, благодаря элегантному туалету. Этот туалет был свадебным подарком города Люттиха[136] и представлял белое бархатное платье с драгоценною накидкою из кружев, в которых были вытканы фиалки. Талия охватывалась бриллиантовым поясом, а на голове красовалась та же диадема, которую Мария-Луиза носила в день свадьбы. К диадеме была прикреплена кружевная фата и венок из оранжевых цветов. Вся в кружевах, осыпанная бриллиантами и опираясь на руку императора, вышла Евгения в предшествии архиепископа и всего духовенства из собора. Это было начало длинного пути, усеянного розами и терниями, пути, который вел к трону, а от него — в изгнание, к безвестности, тоске и одиночеству…
Мы не будем останавливаться подробно на всех моментах сложной драмы, в которой приняли почти одинаковое участие Наполеон и Евгения. Почти все царствование представляло сплошной ряд празднеств. Тюльрийский дворец, теперь уже снесенный, представлял много несообразностей в смысле архитектуры, но он удовлетворял требованиям царственной четы и в стенах его почти никогда не прекращались веселый смех и звуки музыки. Посреди этого странного здания красовалась большая открытая лестница, которая вела к приемным покоям и которой король-гражданин Людовик-Филипп был до того доволен, что не стеснялся спрашивать близких друзей: «Не восторгались ли вы уже моей лестницей?». Когда Наполеон III сделал Тюльрийский дворец своею резиденцией, на каждой ступеньке этой лестницы в приемные вечера возвышалась колоссальная фигура гвардейца императорской. лейб-гвардии. Император проводил в этом дворце с императрицей всю зиму и часть весны. Празднества, обеды, концерты, балы, спектакли — все это сменяло одно другое с головокружительной быстротой. Понедельники были посвящены семейным журфиксам, на которых всегда появлялась вся корсиканская родня, все эти Рокавиджине, Габриелли, Примоли, Бачоки. Тут же бывали и красивый молодой принц Боргезе, который с особенной любовью показывал друзьям в саду виллы, носящей его имя, статую Евгении.
Когда наследному принцу Лулу исполнилось 12 лет, и его стали привлекать к этим семейным понедельникам. Бедному Лулу они были только в тягость и он на них очень скучал. На его счастье, вечера эти продолжались недолго, таки как, несмотря на большое расположение к кулинарному искусству, Наполеон долго сидеть за столом не любил и через час обыкновенно удалялся в курительную комнату. Императрица же оставалась. И Наполеон, и Евгения мало понимали в музыке; но так как монархи везде и всегда оказывали покровительство искусству, то на понедельниках в Тюльрийском дворце появлялись обыкновенно всевозможные знаменитости в области музыкального искусства, как Патти, Карвальо, тенор Капуль. С последними случился однажды на журфиксе у Наполеона маленький инцидент. Обладая великолепными голосом, этот тенор думал, что он неотразим для дам. Действительно, дамы были от него без ума. Однажды после только что спетой арии императрица Евгения начала осыпать его любезностями. В сознании своей неотразимости над женщинами зазнавшийся тенор начал самодовольно покручивать усы одной рукой, в то время как другая глубоко ушла в карман панталон. Адъютант императора, желая дать ему понять, как неуместно его поведение, сказал ему:
— Вы так робки, голубчик! Пожалуйста, ее стесняйтесь!
Добрый Капуль улыбнулся. Слова адъютанта он принял за чистую нонету. Сам император при виде манер Капуля сделался нервным и, обращаясь к одной белокурой маркизе, с которою, как говорили, находился в близких отношениях, спросил:
— А вы, маркиза, выносите Капуля?
— Да, ваше величество, но только как певца.
Так текла жизнь в Тюльрийском дворце. Балы сменялись балами. Лучшие представители общества приносили туда все свои богатства, весь свой ум, удачные словечки, остроты. Этикет был строгий в противоположность эпохе короля-гражданина Людовика-Филиппа, когда на паркете тех же зал оставались после балов следы грязи, которую приносили с собою на сапогах гости, приходившие во дворец с зонтиками в руках. Мужчины должны были всегда являться в узких панталонах из белого кашемира, белых шелковых чулках, ботинках с заостренными носами и черных фраках. Военные, конечно, были в мундирах. Все кружилось, смеялось, шутило. Все чуяли, что Франция возвращается в великому прошлому, у которого, увы, не было будущего.
Конечно, трудно даже дать приблизительное понятие о великолепных празднествах Наполеона, на которых царила Евгения. Вот группа политических деятелей. В ней обращает на себя внимание бленый, лысый, но интересный герцог Морни, который так часто вел блестящие беседы с графом Валевским, близким другом знаменитой артистки Рашели. Взоры всех приковывает также к себе эльзасец Гаусман, автор гигантских проектов, который, благодаря своей жажде строительства, превратил Париж в один из красивейших городов мира. Об руку с новоиспеченным герцогом Персиньи прогуливался маршал Маньян, в послужном списке которого не было никаких подвигов, кроме того, который он однажды совершил, когда во время уличных беспорядков приказал просто стрелять в толпу. Сколько имен, сколько титулов. Вот несется в вихре вальса грациозная фигура мисс Слидель, звезды американской колонии; за нею дочь барона Гаусмана, элегантная девушка, которая со своим кавалером, шталмейстером императрицы, впоследствии первым мужем Аделины Патти, маркизом де-Ко, составляем великолепную пару, вызывающую общий восторг. Вот кружится по залу красавица Пурталес, белокурая Галлифэ, молодая герцогиня Элхинген (приемная дочь Цецилии Гейне), вышедшая после смерти мужа в 1884 году за герцога Риволи. А вот герцогиня Малаков стоит в стороне с Дюрюи, который, сделавшись впоследствии министром, ввел столько реформ. Герцогиня была женой маршала Пелисье, одного из трех маршалов, которым Наполеон пожаловал титулы по названию сражений, в которых ими были одержаны победы[137]. Много, много еще бросается в глаза блестящих кавалеров и дам, особенно дам в изящных, дорогих туалетах, оплачиваемых, как говорят злые языки, каким-нибудь другом в особом кабинете Porte-Jaune или Арменонвильского павильона, потому что мужья за них заплатить не в состоянии…
Заглянем в одну из боковых комнат — в буфет. Там царит неслыханная давка, шум, движение. Некоторые кавалеры уже уплетают двенадцатый сандвич и доканчивают пятнадцатый стакан пунша. Много хорошеньких испанок и бразильянок опустошают бутылки шампанского, которые любезно подносить им галантный покровитель прекрасных иностранок при императорском дворе, граф Лаферьер. В углу зала собралась кучка людей. Там офицеры благоговейно слушают герцога Малакова, который в грубой, ему лишь присущей форме рассказывает о всевозможных пикантных похождениях жен и дочерей французских офицеров в Алжире.
Но вот входят две пары. Все расступаются, чтобы дать им дорогу. Впереди идет бледная герцогиня Морни, урожденная княгиня Трубецкая, в умном лице которой даже самый внимательный глаз не нашел бы кровинки. Она опирается на руку маршала Лебефа, отличающегося столько же огромным ростом, сколько и редким здоровьем. За ними идет княгиня Паулина Меттерних, жена австрийского посла, в туалете, декольте которого вызываешь удивление даже в этом обществе, бравирующем свободой нравов. Губы у нее ярко накрашены и цвет их невольно бросается в глаза, когда ей приходится отвечать на язвительные замечания сопровождающего ее графа Нигры, одного из немногих истинных друзей Наполеона, оставшихся верными ему и в несчастье. Впрочем, у Нигры было особое основание быть ему верным: он питал большую нежность к императрице Евгении, платоническую, конечно, но несомненную.
Среди балов, которыми была так богата эпоха правления Наполеона III, костюмированные балы императрицы Евгении превосходили все, что можно себе представить, по блеску, богатству и оригинальности. Один из этих балов ознаменовался неслыханным скандалом. Дело происходило в 1856 году. Около полуночи, когда бал достиг высшей степени оживления, в зале неожиданно появилась при звуках вальса очаровательная женщина, при виде которой присутствовавшие остановились и как бы онемели от изумления. Одетая или, вернее, раздетая, как Саламбо, описанная через шесть лет после того в знаменитом романе Флобером, она спокойным шагом, не обращая внимания на общее изумление, направилась прямо к императору. Великолепное колье, огромные серьги и некоторые другие украшения составляли существеннейшие части туалета очаровательной итальянки. Императрица, вся дрожа от негодования, приказала вывести ее из зала. Долго еще после этого события неожиданное появление иностранки на балу в Тюльрийском дворце служило предметом общих разговоров, и цель ее — вызвать скандал — была достигнута. Эта женщина была графиня Кастильоне. Она была послана во Францию в качестве политического агента, чтобы склонить Наполеона в пользу желаний Италии, и для исполнения своей задачи у нее были только два средства — красота и страсть к скандалам. И этих средств оказалось достаточно. Умерла она в конце 1899 года забытой старухой в своем герметически закупоренном доме, из которого никогда почти не выходила и где постоянно оплакивала потерю красоты, бывшей единственным содержанием ее беспутной жизни…
Так тянулись дни за днями. Выставка 1867 года дала новый повод к целому ряду пышных празднеств, на которых присутствовали русский царь, прусский и итальянский короли, персидский шах и принц Уэльский; но они были уже последними. В воздухе чуялось приближение революции. Блеск наполеоновской эпохи начал меркнуть. Смерть стала уносить истинных друзей Наполеона одного за другим. Наполеон хотел увенчать свое царствование пышной победой над вековым врагом и очутился в мышеловке под стенами Седана[138]. Императрица Евгения, которая еще недавно наполняла мир своим именем, позорно бежала. На развалинах погибшей империи водворился республиканский режим. Все пошло по новому.
Наполеон III и графиня Кастильоне
Нельзя расстаться с Наполеоном, не остановившись подробнее на графине Кастильоне, о которой упомянуто выше. Ей хотелось играть при Наполеоне такую же роль, какую играли Помпадур или Дюбарри при Людовике XV. С точки зрения внешних данных, у нее было все для этой роли. Может быть даже, по красоте она превосходила фавориток несчастного короля, которому пришлось расплачиваться за грехи своих предшественников. Вот как описывает ее одна из придворных дам императрицы Евгении:
«Она была красоты законченной, той именно красоты, которая, по-видимому, не составляла достояния нашего времени. На этом красивом лице лежало выражение надменности, твердости, заставлявшее вспомнить о тех божествах, которым древние приносили жертвы, чтобы умилостивить их. Если оживить прекраснейшую из статуй, то она даст представление об этой необыкновенной женщине».
Где родилась она, каково было ее происхождение, где провела она детские годы, — все это почти покрыто мраком неизвестности. Достоверно только, что она пятнадцати лет от роду сделалась женою графа Верази-Кастильоне, который были старше ее всего на шесть лет. Кастильоне был дворянином, происходившим из старого пьемонтского рода и обладавшим большим состоянием. Не мало горя и. хлопот причинила ему молоденькая, очаровательная, но капризная жена. Достаточно привести хотя бы следующий пример. Графиня Кастильоне ни за что не хотела нанести после свадьбы визита свекрови, маркизе Кастильоне. Муж просил, умолял, стоял на коленях, — все напрасно. Однажды, находясь вместе с женой в карете, граф заметил, что она как будто менее капризна и более уступчива, чем в другое время, и поэтому приказал кучеру ехать к матери. Графиня, услыхав, куда муж направил карету, не сказала ни слова; но когда экипаж въехал на мост, быстро сняла с себе башмаки и чулки и бросила все это в реку.
— Надеюсь, — сказала она с торжествующим видом глядя на мужа, — что босиком пойти к твоей матери ты меня не заставишь.
Бесшабашная жизнь, полная беспрерывного стремления к смене удовольствий, сделала то, что графи Кастильоне в конце концов разорился. Нужно было подумать о средствах. И вот очаровательная графиня едет в Париж. В начале шестидесятых годов она неожиданно появляется на берегах Сены. Имя ее и неземная красота быстро прокладывают ей дорогу к Тюльрийскому дворцу. Выше уже было сказано, что она приехала во французскую столицу в качестве шпионки, по соглашению с сардинским министром-президентом Кавуром. Впрочем, обстоятельство это далеко не считается безусловным. Во всяком случае, может также быть, что она действовала. за свой счет и, рассчитывая взять в руки Наполеона, думала выступить потом в качеств посредницы между ним и туринским двором.
Наполеон увидел восхитительную итальянку на балу у герцогини Бассано. Прошло немного времени и первая цель интриганки была достигнута: она сделалась подругой Наполеона. Императору понравилась в ней прямота, с которою она приступила к делу. Он увлекся твердостью ее характера и уверенностью во всех своих действиях. На него также действовало то, что графиня Кастильоне нисколько перед ним не ползала во прахе, не заискивала и расточала свою благосклонность скорее из милости, чем из угодливости. Графиня Кастильоне нисколько не стеснялась своим положением любовницы императора. Наоборот, она всеми силами выдвигала наружу эту сторону своих отношений к императору, стремясь даже нанять официальное положение фаворитки. Это не раз подавало повод к ссорам между Наполеоном и Евгенией. Такие сцены, впрочем, происходили часто, каждый раз, как у императора оказывалась новая любовная связь. Император боялся этих сцен и в интересах семейного мира приносил обыкновенно в жертву свои любовные шалости. Так случилось и с графиней Кастильоне: император расстался с нею приблизительно через год после того, как приблизил ее к себе. Впрочем, это было неизбежно и помимо сцен с Евгенией, так как графиня своими эксцентрическими выходками компрометировала его.
Наполеон долго противился требованиям Евгении, чтобы графине был запрещен доступ ко двору. Но он все-таки уступил. Тем ее менее, графиня продолжала свое прежнее поведение. Она сошла с поля битвы не без боя. Еще на одном из последних бал-маскарадов, устроенных в Тюльрийском дворце, она явилась в костюме Марии Медичи, вся в черном, более прекрасной, чем когда-либо. Однако, к ней вежливо подошел камергер и, подав руку, столь же вежливо отвел назад к ее карете.
Как сказано, графиню Кастильоне сравнивали с мраморными статуями. На самом деле она и была существом из мрамора. Ни радости, ни горе ближних ее не трогали. Когда ее муж, прогуливаясь верхом с итальянским наслёдником Гумбертом, впоследствии королем, свалился с лошади и умер, у нее не нашлось ни единого слова сожаления, ни одной слезы, которою она почтила бы память усопшего. То же равнодушие обнаружила она, когда умер у нее сын. Она была вся поглощена мыслью о своей красоте. Собственная наружность была для нее предметом истинного культа. И когда пришла старость и сорвала с нее божественную красу и смяла дивные формы, она наняла себе квартиру в одной из элегантнейших частей Парижа в там заперлась. Целые двадцать лет провела она в своей добровольной темнице, никуда не выезжая и никого не принимая у себя. Ей не хотелось, чтобы кто-нибудь ее увидел; чтобы графиня Кастильоне, неожиданно для самой себя возродившая древнеэллинскую красоту, могла предстать пред чьими-либо глазами лишенною своего божественного дара — увядшей, безжизненной, безобразной! Она получала обеды из соседнего ресторана, но лакей, приносивший их, должен был на время обеда запираться в шкаф, чтобы не видеть лица женщины, которая пользовалась его услугами. Даже ставни дома никогда не открывались. Графиня Кастильоне считала свою красоту единственным основанием жизни, а когда она увяла, для нее прекратился и самый смысл жизни.
Генрих VIII, король английский и его жёны
История каждой страны насчитывает какого-нибудь тирана у нас был Иоанн Грозный, во Франции Людовик XI, в Англии Генрих VIII. Эти некоторым образом исторические кровопускатели, нужные, очевидно, для неисповедимых путей рока. Впрочем, в кровавой деятельности английского короля Генриха VIII есть черта, отличающая его от других тиранов. Он был палачом не во имя государственных интересов или религиозных идей, а во имя своих эгоистических потребностей. Руководясь одним инстинктом физиологических потребностей, он устранял с пути все, что ему мешало, не разбирая, друзья это или недруги. Так был удален всемогущий кардинал Уольси, дома которого, дворцы, сады, аббатства, картинная галерея удивляли мир; так были казнены дворяне, сложившие оружие в надежде, что король сдержит свое обещание и исполнить их требования; так было умерщвлено бесчисленное множество народа с помощью палаты лордов и ее «биллей об изменах». Безнравственный, невоздержанный, он не признавал никаких законов и, как всякий тиран, имел, к сожалению, вокруг себя большую армию помощников, которые во всякое время были готовы исполнить его преступные приказы. То обстоятельство, что он, согласно духу времени, знал толк в теологических вопросах, только ухудшало дело, так как это дало ему возможность сделаться английским папою и создать в английской церкви странную смесь католицизма с протестантизмом, а это в свою очередь только увеличило число жертв, так как к бесчисленным жертвам личной мести короля присоединились приверженцы старых основ религии, не желавшие принять его «шести правил веры». На эшафот то и дело восходили мужчины и женщины, старики и дети. Даже жен своих он не щадил и, как мы сейчас увидим, отправлял их на тот свет с помощью той же палаты.
Первою женою Генриха VIII была Екатерина Аррагонская. Генрих был еще юношей, когда женился на ней; она же имела уже за собою некоторое прошлое, так как была замужем за братом Генриха и успела овдоветь. Катерина была испанка, строгая в религии и нравах, с характером спокойным, совершенно не соответствовавшим бурному темпераменту короля. Единственно, что говорило в пользу Генриха, — это его красота, ум, любовь к наукам, влюбчивость, но ни одно из этих качеств ее не прельщало. Во всяком случае она вышла за него, так как брак был одобрен папой. Но благословение папы не спасло ее от несчастья. Генрих не мог долго оставаться верным жене. Большой поклонник женского пола, он постоянно переходил от одного предмета страсти к другому, пока, наконец, не остановился на придворной даме Анне Болейн, которая и слышать не хотела о простом сожительства и требовала брака. Нужно было или расстаться с очаровательной девушкой, отличавшейся в тому же живым, общительным характером, или развестись с женой. Генрих предпочел последнее.
Но какой отпор встретил король! Против развода были все: и папа, и Екатерина, и приближенные короля. Но Генрих уже успел узнать все прелести тирании и заявил, что не отступит от своего решения. Чтобы сделать развод более легальным, он придумал нисколько доводов. Так, он говорил, что ему очень хочется иметь наследника, между тем все дети от Екатерины у него умерли, за исключением слабой и болезненной дочери Марии. Этот довод никого не убедил и он придумал другой: ему вдруг пришло на память, что он совершил большой грех, женившись на вдове своего брата.
Король стал с жаром доказывать, что дальше продолжать этот грех он не в силах. Не даром же он быль теологом. Большую услугу оказал ему в этом отношении Уольси, который не любил Екатерины Аррагонской и желал развода, чтобы женить короля на французской принцессе. Но не для французской принцессы хотел развестись с женою король-тиран, он пылал страстью к интриганка и насмешнице Анне Болейн, на которой решил жениться во что бы то ни стало, хотя бы для этого пришлось восстановить против себя папу.
Впрочем, чувства Генриха VIII к Анне Болейн были понятны: придворная дама была действительно очаровательна. В то время, когда Генрих ее увидел, она была еще очень молоденькая. Незадолго перед тем она влюбилась в сына графа Нортумберлендского, лорда Перси. Это была незрелая любовь, навеянная первым расцветом нежных чувств, и вот почему она так забавляла Екатерину Аррагонскую, несмотря на то, что, будучи теткой Карла V и достойной дочерью Фердинанда Католического, она, как было сказано, отличалась суровым характером, мало способствовавшим пониманию «науки страсти нежной». Ей очень нравилось милое личико придворной дамы, обрамленное белокурыми волосами, и она думала сделать ее счастливой. На несчастье, Анна Болейн приглянулась королю, и лорд Перси должен был жениться на Марии Тальбот, чтобы очистить ему дорогу. Оставались еще жена и папа. С женою он мог не церемониться. Но папа?
Генрих VIII думал недолго. Заявив жене, что разведется с нею, он отправил кардинала Уольси в Рим, чтобы выхлопотать у папы развод. Это было не легкое дело. Против развода выступил император Карл V, против него вооружился король, в самой королеве проснулась вся испанская гордость, унаследованная с веками, и она заявила перед лицом Европы, что не хочет бесчестить свою дочь и никогда не даст королю согласия на развод. Она выпустила воззвание ко всем католическим народам. «Сжальтесь надо мною, ваше величество, — писала она в этом воззвании, обращаясь к королю, — и не позорьте моего ребенка!». С другой стороны, и папа не мог согласиться на развод. Ему, конечно, хотелось исполнить просьбу короля, но он останавливался перед мыслью, что разгневает германского императора и испанского короля Карла V, племянника Екатерины. Вот почему папа уклонялся дать решительный ответ. Это-то, между прочим, и послужило причиною падения Уольси, так как король, думая, что разводу мешает властолюбивый кардинал, враждебно относящийся к Анне Болейн, удалил его от двора, а впоследствии приказал отвезти в Лондонский Тауэр. Уольси, как мы видели, действительно не был расположен к придворной даме королевы, потому что прочил королю в невесты французскую принцессу, но за развод стоял горою. Между тем это-то вооружило против него не только короля, но и самое Анну Болейн, которая после того, как король удалил Уольси от двора, потребовала, чтобы он никогда больше не возвращал его к власти.
С этой минуты началось знаменитое в истории Англии движение, которое считают, стало началом реформации. Так как папа не давал согласия на развод, то король Генрих, следуя совету бывшего секретаря Уольси, Томаса Кромвеля, решил порвать с папой и, объявив себя главой английской церкви, обратился к помощи отечественного суда. Чтобы придать делу легальный характер, был созван собор, на котором председательствовал архиепископ Кентерберийский. Собор этот и решил — вернее, решил Генрих через посредство архиепископа, слепо исполнявшего его волю, — что главой английской церкви отныне будет король. Оставалось еще провести дело в парламенте, но это было нетрудно, так как уже предшественники Генриха приучили парламент быть послушным орудием. К тому же папа был очень нелюбим в Англии, так как поборы его ложились тяжело на население. Парламент решил прекратить отправку дани и признать решение собора о признании короля главою английской церкви имеющим силу закона. Событие это известно под именем «Реформы». Таким-то образом вопрос о разводе короля с Екатериной Аррагонской послужил причиною отпадения английской церкви от римской курии. Когда папская власть была изгнана из Англии, добиться развода уже было нетрудно. Архиепископ Кентерберийский потребовал дело к себе, и нужно ли прибавлять, что он нашел брак короля с вдовой его брата незаконным? Так он и поступил, причем не только было возвещено о незаконности брака, но даже сама дочь короля признана была незаконнорожденной. Королю оставалось только отвести Анну Болейн к алтарю, что он и сделал через три недели после расторжения брака.
Можно сказать, что романическая история короля с Анной Болейн положила конец не только папской власти в Англии, но и феодальному дворянству, с которым Генрих долгие годы вел беспощадную борьбу и над которым в конце концов одержал полную победу. Дворянство это таяло с каждым годом, благодаря железной политике Генриха, поддерживаемой могущественным Томасом Кромвелем, занявшим место кардинала Уольси; но все-таки было еще много дворян, которые, держась старых традиций, не хотели признать короля главой английской церкви, не одобряли развода и вообще противились начинаниям короля. Так как они не совершили никаких преступлений, то привлекать их к суду нельзя было. И вот для борьбы с этими-то элементами король пустил в ход палату лордов. Дворянина, не сочувствовавшего мерам короля, предавали суду палаты, обвиняя его в измене. Лордам было известно, что король их щедро наградит из имущества обвиняемого, если они ему вынесут обвинительный приговор, и они охотно это делали. Так было отправлено на эшафот множество невинных людей, а следствием этого в конце концов явилось то, что король Генрих, как и Иоанн Грозный, к концу жизни пользовался таким могуществом, как ни один из его предшественников. Врагов не было: все были или казнены, или спрятаны по тюрьмам. Парламент был не только послушным орудием но раболепствовал перед королем.
Анна Болейн торжествовала. В сущности все события были делом ее рук. Несправедливая и неблагодарная по отношению в королеве, которая ее приютила у себя и любила, она упивалась звуками стихотворений и песен, который посвящали ей рабы власти. И как ей было не упиваться? Благодаря ей король сделался одновременно и королем, и папою в таком большом государстве; для нее была низложена гордая наследница многих испанских королей, во имя ее отправлялись на эшафот сотни людей, не сознававших опасного яда протеста! А многочисленные праздники; путешествия, развлечения! Что за беда, что кругом лилась кровь? То, что было создано кровью и слезами, могло удерживаться только на крови и слезах. Иной почвы не было…
Но пробил и ее час. Анна Болейн быстро надоела деспотическому королю. Он жаждал перемены и воспользовался первым подозрением в неверности, непроверенным и несправедливым, чтобы предать ее тому же суду палаты лордов, с помощью которого отправил на тот свет столько жертв. «Сударыня, вы обвиняетесь в осквернении королевского ложа». Этих слов было достаточно. Суд вынес смертный приговор. И не успела опомниться молодая, цветущая, силой и здоровьем дышавшая женщина, как приговор был приведен в исполнение. Напрасно написала она своему царственному палачу письмо, самое трогательное, какое только может написать женщина в ее положения. Ее осудили скоро и бесповоротно. Даже защитник ее не был выслушан.
Что послужило настоящею причиною казни Анны Болейн? Как сказано, король охладел к ней, и уже одного этого было достаточно, чтобы устранить ее с пути. Но были еще другие обстоятельства. Во-первых, Анна родила ему девочку (Елизавету будущую королеву), а не мальчика, которого он жаждал и отсутствие которого было также причиной его охлаждения к Екатерине Аррагонской. Во-вторых, он чувствовал себя виноватым перед Екатериной, которая его искренно любила, любила, как человека, а не как короля, и с которою к тому же он прожил целые 24 года. Его мучили угрызения совести. В глубине души он сознавал, что причина разлуки с Екатериной была Анна Болейн и, когда умерла Екатерина (в 1536 году), он решил, что воздаст справедливость ее памяти, если казнит ее соперницу. Наконец, была еще одна причина: он влюбился в Дженни Сеймур, на которой и женился на следующий день после казни Болейн.
Дженни Сеймур, казалось, судьба готова была улыбнуться. Скромная, тихая, прекрасная, она не могла дать повода в подозрениям. Единственно, что говорило против нее, это то, что в ее жилах текло не мало простой крови. По крайней мере, женившись на ней, Генрех прибрел родственником одного кузнеца. У другого нового родственника короля была фамилия Смит, т. е. самая простая, какая только возможна в Англии. Но это не смущало короля. К тому же такие вещи были в то время не в диковинку. У Дженни Сеймур было то преимущество перед прежними женами Генриха, что у нее родился сын, принц Эдуард, столь пламенно ожидаемый королем, и что уже из одной любви к сыну Генрих не дерзнул бы посягнуть на его мать. Но судьба решила иначе. Дженни умерла от первых же родов. Любопытно, что страдания жены нисколько не трогали короля.
Анна Болейн и Дженни Сеймур прошли бесследно для жизни Англии. Не то Екатерина Аррагонская, история которой приведена нами выше, и четвертая жена Генриха Анна Клеф, немецкая принцесса, преемница Дженни Сеймур, на которой король женился по настоятельному совету своего первого советника, Томаса Кромвеля; последний думал, что женитьба на немецкой принцессе поведет к союзу между Англиею и немецкими государствами.
Впрочем, король не сразу женился на Анне Клеф. После шестинедельного траура он предложил руку и сердце герцогине Лонгевиль, Марии Лотарингской, вдове, будущей матери Марии Стюарт. Герцогиня, однако, отвергла его предложение, чтобы выйти за шотландского короля Якова V. Король был очень огорчен этим отказом и, чтобы утолить жажду мщения, начал еще с большим рвением конфисковывать церковное имущество, продавать аббатства, храмы, священные изображения. Он срывал драгоценности с образов И чем больше наполнялась его казна, тем более озлоблялся он против папистов, еретиков, верующих. Беда тому, кто осмеливался не склонить перед ним головы. Власть его росла с каждым днем и достигла, наконец, того, что парламент сделался не только бессильным, но и раболепствующим учреждением. Достаточно сказать, что в одно прекрасное время парламент сам признал себя ненужными бесполезным, случайным институтом, без которого король может обойтись.
Чтобы познакомиться с наружностью своей будущей жены, Генрих послал к ней Ганса Гольбейна, величайшего художника XVI столетия. Художник несколько увлекся. Анна Клеф понравилась ему тихим характером и неопределенным взглядом; но он тотчас сообразил, что извращенному, жестокому, уже старившемуся королю не понравится эта скромная девушка, если он ее нарисует такой какая она было на самом деле. Вот почему он придал портрету некоторую степень идеализации Портрет Анны Клеф находится теперь в Лувре и с него глядит удивительно красивая, мечтательная девушка со сложенными руками и полузакрытым ртом. Увидев этот портрет, Генрих воскликнул, что считает себя счастливейшим из смертных и что лучшей жены ему не надо. Тотчас он отправил послов с предложением, и предложение, конечно, было принято.
Едва успела молодая принцесса сделаться невестою, как король потребовал, чтобы она приехала. Бедная девушка была в отчаянии. Она знала, какая судьба постигла ее предшественниц, и была уверена, что такая же судьба ожидает и ее. Но чего ни сделают политические соображения! Она должна была подчиниться. И вот она едет в Англию… Король в нетерпении отправился ей навстречу, и в Дувре произошло первое ее свидание с Генрихом, сердце которого млело от восторга и любви. Можно представить его разочарование. Угрюмая девушка, маленькая, без изящных манер, с широко раскрытыми от удивления, а может быть и от страха глазами, одетая в простонародное немецкое платье… Какая разница между копией и оригиналом! Король в первую минуту решил обезглавить Гольбейна за его измену. И, конечно, он категорически отказался от женитьбы на Анне Клеф. Но тут на помощь явился тот же Кромвель. Он напугал короля призраком войны с немецкими государствами, а с другой стороны развернул перед ним картину величия Англии, находящейся в союзе с этими государствами. Король уступил.
Какая печальная судьба ждала немецкую принцессу! Она была одинока. Никто о ней не заботился. Ей не мешали существовать — вот как можно охарактеризовать ее роль при короле Генрихе. К ее несчастью, союз с немецкими государствами разстроился и она, нелюбимая, мрачная натура, но сделавшаяся еще болee мрачною вследствие тяжкого положения, в котором очутилась, окончательно потеряла почву под ногами и ждала спасения от одного неба. Что было делать?
Случай вывел ее из тяжкого положения: король влюбился в Екатерину Говард, девушку знатного происхождения, но легкомысленного поведения. Еще до встречи с Генрихом у нее были легкомысленный связи, но она о них, конечно, умолчала, когда король просил ее руки. Во всяком случай король решил освободиться от ненавистной ему Анны Клеф. Но как? Казнить ее было не за что: ее скорее можно было обвинить в слишком большой верности супругу. Осталось развестись с нею. И вот в одно прекрасное время королеве было предложено поехать в Ричмонд для перемены воздуха, чего будто бы требовало ее здоровье. Она поехала, а спустя нисколько дней ей принесли известие, что она больше уже не королева.
Услыхав об этом, Анна пришла в восхищение. Она жаждала освободиться от короля, она никому не говорила, но в глубине души ждала минуты, когда судьба вырвет ее из тисков этого получеловека-полузверя. И она не скрыла своей радости перед королевскими послами. Генрих пришел в неистовство, когда узнал, как отнеслась королева к известию о разводе. Он был уверен, что все женщины от него без ума, и был совсем озадачен, когда узнал противоположное. Тем не менее, суровой расправы над нею он не совершил: это могло повести к войне с немецкими государствами, а до этого довести дело ему не хотелось. Анна Клеф получила дворец в Ричмонде и огромное жалованье. Ей не нужно было ни того, ни другого: душа ее жаждала покоя. Тем не менее, она приняла дар и с тех пор жила неслышно за каменными стенами своего терема, с ужасом вспоминая о времени, которое ей приходилось проводить в жилище разврата и жестокости. Официально она называлась с тех пор «сестрою» короля.
Королю, впрочем, не легко было добиться развода. Конечно, сам он быстро покончил бы с своими отношениями к жене; но оставался народ, перед которым нужно было сохранить голубиную чистоту сердца, оставался парламент, который, правда, раболепствовал и был готов на все, но все-таки продолжал быть парламентом, т. е. олицетворением и представителем того же народа. Чтобы решить трудную задачу, был созван собор из двухсот епископов или ученых. Долго думал собор и, наконец, пришел к заключению, что приходится иметь дело с оскорблением справедливости и веры короля. Король был введен в заблуждение неверным портретом и поэтому женился на женщине, недостойной быть королевой. Логика была своеобразная, но этого король хотел, и вот двести епископов бросились к ногам Генриха, умоляя его выбрать себе жену по сердцу. И король милостиво посмотрел на ползавших у его ног владык церкви и милостивым наклоном головы дал им знать, что уступает их настойчивым просьбам…
Выше мы сказали, что женитьба Генриха VIII на Анне Клеф, осталась не без следа для истории Англии. Выразилось это в казни всемогущего Кромвеля. Когда расстроился союз с немецким государством, а следовательно отпала связь, соединявшая короля с Анною, весь гнев Генриха обрушился на Томаса Кромвеля, который один только настаивал на этой женитьбе. Чтобы покончить с ним, Генрих прибег к верному орудию, которое никогда ему не изменяло, — к палате лордов.
Кромвель заседал в Тайном Совете, когда герцог Норфолк неожиданно встал и заявил, что арестует его по приказу короля за измену. Тут не нужно было никаких доводов, а с другой стороны были излишни всякие оправдания. Кромвель понял, что погиб, и единственно, что мог сделать, — это просить, чтобы его судили скорее и не томили в темнице.
— Ты создал кровавые законы, — ответили ему, — и по этим законам тебя и будут судить.
Через некоторое время Кромвель взошел на эшафот. Сватовство ему стоило жизни.
Женитьба Генриха VIII на Екатерине Парр
У Анны Клеф, так счастливо отделавшейся от кровожадного мужа, было основание радоваться. На ее глазах протекла жизнь ее соперницы, полная на первых порах яркого счастья, но завершившаяся страшным концом. Выше уже упомянуто, что Екатерина Говард отличалась далеко не образцовой нравственностью. Однажды, когда король уехал на север, ее бывший любовник, некий Дерегам, снова стал за нею ухаживать; она имела с ним свидание. При дворе это, конечно, не осталось тайной, и враги Екатерины тотчас воспользовались ее проделкой, чтобы погубить ее. Дело в том, что Еатерина была католичка, и представители новых течений в области веры боялись, что она повлияет на короля в смысле возвращения к прежней религии. Свидание королевы с бывшим любовником послужило отличным средством. Когда король вернулся, архиепископ Кранмер послал ему донесение, в котором подробно описал похождения королевы в его отсутствие. На короля это донесение произвело неприятное впечатление. Он сердился больше на обвинителей, чем на обвиняемую. Тем не менее, он приказал произвести строгое следствие, которое и подтвердило справедливость обвинения. Несчастная королева должна была умереть и взошла на эшафот.
Несмотря на пять несчастных опытов с женами, Генрих женился в шестой раз. Выбор его остановился на Екатерине Парр, очень миловидной вдовушке, которая, несмотря на свою молодость, успела овдоветь уже два раза. В первый раз она лишилась мужа, когда ей было всего шестнадцать лет. Едва только умер ее второй муж, лорд Летимер, как Генрих предложил ей связать свою судьбу с его судьбою. Бедная женщина пришла в ужас, когда узнала о намерении короля. К тому же у нее было много поклонников. Но сопротивляться было опасно и бесполезно. В свою очередь и поклонники, увидев Генриха в роли искателя руки очаровательной вдовушки, тотчас ретировались. Словом, Катерина Парр сделалась женою короля. Это была самая счастливая из жен кровожадного Генриха VIII. Она внесла порядок в домашнюю жизнь короля, строго воспитывала его детей и имела счастье не только внушить королю полное доверие к себе, но и пережить его, сделавшись в третий раз вдовою. Мертвый король уже был безопасен, а наследовавший ему Эдуард был слишком хорошо знаком с характером своего отца, чтобы не воздать должного самоотверженной королеве, не только, удержавшей равновесие на вулкане супружеской жизни, но сумевшей еще заботиться о детях тирана.
Карл I
Коротка и грустна была жизнь английского короля Карла I. Он считал себя королем «Божьей милостью» и хотел править без парламента. Между тем, парламент считал себя парламентом Божьей милостью и хотел править без короля. Королевская власть столкнулась с народной и потерпела поражение. Все начало XVII века в Англии прошло в этой беспрерывной борьбе и смене парламентов.
«Король — сам себе закон, — писал Яков I Стюарт, отец Карла I, в своей книге. — Он царит милостью Божьей и, если хочет, исполняет законы, а если не хочет, не исполняет их».
Что он считал себя единственным главой церкви, говорить нечего, и поэтому вполне понятны его преследования пуритан и пресвитериан, которые совершались от его имени в интересах англиканской церкви. Парламент часто напоминал ему о его правах и обязанностях, но он каждый раз отделывался какими-нибудь резкими выходками или закрытием парламента. Между прочим он начал сближаться с вековым врагом Англии — Испанией и даже задумал женить своего сына Карла на испанской принцессе-католичке. В Англии сильно встревожились, когда узнали о намерении короля. Там еще помнили страшное время Марии Кровавой, когда протестанты подвергались неслыханным гонениям. Английский народ боялся, что королева-католичка воспитает сына во враждебном ему духе и, таким образом, вернутся времена узкого фанатизма, своеволия и кровопролитии. Тем не менее, Яков стоял на своем и даже отправил сына в Мадрид за невестой. Эта поездка состоялась в 1623 году. Карл поехал вместе с первым советником и любимцем короля Бэкингемом под вымышленным именем. «Испанцы, — читаем по этому поводу у Вебера, — приняли их с величайшими почестями. Народ собирался под окнами принца с криками в честь его; Лопе-де-Вега написал в прославление ему несколько стихотворений, двор устраивал великолепные праздники для него. Казалось, что уже решено дело о браке, доставлявшем огромный выгоды католичеству. Яков уже освободил католических священников и других католиков, находившихся в темницах за несогласие дать присягу супрематства[139]; университеты и англиканское духовенство получили приказание удерживаться от нападений на католичество. Протестантские проповедники, нарушившие эту волю короля, были заключаемы в темницы. Тайные католики перестали скрывать свое исповедание. Масса английского народа волновалась, видя свою веру в опасности. Архиепископ Йоркский предостерегал короля и объяснял ему, что он помогает распространению вероучения, которое он сам в своих сочинениях называл идолопоклонничеством».
Однако, дело о женитьбе Карла на испанской принцессе расстроилось. Наследного принца ждала другая судьба. Проезжая на обратном пути из Мадрида, он остановился там на нисколько дней. Тут-то он и познакомился на балу с сестрой Людовика XIV Генриэттой-Марией. Тотчас сопровождавшему его Бэкингему пришла в голову мысль женить его на Генриэтте-Марии. Правда, в Англии хотели, чтобы принц Уэльский взял себе в жены протестантскую принцессу, но и Генриэтта-Мария, как дочь Генриха IV, бывшего гугенотом, не могла вызвать столько протеста, сколько католическая принцесса, и поэтому брак был решен после долгих колебаний Якова, усматривавшего в отказе от брака с дочерью испанского короля нарушение его королевских прерогатив. Таким-то образом сестра Людовика XIV сделалась английской королевой. Брак был заключен в 1625 году. Генриэтта-Мария была худощава, плохо сложена, высокого роста, с большим носом и большим ртом. Характера веселого, она везде и во всем видела всегда одну только комическую сторону. Даже впоследствии, когда ее постигло страшное несчастье, ей иногда среди слез приходила в голову какая-нибудь курьезная мысль и Генриэтта неожиданно вытирала слезы, лицо ее озарялось светлой улыбкой и она, с увлечением начинала беседовать с окружающими. В молодости, может быть, она, отличалась изнеженностью, но многочисленные тревоги и горе, ожидавшие ее после выхода замуж и в особенности в конце царствования Карла I, приучили ее к лишениям и закалили ее волю. В то время, как ее муж вел словесные турниры с революционерами, стараясь сломить их упорство ссылками на свою власть «милостью Божьего», Генриэтта-Мария вербовала для него войска, жила на доброй ноге с солдатами, деля с ним нужду, проводила дни и ночи под открытым небом в солнечную или дождливую погоду, употребляя солдатскую пищу и всегда находясь на лошади во главе войск.
В мае 1644 года Генриэтте-Марии пришлось бежать на остров Экзетер, так как сам король находился в опасности и ей, долженствовавшей с минуты на минуту сделаться матерью и к тому же заболевшей ревматической лихорадкой, оставаться с ним вместе нельзя было. Её сестра, Анна Австрийская, регентша Франции, поспешила послать ей свою акушерку г-жу Перрон с 20.000 пистолей, а также белье для матери и пеленки для будущего младенца. В это время борьба между Карлом I и парламентом достигла высшей степени напряжения. Обе стороны вступили в открытую войну, вербовали войска, давали друг другу генеральные сражения. Когда Генриэтта-Мария разрешалась от бремени, ужасы междоусобной войны не проникли еще в ее уединенный угол; но через несколько дней она оказалась осажденной на своем острове. Денег у нее в это время не было никаких, так как полученные ею от сестры 20.000 пистолей она послала мужу для уплаты войскам. Положение было безвыходное.
И вот Генриэтта-Мария предпринимаешь путешествие во Францию. Она твердо решилась не попасть в руки врагов живою и, написав королю, что хочет избавить его от труда являться к ней на помощь, она вверила своего 13-дневного младенца надежной женщине, села в носилки и разными окольными путями пробралась через ряды неприятеля. Ее едва не захватили и, чтобы спастись от неминуемой гибели, она должна была спрятаться в одной хижин. Наконец, она на голландском судне. Но и тут еще ей угрожала опасность: за нею бросилось в погоню английское судно и открыло огонь. Появление французского флота спасло несчастную женщину, но вдруг поднялась страшная буря и, рассеяв французский флот, выбросила голландское судно на скалистый берег около Бреста. Королеву спустили на лодке и, доставив на берег, поместили в простой хижине. Там-то, в этой грязи и нищете, и нашла королеву британская знать, осведомленная о прибытии дочери Генриха IV. Бедная королева была бледна, глаза раскраснелись от слез. Деревенские бабы толпились около нее, дивясь на удивительную женщину, которая покинула трон, славу и почести, чтобы очутиться в их жалкой юдоли плача и стенания.
Конечно, Генриэтту-Марию тотчас взяли из мрачной трущобы и отправили на воды для восстановления здоровья. Несколько месяцев провела она на курорте и в это время очень тревожилась за свой рассудок. Однажды она сказала врачу, что боится, как бы не сойти с ума, и доктор ей ответил: «Вам уже нечего бояться, вы уже сошли с ума». Конечно, доктор преувеличивал; но несомненно, что с королевой уже творилось нечто неладное. Она сердилась из-за пустяков, вмешивалась не в свои дела. Тем не менее, ее решили перевезти в Париж и поместить в Лувре. В начале ноября 1644 г. королева пустилась в путь и, едва выехала из Монружа, как встретилась с маленьким Людовиком XIV, выехавшим к ней навстречу для приветствия.
Какая разница была между братом и сестрою! Людовик ехал в сопровождении блестящей свиты, члены которой имели на себе блестящие мундиры, позументы, шпаги и сидели на великолепных лошадях, столь же богато одетых в богатые уборы, как и их седоки. Наоборот, английская королева прибыла в сопровождении маленькой свиты без золота, блеска, шума. Лакеи быстро растянули на земле ковры и царственные особы, выйдя из экипажей, облобызались и начали обмениваться приветствиями. Походив некоторое время по коврам взад и вперед, Людовик и Генриетта-Мария сели в экипаж и поехали. Блестящая кавалькада сопровождала их до самого Лувра, где еще в тот же день несчастная английская королева узнала, что французский король назначил ей пенсию по 1.200 франков в день — сумма большая по тому времени.
Генриэтта-Мария ожила. Ее окружили вниманием и почестями. К ней была приставлена многочисленная свита из почетных дам и кавалеров. В ее распоряжение были предоставлены роскошные экипажи, телохранители, лакеи, бегавшие впереди кареты королевы, чтобы очистить ей дорогу на улицах. У нее кружилась голова от восторга и она писала мужу, который продолжал бороться с парламентом и инсургентскими войсками, предводительствуемыми могущественным Оливером Кромвелем: «Изъявления любви, которые я здесь встретила, превосходят всё, что можно себе представить».
Генриетта-Мария была счастлива. Она забыла о муже, который влачил тяжелое существование и медленными, но верными шагами приближался к эшафоту; забыла о ребенке, который где-то прозябал в чужих руках. Ей был так приятен покой после столь продолжительного горя, которое она испытала. Она жила точно во сне.
К несчастью, этот сон продолжался недолго. Началось с пустяков. Как-то однажды к Генриэтте-Марии зашел ее брат, Гастон Орлеанский. Он нашел ее у камина в кресле и, видя около нее одни только стулья и скамьи, потребовал кресла. В то время вопрос о том, на чем сидеть при посещении царственной особы, имел огромное значение при французском дворе. Тогда отличались стулья с ручками от стульев без ручек, кресла с ножками, выступавшими вперед, от кресел, ножки которых были отогнуты назад, и т. д. Это было нечто вроде местничества, причем сидение ближе или дальше от царственной особы заменялось сидением на том или другом стуле, форма которого соответствовала чину или рангу. Генриэтта-Мария усмотрела в требовании брата оскорбление, которое, как ей казалось, он решился нанести ей только потому, что она находилась в таком положении, и она сказала:
— Вы им не пользуетесь у королевы.
Гастон Орлеанский колко ответил:
— Королева — моя государыня, а вы — не моя королева.
Произошел резкий обмен словами, во время которого Гастон дал сестре понять, что она уже не может отстаивать свои права в области этикета. Это очень озлобило королеву, которая с тех пор стала замечать охлаждение окружающих. Затем произошел еще один инцидент. Дочь Гастона первое время относилась к ней предупредительно. К несчастью, английская королева, зная, что она очень богата, решила выдать ее за своего сына, которому было в то время только 14 лет. Дочь Гастона, которая была старше его на три года и к тому же презирала в душе жалкую английскую королеву-приживалку без мужа, без государства, без средств, конечно, отказала. Тогда Генриэтта-Мария рассердилась и между нею и принцессою часто происходили колкие разговоры.
Принцесса отвечала колкостями и ее сторону взял отец. Генриэтте-Марии вскоре передали, что Гастон употребил такую фразу: «У нас немало хлопот с этими особами, которые являются к нам и едят наш хлеб. Что бы им не отправиться куда-нибудь в другое место!». Бедная женщина не могла перенести этого оскорбления. Значит, с нею обращались, как с бедной родственницей! Значит, ее держали из милости! Она негодовала, но это была правда. Генриэтта-Мария была действительно бедной родственницей Людовика XIV, которую он и регентша кормили, поили и окружали почетом только из чувства долга. 1.200 франков, назначенные ей в день приезда, оказались мертвою цифрою, так как финансовое положение страны было очень запутанное и сам король нуждался часто в деньгах. Кроме того, те деньги, которые поступали к ней, она посылала мужу в Лондон или раздавала изгнанным или разорившимся англичанам, обращавшимся к ней за помощью. Она начала продавать свои драгоценности, которые успела захватить перед бегством из Лондона. Не прошло и четырех лет после ее приезда в Париж, как она рассказывала двум француженкам, что позолоченная чашка, находящаяся у нее в руках, единственная оставшаяся у нее вещь.
Все прочие драгоценности были проданы. Затем, когда уже нечего было продавать, она стала делать долги. В Лувр то и дело начали являться кредиторы с просроченными векселями. Генриетта-Мария не могла показаться на улице без того, чтобы не выслушать оскорбления от кого-либо из многочисленной армии ростовщиков, у которых она взяла деньги. Однажды у нее не хватило даже, чем уплатить лакеям. Поэтому большая часть их отказалась от службы. В душе, может быть, королева была даже этому рада, так как это уменьшило расходы; но как было жить в Лувре, из которого не выметался сор? Бывали дни, когда нечем было протопить комнаты, в которых жила английская королева. Когда об этом сообщили английскому парламенту, он сжалился над нею и послал ей 20.000 ливров. В Лувре, однако, этих денег не приняли из опасения, как бы не оскорбилась королева. А через несколько недель в Париже узнали, что королю Карлу I сняли голову…
Трагическая смерть мужа еще более ухудшила ее положение. Нужно было заказать себе траурное платье, обить комнаты черной тканью, — все это требовало денег, а денег не было. Между тем, кредиторы становились все более и более навязчивыми и однажды устроили ей сцену, от которой она не скоро оправилась. Французский двор был в Сен-Жермене и Анна Австрийская пригласила туда Генриэтту-Марию. Бывшая английская королева села в экипаж вместе с девочкой, родившейся на Экзетере (она была ей доставлена после немалых хлопот и трудов). Ее сын, принц Уэльский, которого в это время величали Карлом II, сопровождал их верхом на лошади. Не успели они выехать из Лувра, как вдруг, откуда ни возьмись, целая армия кредиторов. Началась погоня за экипажем королевы. Крики, проклятия, угрозы, — все это неслось вслед за удалявшейся королевою. С большим трудом добралась несчастная до Сен-Жермена.
Не мало еще времени прошло, прежде чем удалось посадить на английский престол сына Генриэтты-Марии под именем Карла II. Через несколько месяцев она выдала свою дочь за брата Людовика XIV. Только теперь страданиям ее наступил конец и она начала вести тихую, скромную, почти уединенную жизнь, деля ее между частным отелем в Париже, монастырем в Шальо и дачей в Коломбе. На этой именно даче она и умерла в 1669 году, отравившись, как говорят, каким-то лекарством.
Фридрих Великий
Фридрих Великий был слишком умен, слишком серьезен и наконец, слишком всегда занят для того, чтобы заниматься любовными историями. До сих пор еще не решен окончательно вопрос, испытал ли когда-нибудь великий прусский король истинную страсть. Его спокойная и все анализирующая натура была вообще чужда всякой страсти, если не считать тщеславия, которое, впрочем, он также умел скрывать в глубине души. Итак, любил ли когда-либо Фридрих?
Еще с детских лет король чувствовал склонность ко всему прекрасному. Поэзию и музыку он до того любил в детстве, что даже сам сочинял стихи и музыкальные вещицы. Под влиянием умной воспитательницы, г-жи Руколь, гугенотки, которой удалось спастись от преследований, в нем еще в нежном возрасте зародилось желание познать светлые источники человеческих радостей в области идейной жизни. Правда, суровый отец влиял отрицательно в этом отношении; но влияние это парализовывалось мудрыми советами высокообразованной воспитательницы и от него остались в виде результата только твердая воля и недюжинный ум. Во всяком случае о любви в этом возрасте говорить нельзя. Только следующие годы могли выработать в его душе известные чувства. Однако, и этого не было. Когда Фридрих, выйдя из детского возраста, переехал в Дрезден, чтобы занять определенное место при дворе, тяготевшем к роскоши и великолепию, любовь предстала перед его невинными глазами в виде порока. Ему было 16 лет, когда, по выражению баронессы Гогенгаузен, он увидел в первый раз женщин, обнаженных от всякой идеалистичности. Тогда же и родилось в нем отрицательное чувство к женщинам. Он начал даже питать к ним физическое отвращение и не скрывал своего чувства, как это свидетельствуют его отношения к красавице Орзельске, дочери короля Августа, захотевшей сыграть по отношению к нему роль соблазнительницы.
С годами, конечно, чувство это ослабело. Зрелый возраст стал предъявлять и зрелые требования. Однажды, услыхав в одной из потсдамских церквей пение Доры Риттер, он до того увлекся ею, что послал к ней своего адъютанта с подарком. После этого его несколько раз встречали по вечерам на прогулке с хорошенькой певицей, однако, в присутствии того же адъютанта. Из этого заключали, что между Фридрихом и певицей существует любовная связь. С другой стороны, суровое отношение Карла-Фридриха-Вильгельма I к Доре Риттер также было истолковано, как доказательство этой связи. Очень вероятно, что Дора Риттер приняла участие в попытке крон-принца бежать в Англию — попытке, которая, как известно, едва, не стоила ему жизни. Впрочем, каковы бы ни были отношения Фридриха к этой девушке, придавать ей особенно большого значения нельзя, так как Фридриху было в то время только восемнадцать лет. Чего не сделает юноша в этом возрасте!
Через два года, во время своего пребывания в тюремном заключении в Кюстрине, он познакомился с г-жею Врейх, женщиной очень симпатичной, но совершенно неравной ему по возрасту; в то время, когда ему было всего двадцать лет, она уже была матерью семейства. К ее хорошенькой внучке, графине Софье Шверинской, Фридрих питал нежные чувства даже в преклонном возрасте.
Жизнь Фридриха была в это время тяжелая. Грозная ферула неумолимого отца висела над ним неотступно. Он мужественно перенес тюремное заключение, но и по выходе оттуда его ждало тяжкое горе: отец заставил его жениться на нелюбимой девушке, принцессе. Елизавете-Христине Брауншвейг-Бевернской. Принцесса была молода и обладала тихим характером, но она не могла приковать к себе этими качествами закаленного беспрерывными испытаниями и бурного характером крон-принца. Обладай она кокетством, живым темпераментом, остроумием, — Фридрих несомненно увлекся бы ею; но ничего этого у нее не оказалось. Вот почему письма, которые писал тогда наследный принц своим друзьям, заключали в себе столько грубых, сухих и жестоких выражений. Напрасно было бы искать в них хотя бы след ясного ума, который сквозил во всем, что делал и говорил Фридрих. Но это объясняется слишком озлобленным чувством. Фридрих негодовал и был неразборчив в словах.
Как, однако, не любил Фридрих невесты, но, сделавшись ее мужем, начал относиться в ней с большим вниманием и нежностью. Елизавета-Христина могла даже считать себя в первое время счастливой. К тому же она явилась ангелом-примирителем между отцом и сыном и над бурной семейной жизнью тогдашнего прусского королевского дома взошло как будто солнце с его светом и живительной теплотой. Семь счастливых лет провела она вместе с мужем, Фридрих старался угодить отцу и сделаться столько же хорошим начальником полка, сколько прекрасным мужем и домохозяином. В своих письмах в жене он всегда называет ее простыми, но нежными словами.
Вольтер был идолом Фридриха, который в то время грезил всем французским. Проводя время между военным искусством и поэзией, он выбрал себе кумирами двух представителей этих областей: Вольтера и великого Конде. Успехи его, однако, были различны в той и в другой области. В то время, как военное дело давалось ему легко, муза заставляла за собою гнаться, как за неприступной красавицей. Он сам это сознавал и, сжигая свои стихотворные опыты, говаривал:
— То, что дает мне Аполлон, я обыкновенно приношу в жертву Вулкану.
Наконец, в мае 1740 года Фридрих освободился от отцовской опеки. Суровый гонитель всяких вольностей еще перед смертью видел, что оставляет на престоле надежного человека, и спокойно ушел в вечность. И действительно, уже в следующем году Фридрих своим знаменитым походом в Силезию показал, что отец доверял ему не без основания. Он начал носиться с грандиозными завоевательными планами, в то же время заботясь о поднятии уровня образованности и интеллигентности в стране. Поглощенный правительственными делами, он строил университеты, возводил театры. Особенно много внимания уделял он оперному театру, а когда театр был готов (в 1743 году) и на нем начались представления, стал принимать деятельное участие за его кулисами. Его интересовали все подробности, он вмешивался в споры артистов и даже сам писал анонимные театральные рецензии для берлинских газет, которых в то время было только две.
При таких условиях, конечно, ему часто приходилось сталкиваться с актрисами. Однако, только одна из них имела счастье настолько понравиться мизогамическому[140] королю, что она сделалась его фавориткою. Это была танцовщица Барбарина Кампанини из Венеции. Доставить ее в Берлин стоило Фридриху неимоверно много труда и он мог смотреть на себя, как на настоящего победителя, когда обворожительная итальянка появилась, наконец, на подмостках его придворного театра И немудрено: Барбарина считалась самой талантливой и самой знаменитой балериной того времени. В Лондоне она имела такой же успех, как и в Италии, и добиться того, чтобы она приехала в Берлин и так осталась, было истинным подвигом. Но Фридрих приказал прусскому министру-резиденту в Венеции, графу Катанео, во что бы то ни стало завоевать Барбарину для берлинской сцены, и министр-резидент пустил в ход все свои дипломатические способности и в конце концов заставил ее исполнить желание короля.
Был подписан контракт, условия которого были до того выгодны, что под ним подписалась бы даже любая из современных звезд хореографическая искусства. Кампанини выговорила себе 7.000 талеров жалованья в год и отпуск на 5 месяцев. Когда контракт был подписан, его отправили в Берлин для санкции Фридриху. Так как, однако, почта в то время была не то, что ныне, то за время, которое контракт был в дороге, хорошенькая балерина успела завязать любовную интрижку с лордом Стюартом Мэкензи и так как связь эта обещала ей в будущем более широкие перспективы, то она отказалась ехать в Берлин и не переменила своего решения даже после того, как контракт, уже скрепленный прусским королем, был ей возвращен обратно. В оправдание свое она ссылалась на то, что тайно повенчалась с английским лордом и хочет поехать в нему на родину, чтобы жить там в качестве леди. Во всяком случае о поездке ее в Берлин уже нечего было и думать.
План, по-видимому, расстроился. Однако, не таков был Фридрих, чтобы примириться и успокоиться при первой же встрече с препятствиями. Наоборот, упорство Барбарины еще более разожгло в нем желание непременно добиться цели. Он пригрозил даже республике Венеции своим королевским гневом и его возможными последствиями, если она ему не поможет добыть Барбарину. Республиканский сенат на первых порах нашел ниже своего достоинства вмешательство в дело какой-то танцовщицы, но потом отложил в сторону свою щепетильность и взялся устроить дело — выдать балерину прусскому посланнику. Фридрих тотчас послал своему представителю в Вене графу Доне отмеченный 4 апреля 1743 года кабинетный приказ, в котором ему предписывалось уладить дело вместе с графом Катанео в Венеции. Под этим приказом Фридрих собственноручно подписал: «Граф Дона должен принять надлежащая меры, чтобы непременно доставить эту тварь на место».
И вот началось странное и оригинальное в летописях театра событие: балерину, не желавшую ехать в Берлин, увозили туда насильно. Правда, граф Дона послал своего помощника, некоего Мейера, в Венецию с инструкцией всячески льстить Барбарине и привести ее в хорошее состояние духа, а также уверить ее, что она едет в большой город, к большому двору и будет находиться на службе у милостивого короля, у которого найдет все необходимое для того, чтобы быть вполне довольной; однако, экипаж, в котором ехала или, вернее, в котором везли Барбарину, сопровождался кавалерийским конвоем, делавшим невозможными всякие попытки к освобождению. Возлюбленный балерины лорд Стюарт и один из ее поклонников, граф Каленберг, напрасно пускались на хитрости и даже употребляли силу, чтобы освободить Барбарину. Они ехали вслед за нею в переодетом виде, подкупали хозяев гостиниц, в которых останавливались телохранители танцовщицы, посылали ей тайно записочки. Это был настоящей роман со всеми перипетиями и, конечно, подробности его сделались вскоре известны всему миру. Жорж Санд даже воспользовалась ими для романа «Графиня Рудольштадт», причем балерину превратила в певицу, а Фридриха выставила в жалком виде, наградив его к тону же чисто деспотическими наклонностями. Словом, событие это наделало много шума на всю Европу.
Так тянулось дело долго. От любви и горя Барбарина в дороге заболела. С другой стороны, и лорд Стюарт неотступно следовать за нею, не теряя надежды вырвать ее из рук тюремщиков. Проездом через Вену он не преминул заехать к графу Доне, чтобы умолять его о вмешательстве. Прусскому посланнику очень понравился молодой лорд, который, по-видимому, действительно был прекрасными и благородным человеком. Лорд уверял его, что хочет жениться на Барбарине, что такие браки бывают в Англии, что родственника его охотно дадут согласие на этот брак, что он ручается за добродетель своей возлюбленной и готов дать 100.000 талеров, если ему будет разрешено лично сопровождать до Берлина, где он намерен броситься в ногам Фридриха и просить, чтобы король решил его участь. Кроме того лорд Стюарт послал королю в Берлин трогательное письмо, в котором умолял о снисхождении. Ничего не помогало. Фридрих собственноручно написал на этом письме: «reponatur»[141]. Сколько ни просили влюбленные, как ни старались они подействовать на его затвердевшее под суровым гнетом условий сердце, король отвечал одним требованием, чтобы Барбарина танцевала. 13 мая 1744 года в промежутке между двумя актами какой-то французской комеди. И это несмотря на то, что Барбарина приехала всего за пять дней до этого спектакля, приехала утомленная, разбитая, изнемогающая. Это была жестокость со стороны короля, но ведь он на самом деле был жесток, хотя баронесса Гогенгаузен старается извинить его, доказывая, что он действовал некоторым образом с согласия матери Барбарины, которая была согласна на все, лишь бы оторвать дочь от ее возлюбленного лорда Стюарта.
Король одержал полную победу и в назначенное время Барбарина появилась на сцене. Успех был колоссальный. Ее грация, молодость, красота ослепили всех и в особенности короля, который тут же с таким усердием стал высказывать ей свой восторг, что все ахнули от удивления. Ясно было, что на горизонте придворной жизни восходит яркая звезда, что начинается царство фаворитки, тем более, что с женой в это время Фридрих уже не ладил. И близкое будущее как будто подтвердило эти догадки. Барбарину часто видели в присутствии короля. Он даже требовал, чтобы она непременно была в числе приглашенных; если ему приходилось обедать у какого-нибудь генерала. Говорили даже, что она сопровождала его во время его поездки на воды в Пирмонт. Наконец, самым знаменательным было то, что Барбарина, столь страстно еще недавно влюбленная в лорда Стюарта, неожиданно повернулась к нему спиной и даже забыла о его существовали. Два месяца еще после приезда Барбарины оставался молодой лорд в Берлине, бомбардируя ее письмами, в которых умолял вернуться к нему, но ни на одно из них не получил ответа и в один прекрасный день узнал, что король приказал его выслать из Берлина. Это был последний удар.
Перед нами, таким образом, один из любопытнейших романов, столь же характерный для личности прусского короля, сколько для психологии женского непостоянства. И этот король, насильно привозящий к себе артистку, чтобы сделать ее любовницей, и эта девушка, пламенно влюбленная в другого, но забывающая о нем тотчас при виде блеска и роскоши придворной жизни, — оба они характерны и типичны и сами говорят за себя. Несомненно, гораздо симпатичнее их лорд Стюарт, которого на родине встретила бы с раскрытыми объятиями любая из лучших представительниц высшего света, но который пренебрег и знатностью, богатством и связями, чтобы отдаться влечению сердца. Симпатичная физиономия его ярко выступает из писем, которые он посылал Барбарине во время пребывания в прусской столице, но которых она не получила, потому что полиция зорко следила за ним и задерживала его пламенные послания.
Эти письма дышали страстью, и из них Фридрих мог видеть, как оберегал молодой лорд нравственность своей возлюбленной. Вот что он писал между прочим: «Умоляю тебя, остерегайся! Поставь себе в твердое правило никогда не обедать с кем-либо вне дома, кто бы он ни был, и никогда не оставаться с мужчиною наедине хотя бы одну минуту. Никогда не сближайся слишком с кем-либо и не позволяй, чтобы кто-нибудь сближался с тобою. Никоим образом не принимай никого, когда ты находишься в постели. Ты этого раньше никогда не делала и, конечно, не будешь этого делать и теперь из любви ко мне. Прошу тебя об этом. Не встречайся слишком часто с одним и тем же человеком, дабы о тебе не стали распространять сплетен, потому что сплетня, хотя и ложная, всегда тебе повредит, в особенности теперь, когда люди стараются преувеличить все, что ты делаешь. Сегодня же вечером мне нужно сесть на судно, которое увезет меня на расстояние ста миль от тебя. Вспоминай обо мне, когда услышишь вой ветра, и помни, что он, быть может, несет тебе мое последнее благословение».
Бедный лорд! Очаровательная Барбарина никогда не читала его добрых советов, потому что письма влюбленного англичанина до сих пор лежат еще в архиве прусского королевского дома. Как, вероятно, улыбался Фридрих при чтении этих писем, он, который, несомненно, часто бывал наедине с Барбариною.
Недолго, однако, продолжались близкие отношения между Фридрихом и Барбариной. У короля-строителя, короля-философа, короля-поэта, короля-воина было слишком много забот и слишком мало досуга. Уже в 1758 году Фридрих начал трезво отзываться о балерине, привезенной им из Рима, и даже заставил ее саму уплачивать свои долги. Наконец, она поехала в Лондон, где, вероятно, ждал ее бывший возлюбленный, и король спокойно отнесся в ее поездке. Встретилась ли она там с лордом Стюартом — неизвестно. Во всяком случае, если и встретилась, то встреча уже не могла кончиться ничем хорошим. Через несколько месяцев она вернулась в Берлин, где втайне обвенчалась с сыном великого канцлера Пруссии Кочеи (Кокцеи).
Семья молодого человека была вне себя от этого мезальянса. Все было пущено в ход, чтобы объявить брак недействительным. Даже к королю была обращена настойчивая просьба вмешаться в дело и выслать «эту особу». Король внял просьбе.
В жизни Барбарины началась новая полоса. Король, бывший раньше ее первым поклонником, теперь выступил против нее и в письмах к графу Гааке начал называть ее «соблазнительницей, тварью», внушившей безумную любовь молодому Кочеи. При этом он заявил, что никогда не позволит причинить позор и досаду столь почтенной семье, допустив брак ее сына с какой-то там танцовщицей! Немедленно был выпущен cachet volant — приказ об аресте, подобный французским lettres de cachet, и молодой Кочеи очутился, по просьбе его отца, в замке Альтландсберг под военной охраной, чтобы там наедине с самим собой обдумать свой поступок и отказаться от Барбарины. В это-то время Барбарина решила обратиться к королю за покровительством. Она написала ему письмо, в котором указывала на то, что брак ее с Кочеи уже освящен предстоящим рождением «прусского подданного» и что она, купив себе дом в Берлине, чтобы основать там свое семейное счастье, имеет право на его милость в качестве гражданки его страны.
Письмо подействовало, и все насильственные меры были взяты назад. Король даже несколько раз пытался примирить отца Кочеи с Барбариной, но успеха не имел. Сын по настоятельному требованию отца был даже переведен в Глогау, чтобы, по крайней мере, они больше не могли видеться.
Так кончилась пора бродячей жизни итальянской балерины. Началась счастливая пора. Барбарина поселилась с мужем в Силезии. Брак был очень счастливый. Когда муж умер, она основала институт для благородных девиц. Преемник Фридриха Великого, в виду ее заслуг по провинции Силезии, пожаловал ей титул графини Кампанини и в этом звании она пользовалась большим уважением дворянства до самой смерти, последовавшей 7 июня 1799 года.
Остается сказать два слова о внешности итальянской балерины. В комнатах Фридриха Великого в Потсдаме есть ее портрет во весь рост; такие же портреты ее имеются и в королевском дворце в Берлине. По ним трудно понять, почему современники считали Барбарину редкой красавицей; но это уже вина художника. У балерины крупные черты лица. Она в пестром кринолине, спускающемся да колен. Руки не обнажены, а утопают в кружевных манжетах. На бедрах висит красивая шкура пантеры. Современники были настолько наивны, что в этом костюме видели в ней вакханку, несмотря на кринолин и парик. Во всяком случае от нее веет силой, здоровьем, немалой долей ума и интеллигентности. Чтобы понравиться Фридриху Великому, нужно было иметь нечто большее, чем одно красивое тело. Король-философ ценил в женщине столько же красоту, сколько богатство и разнообразие умственных интересов. Недаром она одержала над ним две победы: одну — когда он ее увидел в первый раз, а другую — когда опасность грозила ее браку с Кочеи.
* * *
Сноски
1
А. С. Пушкин. «А. П. Керн».
(обратно)2
И. Шерр «Исторические женщины». Пер. Н. Есипова, стр. 8
(обратно)3
Поликрата Самосского.
(обратно)4
Дж. П. Магаффи. «История классического периода греческой литературы». Пер. А. Веселовской, стр. 179.
(обратно)5
Пер. А. Мея. Сочинения.
(обратно)6
Пер. А. Мея.
(обратно)7
Г. Штолль. «Великие греческие писатели». Перев. О. Морозова. Стр 104–105.
(обратно)8
Заметки Мея об Анакреоне. Сочинения, т. 3, стр. 101.
(обратно)9
Пер. А. Мея.
(обратно)10
Г. Штолль. «Великие греческие писатели». Перев. О. Морозова. Стр 102.
(обратно)11
Мей. Заметки об Анакреоне.
(обратно)12
Г. Штолль. «Великие греческие писатели». Перев. О. Морозова. Стр 59.
(обратно)13
Пер. А. Мея.
(обратно)14
Г. Штолль. «Великие греческие писатели». Перев. О. Морозова. Стр 83.
(обратно)15
Д ж. П. Магаффи. «История классического периода греческой литературы», пер. А. Веселовской, стр. 193 и 207. Рядом с Коринной Пиндару пришлось еще сталкиваться с другой поэтессой Миртиссой, о которой, однако, известно очень мало.
(обратно)16
Г. Штолль. «Великие греческие писатели». Перев. О. Морозова. Стр 213.
(обратно)17
Перевод И. Анненского, «Мир Божий» № 4, 1888, стр. 11.
(обратно)18
Пер. М. Шелгунова.
(обратно)19
Георг Вебер. «Всеобщая история», пер. Андреева, стр. 6
(обратно)20
Георг Вебер. «Всеобщая история», пер. Андреева, стр. 66
(обратно)21
Г. Штолль. «Великие римские писатели». Изд. Бакста. Стр 247–256.
(обратно)22
Пер. А. Фета.
(обратно)23
Пер. его же.
(обратно)24
Благовещенский. «Гораций и его время». 2-е издание 1878 г., стр. 158.
(обратно)25
«Горациевы возлюбленные». Библ. для чтения, 1850 г., 99, стр. 103–104. Статья не подписана.
(обратно)26
А. Фетом.
(обратно)27
Данте Алигьери. «Обновленная жизнь». Перевод А. Федорова, стр. 49–50.
(обратно)28
Там же, стр. 51
(обратно)29
S. Scartazzini. «Dante». Berlin, 1896, стр. 27.
(обратно)30
У А. Федорова («Ад», V, 97–100) это место переведено так: // Мой друг полюбил меня страстно, // Увлекшись моей красотой; // Любовь заразительна; тотчас // Она овладела и мной!
(обратно)31
А. Веселовский. «Данте и символическая поэзия католичества», «В. Е.», 1868 г., № 4, стр. 207.
(обратно)32
J. Scartazzini. «Dante», стр. 34.
(обратно)33
М. Пинто. «Исторические очерки итальянской литературы», 1866 г. стр. 19 и след.
(обратно)34
«Чистилище» Перевод А. Федорова, стр. 249–250.
(обратно)35
Пер. Д. Минаева.
(обратно)36
М. Ватсон. «Данте, его жизнь и литературная деятельность», 1891., стр. 19. Сравни также Scartazzini: «Dante», 58–59.
(обратно)37
«Обновленная жизнь», пер. А. Федорова, стр. 116–117.
(обратно)38
Франц Вегеле. «Данте Алигьери, его жизнь и сочинения», пер. А. Веселовскаго, 1831 г., стр. 17.
(обратно)39
A. Meziferes. «Petrarque. Etude d’aprfcs de noyeaux documents». Paris, 1885. — Enrico Sicarai. «Gli Amori extravaganti de Fraducesco Petrarca». Milano, 1900. — Георг Фойхт. «Возрождение классической древности пли первый век гуманизма». — Анджело де-Губернатис. «Франческо Петрарка и его юбилей» (В. Е., 1874 г., 9) Маколей. Полное собрате сочинений, изд. Тиблена 1882 г., т. 3. — Мориц Карьер. «Искусство в связи с общим развитием культуры и идеалы человечества», пер. Корша, 1874, т. 3.
(обратно)40
Лаура — то же, что лавр.
(обратно)41
Перевод В. П. Буренина.
(обратно)42
Маколей. Полное собрание сочинений, изд. Тоблена, 1862 г., т. 3, — стр. 380. (Разбор важнейших итальянских писателей).
(обратно)43
Торквато Тассо (Torquato Tasso) (1544–1595) — знаменитый итальянский поэт XVI века, автор поэмы «Освобождённый Иерусалим» (1575).
(обратно)44
A. П. Милюков. «История литературы древнего и нового мира». Карьер. «Искусство в связи с общим развитием культуры и идеалы человечества» (пер. Г. Корта), т. 4. М. Карелин. «Торквато Тассо и его век» (П. В., 1883 г., 7–9).
(обратно)45
Giacomo Leopardi (1798–1837) — итальянский романтический поэт, мыслитель-моралист.
(обратно)46
Paul Heyse. Giacomo Leopardi. Berlin. 1878 r., T. 2. — В. Штейн. Граф Джакомо Леопарди и его Теория infelicita. Спб., 1891. — В. Чуйко. Джакомо Леопарди. Критический очерк (Набл., 1886 г., 3–4).
(обратно)47
Перевод Чуйко.
(обратно)48
Перевод Огарева.
(обратно)49
Граф Витто́рио Альфье́ри (Vittorio Alfieri; 1749–1803) — итальянский поэт и драматург-классицист, «отец итальянской трагедии».
(обратно)50
Геттнер. «История всеобщей литературы,» т. 2–Сен-Ренэ Тальяндье. «Графиня Альбани» (Исторические очерки из современных европейских писателей, изд. Вольфа, 1861 года). — Вебер. «Всеобщая история».
(обратно)51
Тикнор. «История испанской литературы», т. 2, стр. 144 (пер. под редакцией Стороженка). — Карьер. «Искусство в связи с общим развитием культуры», т. 4. — «Последняя любовь Лопе де-Вега» (В. И. Л. 1897, 8).
(обратно)52
K.Goedeke. «Goethe» (Goethes Werke, erster Band. Stuttgart, 1887. — Ludwig Geiger. «Henriette von Lttttwitz. Eine vermeintliche Liebe Goethes». Dichter und Frauen). Berlin, 1899. — Д. Льюис. «Жизнь И. Вольфганга Гёте», пер. Неведомского. — И. Шерр. «Гёте в молодости и его поэтические произведения». Спб. 1876. — Г. Брандес. «Гёте и Шарлотта фон-Штейн», пер. В. М. С. (Р. М, 1892,12). — Его же. «Главные течения литературы XIX века», пер. Неведомского. — Я. Шахов. — «Гёте и его время». Спб 1891. — Л. Вейнберг. «В парке Лили. К истории любовных увлечений Гёте». (С. В. 1890, 11).
(обратно)53
Древняя легенда рассказывает, что самосский тиран Поликрат (VI век до н. э.) был неправдоподобно счастлив. Однажды, пируя вместе с одним мудрецом, он уронил дорогой перстень в пучину моря. Но прошли считанные часы, и, разрезав поданную на пиру только что пойманную рыбу, слуги вынули из ее глотки перстень своего хозяина. Увидев это, мудрый друг (так рассказывается в известном стихотворении Шиллер) ужаснулся и спешно покинул двор тирана: такое счастье, решил он, вскоре должно было смениться не менее великими бедами. Надо заметить, что исторический Поликрат действительно в конце блестящего царствования был обманом захвачен персами и казнен. Вероятно, это и послужило причиной возникновения такой легенды о нем.
(обратно)54
Пер. Холодковского.
(обратно)55
См. напр. Предисловие Гедеке в «Goethes Werke», т. I, стр. XIV, или Шера «Гёте в молодости», стр. 39–40.
(обратно)56
Табльдот (франц. table d'hote) в гостиницах, пансионах, ресторанах — общий обеденный стол с общим меню.
(обратно)57
Пер. П. Вейнберга.
(обратно)58
Пер. Холодковского.
(обратно)59
Брат этот был знаменитый в свое время автор «Ринальдо-Ринальдини», — произведения, которое целых полстолетия восхищало публику. Шерр в своей биографии Шиллера рассказывает характерный анекдот об этом оригинальном писателе. Шиллер писал письмо, когда вдруг к нему постучались в дверь. На приглашение «войдите» в комнату вошла маленькая и тощая фигурка, одетая в белый фрак и желто-зеленый жилет. «— Я имею удовольствие видеть господина советника Шиллера? — сказала она. — Я случайно узнал, что вы здесь, и пожелал видеть автора „Дон-Карлоса“; вы, вероятно, не имеете счастья меня знать, — меня зовут Вульпиус. Прошу извинить за беспокойство; теперь я доволен, что увидел вас.» С этими словами он удалился.
(обратно)60
См. хотя бы труд Льюиса, посвященный Гёте, ч. 2, стр. 78
(обратно)61
И. Шерр. «Гёте в молодости», стр. 223.
(обратно)62
«Часто я сочинял стихи, лежа в её объятиях, и легко отбивал такт гекзаметра указательным пальцем на её спине.»
(обратно)63
Твое мягкое, нежное дыхание (в стихотворении Марианна обращается к западному ветру) успокаивает наболевшие веки. О, я умерла бы от страдания, если бы у меня не было надежды, что мы снова свидимся.
(обратно)64
Сердце мое жаждет тебе открыться. Я ничего не в состоянии делать, как только любить его в полной тишине. Чем это кончится? Мне хочется обнять его и я не могу этого сделать.
(обратно)65
Скажи ему, но тихонько, что в его любви моя жизнь.
(обратно)66
Schillers sammtliche Werke. изд. Котта. 1867, т. I. — Dr. Adalbert von Hanstein. «Die Frauen in der Geschichte des deutschen Geisteslebena des 18 und 19 Jahrhunderts». Leipzig. 1900. Zweites Buch. — Иоганн Шерръ. «Шиллер и его время». М. 1875. Изд. кв. маг. Мамонтова. — Г. Геттнер. «История всеобщей литературы XVIII века», т. III, пер. Барсова.
(обратно)67
Пер. Жуковского.
(обратно)68
Пер. Жуковского.
(обратно)69
Пер. Н. Гербеля.
(обратно)70
В подлиннике сходство еще более замечательно: Shpären in einander lenkt die Liebe,//Weltsysteme dauern nur durch sie.
(обратно)71
Пер. Бенедиктова.
(обратно)72
Heinrich Heines Samtliche Werke rait Einleitungen von Wilhelm Bolsche. — Baron von-Emlden: «Heinrich Heines Fanilienleben». 1895. — Adolph Kohut: «Heinrich Heine und die Frauen». 1888 —«Воспоминание г-жи Жобер о Гейне» (И. В., 1881, 8). — Варту. «Десять лет жизни Гейне» (Загр. В. 1884, 12). — Ведекинд. «Студенческие годы Гейне» (И. В. 1880, 7), — Гренье. «Из литературных восиоминаний о Генрих Гейне». (Р. В. 1893,1). — Пименова. «Гейне в семейной жизни» (М. Б. 1893, 2. — X Полонский. «Гейне в Париже» (В. Е., 1896,9), 11. — Его же. «Генрих Гейне и его жизнь» (В. Е., 1868, 9). — «Старое и новое о Гейне» (В. И. Л., 1888, 1).
(обратно)73
Пер. В. Костомарова.
(обратно)74
Впрочем, он и по-немецки говорил плохо. Гейне в шутку рассказывал про него, что на официальных обедах он ставил около себя двух слут, из которых один должен был подсказывать ему дательный падеж, а другой — винительный.
(обратно)75
Входит жена, прекрасная, как утро, и улыбкою рассеивает немецкие заботы.
(обратно)76
Брандес. «Главные течения литературы XIX столетия», 1881 г. Пер. В. Неведомского. — Шерер. «История немецкой литературы», ч. 2 «Романтическая школа». Пер. Неведомского. — Геттнер «История всеобщей литературы XVIII в.»,т. III. — Корш. «Всеобщая история литературы», т. 4.
(обратно)77
Пер. А. Ротчева.
(обратно)78
Вот удивительное стихотворение Шиллера (оно изуродовано и переделано в обыкновенных изданиях, Брандес приводит его в первоначальном виде), написанное под влиянием любовной связи с Шарлоттой Кальб: «Отчего эта дрожь, этот невыразимый страх, когда твоя рука ласково обнимает меня? Не оттого ли, что клятва, которую нарушают даже одни сердечные волнения, наложила на тебя чужие оковы? Не оттого ли, что обычай, который законы считают священным, освятил тягостную ошибку случая? Нет, я бесстрашно восстаю против союза, о котором сожалеет краснеющая от стыда природа. О, не дрожи, твоя клятва была клятвой грешницы: клятвопреступление есть благородный долг кающихся! сердце, которое ты отдала перед алтарем, было мое; ведь небо не шутит с человеческими радостями». То же самое, как замечает Геттнер, говорит Дон-Карлос: «Права моей любви старше, чем формула перед алтарем».
(обратно)79
Чтобы составить понятие о сумасбродствах лучших людей того времени, смешивавших поэзию с действительностью, достаточно упомянуть о любви поэта Гарденберга к 12-летней девочке Софии фон-Кюн. Девочка эта поражала своей детской прелестью и развитым умом. Через год после того, как Гарденберг сделался женихом Софии, девочка заболела, выздоровела, но потом заболела еще более опасно. Ее повезли в Иену для операции. Гарденберг часто приезжал в Иену, где познакомился с Ф. Шлегелем и Фихте, философией которого увлекся и вывел из нее заключение, что София не должна умереть, так как мир и обстоятельства должны подчиняться человеку. Но София не поправлялась, несмотря на всю глубину идеи, положенной в основание философской системы Фихте. Софию перевезли в деревню, где она умерла через два дня после того, как отпраздновала 15-ю годовщину. Гарденберг оказался, по его же словам, в роли игрока, который все ставит на последнюю карту и видит, что карта побита. Одно время он хотел умереть силою своей воли, потом готовился к самоубийству, но в конце концов нашел утешение в поэтическом творчестве.
(обратно)80
Философ Шлейермахер, друг Шлегеля, очень интересовавшийся его отношениями с Доротеей, не разделял этого взгляда, но находил вполне естественным брак вчетвером и товорил, что «могли бы состояться вполне удовлетворительные браки, если бы взяли три или четыре пары и позволили всем обменяться местами.»
(обратно)81
Wielands Werke. Cabinets Ausgabe. Cotlia. — Adalbert von-Uanstein. «Die Frauen in der Geschichte des Deutschen Geisteslebens», т. II.
(обратно)82
Нет сомнения, что вы прославитесь этими великими алгебраическими вычислениями, в которые погружен ваш ум. Я сам дерзнул бы погрузиться в них, но, увы, А+Д — минус В не равняется словам: «я вас люблю!».
(обратно)83
Твоя рука срывает розы, а мне остаются шипы.
(обратно)84
Костомаров. «История литературы древнего и нового мира», т. 2. — Геттнерт, т. 2 — А. Кирпичников. «Французская литература в эпоху псевдо-классицизма». — О. Батюшков. «Женщины в трагедиях Расина» (С. В., 1896, 7).
(обратно)85
Ludwig Geiger. «Dichter und Frauen». — К о p ш. «Всеобщая история литературы», т. 4. — Брандес. «Литература XIX века в ее главных течениях», пер. Э. Зауэр, СПБ., 1893. — Gunther von Freiberg. «Aus dem Leben Alfred de Mussets». Nationalzeitung, 9 Juli 1899.
(обратно)86
Mon verre n’est pas grand, mais je bois dans mon verre.
(обратно)87
А быстрые воды несутся… // Погибнет пловец средь зыбей! // Погубит его Лорелея // Чудесною песнью своей!.. // Пер. Аполлона Майкова
(обратно)88
Leon Seсhe. «М-me Alfred de-Vigny» («Revue bleu», 26 Novembre. — Его же: «Alfred de-Vigny et Marie Dorval» («Revue bleu»,6 Janvier. — M. Гюйо. «Искусство с точки зрения социологии», пер. под редакцией А. Пыпина, Спб-1891. — Жорж Пелисье. «Литературное движение в XVI столетии», пер. Ж). Доппельмайер. М. 1896. — Г. Брандес. «Литература XIX века в ее главных течениях», пер. Э. Зауэр. М. 1895.
(обратно)89
Пер. О. Чюминой.
(обратно)90
Когда подумаешь, чем ты был на земле и что ты на ней покинул, — одно только молчание величественно, а все остальное — доказательство слабости.
(обратно)91
Paul Verlaine. «Confessions». Paris. — Сh. Donos. — «Verlaine Intime». Paris. 1898. Emile Zola. (Der Seitgeist. Beiblatt zum «Berliner Tageblatt», 31 января 1898 г. (К сожалению, оригинала у нас под руками нет).
(обратно)92
Karl Frenzel. «Dichter und Frauen». Studien. Hannover, 1860. — Брандес. «Виллиам Шекспир. Историко-литературная монография»-. Пер. М. Энгельгардта. (Прил. к «В. И. Л.» 1897 г.) — Женэ. «Шекспир, его жизнь и сочинения». — Гервинус. «Шекспир», 4 т. — II. Коэ. «Шекспир, жизнь и деятельность его; современная ему литература и культурный строй». С предисловием, примеч. и дополнением Н. Стороженко. Москва, 1888 год. — В. Боткин. Сочинения, т. II. — Карлейль. «Герои и героическое в истории».
(обратно)93
Пер. А. Кронеберга.
(обратно)94
Перевод Гербеля (лучшего, к сожалению, нет).
(обратно)95
Брандес. «Байрон и его произведения». Пер. Городецкого. СПБ. 1888 г. — Тэн. «Критические опыты». Пер. под редакц. Чуйко. СПБ. 1869 г. — Ор. Миллер. «Лорд Байрон и его судьба»., «В. Е.», 1878 г. 2 х 4. — Маколей. «Жизнь Байрона» (собр. соч., т. I).
(обратно)96
О. Миллер. «Байрон и его судьба». В. Е., 1878, 4, стр. 653.
(обратно)97
Брандес. «Байрон и его произведения», стр. 30 и др.
(обратно)98
Ч. Рид — один из тех английских писателей, о которых мало говорят, но произведения которых усердно читают. Его романы переведены на все европейские языка. На русском существуют переводы следующих его произведений: «Вельможный бродяга», «Ненавистник женщин», «Лучше поздно, чем никогда», «Страшное искушение», «Любишь — не любишь», «Приключение Жерарда», «Тяжелые деньги», «Простая история», «Ревность», «Подлог».
(обратно)99
Ч. Рид — один из тех английских писателей, о которых мало говорят, но произведения которых усердно читают. Его романы переведены на все европейские языка. На русском существуют переводы следующих его произведений: «Вельможный бродяга», «Ненавистник женщин», «Лучше поздно, чем никогда», «Страшное искушение», «Любишь — не любишь», «Приключение Жерарда», «Тяжелые деньги», «Простая история», «Ревность», «Подлог».;
(обратно)100
Перевод стихотворения, как и нижепомещенного отрывка из письма Рафаэля, заимствован из «Истории и искусств» П. Гнедича (Глава «Италия в эпоху Возрождения», стр. 176–180.)
(обратно)101
Мотет — вокальное многоголосное произведение полифонического склада, один из центральных жанров в музыке западноевропейского Средневековья и Возрождения.
(обратно)102
Felix Mendelsohn und Iohanna Kinkel. Ungedruckte Tagebuchbiatter und Briefe. Mitgetheilt von Adeline Rittershaus («Neue Freie Presse», 19 April).
(обратно)103
Даниэлем звали ее сына от Листа, умершего в нежном возрасте.
(обратно)104
Чарльз Лайелл, Лайель или Ляйелль (англ. Sir Charles Lyell; 1797–1875) — основоположник современной геологии и, по определению энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, «один из самых выдающихся учёных XIX столетия».
(обратно)105
Луи Агассис (1807–1872) — один из величайших ученых своего времени и основоположник современной научной традиции Америки. Великолепный зоолог, геолог и гляциолог.
(обратно)106
Оуэн Ричард — Owen Richard (1804–1892) — английский зоолог, анатом и палеонтолог, член Лондонского королевского общества (1834), профессор Королевской ассоциации, иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук (1839).
(обратно)107
Тиндаль (John Tyndall 1820–93) — английский физик и известный популяризатор физики. Открыл явление рассеяния света при прохождении через оптически неоднородную среду (эффект Тиндаля).
(обратно)108
Quelle vie! — Что за жизнь! (франц.).
(обратно)109
Вечный двигатель (лат.).
(обратно)110
9 августа 1884 года жена Эдисона, Мэри Стилуэлл, скончалась. Для него и детей это был тяжелый удар; на некоторое время Томас даже своему любимому изобретательству уделял гораздо меньше времени, предпочитая проводить свободные часы со своими детьми в Нью-Йорке. Однако спустя некоторое время Эдисон познакомился с девушкой, которая суждено было стать его второй женой. С Миной Миллер они поженились в феврале 1886 года; Томас был почти вдвое старше своей избранницы. Почти потерявший слух Эдисон общался с Миной Миллер посредством азбуки Морзе; предложение руки и сердца он также сделал ей посредством точек и тире. Своих детей Мэрион и Томаса Эдисон (тогда занятый изобретением телеграфа) называл «Dot» и «Dash» — «точка» и «тире».
(обратно)111
Нансен был с 1890 г. женат на Еве Сарс (1868–1907), дочери известного зоолога Микаэля Сарса. Именно Ева освящала «Фрам» при его спуске на воду в 1892 г., ей посвящён эпиграф описания путешествия Нансена «Той, которая дала имя кораблю и имела мужество ожидать». В 1893 г. у них родилась дочь Лив, которая впервые увидела отца уже в возрасте трёх лет. Во время отсутствия Нансена, Ева сделала музыкальную карьеру, профессионально выступая как певица. В честь Евы и Лив Нансен назвал острова на Земле Франца-Иосифа (ныне выяснилось, что это один остров, поэтому на картах он называется Евалив). После 1898 г. у Нансенов было ещё шестеро детей. Ева Нансен скончалась в 1907 г., когда Нансен был послом в Лондоне. Вторично он женился в 1919 г. на Сигрун Мунте. Дочь Лив оставила об отце и матери мемуары.
(обратно)112
Фридрихсруэ (нем. Friedrichsruhe) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания. Здесь было расположено имение Бисмарка, куда он удалился после своей отставке и где был похоронен.
(обратно)113
Всё хорошо (англ.).
(обратно)114
Бенжамин Дизраэли, впоследствии лорд Биконсфильд — Benjamin Disraeli, lord Beaconsfield, 1804–1881 — английский романист и крупный политический деятель Англии, один из представителей «социального романа». Предки его — испанские евреи, бежавшие в Англию от инквизиции. Отец — Исаак Дизраэли — писатель и библиофил. Д. учился под руководством отца. В 1821 поступил практикантом к адвокату и сразу обнаружил блестящие дарования. Рано увлекся литературой. Вслед за неизданным романом «Ayemes Papillon» написал «Vivian Grey». Это — история светских и политических похождений молодого честолюбца.
(обратно)115
Уильям Юарт Гладстон (англ. William Ewart Gladstone; 1809–1898, Харден) — британский политик, государственный деятель и писатель, четырежды занимавший пост премьер-министра. Главный политический противник Б. Дизраэли. Был женат на Катарине Глин.
(обратно)116
Вивёр (франц. viveur, от vivre — жить) — человек, ведущий веселую жизнь; весельчак; кутила, прожигатель жизни.
(обратно)117
«Le coup de foudre» — букв. удар молнии (франц.).
(обратно)118
«tant pis» — Тем хуже (франц.).
(обратно)119
«et je m’en moque du reste» — и мне все равно остается (франц.).
(обратно)120
«Je me charge toujours du reste» — Я отвечаю всегда остается (франц.).
(обратно)121
Лорд Рэндольф Черчилль (1849–1895), третий сын Джона Уинстона Спенсера-Черчилля, 7-го герцога Мальборо. Они с Дженни познакомились во время королевской регаты в Каусе в августе 1874 года, и между ними стремительно вспыхнула страсть — о помолвке было объявлено через три дня.
(обратно)122
Коллингвуд (Cuthbert, лорд Collingwood, 1750–1810) — британский адмирал, на морской службе с 1761 г. В войнах с Францией участвовал в сражении 1 июня 1794 г., в блокаде Тулона и в сражении у мыса С.-Винцент 14 февраля 1797 г. В 1799 г. К. участвовал в блокаде Бреста. В 1805 г. блокировал Ферроль. В Трафальгарском бое (1805), начальствуя одной из колонн, он первый прорвал неприятельскую линию. По смерти Нельсона назначенный главнокомандующим, он завершил поражение неприятеля, за что получил чин адмирала и титул пэра Англии и лорда Кальдбурна. Умер главнокомандующим британского флота Средиземного моря.
(обратно)123
Гельмут Мольтке (1800–1891) — прусский генерал, фельдмаршал и начальник прусского генерального штаба. Выдающийся стратег и организатор прусской армии.
(обратно)124
Эгерия (Egeria) — B римской мифологии нимфа, имя которой связывается с именем Нумы, который под ее руководством научил римлян священнодействиям и посвятил Каменам ту рощу, где он сообщался с Эгерией. Ей были посвящены два святилища. Согласно приводимому Овидием сказанию, Эгерия по смерти Нумы скрылась в глубине лесов Арицийской долины, нарушая своими рыданиями богослужения. Полагают, что Эгерия помогала женщинам при родах.
(обратно)125
Наверное автор имеет ввиду нашумевшее предсказание Нострадамуса: «Молодой лев одолеет старого на поле битвы в одиночной дуэли, он выколет ему глаза в золотой клетке».
(обратно)126
«Докучные» (фр. Les Fâcheux) — первая комедия-балет Мольера в трёх актах, написанная в августе 1661 года.
(обратно)127
По имени подаренного ей поместья Помпадур в Лимузене.
(обратно)128
Табуретом называюсь низкое кресло в королевском будуаре, в которое разрешаюсь садиться особо приближенным придворным дамам.
(обратно)129
Это великолепное бриллиантовое ожерелье, изготовленное для фаворитки короля, графини Дюбарри, осталось на руках у французских ювелиров Бемера и Бассанжа после смерти Людовика XV.
(обратно)130
«Napoleon amoureux», par Joseph Turquan. D’aprfcs les témoignages des contemporains p. 57 etc.
(обратно)131
Заира — героиня одноименной трагедии Вольтера. Заира, рабыня иерусалимского султана Оросмана, — француженка, воспитанная как мусульманка. Султан горячо любит Заиру и хочет жениться на ней. Прибывший из Франции рыцарь Нерестан выкупает пленников-крестоносцев и в их числе христианского короля Сирии Люзиньяна, неожиданно оказавшегося его отцом и отцом Заиры. Оросман, не зная о том, что Нерестан — родной брат Заиры, подозревает ее в измене. Из ревности он убивает Заиру, но, убедившись в том, что она невинна, кончает жизнь самоубийством.
(обратно)132
Сюжет из Ветхого завета. Иосиф Прекрасный, сын Иакова, был на службе у царедворца египетского фараона Пентефрия, жена которого влюбилась в юношу и пыталась его соблазнить, но была им отвергнута. Оклеветанный ею из мести, Иосиф был заключен в темницу.
(обратно)133
«Napoleon amoureux», par Joseph Turquan. D’aprfcs les témoignages des contemporains p. 328.
(обратно)134
Имеется ввиду сражение французской армии с союзнической коалицией при Дрездене 26–27 августа 1813 г.
(обратно)135
«Под чьей-л. ферулой» Устар. — Под строгим надзором, опекой кого-либо (делать, осуществлять что-либо).
(обратно)136
Люттих — главный город бельгийской провинции того же имени, четвертый по величине город Бельгии, на реке Маас.
(обратно)137
Маршал Мак-Магон получил титул герцога Мадженты, а генерал Монтобан — графа Паликао.
(обратно)138
Битва при Седане — самая знаменитая битва Франко-прусской войны, произошедшая 1 сентября 1870 г. близ небольшого французского города Седан. После поражения при Гравелоте французская армия маршала Базена отступила. Потери французов были огромны. В самом Седане спаслось 82 000 французских солдат. Всем им было приказано без единого выстрела сдаться в плен. В плен попал и сам император Франции Наполеон III. Пленение Наполеона III стало концом монархии во Франции и началом установления республики.
(обратно)139
Супрематство — главенство короля в церкви.
(обратно)140
Мизогамия (греч. misos — ненависть, отвращение; gamos — брак) — патологическое отвращение к браку, имеющее в основе неосознаваемый страх вступать в брачные отношения, неприятие супружества.
(обратно)141
«Отложить» (лат).
(обратно)



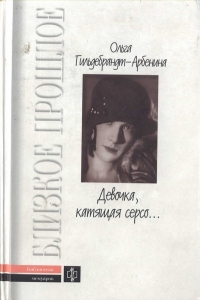

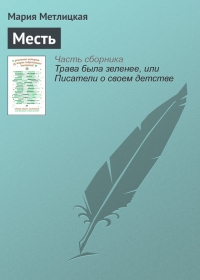



Комментарии к книге «Женщина в жизни великих и знаменитых людей», Михаил Игнатьевич Дубинский
Всего 0 комментариев