Дмитрий Ненюков От Мировой до Гражданской войны. Воспоминания. 1914–1920
Публикуется впервые по рукописи из фондов Государственного архива РФ.
Публикуется по рукописям: ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 530. Л. 1–23; Д. 531. Л. 1–82; Д. 532. Л. 1–113; Д. 533. Л. 1–110; Д. 534. Л. 1–90; Д. 535. Л. 1–169; Д. 536. Л. 1–158.
© Государственный архив РФ, 2014
© Посадский А. В., вступ. ст., примеч., 2014
© ООО «Кучково поле», 2014
Дмитрий Всеволодович Ненюков – моряк и мемуарист
Мемуарный массив, касающийся последних лет существования Российской империи, Великой и Гражданской войн, громаден. Только рукописи, ждущие своего часа в архивах – в Государственном архиве РФ, в Гуверовском архиве Стэнфордского университета в США и других, – это многие сотни текстов. Одна из таких рукописей – воспоминания Д. В. Ненюкова, русского адмирала, участника Белого движения. Она датирована 1925 годом. Ненюков стал одним из многих русских эмигрантов, кто готов был передать, за умеренную плату, свои воспоминания в Русский заграничный архив в Праге. Перемещение этого архива в 1945 году в СССР обусловило дальнейшее пребывание рукописи в ЦГАОР (ныне ГАРФ).
Автор сам пишет о времени создания мемуаров. По его объясняющей записке, большая часть текста родилась в конце 1917 – начале 1918 года, во время вынужденного досуга в Измаиле, когда адмирал жил в сравнительно спокойной обстановке на положении частного лица. Ненюков не обладал выдающимися литературными способностями. Его текст вполне внятен, но в нем нередки повторы и стилистические шероховатости. В то же время отсутствие предвзятости делает повествование спокойным и взвешенным. Следует полагать, что мнения автора лишены эмоционально окрашенного субъективизма.
Показательна следующая деталь. Многие мемуаристы зарубежья писали, исходя из представлений о гибели при большевиках всех архивов, исходя из необходимости живым носителям славы Русской армии оставить максимально подробное свидетельство о ней, вспомнить как можно больше имен, событий, подробностей. В воспоминаниях Ненюкова этого мотива, благородного, но несколько надрывного, не ощущается. Он не ставит перед собой задачу подведения итогов, совершенно не касается детства и службы – весьма продолжительной и с Порт-Артуром! – до войны. Весь его пафос направлен в сторону интеллигенции, которой необходимо перемениться, чтобы вновь стать ведущей силой в России. Этим мотивом и завершаются воспоминания. Духовный настрой самого автора хорошо иллюстрирует фраза о том, что память об адмирале Эссене будет жить до тех пор, «пока будет существовать русский флот, т. е. Россия». Флот и Россия для адмирала неразделимы.
Биография Д. В. Ненюкова – это биография офицера своего поколения. Вот ее основные вехи.
Дмитрий Всеволодович Ненюков, уроженец Тамбовской губернии, родился 18 января 1869 года, а скончался в изгнании, в югославском Земуне, в 1929-м.
Пик его служебной карьеры – командование Черноморским флотом Вооруженных сил Юга России в период Гражданской войны. Читатель найдет в тексте горькие размышления по этому поводу. Сбылась мичманская мечта – командующий флотом! Однако это не радует в трагической обстановке междоусобицы.
Д. В. Ненюков – выпускник Морского корпуса 1889 года. Это было время руководства Морским училищем (с 1891 года – вновь Морской кадетский корпус) вице-адмиралом Д. С. Арсеньевым (занимал должность директора в 1882–1896 гг.). Служба в обер-офицерских чинах увенчалась участием в Русско-японской войне 1904–1905 гг. Д. В. Ненюков служил на броненосце «Цесаревич» артиллерийским офицером, участвовал в обороне Порт-Артура и в бою в Желтом море. Получил легкое ранение.
В 1906 году он – старший офицер канонерской лодки «Храбрый». В 1906–1907 гг. – командир миноносца «Громящий». В 1908–1909 гг. прошел курс в военно-морском отделении Николаевской академии Генерального штаба; в 1908–1909 гг. – командир транспорта «Рига»; в 1910–1911 гг. – штаб-офицер новосозданного Морского генерального штаба; в 1911–1912 гг. – командир линейного корабля «Пантелеймон». 4 сентября 1913 года назначен членом от Морского министерства в состав Добровольного флота, а в ноябре того же года назначен помощником начальника Морского генерального штаба по судостроению.
Таким образом, к началу войны Д. В. Ненюков обладал уже военным опытом, был генштабистом, имел опыт взаимодействия с гражданскими учреждениями – Доброфлотом, большой опыт командования судами различных классов. С началом войны ему предложено стать начальником вновь учрежденного Морского управления при Ставке Верховного главнокомандующего. 25 июля 1914 года он принял указанную должность. В начале 1916 года командовал отрядом судов в устье Дуная. 6 декабря 1916 года произведен в вице-адмиралы.
После крушения императорской России Дмитрий Всеволодович оказывается на белой службе, причем в довольно нетрадиционном варианте. В 1917–1918 гг. он возглавляет нелегальный или полулегальный Одесский центр Добровольческой армии. При занятии французами Одессы стал начальником управления военно-морской базы. 20 августа 1919 года назначен командующим Черноморским флотом ВСЮР. 8 февраля 1920 года, вместе с начальником штаба флота контр-адмиралом А. Д. Бубновым, уволен генералом А. И. Деникиным от службы за поддержку генерала П. Н. Врангеля.
В марте 1920 года вернулся в Севастополь, участвовал в восстановлении флота. С 28 апреля 1920 года вновь стал командующим Черноморским флотом. Организовал успешную эвакуацию белой армии из Крыма 15–18 ноября 1920 года. В ее составе покинул Россию, позже эмигрировал в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (с 1929 года – Королевство Югославия). Проживал в Земуне (пригород Белграда) до своей смерти в 1929 году. Георгиевский кавалер, отмечен как российскими, так и иностранными орденами.[1]
Д. В. Ненюков сам делит свою службу с начала Великой войны на четыре периода: Ставка, Дунай, Одесса и Севастополь. Они, действительно, весьма различны и по обстановке, и по тем ролям, которые приходится исполнять автору.
В Ставке он начальник Морского управления, что обеспечивает ему хорошую осведомленность о делах на фронте и в тылу и доставляет знакомство, служебные и внеслужебные контакты со множеством известных персон, начиная с государя.
Жизнь в Ставке описана многими мемуаристами. В советской традиции в активном обороте была тенденциозная книга М. К. Лемке,[2] оставил свои воспоминания сослуживец Ненюкова адмирал А. Д. Бубнов.[3] Служба в Ставке изложена Ненюковым наиболее последовательно. Эта часть написана рукой генштабиста: хронологически выстроенные обзоры событий на море дополняются очерками борьбы на сухопутном фронте, на других морях. В то же время автор дарит интересные подробности бытового устройства офицеров Ставки как в Барановичах, так и в Могилеве. Он подчеркивает разницу в жизни на станции, вдали от населенных пунктов, и в губернском, хотя и небольшом, Могилеве. Ненюков без страстного осуждения, но с неприятием пишет об отвлекавших офицеров от службы соблазнах и возможностях. Любопытны и показательны характеристики великих князей: милые приветливые люди, но как будто из другого мира. Очевидно, эти «разные миры», в которых жили разные группы населения империи, стали одной из глубинных предпосылок такого быстрого и страшного крушения. Это чувствовали очень многие, на разных этажах социальной лестницы.
Автор характеризует настроения Ставки, и в перепадах этих настроений нельзя не заметить известной легкомысленности. Очень выразительна следующая фраза: «В Ставке также повеселели и снова начали поговаривать о скором окончании войны, тем более что уже в это время выяснился огромный расход снарядов в минувшие бои».[4] Время – октябрь 1914 года, русские войска вновь вошли в Восточную Пруссию. И логика, нельзя не признать, весьма незатейливая: раз снаряды вышли, так и войне конец. Впереди был 1915 год, год «великого отступления». Д. В. Ненюков в целом произносит весьма суровый приговор организации войны с русской стороны, и в этом он солидарен со многими участниками и наблюдателями событий. Вот его резюме: «Сейчас еще не наступило время давать характеристики главных лиц, но все же не могу удержаться, чтобы не высказать общего впечатления. Ставка, представлявшая мозг армии, где должны были быть собраны наиболее способные люди изо всей армии, далеко не удовлетворяла этим требованиям. В ней было много очень милых и симпатичных людей, но, к сожалению, и только. Талантами она не блистала. Общее впечатление было серой будничной посредственности. Наиболее яркими фигурами были генерал-квартирмейстер Данилов и полковник Генерального штаба Свечин, первый по своему твердому характеру и логическому мышлению, а второй был несомненно талантлив. Между тем Ставке предстояла серьезнейшая и ответственная задача. Нужно было собирать опыт войны, обрабатывать его и на основании сделанных выводов уже во время самой войны реорганизовывать и перевоспитывать армию, закованную в старые традиции. Эта задача оказалась не по силам нашей Ставке. Мозг армии не справился со своей задачей».[5]
Автор неоднократно пишет об удивительной осведомленности немцев. Это штрих к большой теме «немецкого засилья», которую активно развивали русские правые в начале XX столетия. Действительно, исторически значительное присутствие в русском служилом классе и коммерческом секторе немцев увеличивалось переселенцами, в том числе не принимавшими подданства. Горячая тема шпионажа, вспыхнувшая с началом войны, не может быть полностью отнесена на счет националистической истерии и предубеждений. Ненюков констатирует как самоочевидную вещь, что тайн от немецкого командования у русской стороны практически не было.
Изложение мемуариста позволяет добавить весомое мнение по ряду вопросов военно-морской стратегии и тактики в годы Великой войны. В частности, о борьбе с линейным крейсером «Гёбен» в Черном море и оценке ее итогов, об изобретательной минной войне в Балтийском море, о решениях британского и германского военно-морского командования. Изложение автора позволяет увидеть глазами моряка-профессионала, какой мощный и в то же время хрупкий инструмент – дорогой современный флот. Свои флоты берегли основные противники – Британия и Германия, категорически не желали рисковать крупными кораблями и в России. Вступление в строй русских дредноутов на Балтике и в Черном море не привело к стратегической активизации. Адмиралы всех стран боялись решительных столкновений главных сил из-за опасности потери дорогостоящих мощных кораблей. Кроме того, бытовало убеждение, что с появлением дредноутов прежние линейные корабли теряют значение. Эти соображения окрашивали собой и принятие стратегических решений, и тактику действий. Автор признает слабое развитие в России до войны подводного флота, с чем откровенно запоздали. Действительно, союзные британские подлодки в Балтийском море действовали гораздо эффективнее русских. В воспоминаниях всплывают неординарные и редкие сюжеты. Например, значительная роль нейтральной Швеции в снабжении Германии рудой, – морские караваны трудно было перехватывать из-за возможности дипломатических осложнений. Значимы профессиональные оценки адмирала как своих, так и неприятельских моряков, например, в области пользования дальномерами и точности стрельбы.
Не раз возникает в тексте имя А. В. Колчака. Характеристики Д. В. Ненюкова вполне соответствуют многим другим мнениям о характере будущего Верховного правителя России. Колчак порывист, инициативен, дисциплинарно строг. Его назначение командующим Черноморским флотом, как и назначение столь же молодого для такой должности А. И. Непенина на Балтийский флот, знаменовало собою как признание заслуг, так и более «молодую» стилистику в боевой работе. Увы, развернуться в полную силу таковой уже не было суждено. Ненюков упоминает и характеризует также и других адмиралов, известных по Великой и Гражданской войнам. Это А. А. Эбергард, М. К. Бахирев, В. А. Канин, М. И. Каськов, В. Н. Шрамченко и др.
Если Балтийский флот занимал в войне заведомо оборонительную позицию, то перед Черноморским маячило большое свершение – Проливы, Константинополь. Ненюков интересно и подробно описывает русские морские операции около Босфора, планы десанта, характеризует провальную Дарданелльскую операцию англичан. В Черном море очевидной опасностью для русского флота был германский «Гёбен». Борьба с быстроходным «германцем» окрасила собою все кампании на Черном море. Автор показывает, как боевая обстановка, при первой встрече с тем же «Гёбеном», заставляла ломать и изменять установления мирных времен. Мнение адмирала о стратегических решениях на Черном море, боевых возможностях русского, союзных и неприятельского флотов добавляет возможностей для обсуждения вопроса о «проливах» и русской стратегии в 1914–1917 гг. в целом. Интересно сопоставить его выводы и наблюдения с рассуждениями А. Д. Бубнова. Последний весьма жестко оценивает стратегические решения русского командования, критикует соображение: «Ключи от проливов лежат в Берлине», указывая, что эти «ключи» следовало искать в Лондоне. Дмитрий Всеволодович не дает чеканно сформулированных оценок – перед нами мемуары, а не военно-стратегический очерк, – но также предоставляет материал для критики русской способности к крупным решениям на Черноморском театре.
На Дунае адмиралу достается уже самостоятельная роль строевого начальника с необходимостью координировать действия как речных, морских и сухопутных сил, причем на «международном» Дунае, так и вступать во взаимоотношения с союзниками-румынами. Здесь застает его и революция. Румынский фронт держался, во всеобщем развале, дольше остальных. Ненюков показывает, и в военном, и в житейском горизонтах, состояние наиболее экзотического участка этого фронта.
Едва ли не все мемуаристы зарубежья задавались вопросом о природе столь страшного и быстрого крушения Российского государства и армии. На эту тему размышляет и Д. В. Ненюков. Он описывает интересный сюжет с лубенскими гусарами: полк был «румынизирован» и оказался на румынской службе, при этом большинство офицеров на румынскую службу не пошло, жило частным порядком, не удаляясь от полка, носило полковую форму. На предложение поступить в Добровольческую армию эти офицеры отвечали, – что вот если бы с полком! – а без полка мирное существование в условиях разворачивавшейся гражданской войны не казалось им предосудительным. Ненюков разумно замечает, что существовал полковой патриотизм, подобный губернскому патриотизму у мужиков. Данное замечание выводит на большую тему складывания русской нации, русского национального чувства, русских мотиваций в Великой войне. Можно вспомнить рассуждения на эту тему такого военного авторитета, как генерал Н. Н. Головин.
Дальнейшее пребывание автора в Одессе, при меняющихся властях, демонстрирует как быстрый выбор добровольческой ориентации, не самый очевидный для Одессы, так и умение работать в режиме полуподполья, выбирать нужное окружение и наладить с нуля большое дело. Центры Добровольческой армии были своеобразной формой, рожденной жизнью. На неконтролируемых армией небольшевистских территориях они играли роль вербовочных бюро, агитационных и разведывательных подразделений. Об активном Харьковском центре есть воспоминания Б. Штейфона и ротмистра Двигубского, а о работе Одесского наиболее последовательное изложение обнаруживается именно у Ненюкова.
Автор принадлежит к поколению, чья служебная карьера в основном сложилась в императорской России. Тем более интересно, что он, в отличие от многих своих сверстников, смог изобретательно и активно действовать в обстановке революции и гражданской войны. Он отбросил прежние субординационные отношения, «бумагу», мертвившую всякое дело в калейдоскопически менявшихся условиях. В этом Ненюков сродни военной молодежи, выдвинувшейся в годы междоусобицы и часто третировавшей «стариков» за абсолютную непригодность. Ненюков как раз из тех старших офицеров, которые смогли работать в условиях новой войны. В то же время автор демонстрирует умение подчиняться и соблюдать дисциплину, отсутствие того авантюризма, который был характерен для некоторых молодых героев Белого движения.
Адмирал, в обстоятельствах самых драматичных, привычно щепетилен в обязательствах. Показательна такая частность. Некая дама вручила ему ящик с обмундированием – великая ценность! – для сына-офицера. Оказия долго не подворачивалась, ящик совершил с вещами адмирала неоднократные перемещения в стесненных условиях, но брошен не был. Наградой Ненюкову стал непритворный восторг молодого офицера, извлекшего из упаковки хорошие сапоги.
Часть воспоминаний, связанная со службой в Добровольческой армии, более личностно окрашена и менее строго структурирована. Здесь больше размышлений. В то же время и сама служба Ненюкова в этот период носила совершенно иной характер.
Имея широкий круг служебных и личных контактов, Ненюков добавляет интересные черточки к характеристике тех или иных известных персон. Так, он передает свой разговор в Крыму с недавним командующим Добровольческой армией генералом В. З. Май-Маевским и его оценкой причин поражения белого натиска на Москву. Обладавший опытом своего рода «подпольной дипломатии», Ненюков скептически оценивает дипломатические способности А. И. Деникина, называет его излишне прямолинейным человеком, который готов был воевать со всеми. Эта оценка также попадает в обширный контекст, который начал ткаться еще публичной полемикой Деникина и Врангеля. Много упреков Деникину высказывали и казаки. В конце 1930-х годов публичные выступления бывшего главнокомандующего ВСЮР вызвали новые отклики с отсылкой к ошибкам периода 1919–1920 гг. Так что мнение мемуариста добавляет в палитру мнений свою краску.
Два известных офицера с устойчивой репутацией «авантюристов» – А. Н. Гришин-Алмазов и Я. А. Слащов – вызывают у автора итоговую положительную оценку, хотя по складу характера вряд ли эти люди были ему близки. В противоположность этой симпатии, автор сдержанно, но отрицательно оценивает кадетов из окружения Деникина, – Астрова, Федорова, – тех, кто не желал соответствовать обстановке и создавал управленчески и политически неадекватную систему руководства.
Ненюков дает характеристики и тем коллегам-адмиралам, которые оказались в орбите Белого движения. Это, прежде всего, М. П. Саблин и В. А. Канин, а также А. Д. Бубнов.
Автор весьма сдержанно характеризует адмирала Бубнова как талантливого офицера, о назначении своим начальником штаба которого он, однако, пожалел. За этой сдержанностью можно предполагать серьезные эмоции и какое-то значительное несовпадение, личностное, или в понимании служебного долга. Оба – участники Русско-японской войны, оба ранены. Оба адмирала были сослуживцами по Ставке, деятельность которой оценили весьма критично. Оба адмирала оказались уволены рукой А. И. Деникина весной 1920 года. Ненюков по этому поводу пишет, что на месте Деникина, имея ту информацию, которой располагал главком, поступил бы так же. Он вернется из Константинополя и продолжит служить в Русской армии, приняв должность командующего Черноморским флотом, который в кампанию 1920 года был весьма активен и вынес осенью знаменитую эвакуацию. Бубнов останется в эмиграции и обретет там имя военного писателя и военно-морского теоретика. Ему будет суждена долгая жизнь, сравнительно благополучно оконченная уже в социалистической Югославии. Можно пожалеть о том, что Дмитрий Всеволодович не развернул сюжет своих взаимоотношений с ярким сослуживцем и коллегой.
Адмирал подробно рассказывает и о судьбоносном моменте Белого движения на Юге – принятии решения об обороне корпусом генерала Я. А. Слащова Крыма, при несогласии или неосведомленности старших начальников. Как видно из текста, роль самого Ненюкова в этом решении весьма значительна. Этот сюжет попадает в напряженный контекст выбора путей отхода и подготовки контрнаступления в феврале 1920 года. В частности, обсуждался вопрос о причинах отступления на Одессу под давлением англичан, что вызвало крайне непроизводительный расход сил. Ненюков, как участник принятия важных решений, добавляет интересных сведений по столь важному вопросу.
Любопытно свидетельство о деятельности Освага, пере данное начальником агитпоезда Добровольческой армии – инициативным офицером, помощником Ненюкова по одесской эпопее. Деятельность агитпоезда была вполне успешной, и народ собирался, и в диспутах агитаторы научились одерживать верх над большевистски настроенными мужиками. И начальник – активный, смелый и изобретательный. И при всем том – полнейшая безнадежность. Вся агитация не отходила от железных дорог, огромные пространства лежали втуне, и практический результат даже от вполне динамичной и успешной работы оказывался нулевым. Этот эпизод добавляет пищу для размышлений о проблеме коммуникации, о «слышимости» между властью и народом на разных сторонах Гражданской войны.
Еще один сюжет, не раз повторенный как в белой, так и в красной мемуарной литературе, – это возвращение русских пленных. Ненюков видит этот процесс с технической точки зрения. Союзники стараются с наименьшими издержками свалить, «скачать с рук» эти толпы людей, белые рассчитывают пополнить ими части, красные – использовать как ресурс разложения вражеского тыла, сами пленные в большинстве аполитичны и желают скорее попасть домой и не опоздать к дележке земли… Тысячи людей, прибывающие вне всяких графиков, необходимо размещать, кормить, при самых скудных возможностях разоренного Севастопольского порта.
Мемуарист имел возможность видеть и описать, как развал и революционная блажь, вкупе с поспешным хищничеством недавних врагов и союзников, способны погубить плоды долгих целенаправленных усилий по созданию и укреплению флота. Оказавшись командующим несуществующим, по сути, белым Черноморским флотом, адмирал ощутил это в полной мере.
Ненюков много и горько пишет о русской интеллигенции, понимая под этим словом весь образованный класс. В этом он никак не одинок. Адмирал не раз упоминает о «безлюдье», приводит примеры офицеров, которые – будь таких хоть несколько сотен – могли бы вытянуть до победы борьбу с красными. Однако людей не было. Это очень характерный мотив, проходящий едва ли не через весь XIX век. «Некем взять», «нет людей», слабые «культурные силы» – мотивы, которые звучали из уст и царей, и прогрессистов в самых разных контекстах. Литература выстроила внушительную галерею «лишних людей». Мощно росшая страна не находила способов органично соединить верхи и низы. Большевики разнуздали все стихии, – и люди нашлись! Об этой проблеме не раз упоминает автор. Адмирал многократно пишет о болезнях русской интеллигенции, говорит о ее безволии и неврастении, неумении сосредоточенно трудиться.
Показательно деление Ненюковым «русской интеллигенции» на пять групп, с характеристикой каждой из них. Многие мемуаристы предлагали свои классификации и объяснения, выявляли дефицит тех или иных людей, типов, качеств, которые позволили большевикам взять верх. Ненюков, прежде всего, пишет об отсутствии у «интеллигенции» воли и самодисциплины. Что характерно, он и о Слащове пишет как о типичном интеллигенте, с неистребимой неврастенией. В обвинении «интеллигенции» совершенно не слышится солдафонского презрения к штатским. Напротив, Ненюков и себя причисляет к этому слою, понимая интеллигенцию максимально широко, как круг образованных людей, не исключая и офицерства.
Обращают на себя внимание мимолетные упоминания А. И. Гучкова и П. Н. Милюкова. Лидеры крупнейших либеральных партий, властители дум в предреволюционный период и наиболее видные деятели оппозиции предстают в весьма непрезентабельном виде: растерянность, боязнь ошибиться с очередной «ориентацией», забота о местечке на корабле на случай военной неудачи…
Воспоминания Д. В. Ненюкова станут еще одним весомым мнением о русской военной истории, русском пути в мире в представительном ряду воспоминаний военных и морских деятелей России.
За два последних десятилетия в России сформированы весьма развернутые базы данных по офицерским персоналиям. Труды А. Г. Кавтарадзе (офицеры – военные специалисты в РККА), С. В. Волкова (офицерский корпус Русской императорской армии, персоналии участников Белого движения), А. В. Ганина (офицеры-генштабисты), активная работа сайта «Великая война» (генералы и штаб-офицеры – участники войны 1914–1918 гг.) и другие печатные труды и электронные ресурсы сформировали значительный массив обнародованной информации о жизненном и, главным образом, служебном пути представителей русского офицерского корпуса. Это обстоятельство избавляет нас, при подготовке комментариев, от излишней подробности в изложении. Поэтому в примечаниях даны основные вехи службы или значимые характеристики той или иной персоны, ее служебных взаимоотношений или политических ориентаций. Более подробная информация сейчас, как правило, легкодоступна.
Антон ПосадскийПредисловие
Настоящие записки в большой своей части составлены мною в декабре 1917 и январе 1918 года в городе Измаиле,[6] когда я был смещен с должности начальника обороны Нижнего Дуная революционными комиссарами. До войны я занимал должность помощника начальника Морского генерального штаба[7] и от начала войны до ноября 1916 года начальника морского управления[8] при Верховном главнокомандующем. С этого времени до декабря 1917 года был начальником морской и сухопутной обороны Нижнего Дуная. Во время Гражданской войны с мая 1918 г. до апреля 1919 г. был начальником центра Добровольческой армии[9] в Одессе, а с августа до апреля 1920 г. – командующим Черноморским флотом. Моя записки составляют около 400–450 страниц писаной тетради. Я желал бы продать их в полную собственность, если возможно, за 300 крон за печатный лист.
Вице-адмирал Ненюков12 ноября 1925Часть I Мировая война
Перед войной и начало войны (1914 год)
Зима 1913–1914 года была для меня очень тяжелая. Осенью заболел серьезно начальник Морского генерального штаба вице-адмирал князь Ливен[10] и, проболев два месяца на квартире, отправился за границу в продолжительный отпуск для лечения, возвращаясь из которого умер в вагоне железной дороги от разрыва сердца. Таким образом мне всю зиму пришлось одновременно исполнять две обязанности – начальника штаба и его помощника. Работы было хоть отбавляй: иногда в один день приходилось заседать в трех комиссиях, не считая повседневной работы в штабе.
Новый начальник штаба вице-адмирал Русин[11] был назначен только в мае 1914 года и тотчас же уехал с ответным визитом к начальнику французского Морского генерального штаба. Когда он вернулся и немного вошел в курс дела, я наконец почувствовал себя вправе попросить долгожданного и вполне заслуженного месячного отпуска. Уезжал я со спокойным сердцем. Сараевское убийство вначале не давало никаких оснований ожидать тех ужасных событий, которых оно сделалось предлогом. Мы все знали, что война неизбежна, но, по многим данным, ее нельзя было ожидать ранее 1916 года – времени полной готовности Германии и Австрии, следовавших в своих приготовлениях вполне определенному плану. В 1913 году один из наших тайных агентов доставил нам копию протокола тайных переговоров между германским и австрийским начальниками сухопутных генеральных штабов, где совершенно точно указывался срок окончания всех приготовлений – весна 1916 года. Был ли этот протокол подлинный или подложный, конечно, точно сказать нельзя, так как подобные документы фабриковались иногда с художественным правдоподобием. К этому 1916 году и мы приготовляли свой хорошо продуманный оборонительный план.[12]
С такими мыслями я расположился отдохнуть как следует в деревне, на чистом воздухе, не читая даже газет, как вдруг на третий день моего отпуска получаю лаконичную телеграмму: «Возвращайтесь немедленно. Русин». В тот же день, уже едучи по железной дороге, я из газет узнал об австрийском ультиматуме Сербии, а на другой день в Петербурге на вокзале об открытии военных действий между этими государствами.
По прибытии в штаб начались страдные дни. Работа шла день и ночь. В помещение штаба были принесены кровати, и офицеры спали в своих бюро. Вышло как-то само собою, что все прочие учреждения министерства стушевались и Генеральный штаб занял доминирующее положение. Предмобилизационый период прошел быстро и без шероховатостей, но так как все время теплилась надежда на благополучный исход переговоров, то минных заграждений ставить не решались, так как раз поставленные несколько тысяч мин надолго бы затруднили судоходство в Финском заливе. Вместе с тем минное поле у острова Нарсена было нашей единственной защитой против многократно сильнейшего неприятеля, и кто мог поручиться, что немцы, подобно японцам в 1904 году, не начнут военных действий без формального объявления войны.[13]
Вот почему до установки минного заграждения на свое место мы переживали томительную тревогу. Командующий флотом адмирал фон Эссен сыпал запросами о разрешении ставить заграждение. Наконец, в ночь с 29 на 30 июня с флота пришло сообщение о ясно слышной работе германских искровых станций с новой настоятельной просьбой об установке заграждений. Дальше нервы уже не могли выдержать. С разрешения адмирала Русина я послал капитана 2-го ранга Альтфатера[14] к начальнику штаба округа генералу Гулевичу,[15] так как Балтийский флот уже был подчинен главнокомандующему Петербургским округом. Генерал Гулевич не взял на себя разрешения и отправил Альтфатера к начальнику Генерального штаба генералу Янушкевичу. Наконец в 5 часов утра Альтфатер явился и привез разрешение, которое было немедленно сообщено командующему флотом.
Наш план обороны, разработанный в 1909 и 1910 гг., был прост и практичен. Задачей Балтийскому флоту ставилось «не допускать неприятельский флот проникнуть в Финский залив», чтобы этим обезопасить столицу от всякого покушения с моря. Для выполнения этой задачи предполагалось заградить Финский залив в самой его узкой части, между островами Нарген и Макилат, минным полем длиной в 30 миль и шириной в милю. Для обороны флангов минного поля предполагалось на вышеуказанных островах построить сильные батареи по 14 орудий в башнях, а с фронта защита позиции поручалась Балтийскому флоту, основное ядро которого должна была составить тогда же заложенная бригада из четырех дредноутов.[16] К 1916 году вся эта программа должна была быть выполнена, в июле же 1914 года положение представлялось в следующем виде: мы имели в готовности 4000 мин заграждения и шесть минных заградителей, которые могли выставить требуемое планом минное поле в 6 часов времени по первому приказанию; на островах Нарген и Макилат были построены временные батареи из нескольких 8– и 6-дюймовых орудий и наконец фронт позиции оборонялся бригадой из четырех старых линейных кораблей додредноутного типа.
Укрепленная позиция Нарген – Макилат
Получив долгожданное разрешение, командующий флотом отдал соответствующие приказания, и в 8 часов утра отряд заградителей под прикрытием флота начал свою работу. К 2 часам дня все было окончено в блестящем порядке. Было поставлено 2200 мин, и ни одна мина не всплыла. Все вздохнули свободно, с души спала огромная тяжесть.
Далее следовали известные события, мобилизация и объявление войны.
Должен теперь вернуться несколько назад, чтобы ход последующих событий был более ясен.
После Цусимского разгрома[17] наш флот почти не существовал. В Балтийском море оставалось некоторое количество миноносцев и несколько старых судов преимущественно крейсерского типа, но оставался личный состав, испивший горькую чашу тяжелого поражения и общественного презрения. Среди молодых офицеров было много талантливых и честных работников, и началась идейная борьба молодежи со старыми рутинерами, не отдававшими себе ясного отчета о значении и употреблении морской силы.
Должен, впрочем, оговориться, что в военных флотах всего мира со времени введения парового двигателя военная доктрина пришла в полное расстройство. Старые моряки неохотно расставались с мечтой о прежних парусных плаваниях. На огромные броненосцы продолжали ставить ненужные мачты с полным парусным вооружением, причем паруса употреблялись не для хождения по морю, что было технически невозможно, а для рейдовых парусных учений. Большая часть драгоценного времени при малом сроке службы нижних чинов тратилась на обучение слаженному парусному делу, причем выдвигались следующие якобы аксиомы морского дела:
1) Парусное дело для моряка то же, что латинский и греческий языки для всякого образованного человека.
2) Без знания парусного дела нельзя выработать лихого моряка.
При такой доктрине, создававшейся притом во время глубокого мира между морскими державами, не мудрено, что мыслящие умы уклонились от прямого направления куда-то в сторону. Во флоте повторялись павловские и аракчеевские времена. Главное внимание обращалось на чистоту палуб и вахтенную службу. Смотры всегда производились на рейдах, причем корабли щеголяли друг перед другом безукоризненными маневрами с парусами, а на стрельбу и тактические упражнения не обращали никакого внимания. Наш флот особенно долго страдал от установившихся взглядов на обучение, а ранее всех вышли на правильный путь немцы и японцы, что объясняется тем, что германский и японский флоты были совсем молоды и не имели укоренившихся традиций и рутины. Правда, и у нас еще до японской войны адмирал Макаров[18] и капитан 2-го ранга Кладо[19] пробовали бороться против рутины, но их голоса, как одиночные, не могли круто изменить общее настроение. Только японская война раскрыла нам наконец глаза, но и то не сразу. Молодежь горячо почувствовала тяжелые раны, нанесенные отечеству, и, в частности, когда-то победоносному родному Андреевскому флагу. Произошел не бывавший в летописях флота случай – одновременно пять русских судов спустили свои флаги и сдались неприятелю!
Наиболее способные офицеры стали центрами военно-морских кружков, начали доискиваться корня причин нашего поражения и, доискавшись, вступили в горячую идейную борьбу с рутинерами, стоявшими у власти. По счастью, два морских министра, занимавших этот пост в период с 1905 по 1909 год, адмирал Бирилев[20] и Диков,[21] оба принадлежали к разряду колеблющихся. Как умные люди, они понимали, что флот не оправдал себя перед отечеством и нуждается в коренных реформах, но, с другой стороны, связанные по рукам традициями и личными симпатиями, они не могли открыто стать на сторону воинствующей молодежи. Тем не менее, вследствие их снисходительности, брешь в рутине была пробита.
Благодаря энергии и настойчивости одного из талантливейших представителей молодежи, лейтенанта Щеглова,[22] был учрежден Морской генеральный штаб, в котором сосредоточилась вся созидательная работа по возрождению флота; прежде всего во всех трех морях: Балтийском, Черном и Японском, были поставлены соответствующие силам флота задачи. Из задач выяснились программа нового судостроения и планы военных операций, а из последних – учебные планы для каждого моря в отдельности.
Сам флот был в корне реорганизован. Прежде существовавшая система летних 4-месячных практических плаваний и затем зимнего 8-месячного сидения в казармах, на сухопутный образец, была отменена. Было приказано держать корабли укомплектованными личным составом круглый год, причем практическое плавание в Балтийском море было продолжено до 7–8 месяцев, в зависимости от его замерзания, а в Черном и Японском морях – на весь год. Только нуждающиеся в крупном ремонте суда ставились в резерв, но и то личный состав при малейшей возможности оставался жить на них. Эта реформа, давно усвоенная во всех иностранных флотах, дала очень скоро и у нас блестящие результаты. Личный состав, не расстававшийся со своим кораблем, скоро почувствовал себя как бы слившимся с ним и на каждом корабле жизни стал вырабатывать свои традиции.
На стрельбу как артиллерийскую, так и минную, было обращено серьезное внимание. Благодаря трудам выдающихся артиллеристов контр-адмирала Герасимова[23] и капитана 2-го ранга Игнатьева[24] были выработаны прекрасные методы стрельбы и подготовительных к стрельбе упражнений. Число практических стрельб было увеличено в пять раз, и ассигнованы большие суммы на установку снарядов, патронов и щитового имущества.
Число учебных минных стрельб также было увеличено, и был отменен закон, требующий следственного производства о потере каждой мины при практической стрельбе. Этот закон был кошмаром всех минных офицеров и заставлял их находить всевозможные предлоги, чтобы уклоняться от производства стрельб.
Во всех морях была организована служба связи. Это учреждение, несмотря на свою важность, совершенно отсутствовало у нас до японской войны. Теперь были приняты меры по оборудованию на всех важнейших пунктах побережья помещений для сигнальных и сторожевых постов, содержимых и в мирное время и связанных между собой телеграфом или телефоном. При мобилизации служба связи развертывалась в густую сеть наблюдательных постов, снабженных всем необходимым для наблюдения за морем и быстрой передачи на флот всего усмотренного. Только что нарождавшаяся морская авиация была придана службе связи и значительно усилила ее средства. Флот получил глаза, которых у него не было.
Возможные театры военных операций получили надлежащее оборудование: было приступлено к сооружению Ревельской крепости[25] как главной маневренной базы Балтийского флота и к усилению артиллерийской обороны Севастополя с моря.
Ширина фарватера у финляндских берегов была приспособлена для плавания не только миноносцев, но и больших кораблей, что давало нашим судам большие преимущества перед неприятелем, прорвавшимся в Финский залив.
Порты были приспособлены для быстрого снабжения судов топливом и другими припасами, а для миноносцев – и мастерские. Эти базы должны были всегда находиться поблизости места военных операций в готовности снабдить всем нужным действующий флот и оказать ему помощь в случае аварий и мелкого ремонта.
В учебные планы флота в Балтийском и Черном морях были введены обязательные малые и большие маневры. Малые маневры производились несколько раз в год под наблюдением командующих морскими силами, а большие – обыкновенно осенью под наблюдением начальника Генерального штаба, по заданиям, близким к предположенному плану военных операций.
Были введены улучшения и в проходящие службы личным составом. Прежний бюрократический морской ценз, не считавшийся с индивидуальностью офицеров и смотревший на них, как на машины, долженствующие проплавать для своего повышения известное число месяцев, был значительно смягчен и приспособлен к жизни. Командующий морскими силами получил право выбора своих флагманов и командиров, а командиры – своих старших офицеров и специалистов.
Ввиду уменьшения срока службы нижних чинов с 7 до 5 лет[26] были образованы кадры сверхсрочнослужащих, но, к сожалению, денежное обеспечение последних было назначено недостаточное, вследствие чего процент сверхсрочнослужащих никогда не достигал желательной нормы.
К сожалению, также не было обращено должного внимания на борьбу с революционной пропагандой, что дало впоследствии печальные результаты.
Из приведенного короткого перечня наиболее важных реформ видно, что морское ведомство вполне целесообразно и производительно использовало время с 1905 по 1914 год. Единственным упущением было запоздание с постройкой подводных лодок, которых к началу войны было в готовности только шесть, да и те устарелого типа. В постройке в 1914 году было в Балтийском море 12 подводных лодок, а в Черном море – 6, но механизмы для большей их части были заказаны в Германии, как в единственной стране, умеющей в то время строить дизель-моторы.
Когда война началась, механизмы были конфискованы германским правительством, и наше морское ведомство было поставлено в затруднительное положение, из которого оно, впрочем, вышло довольно благополучно, разоружив канонерские лодки Амурской речной флотилии,[27] которые имели дизель, подходивший и для наших подводных лодок.
Все вышеприведенные реформы проходили в морском ведомстве не без трений. Большинство старых адмиралов, стоявших у власти, критически относились к начинаниям Морского Генерального штаба, и офицеры последнего даже получили презрительное название младотурок, но молодежь вся была на стороне Генерального штаба, и это течение было так сильно, что старикам пришлось смириться, чему много способствовало личное влияние командующего морскими силами адмирала фон Эссена,[28] который совершенно определенно стал на сторону Генерального штаба.
Критический период флот переживал в 1909 году во время министерства адмирала Воеводского,[29] большую часть своей службы проплававшего на яхтах и не понимавшего новых требований, предъявляемых к боевому флоту.
По счастью, уже в 1910 году морским министром был назначен адмирал Григорович,[30] человек с ясным умом, несокрушимой энергией и незаурядным административным талантом. При нем работа закипела как в центральных учреждениях ведомства, так и в портах и на заводах. Адмирал пользовался также большим авторитетом в думских кругах, благодаря чему морские кредиты проходили легко и без трений.
После объявления войны
С объявлением войны стало известно, что великий князь Николай Николаевич[31] будет Верховным главнокомандующим. Государь хотел сам принять на себя командование, но министры его отговорили.
На другой день после объявления войны я как обыкновенно явился к министру с очередными телеграммами, и совершенно неожиданно он меня поздравил с производством в контр-адмиралы и с назначением начальником Морского управления при Верховном главнокомандующем.
В тот же день [я] явился к генералу Янушкевичу[32] как начальнику штаба Верховного главнокомандующего. Меня принял очень любезный красивый генерал. Разговор был очень короткий. Мне было сказано, что Верховный главнокомандующий познакомится со своим штабом по прибытии в Ставку, место которой является пока секретом, и затем было рекомендовано по всем делам обращаться непосредственно к нему. Следующий мой визит был к генерал-квартирмейстеру генералу Данилову, так называемому Данилову-черному,[33] в отличие от Данилова-рыжего,[34] который занимал должность начальника канцелярии Военного министерства. С генералом Даниловым я уже был знаком по совместной работе в генеральных штабах. Он сидел у себя в кабинете мрачный как туча и дал мне лишь короткие указания относительно будущих наших взаимоотношений. На мой вопрос о его надеждах на успех он мрачно покачал головой и сказал следующее:
– Мы далеко не готовы; дай Бог, чтобы первый удар был не по нам.
Дежурного генерала я не застал и оставил ему свою карточку, а потом вернулся в свой штаб, чтобы подготовить сдачу дел своему заместителю, командиру линейного корабля «Петропавловск» капитану 1-го ранга Пилкину.[35]
С переходом на военное положении нужно было также урегулировать работу штаба применительно к обстановке. Объявленное в самый день начала военных действий «положение о полевом управлении войск» давало только самые общие указания о работе морских управлений в масштабе фронтов и Ставки Верховного главнокомандующего. Эта работа в главных чертах сводилась к составлению приказов, директив для командующих флотами и к ежедневному составлению сводок о ходе военных действий на море. За Морским генеральным штабом оставались целиком деятельность по наблюдению за снабжением флота всем необходимым, собирание сведений о противнике, составление новых положений и инструкций и прочая повседневная работа. На заседании под председательством адмирала Русина было решено, что Генеральный штаб возьмет на себя общее руководство реквизициями коммерческих судов по военно-судовой повинности и морскую гидроавиацию, которая находилась в самом зачаточном состоянии, но должна была развиться в важный орган службы связи и морской разведки. Кроме того, было решено образовать в штабе осведомительное бюро, в котором должны были концентрироваться сведения из Министерства иностранных дел, сухопутного Генерального штаба, Ставки Верховного главнокомандующего, штабов флотов, морских агентов и тайной агентуры. После цензуры сведения должны были сообщаться заинтересованным лицам и учреждениям, а что возможно, то и в печать.
День 4 августа принес нам большое облегчение. Выяснилось окончательно, что Англия наша союзница и Италия остается нейтральной. Помимо огромного значения присоединения к Державам Согласия нового мощного союзника, в частности для Балтийского моря, решение Англии знаменовало связанность германского флота. С этого момента мы могли рассчитывать, что против нас могут быть двинуты только старые линейные корабли, так как дредноуты Германия должна была беречь против главного врага на море. Французский морской агент капитан 2-го ранга Гало, каждый день приходивший в штаб за новостями и отличавшийся настоящим галльским темпераментом и постоянно меняющимся настроением, явился в этот день с победоносным видом. Я его спросил, что французы потребуют от Германии. «Да ничего, кроме Эльзаса и Лотарингии, – ответил он, – разве еще маленькую контрибуцию». А какую? «Да раз в пять больше, чем они взяли у нас в семидесятом году». Аппетиты начали уже разгораться.
На следующий день было историческое заседание Государственной думы. Мне пришлось ехать туда на автомобиле с генералом Янушкевичем, и мы разговаривали о войне. Он был очень оптимистично настроен и говорил, что мы потребуем себе после заключения мира Галицию и Восточную Пруссию, чтобы выровнять наши границы. Такой оптимизм сильно меня поразил после мрачного пессимизма генерала Данилова и привел в большое смущение.
В Государственной думе Родзянко[36] вел заседание с большим подъемом, и чувствовалось, что патриотизм действительно охватил в это время наших законодателей. Правые жали руки левым, приветствовали союзных послов и громовое «ура» долго перекатывалось по зале. При виде этого зрелища и я заразился верой в победу, но мое настроение сильно упало после разгрома германского посольства, где так ярко выявилась наша общая некультурность. Помимо того, что разгром был явно допущен властями, мне пришлось слышать из уст, казалось бы, вполне образованных людей одобрение этому варварскому поступку.
На море в это время все было спокойно. В Либаве и военные, и морские власти растерялись. Произошла паника. Какой-то разъезд донес о приближении неприятельской кавалерии, и, не проверив донесения, те и другие приступили к уничтожению военных сооружений. Правда, по плану военных операций Либаву и не предполагалось защищать в начале войны, но все же, находясь в наших руках, она представляла убежище для наших миноносцев в случае операций в открытом море. Слишком точные выполнители инструкций затопили при входе в порт несколько малых пароходов и взорвали подъемный кран. Впоследствии пришлось довольно много поработать, чтобы восстановить действие порта.
Наш Балтийский флот, убедившись, что ему в ближайшие дни ничего не угрожает, приступил к систематическому усилению Ревельской позиции, выдвигая вперед где нужно минные заграждения и усиливая важные оборонительные пункты орудиями, снятыми со старых судов. Бригада линейных кораблей в составе «Андрея Первозванного», «Павла I», «Цесаревича» и «Славы» базировалась на Гельсингфорс. При ней находился и крейсер «Рюрик», на котором обыкновенно держал свой флаг адмирал фон Эссен. Впоследствии адмирал перешел на посыльное судно «Кречет», очень удобное для жизни и работы большого штаба. Первая бригада крейсеров в составе «Адмирала Макарова», «Паллады», «Баяна», «Бесстрашного» и «Олега» базировалась на Ревель, а вторая, состоявшая из «Громобоя», «России», «Дианы» и «Авроры», – на Гельсингфорс. 32 миноносца были распределены между этими портами, а пять подводных лодок – все базировались на Ревель. Этот подлинный перечень представляет собой все наличные боевые силы Балтийского флота в августе 1914 года.
Идея обороны представлялась в следующем виде. По первому уведомлению от сторожевых судов или постов службы связи о приближении к Финскому заливу больших неприятельских сил флот выходил на позицию. Линейные корабли располагались за минным полем в центре позиции, а крейсеры и миноносцы в двух группах на ее флангах для подкрепления сухопутных батарей.
Подводные лодки выходили в море для действия в тылу неприятеля. Пока наши 14-дюймовые пушки не были установлены на своих местах, неприятель мог игнорировать наши недальнобойные сухопутные батареи и обратить свои усилия против центра позиции, находящегося вне обстрела сухопутных батарей, тем не менее и этим батареи уже стесняли пространство и мешали неприятелю развернуть против нас большие силы.
Бой должен был начаться артиллерийской дуэлью между нашей минной бригадой и неприятельским флотом. Едва ли можно сомневаться, что, при численном превосходстве противника, наши суда скоро должны были быть вынуждены к отходу, но они отошли бы ровно настолько, чтобы не подвергаться действительному огню неприятеля. Отогнав наши суда, неприятель приступил бы к тралению прохода в минном поле, причем наши мелкосидящие и потому не боявшиеся мин заграждения миноносцы старались бы мешать тральщикам работать, угрожая своими атаками, а заградители, если не днем, так ночью, должны были подставлять новые ряды мин заграждения в направлении, перпендикулярном протраленному каналу. Таким образом, форсирование минного поля являлось длительной, сложной и далеко не безопасной операцией.
В случае, если бы германский флот прорвал минное поле, наш флот удалился бы в Гельсингфорс, на фланг операционного направления к Петербургу, и, владея финляндскими шхерами, создавал бы постоянную угрозу неприятельскому тылу и флангу.
Угрожаемые английским флотом, немцы не решились на эту операцию, несмотря на ближайшую перспективу создать непосредственную угрозу нашей столице, именно вследствие ее трудности и опасности. Когда это окончательно выяснилось, личный состав Балтийского флота заволновался. Многие высказывали мнение, что война кончится очень скоро и флот останется в бездействии. Молодежь, несмотря на материальную слабость флота, требовала активных действий, и командующему флотом, связанному строгими директивами Ставки, стоило больших трудов, чтобы утихомирить горячие головы. В скором времени, впрочем, был найден выход для бившей ключом энергии молодежи, но об этом поговорим впоследствии.
31 июля/13 августа был, наконец, назначен день отъезда главной квартиры из Петербурга. Весь состав разместился в пяти поездах, кроме конвойного Лейб-казачьего полка, который отправился заблаговременно. Морское управление следовало вместе с управлением дежурного генерала и военных сообщений во втором эшелоне, а Верховный главнокомандующий с отделом генерал-квартирмейстера в третьем. Морское управление состояло всего из пяти лиц: меня, двух штаб-офицеров капитанов 2-го ранга, Немитца[37] и Бубнова,[38] и двух обер-офицеров лейтенантов, Яковлева и Апрелева.[39] При управлении еще состоял великий князь Кирилл Владимирович[40] со своим адъютантом князем Ливеном.[41]
Для всех нас был отведен вагон 1-го класса, и каждому досталось отдельное купе, очень просторное и удобное. Если бы был шкаф для платья, то совсем было бы похоже на приличную лейтенантскую каюту на корабле. В этих каютах нам пришлось прожить больше года, и мы так к ним привыкли, что не захотели перебраться в комнаты, когда это стало возможно.
В 8 часов вечера поезд отошел от Царскосельского вокзала. Было много провожающих, но публика была настроена сосредоточенно, а потому «ура» вышло довольно жидкое. Мы двигались по графику воинских поездов по 300 верст в сутки и потому прибыли на место только на третьи сутки. Оказалось, что пунктом нашего назначения была станция Барановичи,[42] и секрет был соблюден так хорошо, что мы узнали о месте Ставки только по прибытии к месту назначения.
Ставка
Место Ставки было выбрано удобное, в узловом пункте железных дорог, занимающем центральное положение по отношению к фронту начального развертывания. Мы все помещались в вагонах, а управления и канцелярии разместились в бараках и домах железнодорожной бригады, занимавшей это местечко в мирное время. Помещения бригады были расположены совершенно отдельно от местечка Барановичи, а потому изоляция Ставки была очень удачна как в смысле охраны великого князя, так и в смысле борьбы с проникновением шпионов.
Поезда, в которых мы жили, стояли в лесу на вновь построенных тупиках, и летом было достаточно места для прогулок. Зимой стало гораздо хуже, вследствие выпадения глубоких снегов, и приходилось прогуливаться только по немногочисленным расчищенным дорожкам. Самое местечко, исключительно еврейское, имело около тридцати тысяч жителей и было расположено по другую сторону от железной дороги, приблизительно в версте от Ставки. Мы в нем почти не нуждались, так как ежедневный курьер привозил все необходимое из Петрограда. Столовались мы в вагоне-столовой на две очереди по сорока человек в каждой. Плата была чрезвычайно малая, всего один рубль в день за завтрак из трех блюд, обед из четырех и три раза чай с хлебом и маслом. Разница в цене уплачивалась из особых сумм штаба. Великий князь со свитой имел свой стол в своем поезде, и мы туда приглашались человек по десять в день.
Поезд великого князя стоял около небольшого дома начальника железнодорожной бригады, где помещалась канцелярия оперативной части и находились аппараты связи. Таким образом великий князь находился в непосредственной близости от центра всех сообщений, а в случае надобности и сам мог подойти к аппаратам для переговоров с главнокомандующими армиями фронта или Царским Селом. Поезд состоял из вагонов великого князя, начальника штаба, генерал-квартирмейстера, свитского, иностранных агентов, прислуги и вагона-столовой. Место вокруг поезда было оцеплено постами полевых жандармов, и без письменного пропуска от коменданта пропускались только известные жандармам лица.
Домик начальника бригады состоял из нескольких комнат и весь был занят канцелярией, но очень скоро места для аппаратов не хватило и пришлось делать специальную пристройку. Другой поезд, в котором помещались чины штаба, стоял в сотне саженей от первого, ближе к железнодорожной станции, вне пояса специальной охраны. Туда доступ был свободен, но находился под наблюдением специальных агентов.
В начале войны состав штаба был очень невелик. Всего во всех управлениях было 85 офицеров и чиновников, кроме конвоя, свиты великого князя и иностранных агентов. Впоследствии в Могилеве число чинов штаба возросло до 500 человек, из коих добрая половина была совершенно лишняя. Все чины штаба, благодаря полной изолированности, быстро перезнакомились и даже сошлись друг с другом. Потекла монотонная и скучная жизнь: все интересы сходились вокруг войны, и все переживали удачи и неудачи, совместно радуясь и горюя, смотря по обстоятельствам.
Должен сказать, что, несмотря на обширное поле для интриг всякого рода, их почти не было. Каждый занимался своим делом и в свободное время развлекался кто как умел и мог. Это, конечно, следует отнести на счет благородного характера великого князя. Постепенно и я близко ознакомился со всеми обитателями Ставки. Сейчас еще не наступило время давать характеристики главных лиц, но все же не могу удержаться, чтобы не высказать общего впечатления. Ставка, представлявшая мозг армии, где должны были быть собраны наиболее способные люди изо всей армии, далеко не удовлетворяла этим требованиям. В ней было много очень милых и симпатичных людей, но, к сожалению, и только. Талантами она не блистала. Общее впечатление было серой будничной посредственности. Наиболее яркими фигурами были генерал-квартирмейстер Данилов и полковник Генерального штаба Свечин,[43] первый по своему твердому характеру и логическому мышлению, а второй был несомненно талантлив. Между тем Ставке предстояла серьезнейшая и ответственная задача. Нужно было собирать опыт войны, обрабатывать его и на основании сделанных выводов уже во время самой войны реорганизовывать и перевоспитывать армию, закованную в старые традиции. Эта задача оказалась не по силам нашей Ставке. Мозг армии не справился со своей задачей.
Первые дни в Ставке
Через несколько часов после нашего поезда пришел поезд великого князя. Мы, т. е. прежде прибывшие, построились на платформе вокзала по управлениям. Великий князь со свитой и со значком обошел фронт и сказал по нескольку любезных слов всем начальникам управлений. На этом окончилось представление, и великий князь удалился в свой вагон, а мы направились восвояси, т. е. в свой поезд, на текущую работу.
В нашем управлении дела было немного. Каждый вечер мы получали сводки сведений по Балтийскому флоту, а когда началась война с Турцией, то и по Черноморскому. Эти сведения обрабатывались и, смотря по их важности, посылались или докладывались мною лично начальнику штаба, который докладывал великому князю только особо важные дела.
В день поступало от десяти до пятнадцати телеграмм, из которых половина шифрованных по всевозможным вопросам. В начале офицерам управления приходилось много работать с расшифровкой и набором шифра, но вскоре мы соединились прямыми проводами как с Петроградом, так и с Севастополем, и шифрованных телеграмм стало приходить очень мало. В общем, можно сказать, что флот не доставлял много беспокойства, после того как выяснилось, что немцы наступать не собираются. Сами же мы до готовности наших дредноутов были слишком слабы, чтобы действовать активно. Таким образом весь интерес сосредоточивался на армии.
В это время наступление немцев на Западном театре уже определенно обозначилось. Геройская бельгийская армия уже была сломлена, Брюссель с часу на час должен был быть очищен, и нужно было скоро ожидать соприкосновения французской и германской армий. Французы нас бомбардировали просьбами о скорейшей готовности. Главная квартира стала нажимать на генерала Жилинского,[44] командующего Северо-Западным фронтом, и в результате мы поспешили с наступлением. В особенности 2-я армия генерала Самсонова[45] пошла в бой, далеко не закончив свою мобилизацию и, возможно, что это обстоятельство сильно повлияло на постигшую ее катастрофу.
Я не мог в точности узнать всей закулисной стороны этой злосчастной операции, но приблизительно из различных слышанных разговоров представляю ее себе таким образом: мы начали наступать, не собрав всех предназначавшихся для этого войск, вследствие чего между 1-й и 2-й армиями не было должной связи. Ренненкампф[46] начал операцию с четырьмя корпусами и по переходе границы вступил в бой сначала у Сталупенена,[47] а затем у Гумбинена.[48] Бой продолжался три дня, и, по словам очевидцев, тактический успех был скорее у немцев, тем не менее они в ночь на 20 августа быстро отступили и оторвались от наших войск. Ренненкампф послал в Ставку победную телеграмму, а сам почил на лаврах и даже, имея огромную кавалерию, не позаботился узнать о направлении немецкого отхода. В Ставке, получив известие о блестящей победе, воспрянули духом и решили, что покончить с разбитыми немцами, имея свежую армию, совершенно пустая задача, и потому стали усиленно нажимать на Самсонова. Последний был вынужден выступить с совершенно неустроенным тылом, почему его войска начали терпеть нужду во всем еще до встречи с неприятелем, но тем не менее при первых столкновениях имели некоторый успех. Между тем Гинденбург[49] собрал кулак на нашем левом фланге, смял его и отрезал путь отступления 13-му и 15-му корпусам на юг. Два немецких корпуса из армии, действовавшей против Ренненкампфа, внезапно оказались на путях отступления на восток, и таким образом оба наших корпуса оказались окруженными и почти целиком погибли. Ренненкампф после поражения Самсонова был вынужден остановиться и занял оборонительную позицию на Ангерат.
В Ставке после донесения Ренненкампфа о победах царило торжественное настроение. Начали поговаривать о торжественном въезде в Берлин. Обедая у великого князя, я слышал его беседу с сербским военным агентом полковником Лоткиевичем[50] по поводу двух одновременных побед, нашей и сербской, причем он не скрывал своих надежд на скорое окончание войны. В Ставке говорили также, что армию Ренненкампфа нужно двигать скорее к Варшаве и далее по направлению на Берлин, так как Самсонов и один справится с разбитыми немцами.
Перемена настроения стала замечаться только с 27 августа. Все лица, не принадлежавшие к оперативному отделению, получали обыкновенно сведения о ходе военных действий от так называемых ночных полковников. Это были дежурные офицеры, разбиравшие поступившие за ночь сведения о положении всех корпусов нашей армии и наносившие их на карту для доклада начальнику штаба и великому князю. Сведения сообщались за утренним кофе в вагоне-столовой, и когда полковники опаздывали из оперативной части, их обыкновенно ожидали и даже отказывались идти к своим занятиям.
27 августа полковники пришли несколько сумрачные и объявили, что идут бои и перемен нет. В следующие дни оказалось, что полковникам запрещено было давать какие-либо сведения о ходе операций до выпуска официального объявления, которое в отпечатанном уже виде появлялось после 12 часов. Объявления выходили в эти дни очень краткие, а о Северо-Западном фронте не было почти ничего. Все стали говорить тише, и, видимо, что-то надвигалось. Наконец 29 августа стало известно, что связь со 2-й армией прервана и Млава занята немцами. Окончательные сведения о катастрофе были получены уже 30 августа вечером. На другой день в Ставку приехал на автомобиле генерал-квартирмейстер Северо-Западного фронта генерал Леонтьев.[51] Я его видел из окна вагона и по его виду заключил, что дело совсем плохо. В тот же день у меня был доклад у начальника штаба. Я нашел его с измученным лицом, сидящего за самоваром и хотел его утешить, но он только махнул рукой, не читая подписал принесенные мною бумаги и отпустил меня.
Скоро катастрофа выяснилась окончательно, и понемногу стали собираться беглецы из погибших корпусов. Из 13-го вернулись лишь отдельные люди, а из 15-го собралось до пяти тысяч, причем некоторые роты и команды пришли целиком. Это те части, начальникам которых при катастрофической обстановке удалось сохранить присутствие духа и дисциплину в своих частях, при твердом желании не сдаваться врагу. Им пришлось двигаться ночью и днем, скрываться в лесах, зачастую не имея ни пищи, ни питьевой воды. Кроме этих корпусов пострадали сильно части 23-го корпуса и почти целиком погиб гвардейский Кексгольмский полк.
Когда начали судить и рядить о причинах нашего поражения, то приводили всевозможные доводы. Говорили, что во всем виноват генерал Жилинский, командовавший издалека и стеснявший командующего армией, виноват командир первого корпуса генерал Артамонов,[52] не сумевший удержать нашего левого фланга, виноват генерал Благовещенский,[53] вводивший свой корпус в бой по частям, виноваты германская тяжелая артиллерия и бронированные автомобили, которых у нас не было и которые подавляли моральные качества наших войск, виновата неоконченная мобилизация и т. д. Это были суждения массы, но я слышал и суждения отдельных серьезных лиц, которые приводили другие причины. Они говорили, что в этом бою выяснилось прежде всего превосходство немецкой военной школы, военного искусства и военной дисциплины. Выяснилась неподготовленность нашей армии к маневренному бою крупными частями войск, выяснилось неумение наших частей держать связь как между собою, так и с высшими и низшими инстанциями. Выяснилось отсутствие инициативы у начальников и руководящей военной идеи, проникающей во все слои от мала до велика. Все остальные вышеприведенные причины, если и существовали, то не имели решающего значения.
Урок был дан: Гинденбург с меньшим числом войск наголову разбил нашу 2-ю армию. Нужно было отдать себе ясный отчет в причинах поражения и приступить к врачеванию своих недостатков, благо обстановка позволяла это сделать.
Немцы, будучи слабы численно, не могли предпринять серьезной наступательной операции на нашем фронте и давали нам возможность подготовиться к новым действиям. На самом деле этого сделано не было. Сменили нескольких командиров корпусов и начальников дивизий и на этом успокоились, отдав на жертву общественному мнению генерала Самсонова, благо он пропал без вести. На мой вопрос у начальника оперативного отделения, кто занимается изучением уроков этой войны и проведением в жизнь новых тактических инструкций, я получил ответ, что это делается в штабах фронтов, а когда вскоре после того я обратился с тем же вопросом к полковнику Генерального штаба, приехавшему с Северо-Западного фронта, мне ответили, что это дело Ставки. На самом деле этим никто не занимался и стали заниматься только спустя год, когда начальником штаба сделался генерал Алексеев. Таким образом, весь опыт войны в продолжение целого года никем не собирался, и каждый участник войны приобретал опыт в своем деле без всяких пособий. Отсюда ясно, сколько было принесено напрасных жертв и сколько энергии растрачено непродуктивно.
Галицийская операция
На австрийском фронте дело шло лучше. Во-первых, вследствие войны с сербами, австрийская мобилизация и сосредоточение несколько запоздали, что дало нам возможность стянуть значительные силы к моменту их наступления, тем не менее первоначальный успех был с их стороны. Они потеснили 4-ю армию генерала Зальца[54] и обрушились главными силами на 5-ю армию генерала Плеве.[55] Положение его было весьма тяжелое, но он вышел из него блестящим образом, неся тяжелые потери и отступая шаг за шагом, защищая каждую пядь земли. Южная группа генерала Рузского[56] между тем наступала форсированным маршем, разбила австрийцев на Золотой и Гнилой Липе, заняла Львов и стала угрожать правому флангу и тылу главной массы австрийских войск. Прибытие новых корпусов позволило нам начать наступление на левый фланг австрийцев, прикрываясь Вислой, и таким образом они подверглись риску быть охваченными с двух сторон. Плеве был спасен, так как австрийцы были вынуждены к перемене плана действий. Они бросились главными силами на Рузского и Брусилова,[57] чтобы парализовать создавшееся для них тяжелое положение, но Плеве быстро оправился и в свою очередь перешел в наступление. Его прибытие к месту боя решило Галицийскую операцию. Австрийцам пришлось спешно отступать, и вся Галиция, кроме крепости Перемышль, попала в наши руки.
Из рассказов очевидцев у меня сложилось следующее мнение об этой операции. Мы победили благодаря численному превосходству, так как австрийская армия была подготовлена к войне хорошо, но славяне-солдаты совершенно не желали воевать с Россией и при первой возможности охотно сдавались в плен. Что касается до командного состава, то он действовал прекрасно. Движения австрийцев были быстры и всегда разумны. Благодаря хорошему командованию, австрийцы очень счастливо вышли из тяжелого положения, не оставив в приготовленном для них стратегическом мешке ни одной крупной войсковой части, хотя общее число пленных было очень велико.
Наибольшая заслуга в Галицийской операции принадлежит, безусловно, генералу Плеве, выдержавшему главный удар и быстро от него оправившемуся, с тем чтобы самому явиться на решительный пункт в решительный момент.
Мне пришлось видеть генерала Плеве один только раз, когда он приезжал в Ставку уже год спустя в качестве главнокомандующего Северным фронтом. Маленький хромой человек с неприятным и злым лицом. Подчиненные его не любили за сухость, граничащую с жестокостью. Он не был талантлив, но был систематик с громадной волей и упорством. Внушая страх подчиненным, он заставлял их работать, напрягая все силы, а в случае неудач безжалостно сгонял с мест. Этой системой он выбирал из своих войск все, что они могли дать, а потому почти не имел неудач. Рассказывают, что его начальник штаба генерал Миллер[58] шутя говорил, что, когда умрет, завещает написать на своем памятнике: «он был начальником штаба у Плеве», считая, что всякий человек его поймет и пожалеет.
В Ставке впечатление от Галицийской победы было чрезвычайно радостное. Все ходили как именинники, и поражение под Сольдау как будто стерлось из памяти. Я сам в это время очень тяжело переживал наши неудачи. Помню, как под влиянием известий о тяжелом положении Плеве я пошел в церковь помолиться и вошел туда в самый момент молебного пения «разумейте, языцы, яко с нами Бог». Это мне показалось хорошим предзнаменованием, и действительно, возвращаясь из церкви в вагон, я встретил бегущего с телеграммой в руке полковника Александрова,[59] громко кричащего: «Победа, победа!». Телеграмма была о победе генерала Рузского над Брудерманом.[60]
Учреждение речных флотилий
В это время окончательно выяснилось, что в Балтийском море нам ничто не угрожает. Связанный английским флотом, германский не рисковал предпринимать ничего серьезного в наших водах, и, кроме того, надвигалась зима, которая должна была прекратить всякую деятельность в Финском и Рижском заливах. В нашем управлении возникла мысль оказать посильную помощь нашей армии, которая вылилась в предложение организовать речные флотилии на Висле и на Немане. Я доложил начальнику штаба об этом предложении, и он отнесся очень сочувственно и командировал меня в штаб Северо-Западного фронта, чтобы сговориться о деталях с чинами штаба. Я выехал на автомобиле вместе с капитаном 2-го ранга Бубновым в Белосток, где находился штаб фронта. Путь пролегал по хорошему стратегическому шоссе, и расстояние было около 350 верст, но мы все-таки ухитрились заблудиться и попали в Рожаны,[61] сделав сорок лишних верст. Тем не менее я об этом не жалел, так как увидел остатки прежнего величия – замок князей Сапег-Рожинских.[62] От величественного дворца осталось целым только одно крыло, построенное в стиле ренессанс, в котором помещался лесопильный завод какого-то купца и массивные ворота без ограды с огромным щитом, украшенным гербом рода Сапег-Рожинских: «Sic transit Gloria mundi»![63]
По приезде в Белосток[64] мне в тот же вечер удалось повидать главнокомандующего генерала Жилинского и его начальника штаба генерала Орановского.[65] Я им изложил наше предложение, которое оба горячо одобрили, и затем спросил, может ли флот быть еще чем-нибудь полезен. Генерал Жилинский, видимо, не утратил своего оптимизма после катастрофы 2-й армии и сейчас же заявил, что надеется на содействие морской тяжелой артиллерии для осады немецких крепостей и в особенности Торна.
Генерал Орановский ничего не говорил, но только нервно ерзал на стуле. Когда я к нему зашел на квартиру, спустя некоторое время, он заговорил другим языком, чем генерал Жилинский. Он мне прямо и откровенно сказал, что левый фланг генерала Ренненкампфа висит в воздухе и может быть легко обойден, что ни о каких осадах нечего и думать, а дал бы Бог удержаться на Немане, если немцы перейдут в наступление. Ближайшее будущее показало, что он был прав.
На другой день я вернулся в Ставку тем же порядком, а Бубнова послал по железной дороге к Ренненкампфу для переговоров относительно Неманской речной флотилии, но там уже подготовлялась катастрофа. Бубнов застал Ренненкампфа в Инстербурге,[66] где была его штаб-квартира, в самом радужном настроении. Ренненкампф его хорошо принял и говорил, что на днях начнет наступление, так как имеет достаточно войск. Но на другой день уже в штабе началось беспокойство, а на третий был отдан приказ о спешном отступлении. Оказывается Гинденбург сосредоточил свои лучшие войска между озерами и бросил эту ударную группу узким Леценским проходом, оставив против нашего центра и правого фланга ландштурмистов и резервные войска. План был смел и даже дерзок, но он удался. Наш левый фланг, подвергшийся нападению превосходных сил, был быстро смят и отброшен, и нам угрожало повторение Самсоновской катастрофы, но быстрое отступление устранило катастрофу. Тем не менее мы потеряли часть артиллерии и обозов, попавшихся в руки неприятеля. При постоянном отступлении корпуса перемешались, и командующий потерял с ними связь; некоторые части продолжали отходить и за Неманом, так что их пришлось потом возвращать. В Ставке создалось в начале впечатление, что армия совершенно разгромлена, и потом были приятно удивлены, получив телеграмму Ренненкампфа, где он сообщал о незначительных потерях и что он надеется скоро опять перейти в наступление. Эта телеграмма временно его спасла, но главнокомандующий фронтом генерал Жилинский был заменен генералом Рузским. Как я потом узнал, начальник штаба первой армии генерал Милеант[67] находился в таких отношениях с командующим, что был им фактически устранен от всякого дела, и вообще генерал Ренненкампф не советовался ни с кем из компетентных чинов своего штаба, а окружил себя несколькими любимцами из молодежи.
Тем временем я написал морскому министру о желательности учреждений речных флотилий на театре военных действий, и министр, отнесшийся к предположению очень сочувственно, сейчас же назначил гвардейский экипаж и две роты от флотских команд для отправки на театр военных действий. Гвардейский экипаж выделил два батальона двухротного состава, из коих первый под командой капитана 1-го ранга князя Ширинского-Шихматова[68] направился в Ковно[69] на Неман, а второй под командой капитана 1-го ранга Полушкина[70] в Новогеоргиевск[71] на Вислу. Третий батальон морских команд под командой капитана 1-го ранга Мазурова[72] отправился в Ивангород.[73] Все три батальона участвовали в делах против неприятеля, а третий даже понес большие потери при отражении атак на Ивангород в период первого германского наступления на Вислу. Командовавший им капитан 1-го ранга Мазуров сделался правой рукой коменданта крепости Ивангород генерала Шварца[74] и так сумел рекламировать свою часть, что его батальон развернули в полк, а впоследствии даже в бригаду, причем сам он был произведен в генерал-майоры.
Выступление Турции
Между тем на юге уже назревали события, которые еще увеличили наш и без того колоссальный фронт. Проникновение германского влияния в Турцию началось уже давно, но после вторичного появления у власти младотурок с Энвером и Талаатом[75] во главе оно совершенно укрепилось. Управление турецкой армией перешло в руки немцев, и генерал фон Сандерс,[76] присланный в 1913 году с особой миссией от императора Вильгельма, сделался полным хозяином этого дела. Как противовес турецкий флот оставался в руках англичан,[77] но положение английского адмирала делалось все более и более трудным. Когда началась Мировая война, англичане реквизировали все находившиеся у них в постройке иностранные корабли, в том числе два турецких дредноута. Турки заявили горячий протест и попросили английскую морскую миссию удалиться. Одновременно они объявили мобилизацию своей армии, объяснив это как предохранительную меру. Тем не менее положение Турции было еще вполне неопределенное. С реквизицией своих дредноутов Турция была гораздо слабее России на Черном море, а сухопутные пути сообщения с Арменией были настолько трудны, что Россия совершенно могла не бояться серьезного удара по Кавказу. Германцы также не торопились вовлекать Турцию в войну, пока надеялись справиться сами, не желая ни с кем делиться добычей, но Марнское[78] и Галицийское сражения решили вопрос окончательно, тем более что с приходом в Босфор линейного крейсера «Гёбен» и легкого крейсера «Бреслау» являлась возможность оспаривать владение Черным морем у русских.
Война застала «Гёбена» и «Бреслау» в итальянских портах. Контр-адмирал Сушон,[79] командовавший крейсерами, тотчас же снялся с якоря и направился к французским африканским берегам и бомбардировал без серьезных результатов некоторые порты. Французская эскадра еще не подошла к африканским берегам, и встреча противников не состоялась. Немецкие крейсера отправились обратно и встретились с английскими крейсерами, но английский ультиматум истекал только в полночь, и командующему крейсерами контрадмиралу Трубриджу[80] ничего не оставалось как последовать за немцами в ожидании истечения срока ультиматума.
Между тем немцы имели больший ход, а у англичан к тому же уголь был на исходе, и они скоро потеряли друг друга из виду. Адмирал Сушон пополнил свой уголь в одном из сицилийских портов и сейчас же снова вышел на восток. Ему предстояло три дилеммы: прорваться в Адриатическое море на соединение с австрийским флотом, интернироваться в нейтральном порту или искать почетной смерти в неравном бою. Адмирал Сушон правильно решил, что прорваться в Адриатическое море ему не удастся, так как там наверное его стерегут превосходные силы, а потому рискнул походом в далекий Константинополь, где он рассчитывал быть принятым как друг. Ему посчастливилось, так как навстречу попался только один маленький английский крейсер «Глочестер», который пробовал следовать за немцами, телеграфируя беспрерывно своему адмиралу о всяком изменении из курса, но и у него скоро не хватило угля, вследствие чего пришлось прекратить преследование. Таким образом «Гёбен» и «Бреслау» беспрепятственно добрались до Дарданелл. Прибывшие на другой день англичане и французы с требованием немедленного разоружения германских крейсеров были поставлены перед совершившимся фактом. Им объявили, что «Гёбен» и «Бреслау» куплены турецким правительством у германцев и уже подняли турецкие флаги. На самом деле покупка выразилась тем, что адмирал Сушон и его офицеры надели фески вместо форменных немецких фуражек, а все остальное осталось по-старому.
Прибытие «Гёбена» в Босфор сильно изменило обстановку на Черном море не в нашу пользу. «Гёбен» был вполне современный линейный крейсер-дредноут,[81] а наши два дредноута «Императрица Мария» и «Екатерина Великая» были далеки от окончания.[82] «Гёбен» имел 27 узлов хода, крепкую броню и десять 11-дюймовых орудий в пяти бронированных башнях. Мы могли ему противопоставить четыре старых броненосца с 15-узловым эскадренным ходом, сравнительно слабо забронированных и вооруженных все вместе шестнадцатью 12-дюймовыми орудиями старого чертежа. У нас было преимущество только в артиллерии, но десять орудий «Гёбена» помещались все на одной платформе и стреляли более метко и значительно быстрее, чем наши. Скорость хода «Гёбена», почти вдвое превышавшая нашу, позволяла ему быть господином положения и вступать или прекращать бой тогда, когда ему заблагорассудится.
Мы считали, что с прибытием «Гёбена» война с Турцией стала неминуема, и Черноморский флот получил инструкцию быть готовым к внезапному нападению. Были приняты надлежащие меры: Севастопольский, Одесский и Батумский порты были минированы крепостными минами, а где таковых не было – минами заграждения. В Одессе были поставлены для охраны лодки «Донец», а в Батуме – «Терец». Черноморский флот упражнялся в маневрах и стрельбах в предположении боя с «Гёбеном», но время шло, а нападения все не было. Как всегда бывает, энергия начала ослабевать, и начинали высказываться мнения, что войны, может быть, и не будет. А в Константинополе происходило следующее.
Как выше было сказано, германцы, надеясь сами справиться, вначале удерживали военный пыл турок, говоря им, что еще не время для их выступления, но после своих первых крупных неудач круто изменили политику, настаивая на немедленном выступлении. Турецкое правительство во главе с великим визирем, наоборот, вдруг перешло в миролюбивое настроение, и между ним и немцами почувствовался холодок. Только Энвер и Талаат остались сторонниками войны. В защиту их непримиримости должен, впрочем, сказать, что наша победа над немцами не сулила туркам ничего хорошего. Еще за год до войны в наших правящих кругах был поставлен вопрос о завладении Константинополем, и было преподано высочайшее указание разрабатывать план нужных для этого операций. Я присутствовал на одном заседании под председательством морского министра и с участием министра иностранных дел. Сазонов[83] тогда открыто высказал свое мнение, что он лично предпочитает нынешнее «status quo» завоеванию проливов, которое неизвестно к каким бедам и столкновениям нас может привести. Как ни приятно иметь ключ от своего дома в кармане, а таковым ключом был Босфор для Черного моря, но все же Розанов[84] был прав: Константинополь не такой орешек, которой легко было разгрызть, в особенности при нашем больном внутреннем организме, что уже показала Японская война и последующие за ней события. Удивительно, что, несмотря на такое решительное мнение министра иностранных дел, все же мы получили высочайшее повеление разрабатывать операцию на Константинополь.
Туркам, конечно, стало известно о наших намерениях от немцев, которые все знали, что у нас делается, и, естественно, что они не возымели к нам особых симпатий. Тем не менее, когда германцы предъявили туркам категорическое требование о начале военных действий, совет министров значительным большинством отклонил это предложение, и Энвер, и Талаат решили форсировать события на свой страх и риск. Наш посол Гирс[85] уже послал в Петроград успокоительную телеграмму, когда адмирал Сушон атаковал одновременно Одессу, Севастополь, Батум и Новороссийск.
17/30 октября в 2 часа ночи два миноносца с установленными огнями подошли к входу в Одесскую гавань и беспрепятственно вошли в нее, так как бак не был закрыт и их приняли за своих. Немедленно же оба миноносца выпустили мины в стоявший у входа «Донец», одна из них попала.
«Донец» начал тонуть. Миноносцы развернулись и открыли огонь по нефтяному порту, но в то же время другая наша канонерская лодка «Кубанец», стоявшая у завода для исправлений, открыла огонь по ним. Тогда миноносцы вышли из гавани и благополучно вышли в море, произведя порядочную панику в городе и порте, но кроме потопления «Донца» серьезного вреда не причинили.
«Гёбен» появился перед Севастополем в 6 часов утра и открыл огонь по Севастопольскому рейду. Получив телеграмму из Одессы, суда уже разводили пары, но выйти в море еще не могли. «Гёбен» в это время гулял по нашему минному заграждению, разомкнутому в ожидании заградителя «Прут», который должен был прийти из Ялты с полным грузом мин, и дивизиона миноносцев, высланного в ночной дозор в сторону Евпатории. Командующий флотом побоялся отдать приказ замкнуть заграждение из страха погубить собственные суда, и «Гёбен», выпустив десяток безрезультатных снарядов по порту, повернул в море и тут обнаружил транспорт «Прут». Увидя легкую добычу, он тотчас же направился к нему и открыл огонь. Первые же его выстрелы дали попадания, и на транспорте возник пожар, угрожавший взрывом корабля, переполненного минами. Видя безвыходность положения, командир приказал открыть кингстоны и спускать шлюпки, что и было исполнено. «Гёбен» прекратил огонь и сам начал спускать шлюпки. Минный офицер лейтенант Рагузский,[86] чтобы ускорить затопление, бросился вниз и подорвал заранее приготовленный подрывной патрон, но, вероятно, сам пострадал от взрыва, так как наверх более не показывался и погиб смертью героя, спасая других. Также погиб судовой священник отец Антониу, не пожелавший покинуть корабль, на котором он служил десять лет. Честь и хвала этим героям! Остальная команда спаслась на шлюпках, и «Гёбен» завладел только одной из них, оставив другим спокойно идти к берегу. Покончив с «Прутом», «Гёбен» обнаружил четыре наших миноносца, идущих от Евпатории, и открыл огонь. Начальник дивизиона капитан 1-го ранга князь Трубецкой[87] пробовал его атаковать, но встреченный огнем и получив два попадания в свой флагманский миноносец «Лейтенант Пущин», вынужден был повернуть к берегу и благополучно добрался до Севастополя. Наши береговые батареи отвечали на огонь «Гёбена», но стрельба носила беспорядочный характер и результатов не дала. Адмирал Эбергард,[88] командующий флотом, вышел в море только в 3 часа дня, когда фарватер был основательно протрален. Он вполне справедливо опасался, что «Гёбен» мог поставить мины на фарватер. Конечно, в это время неприятель уже был далеко.
Крейсер «Гамидие» утром того же числа появился перед Новороссийском и обстрелял порт, причем повредил два стоявших у молов парохода.
Крейсер «Бреслау» в то же время обстрелял безрезультатно Батум, произведя только панику среди жителей.
Разбирая действия немцев, нужно сказать, что хорошо задуманный план, рассчитанный на внезапность нападения, дал сравнительно слабые результаты: потоплена канонерская лодка, вскоре после того поднятая и исправленная, потоплен старый транспорт с грузом мин и повреждены два парохода, также скоро исправленные. Если бы не случайно благоприятствующее «Гёбену» выключение минного заграждения, то немцы были бы жестоко наказаны за свое вероломство.
Утром 10 октября великий князь меня потребовал к себе, наговорил кислых слов по поводу беспечности Черноморского флота и приказал немедленно ехать в Севастополь расследовать все на месте и доложить ему. В тот же день я выехал через Киев. Я доехал до Севастополя в трое суток. Адмирала я застал порядочно обеспокоенным, он уже ожидал смены, зная скорый и решительный характер великого князя, но я его успокоил, не скрыв, однако, что великий князь очень недоволен. В действительности он и не мог быть сменен, так как в соответствующих чинах у нас во флоте совершенно не было кандидатов на этот высокий пост. Адмирал Эбергард имел по крайней мере то преимущество, что он был благородный человек, лично очень храбрый и за эти его два качества уважаемый своими подчиненными. Черноморский флот всегда был хуже Балтийского по личному составу и в смысле готовности к войнам также сильно отставал от него. Приходилось надеяться, что, при некоторой осторожности, флот наверстает потерянное время уже во время самой войны. Фактическим распорядителем военных операций Черноморского флота являлся флаг-капитан оперативной части капитан 1-го ранга Кетлинский,[89] очень способный и толковый офицер, но беда была в том, что он, действительно возвышаясь над общим уровнем, не скрывал своего презрительного отношения к своим сослуживцам, больно бил их по самолюбию и вследствие этого заслужил общую ненависть. Недоверие к способностям и знаниям отдельных начальников вызывало общую централизацию всех распоряжений, что не способствовало успеху дела. Все до мелочей разрабатывалось в штабе флота, и отдельные начальники являлись механическими исполнителями, лишенными всякой инициативы.
Я пробыл в Севастополе два дня, убедился, что дух флота в общем хорош и встречи с «Гёбеном» не боятся, а также имел продолжительную беседу с адмиралом, начальником его штаба, контр-адмиралом К. А. Плансоном[90] и капитаном 1-го ранга Кетлинским. Было решено, что Черноморский флот получит главной задачей не допускать высадки неприятельского десанта на нашем побережье. Когда будет готов наш первый дредноут «Императрица Мария», задача будет изменена и начнется блокада Босфора.
Вернувшись в Ставку, я доложил обо всем виденном начальнику штаба, и задача Черноморскому флоту была утверждена.
Посещение государем Ставки
Вскоре после моего возвращения в Ставку состоялось первое посещение ее государем. Оно было ознаменовано наградами. Почти все получили ордена, в том числе и я Станислава 1-й степени. Великий князь получил Георгия 3-й степени. Государь приехал в поезде в сопровождении небольшой свиты, состоявшей из графа Фридрихса,[91] князя Орлова,[92] Воейкова,[93] князя Долгорукова,[94] адмирала Нилова[95] и полковника Дрентельна.[96] Все начальники управлений приглашались по очереди к обеду и к завтраку в вагоне-столовой. Я был приглашен один раз и для частной беседы с государем по поводу Черноморского флота. Признаюсь, что я чувствовал себя довольно скверно вследствие невозможности говорить всю правду. Нужно было бы сказать, что флот не подготовлен потому-то и потому-то, но это обозначало бы обвинение целого ряда лиц и притом виновных не в злоумышлении, а вследствие недостатков всей системы управления, от которой страдала Россия. Взамен этого мне пришлось играть цифрами и выкладками, чтобы доказать целесообразность выжидательного и осторожного образа действий, который являлся на самом деле результатом неподготовленности Черноморского флота к войне. Мне первый раз пришлось долго разговаривать с государем, и я был совершенно очарован его ласковым обращением.
После первого приезда государь стал навещать Ставку почти каждый месяц и иногда со всей семьей. Был построен специальный железнодорожный тупик для императорского поезда, вокруг которого разбиты дорожки и поставлены скамейки, так что получилось впечатление небольшого парка.
Каждое утро государь ходил на оперативный доклад в домик генерал-квартирмейстера, где постоянно работал черный Данилов. Доклад продолжался час, а иногда и более, и остающееся время до завтрака государь занимался делами у себя в вагоне. После завтрака, обыкновенно с двумя флигель-адъютантами,[97] государь отправлялся на автомобиле в дальнюю прогулку, останавливался где-нибудь в поле и гулял быстрым шагом часа два, причем его сопровождающие не чувствовали своих ног от усталости. Жара и холод не действовали на государя. Вообще он, несмотря на свою субтильную фигуру, был удивительно здоров и вынослив.
Вернувшись с прогулки, государь пил чай и занимался делами до обеда, после которого обыкновенно отдыхал, играя в домино со своими приближенными. В это время всякий этикет отбрасывался, можно было говорить что угодно, не касаясь службы и государственных дел, и вообще все старались, чтобы было весело.
Первые военные действия немцев в Балтийском море
Немцы открыли свои морские операции с началом военных действий против Либавы. 2 августа перед Либавой появились два крейсера, бомбардировали порт и поставили при входе в него минные заграждения.
17 августа к Рижскому заливу подошли значительные германские силы и поставили большое минное заграждение. О постановке минного заграждения посты службы связи немедленно донесли флоту, и на другой день посланные тральщики точно определили границы этого заграждения, причем при работах взорвались два тральщика.
18 августа немецкие крейсера появились вновь у поставленного ими накануне минного заграждения, и один легкий крейсер попытался помешать работе наших тральщиков. Наши охранные крейсера «Баян» и «Макаров» пробовали сблизиться с ним на боевую дистанцию, но это им не удалось, и завязавшийся бой окончился безрезультатной перестрелкой.
26 августа германский крейсер «Магдебург» выскочил ночью на риф у острова Оденсхольм. Пост службы связи, находившийся на острове, немедленно сообщил о происшествии начальнику службы связи, а тот в штаб флота, который распорядился выслать к Оденсхольму дивизион миноносцев и сообщить нашим крейсерам «Паллада» и «Богатырь», бывшим в дозоре у входа в Финский залив. Начальник службы связи контр-адмирал Непенин между тем сам решил с находившимися в его распоряжении миноносцами идти к Оденсхольму и запросил штаб флота, находившийся в Гельсингфорсе, о наших судах в Финском заливе, и почему-то получил ответ, что наших судов в заливе нет. Стоял густой туман, когда адмирал Непенин подошел к Оденсхольму, и только подойдя совсем близко, стал заметен немецкий крейсер, стоявший на мели, но вскоре обнаружились еще два силуэта больших кораблей, открывшие немедленно огонь по миноносцам. Адмирал решил атаковать их и приказал выпустить мину, которая, по счастью, не достигла цели, так как это были наши крейсера «Паллада» и «Богатырь». Вскоре туман рассеялся, и мнимые противники узнали друг друга. Таким образом ложное сообщение штаба флота чуть было не привело к катастрофе.
На крейсере «Магдебург» были взяты в плен командир капитан 2-го ранга Хабенихт и шесть матросов. Еще три офицера и человек 50 матросов были сняты с острова Оденсхольм, куда они перебрались вплавь после обстрела наших крейсеров. Остальная команда спаслась на миноносце, сопровождавшем «Магдебург». Самой важной добычей была сигнальная книга, поднятая впоследствии нашими водолазами с морского дна у борта крейсера, которая оказала нам и нашим союзникам большие услуги впоследствии. К сожалению, «Магдебург» засел на мели так основательно, что попытки снять его с мели не удались.
2 и 8 сентября командующий Балтийским флотом адмирал фон Эссен выходил в море первый раз с крейсерами, а второй с линейными кораблями, но неприятеля не встретил и только одному миноносцу «Новик» удалось ночью атаковать неприятельский крейсер, но, к сожалению, мины в цель не попали.
10 октября наш флот постигло большое несчастье: крейсера «Баян» и «Паллада» возвращались из дозора, и миноносец «Новик» был послан им навстречу, чтобы их конвоировать от подводных лодок, но он еще не успел дойти до места встречи, как «Паллада» была взорвана и потонула почти моментально. По-видимому, от детонации взорвались патронные погреба, и крейсер раскололся на две части. «Баян», согласно инструкции в этих случаях, дал полный ход вперед и начал делать зигзаги, удаляясь от места взрыва, но «Новик» и еще два миноносца были у места катастрофы через четверть часа, но уже никого не нашли плавающих на поверхности моря. Причиной была, вероятно, холодная вода, а также и то, что никто не успел надеть пробкового пояса.
«Паллада» была бронированным крейсером в 7800 тонн водоизмещением, и на нем погибло свыше 600 человек офицеров и команды. Незадолго перед тем три английских крейсера также погибли одновременно от одной подводной лодки, знаменитой U29, а потому штабу флота можно было бы сделать упрек в недостатке осторожности, выразившейся в том, что большие суда постоянно держали дозор в определенном месте, не сопровождаемые миноносцами.
2 ноября к нам пришли гости – две английские подводные лодки, благополучно прошедшие малым Бельтом и обманувшие бдительность немецких судов, стороживших проливы. Третьей лодке не повезло. Она стала на мель и была взорвана своим экипажем, не будучи в состоянии сняться с мели своими средствами.
Прибытие подводных лодок было нам очень приятно, так как подводное плавание у нас сильно хромало. Причиной этому была страстная полемика, завязавшаяся вокруг вопроса о пользе подводных лодок в 1906 и 1907 годах, затормозившая развитие этого дела у нас. Из двенадцати строящихся подводных лодок к началу войны была готова только одна, а остальные вступали в строй очень медленно, и их личный состав обучался уже во время войны.
Вторичное наступление в Восточную Пруссию
17 сентября в командование Северо-Западным фронтом вступил генерал Рузский, умный, скорее кабинетный ученый, чем полевой вождь, он редко ошибался в своих решениях, а присущая ему осторожность была очень кстати при боях с немцами, где каждое лыко было в строку и каждая ошибка немедленно использовалась неприятелем.
26 и 27 сентября немцы дерзко атаковали Осовец и передовые укрепления перед Гродно. В этот раз они уже переборщили. Если бы не наша медлительность, то они дорого бы заплатили за свою дерзость. Генерал Рузский приказал перейти в общее наступление, так как вследствие прибывших подкреплений, образовавших новую 10-ю армию, мы были гораздо сильнее немцев. Надеялись, что 10-я армия, наступавшая на Лык, отрежет группу, нападавшую на Гродно, но в Августовских лесах мы встретили сильное сопротивление, и немцы, быстро отступив от Гродно, не оставили нам ни одного трофея. Генерал Данилов, разговаривая со мною, сказал, что Августовские леса – это такая ловушка, в которой немцы могут попасться как курица в щи, и что мы там имеем большие преимущества, так как хорошо изучили этот район во время маневров, но на деле оказалось, что немцы знали местность лучше нас, так как ходили по таким местам, которые мы считали непроходимыми, и тем ставили нас нередко в трудное положение. Тем не менее, хотя и осторожный, но упорный наш нажим в конце концов сделал свое дело. Немцы стали отходить, постепенно очищая нашу территорию, и в половине октября мы уже снова были в Восточной Пруссии. Войска наши оправились морально после двух тяжелых поражений, и у них явился дорого приобретенный боевой опыт. В Ставке также повеселели и снова начали поговаривать о скором окончании войны, тем более что уже в это время выяснился огромный расход снарядов в минувшие бои. Надвигалась грозная забота о недостатке боевых припасов.
Действия в Черном море
В день моего отъезда из Севастополя Черноморский флот вышел в море. Целью похода была рекогносцировка к берегам Анатолии, подойдя к которой невдалеке от мыса Эрегли флот обнаружил три турецких транспорта, идущих вдоль берега на восток. Пароходы бросились к берегу, но наши миноносцы их догнали, остановили стрельбой и, сняв команды, потопили минами. Они оказались нагруженными боевыми и другими припасами для Трапезунда. При подходе к борту парохода получил легкую аварию один из наших миноносцев.
18 ноября Черноморский флот возвращался из безрезультатного похода к Трапезунду. Там никого не нашли, и «Ростислав» выпустил несколько снарядов по турецкой казарме, из которой сейчас же в беспорядке высыпали солдаты. Ночью два миноносца, посланные в разведку в одну из соседних бухт, увидали стоящий на якоре вблизи берега «Гёбен» и даже рассмотрели его мачты, а потому храбро атаковали на близкой дистанции, выпустив несколько мин. Взрывы ясно были слышны, и миноносцы, согласно правилам, повернули и стали быстро удаляться, очень удивленные, что их никто не преследует огнем. Тогда их взяло сомнение, и они повернули снова, чтобы посмотреть, кого они потопили. Оказалось, что они стреляли по береговому утесу, выдающемуся в море. Таким случаям в начале войны не следует удивляться, так как повышенная нервозность часто может ввести в заблуждение и произвести оптический обман.
В пятнадцати милях от Севастополя наш флот, идущий в кильватерной колонне, вдруг получил от своего разведчика, которым был превращенная в крейсер яхта «Алмаз», сигнал «вижу неприятеля». Стоял легкий туман, и с флагманского корабля «Евстафий»[98] увидели «Гёбена» и «Бреслау», только с расстояния не более пяти миль. Была пробита тревога, и «Евстафий» склонился на курсовой угол для стрельбы с правого борта. Тут обнаружилась теоретичность принятого в Черноморском флоте способа эскадренной стрельбы. По правилам, пристрелку должен был начать второй корабль «Иоанн Златоуст», но пока он пришел на курс, прошло несколько минут, и, видя в тумане плохо неприятеля, он взял слишком большую дистанцию и дал большой перелет. Между тем «Гёбен» уже начал стрельбу по «Евстафию» и после третьего залпа начались попадания. Командир «Евстафия» тогда бросил всякие правила и приказал открыть огонь. Первый же залп попал в цель, и на «Гёбене» вспыхнул пожар. Тогда он дал полный ход и, провожаемый нашим огнем, быстро скрылся в тумане. Все сражение продолжалось только семь минут. В «Евстафий» было четыре попадания, и у нас выбыло из строя четыре офицера и 40 матросов.[99] По полученным впоследствии сведениям, на «Гёбене» было более ста человек, выбывших из строя, и сильно повреждена одна башня. Этот бой сильно поднял дух нашего флота. С нашей стороны фактически успели принять участие в бою только два корабля, тем не менее выяснилось, что и так называемые старые калоши могут состязаться успешно с дредноутами.
В Ставке также были довольны, и первое впечатление от внезапного нападения на наши порты изгладилось. Эбергард получил орден Белого орла, а командир «Евстафия» капитан 1-го ранга Галанин[100] – Георгия 4-й степени. Адмирал Сушон в своем официальном опубликованном донесении, сообщая о бое, ничего не упомянул о своих потерях, но двусмысленно заявил, что русские недурно стреляют.
Разбирая это сражение, его можно до некоторой степени назвать генеральным, так как оно решило, кто является господином на Черном море. Адмирал Сушон, будучи невысокого мнения о русских моряках, судя по примерам Японской войны, видимо, желал коротким ударом решить вопрос о господстве на море. Обладая чуть не двойным превосходством в ходе, он рисковал очень мало, принимая же во внимание ходячее мнение, что с появлением дредноутов все старые корабли устарели и более не годятся для боя, он мог рассчитывать на решительную победу.
Узнав, что русский флот находится у Трапезунда, адмирал Сушон поспешил с двумя быстроходными судами к Севастополю, чтобы отрезать путь возвращения русским. Этим он ставил себя в невыгодное положение, вступая в бой вблизи от неприятельской базы и вдали от своей, но, видимо, и это его не смущало.
Получив несколько тяжелых повреждений в бою только с частью нашего флота, адмирал Сушон понял свою ошибку в оценке наших качеств и поспешил, использовав свой ход, уклониться от дальнейшего боя, чему также еще благоприятствовал туман. Крейсер «Бреслау» в бою участия не принимал, держась все время в стороне от наших кораблей. При одном из следующих выходов в море Черноморский флот совершенно неожиданно встретился ночью с крейсерами «Бреслау» и «Меджидие» на близком расстоянии. Неожиданно блеснул прожектор, осветивший борт «Евстафия», и к нему на палубу посыпались снаряды. Прислуга орудий «Евстафия» была ослеплена, но зато другие суда открыли меткий(?) огонь по прожектору, который моментально погас. Наши миноносцы, шедшие в хвосте колонны, не успели атаковать неприятеля вовремя и, посланные адмиралом на поиски, не могли его найти. Из личного состава на «Евстафии» никто не пострадал, и повреждения были ничтожные, а, по сведениям агентов, на «Бреслау» были повреждения. Эта встреча показывает, как важна ночью быстрая ориентация в обстановке и проявление инициативы, не ожидая указаний.
Гибель «Жемчуга» и важнейшие действия иностранцев
28 октября крейсер «Жемчуг» в 3000 тонн водоизмещения был потоплен германским крейсером «Эмден» при следующих обстоятельствах. «Жемчуг» принадлежал к Владивостокской флотилии и был командирован вместе с другим крейсером «Аскольдом» в распоряжение английского адмирала, командующего союзными силами в Сингапуре. Он выполнял конвойную и крейсерскую службы и был послан в порт Пуло-Пенанг, чтобы почистить котлы и перебрать машины. Порт этот охранялся легкой батареей и двумя французскими миноносцами, по очереди крейсировавшими в Малаккском проливе. Командир[101] считал себя в полной безопасности в охраняемом порту и съехал на берег, не приняв никаких мер предосторожности, кроме нормальной вахты. Перед восходом солнца вахтенный начальник увидел входящий в порт крейсер с четырьмя трубами и под английским флагом, а потому принял его за английский крейсер, так как у единственного бывшего в этих водах неприятельского крейсера «Эмден» было три трубы. Между тем, подойдя на одну милю, мнимый англичанин, сделавший себе фальшивую трубу, поднял германский флаг и выпустил мину. Сейчас же поднялась тревога и началась стрельба, но мина уже попала в цель, и «Жемчуг» стал тонуть. «Эмден» дал полный ход и вышел из гавани. По дороге в море он встретил и потопил французский охранный миноносец. Этот успех можно объяснить только прекрасной немецкой агентурой, которая осведомила командира «Эмдена» о всех порядках в Пуло-Пененсе. Командир «Жемчуга» был предан военному суду и приговорен к лишению чинов и заключению в крепости.
Здесь кстати будет вкратце рассказать о судьбе германской дальневосточной эскадры вице-адмирала графа Шпее,[102] совершившей большие подвиги и в конце концов героически погибшей. Война застала эскадру, состоявшую из двух броненосных крейсеров и двух легких, на островах Тихого океана. Адмирал Шпее рассчитывал вначале идти в германский порт Цингтау,[103] чтобы, базируясь на него, вести операции против союзного флота, который хотя и превышал его силами, но не настолько, чтобы борьба была невозможной. Вступление в коалицию Японии заставило эту мысль отбросить, и тогда адмирал решается покинуть Дальний Восток и идти к берегам Южной Америки, чтобы проложить себе путь к возвращению в Германию. Помимо вероятности встречи с превосходными силами, главное затруднение состояло в снабжении судов топливом. У германцев еще в мирное время существовала организация этапов снабжения флота в различных государствах, и в начале военных действий, пока англичане, имевшие повсюду свою агентуру, не успели принять надлежащих мер, они действовали удовлетворительно. Перед адмиралом Шпее стояли две задачи, из коих надо было выбрать одну. Первый способ действия был рассеять свою эскадру на морских путях неприятеля с тем, чтобы потопить возможно большее число коммерческих судов и тем нанести неприятелю чувствительный вред, но адмирал фон Шпее считал, что дело уничтожения неприятельской торговли следует поручить вспомогательным крейсерам, превращенным в таковые из быстроходных почтовых пароходов, а боевые суда должны действовать против себе подобных. Ввиду этого адмирал решил держать эскадру соединенно и только согласился на усиленные просьбы командира «Эмдена» отпустить его в Индийский океан для крейсерских операций.
Командир «Эмдена» капитан 1-го ранга фон Мюллер[104] действительно показал классический пример, как нужно вести крейсерские операции. Два месяца он безнаказанно летал по Индийскому океану, прекратив совершенно всякую торговлю союзников и, несмотря на поиски четырнадцати крейсеров, потопил 17 пароходов, добывая себе уголь и запасы с захваченных судов. За это время он бомбардировал два английских порта, потопил «Жемчуг» и французский миноносец и, наконец, 10 ноября погиб в сражении у Кокосовых островов с английским крейсером «Сидней». Гибель произошла при следующих обстоятельствах. «Эмден» подошел к острову с тем, чтобы уничтожить английскую радиостанцию, для чего и отправил на берег десант, но станция успела пустить в воздух радио о его приближении. В это время в пятидесяти милях расстояния от Кокосовых островов проходил большой английский конвой транспортов в сопровождении двух крейсеров, один из коих, «Сидней», был сейчас же направлен к островам. Увидя приближающегося врага, «Эмден» немедленно снялся с якоря, оставив на острове 90 человек экипажа, и вступил в бой с сильнейшим противником. Через час он, совершенно избитый, был вынужден выброситься на берег. Оставленная на острове команда не растерялась. Они завладели маленьким парусным судном и отплыли в море. После недельного плавания, голодные, они подошли к берегам Аравии и оттуда сухим путем добрались до Константинополя. Следует добавить, что своим гуманным обращением капитан фон Мюллер заслужил признательность своих пленных пассажиров, которых он всегда отправлял на встреченных нейтральных судах.
Подойдя к берегу Чили, фон Шпее встретился с английским адмиралом Крэдоком,[105] у которого было под командой два больших крейсера и два малых. Англичане были немного слабее немцев, но их старые традиции и боязнь выпустить противника из рук решили вопрос о способах действия. Крэдок мог вполне уклониться от боя, уйдя под защиту шедшего сзади старого броненосца, бывшего у него в резерве, но тогда немцы могли бы также уклониться от боя, чего он допустить не мог. Несмотря на очень бурное море, Крэдок атаковал, и через пятьдесят минут его флагманский крейсер «Гуд Хоп» затонул, объятый пламенем. Другой сильно поврежденный крейсер «Монмут» пробовал выйти из боя, и, благодаря наступившей ночи, это ему почти удалось, но посланный для преследований германский крейсер «Нюрнберг» нашел его и потопил минами.
Граф Шпее одержал блестящую победу, которая произвела сильное впечатление во всех странах. Германия ликовала, а в Англии царило удручающее настроение. Первый морской лорд принц Баттенберг[106] был смещен, и на его место назначен престарелый лорд Фишер.[107] Со всех концов света понеслись английские крейсера к мысу Горн и в том числе два крейсера-дредноута «Инфлексибль» и «Инвинсибль». Час адмирала Шпее пробил. Он был в тяжелом положении. Угля у него было очень мало. В бою под Коронелем[108] он издержал половину снарядов крупных орудий; что делать дальше? Шпее заходит в Вальпараисо исправить повреждения, принимает уголь и решает завладеть Фолклендскими островами, чтобы добыть имеющийся там уголь для дальнейшего плавания.
9 декабря отряд подошел к порту Стэнли,[109] и оттуда ему навстречу вышли пришедшие туда накануне под начальством адмирала Стерди[110] шесть больших английских крейсеров, из которых два дредноута. Адмирал Шпее решил отпустить легкие крейсера, а сам с «Шарнгорстом» и «Гнейзенау» принял бой с подавляющими силами противника. Через два часа отчаянного боя «Шарнгорст» пошел ко дну, стреляя из оставшегося у него целым единственного орудия, а за ним вскоре последовал и «Гнейзенау». Из легких крейсеров успел спастись один только «Дрезден», впоследствии потопленный англичанами, несмотря на пребывание в нейтральном чилийском порту.[111]
Интересна еще судьба легкого крейсера «Кёнигсберг». Вой на застала его у берегов восточно-африканских германских колоний. Он сейчас же вышел в море, захватил несколько призов и в Занзибаре уничтожил английскую канонерскую лодку «Пегас», но затем, узнав о приближении значительных английских морских сил, решил использовать свою команду для защиты колонии. «Кёнигсберг» сгрузил свою артиллерию и все тяжести на шаланды, ввел его в реку Руффиджи и поставил в хорошо укрытой бухте вне выстрелов с моря. Легкая артиллерия крейсера домашними средствами была переделана в сухопутную, а четыреста человек команды составили ядро обороны под командой полковника фон Леттова. Эта крошечная армия, состоящая из трех тысяч белых и восьми тысяч черных, в продолжение трех с половиной лет выдерживала эпическую борьбу против англичан, причем постоянно одерживая победы, жила и сражалась исключительно за счет захвата у противника технического и всякого другого имущества. Эта армия положила оружие, только получив известие о заключении мира. Чтобы уничтожить «Кёнигсберг», англичанам пришлось прислать из Англии мелкосидящие мониторы, специально построенные для бомбардировки фландрских берегов.
Из действий на Немецком море в начале войны следует отметить два довольно значительных эпизода.
28 августа англичане предприняли поиск к сильной германской крепости, недавно сооруженной на о-ве Гельголанд. Так называемые гарвичские силы в составе около сорока миноносцев на рассвете подошли к входу в Гельголандскую бухту и напали на сторожевое охранение немцев, состоящее также из миноносцев. Немедленно к тем на помощь явились легкие крейсера, и англичанам стало приходиться туго, так как английские легкие крейсера почему-то запоздали с поддержкой. По счастью, решительный адмирал Битти,[112] находившийся со своими крейсерами и дредноутами в тридцати милях к северу, принял тревожную телеграмму начальника Гарвичской флотилии и, не побоявшись минных заграждений и подводных лодок противника, дал полный ход и явился к месту боя в решительный момент. В результате боя три немецких легких крейсера были потоплены. Успех англичан объясняется рискованным маневром адмирала Битти, но, вероятно, он хорошо помнил афоризм Нельсона: «Начальник, боящийся поставить свою эскадру в опасное положение, никогда не сделает ничего великого». Что касается до немцев, то, как это ни странно, следует отметить плохую организацию их обороны. Они подставили свои легкие крейсера под удар превосходных сил, не организовав для них никакой поддержки. После этого неудачного боя командующий флотом был сменен.
22 сентября подводная германская лодка U29 встретила в Немецком море патруль из трех английских бронированных крейсеров, идущих малым ходом невдалеке от берегов Голландии.
Лодка выпустила мину и попала в крейсер «Абукир», который немедленно стал тонуть. Остальные два крейсера застопорили машины и принялись спасать людей. Лодка последовательно потопила их обоих. Эта катастрофа вызвала огромное смущение в Англии. Адмиралтейство немедленно издало приказ, чтобы суда, идущие в море без охраны из миноносцев, ходили только полным ходом, располагая курс зигзагами, причем стопорить машины для чего бы то ни было абсолютно воспрещалось. Назначена была специальная комиссия для изучения способов борьбы с подводными лодками и конкурсы для изобретателей.
В Германии, наоборот, царило необыкновенное воодушевление, и командир подводной лодки сделался национальным героем. Здесь кстати будет рассказать о настроениях по поводу употребления морской силы в правящих сферах. Адмирал фон Тирпиц,[113] морской министр и наиболее влиятельное лицо во флоте, стоял за решительные действия флота с начала войны. Он мотивировал свое решение превосходством тактического обучения немцев над англичанами, застывшими в старых традициях, численным превосходством немецких миноносцев, лучшей постройкой немецких кораблей и плохим оборудованием английских маневренных баз.
Противоположное течение поддерживал канцлер Бетман-Гольвег.[114] По его мнению, победа над Францией и Россией должна была быть возложена на сухопутную армию, а флот должен был оставаться в резерве на случай, если Англия не захочет принять предложенные ей условия мира и одна захочет продолжать войну! Тогда Германия обратит против нее не только свои морские силы, но и силы Австрии, Италии, Франции и России, взятые у побежденных противников в виде контрибуции.
Вначале мнение канцлера преобладало, но после Марнского сражения, сделавшего успех на сухопутном фронте сомнительным, начались колебания. Дело лодки U29[115] дало новое направление вопросу. Было решено создать огромный подводный флот и, объявивши подводную блокаду английских берегов, уморить ее голодом. Закипела лихорадочная работа на всех верфях и по обучению личного состава будущего подводного флота.
Герой дня лейтенант Вединген[116] вскоре[117] погиб вместе со своей лодкой, попав под таран родоначальника английских дредноутов – линейного корабля «Дредноут». Это происшествие как бы служило предвидением победы надводного флота над подводным.
Поездка в Одессу и Николаев
В конце ноября мне пришлось поехать в Одессу и Николаев. Одесское начальство очень беспокоилось за судьбу своего города и жаловалось в Ставку на то, что морское начальство недостаточно оберегает южную столицу.[118] Начальник штаба приказал мне лично ознакомиться с обороной города, но у меня были еще дела по возникшим вопросам об образовании транспортной флотилии и так называемой экспедиции особого назначения. Приплыв в Одессу поздно вечером, я нашел ее погруженной в полный мрак. Это мне напомнило первые дни Порт-Артура. Как и тогда, начальство, впавшее в панику, потушило все огни в городе, видные с моря, не подумавши, что ориентироваться в бесчисленном числе однообразных огней гораздо труднее, чем в полной темноте, которая обыкновенно бывает ночью, не говоря уж о лунных ночах. От этих мер страдал только бедный обыватель.
Начальник штаба округа генерал Шишкевич[119] ознакомил меня с устройством обороны. Минное заграждение было поставлено между Фонтаном и Тендровской косой в три линии с расстоянием в одну милю между линиями. В гавани, защищенной боном,[120] стоял броненосец «Ростислав», и на Фонтане стояли две 6-дюймовые батареи. Принимая во внимание, что «Гёбен», зная о заграждении, вряд ли сунется на мелководье к Одессе, принятых мер было вполне достаточно, с чем не мог не согласиться и сам Шишкевич, и, таким образом жалобы оказались совершенно необоснованными. В Одессе я застал адмирала Хоменко,[121] приехавшего организовывать транспортную флотилию.
С объявлением войны морской транспорт на Черном море почти прекратился, так как судовладельцы боялись подвергать свои суда риску. В Англии объявили, что государство страхует все суда и грузы и выплачивает владельцам полную стоимость потопленного неприятелем корабля с грузом, но суда, кроме нужных для военных целей, оставались в полном распоряжении владельцев. У нас в Петербурге по этому вопросу заседали большие комиссии, и наконец было решено реквизировать все пригодные суда по закону о военно-судовой повинности и создать транспортную флотилию под военным управлением. На каждый транспорт был посажен кроме капитана комендант и по два сигнальщика для переговоров и сигналов. Лучшие транспорты были оборудованы для перевозки войск, а грузовики предназначались для груза.
Всего вошло во флотилию 140 транспортов, разделенных на 10 отрядов, причем первые четыре составили десантную флотилию и держались наготове для возможных операций.
Нельзя сказать, чтобы эта организация вышла удачной, она стоила очень дорого и очень плохо обслуживала нужды населения, почему и вызвала массу нареканий. С другой стороны, нельзя не признать, что благодаря такой организации очень мало транспортов погибло от неприятеля. В смысле перевозки войск флотилия работала немного, но оказала большие услуги Кавказской армии при ее наступлении в пределы Турции, перевозя как войска, так и грузы, главным образом, в Трапезунд.
Экспедиция особого назначения была вызвана к существованию по просьбе сербского правительства для перевозки грузов по Дунаю. Дунай был международной рекой под управлением международной комиссии, а потому мы имели право им пользоваться и организовали там речную транспортную флотилию. Для этой цели было реквизировано Русско-Дунайское пароходство со всеми пароходами, баржами и личным составом. Директор общества был назначен помощником начальника экспедиции флигель-адъютанта Веселкина,[122] и готовый аппарат был приведен в действие. В Сербию направлялся хлеб в зерне и муке, оружие, боевые припасы, обмундирование и целые отряды различных специалистов.
В создании этих двух организаций я принимал лишь косвенное участие, служа посредником между морским ведомством и Ставкой, что мне нетрудно было делать благодаря хорошим отношениям и здесь и там.
Из Одессы я поехал в Николаев, чтобы посмотреть, как идет постройка новых судов. «Императрица Мария» почти окончена по корпусу, и миноносцы тоже подвигаются. Командир порта толковал мне что-то про цеппелины, которые будто летали ночью над городом, но я думаю, что это ему привиделось. Я никогда не был в Николаеве и воспользовался случаем, чтобы посмотреть старый екатерининских времен деревянный дом главного командира, носивший громкое именование дворца. Удивительное впечатление оставляют всегда старые дома. Когда проходишь по этим старым комнатам со старой мебелью и старыми портретами, кажется, что люди, когда-то обитавшие в доме, до сих пор еще здесь, и хочется говорить тише и не нарушать покоя невидимых обитателей.
Из Николаева я проехал прямо в Петербург, чтобы доложить министру о постройках в Николаеве, и тотчас вернулся в Ставку.
В Петербурге в Морском генеральном штабе в это время разрабатывали вопросы о сношениях с внешним миром. После закрытия проливов у нас остались только два пути. Один через Сибирь и Владивосток, но это был путь очень длительный и дорогой, другой через Архангельск, но он был возможен только пять месяцев в году и благодаря узкой колее очень мало провозоспособен. Прежде всего было решено перешить узкую колею на широкую, что потребовало трех месяцев времени, но призрак недостатка снарядов уже стал грозно обнаруживаться в начале зимы, и пришлось думать о постройке железной дороги на Мурман, могущей действовать круглый год. Еще более остро стоял вопрос о винтовках и пулеметах, и морское ведомство решило, чтобы помочь горю, организовать гужевую перевозку на оленях иностранных винтовок с Мурмана в Петрозаводск. На место был послан капитан 1-го ранга Ращановский(?) с большими полномочиями, которые он сам расширил еще больше, и ему удалось наладить это дело местными средствами. До открытия навигации в Архангельск он перевез несколько десятков тысяч винтовок с патронами, за что и заслужил особую благодарность государя императора.
Жизнь в Ставке
Жизнь в Ставке шла своим чередом. Изредка начали появляться дамы, но всегда на короткий срок и быстро исчезали. Наступала зима с короткими днями и длинными вечерами. Прогуливаться было почти негде, так как кругом был снег. Прочищались только самые необходимые дорожки для сообщения. Одна из дорожек около дома квартирмейстерской части носила название оперативной, так как по ней совершал ежедневную гигиеническую прогулку генерал-квартирмейстер Данилов. Вскоре мы с ним подружились, и я стал составлять ему компанию.
Заботясь, чтобы дать какое-нибудь развлечение личному составу, начальство устроило кинематограф в манеже железнодорожной бригады, и все начали его усиленно посещать. Обыкновенно ставили какую-нибудь кинодраму и затем сцены из боевой жизни или посещение частей высочайшими особами. Надо отдать справедливость, почти все военные фильмы были сняты неумелыми людьми, были скучны и однообразны до тошноты. В особенности это бросалось в глаза, когда мы получали подобные же фильмы из Франции. То же можно сказать и про фильмы с высочайшими особами. Все сводилось к выходу из автомобиля и посадке на автомобиль. Самым большим успехом пользовались американские фильмы с дикими зверями и различными трюками, а также разбойники Фантомас, Черная Рука и тому подобные.
У меня в морском вагоне завелись свои приятели. Наиболее частыми посетителями были состоящий при великом князе для поручений генерал Петрово-Соловово[123] и кавалерийский генерал Новиков,[124] состоящий при Ставке в ожидании места. Его называли командующим морской кавалерией, так как он обучал верховой езде всю молодежь морского управления и предпринимал с ними длинные прогулки в окрестностях. Оба генерала рассказывали нам новости, слышанные за обедом у великого князя, и мы их совместно обсуждали.
Развлекали публику еще и военные агенты,[125] которых в Ставке все прибавлялось и прибавлялось. Вначале были только француз, англичанин и серб, но потом постепенно подъехали бельгиец, черногорец, итальянец, японец, румын, и к каждому из них стали подъезжать помощники, так что в конце концов собралось немало.
Француз маркиз де ла Гиш был очень корректен. Англичанин генерал Уильямс был типичным сыном своей расы; всегда с трубкой в зубах и руками в карманах, он мало говорил, но много ел и еще больше пил и хранил при всех обстоятельствах невозмутимое хладнокровие. Серб полковник Ланткиевич был очень проворный и юркий господин, очень умно устраивал свои дела. Бельгией был добродушный толстяк, очень остроумный и веселый, говоривший необыкновенно скоро и притом густым басом. Полковник Муханов, один из офицеров оперативной части, необычно ловко его представлял и морил всех со смеху. Итальянец полковник Марченго(?) больше всех пришелся ко двору. Он хорошо играл на гитаре и недурно пел шансонетки. Без него не обходилась ни одна выпивка, и его для простоты даже переименовали в полковника Марченко. Японец, генерал Оба, очень умный и толковый генерал, единственный из всех агентов с боевым прошлым. Он был моим приятелем, мы много говорили о Японии, и он меня поражал своими глубокими знаниями по всем отраслям наук.
Все старшие агенты помещались в великокняжеском поезде и столовались у великого князя. Им ежедневно сообщались бюллетени о положении военных действий, и иногда они все вместе или порознь предпринимали поездки на фронт, в сопровождении кого-либо из офицеров Генерального штаба.
Иногда случались и комические эпизоды. Так, однажды генерал де ла Гиш был во Львове арестован патрулем, принявшим его за австрийца. Он вышел погулять по улицам и своей формой возбудил подозрение и, не зная по-русски, ничего не мог объяснить. После этого случая агентам было рекомендовано при поездках надевать русскую форму.
Кроме кино другим развлечением было хождение на станцию Барановичи, которая, будучи важным узлом, пропускала через себя множество поездов. Это называлось собиранием сведений с мест, так как мимо проезжало много отпускных и раненых офицеров с фронта, а иногда и целые войсковые эшелоны при передвижении с фронта на фронт. Многие сильно огорчались невозможностью достать вина и водки,[126] но потом как-то приспособились, и ловкачи ухитрялись добывать и то и другое в любом количестве. Вероятно, местные жиды на этом делали недурные гешефты, хотя, правду сказать, между напитками попадалась прямо какая-то отравляющая смесь.
Само местечко не представляло никаких ресурсов, но кто-то открыл там великолепного зубного врача из жидков и, хотя вначале к нему отнеслись с недоверием, кончилось тем, что у него перебывала вся Ставка по зубной части.
Операции под Варшавой
Еще в 20-х числах сентября до Ставки начали доходить слухи о новых операциях немцев против нас, но определенно выяснилось о предстоящем наступлении на левом берегу Вислы только в конце месяца. При втором посещении государем Ставки в столовой царского поезда я слышал разговор сопровождавшего государя военного министра[127] с генералом Даниловым, где силы немцев определялись последним в двенадцать корпусов. Некоторые полковники оперативной части определяли их в восемнадцать, а другие говорили так же, как в былое время при нашествии татар, что немцев идет несосветимая сила. Впоследствии оказалось, что немцы располагали только шестью корпусами. В общем, настроение в Ставке было сильно паническое, тем более что дислокация армии совершенно не отвечала направлению готовящегося удара. Пять наших армий скопилось на маленьком пространстве между Вислой и Саном, три армии были заняты в Восточной Пруссии, и надлежащее место для встречи удара занимали только два корпуса. Началась спешная рокировка армий, почти без помощи железных дорог, по непролазной осенней грязи, причем мы перекалечили массу обозных лошадей, тем не менее три армии – 4, 5 и 9-я – были переброшены, и мы смогли противопоставить немцам и австрийцам около 25 корпусов, т. е. силы, значительно превосходившие их собственные.
Генерал Данилов оценил намерения противника как желание обойти правый фланг нашего Юго-Западного фронта, скученного на узком пространстве, и в отместку за Галицийское поражение устроить нам грандиозные клещи, зажав между Карпатами, Перемышлем и Вислой.
Чтобы парировать удар, генерал Данилов решил собрать кулак под Варшавой и обрушить его на спину обходящих немцев. Наступление наших войск против Австрии было остановлено, и, наоборот, мы стали быстро отходить за Сан. Здесь кстати сказать, что мы считали австрийскую армию на продолжительное время небоеспособной, но оказалось, что она, подпертая немцами, прекрасно могла наступать и доставила нам немало хлопот.
Если действительно у немцев были намерения, приписываемые им нашей Ставкой, что всегда все знающий противник скоро изменил их, и мы узнали, что значительные силы неприятеля двигаются на Варшаву. Немцы наступали быстро, не давая отдыха нашей кавалерии, которая должна была их задерживать. Первый серьезный бой произошел под Опатовым, где сильно пострадала наша гвардейская стрелковая бригада, выдвинутая в авангард 9-й армией. Противник обрушился на нее превосходными силами, и после двухдневного боя остатки бригады с трудом могли отступить к своей армии. Я слышал, что генерал Лечицкий[128] получил жестокий нагоняй за то, что позволил расстроить такую хорошую часть. Подойдя к Ивангороду, немцы попробовали взять его открытой силой, но он уже был приведен в хорошее оборонительное состояние, и они потерпели неудачу. Тогда они отошли немного и начали спешно строить оборонительные позиции. Генерал Иванов[129] решил, что пора наступать, и стал переправлять корпуса через Вислу, но везде потерпел неудачу. Тогда вмешалась Ставка, и Варшавский район был передан генералу Рузскому. Немцы 11 октября сбили наш авангард у Гронц и сильным напором заставили наши войска отойти к Варшаве. Целую неделю напуганные варшавяне слышали шум орудий, а ночью шум моторов цеппелинов. Методичный Рузский ждал сосредоточения всех войск, чтобы перейти в наступление. Наконец 20 октября приказание было отдано. Началась атака с фронта и охват немцев с обоих флангов, но противник уже вполне отдал себе отчет в своем положении и не пожелал вступить в решительный бой в крайне невыгодной обстановке. Наш фронтальный удар встретили лишь слабые арьергарды противника, а главные силы уже отступали на запад. Вслед за Варшавской группой начала отступать и Иваногородская, а далее и австрийцы, освободившие уже Перемышль от осады. Несомненно, что мы одержали в этот раз стратегическую победу, несмотря на многие тактические неудачи. Немцы показали свое тактическое искусство, смело нападая со слабейшими силами на менее искусного противника, и их корпуса действовали, наскакивая и отскакивая, как искусные фехтовальщики. Вообще к этому времени выяснилось, что наш хороший полк мог стоять против немецкого среднего полка, но, когда дело касалось дивизий, корпусов и в особенности армий, нам нужно было иметь чуть ли не двойное превосходство в силах, чтобы рассчитывать на успех.
Нам очень мешала также чрезвычайная пестрота наших частей в смысле их боевого достоинства. Иные полки стоили дивизий, а иные дивизии не стоили хорошего полка, и это даже в кадровых частях. При таких обстоятельствах высшим начальникам приходилось при составлении задач взвешивать не только численный состав, но и качества каждой части, что чрезвычайно усложняло командование.
Причина этого печального явления лежала в недостаточной сортировке при назначении начальников частей, начиная с командира полка, а также в отсутствии всеобщей руководящей военной идеи, проникающей весь личный состав от мала до велика.
Бои в Западной Польше
Когда выяснилось полное отступление германцев и австрийцев, наши войска сейчас же начали преследование в надежде по пятам неприятеля вломиться на его территорию, в наиболее выгодном направлении на Берлин, но немцы показали себя прямо художниками в деле порчи железных и шоссейных дорог, а также телеграфных линий. Они быстро оторвались от наших войск и исчезли в неизвестном направлении. Только 11 ноября началось обнаруживаться новое наступление немцев с северо-запада.
Вначале у нас не придали этому наступлению должного внимания, но вскоре обнаружилось, что немцы в недельный срок, пользуясь своей прекрасной железнодорожной сетью, сосредоточили армию в пять корпусов под начальством Макензена[130] для нанесения сильного удара по правому флангу наших наступающих войск. Мы могли им противопоставить в этом направлении только три корпуса, которые и были вынуждены к отступлению.
Немцы прорвали наш фронт и быстро начали окружать нашу 2-ю армию, но, по счастью, и тут выручил Плеве. Со своей 5-й армией он быстро пришел на помощь ко 2-й, освободил ее левый фланг и начал со своей стороны окружение зарвавшихся немцев. Три пехотных дивизии и две кавалерийских попали в кольцо нашего окружения. Мы в Ставке уже радовались, предвкушая реванш за Самсонова. Известия о победе уже проникли не только в Петербург, но и в Лондон, где в парламенте лорд Китченер[131] сделал недвусмысленное сообщение, но все это было преждевременным. Оказалось, что в мешке была дивизия немецкой гвардии, и она сделала чудеса. Израсходовав все свои снаряды и патроны, гвардия короткими ночными ударами в штыки прочистила путь и себе, и всем другим дивизиям, чем и вырвала победу из наших рук.
Когда начали разбирать это дело, то увидели, что вся операция около мешка велась тремя самостоятельными начальниками без единого руководства, и, несмотря на огромное превосходство в силах, большинство частей не проявляло никакой активности, а заботилось только об обороне своих позиций. В особенности много нареканий было на действия генерала Ренненкампфа, и он наконец был смещен.
Однако справедливость требует сказать, что не все части держали себя пассивно. Доблестный Нижегородский полк[132] вполне поддержал свои славные боевые традиции и по собственной инициативе атаковал и взял с боя тяжелую немецкую батарею, изрубив ее прикрытие. Наверное, были и еще подвиги, но они не дошли до меня. К сожалению, должен констатировать факт, что начальники некоторых привилегированных кавалерийских частей имели довольно своеобразный способ мышления. Мне лично приходилось слышать такие суждения, которые высказывались почти открыто: «Мое положение очень трудное; нужно сделать так, чтобы полк был в бою и по возможности получил побольше наград, и вместе с тем нужно обойтись, если нельзя совсем без потерь, то во всяком случае с минимальными». Один из таких полков присутствовал в виде зрителя при атаке нижегородцев и не подумал им помочь.
Во время самых тяжелых фазисов боя я часто гулял с Даниловым по оперативной дорожке. Он седел и худел с каждым днем, но, надо ему отдать справедливость, был тверд и упорен. На мои слова, что есть время еще и отступить, он ответил:
– Нет, если мы не добьемся победы, то все пропало!
Победы мы так и не добились, но тем не менее немцы все же отступили, а мы были в таком состоянии, что не могли их преследовать. Это сражение, очень кровопролитное и сложное по своей обстановке, видимо, истощило силы обеих сторон. И немцы, и мы последовательно были близки к победе, но капризная богиня не улыбнулась ни тем ни другим.
Гинденбург в газетных интервью так объяснял план своих операций: «Я совершенно не ожидал, что русские успеют подвезти к Варшаве свои сибирские войска и нам придется встретиться с превосходящим нас вдвое силами неприятелем. Когда это выяснилось, мне пришлось решать дилемму: принимать ли в невыгодной обстановке сражение с превосходными силами неприятеля или временно отступить и начать сражение по новому плану.
Если бы принял сражение, то, несмотря на превосходные качества наших войск, наш фронт был бы в конце концов продавлен сильнейшим неприятелем, и мы могли бы потерпеть поражение, почему я не колеблясь принял второе решение.
Последующее сражение следует несомненно считать как нашу победу, так как наступательный порыв русских разбился о крепость наших войск. На войне всегда побеждает тот, у кого крепче нервы, и я думаю, что наши нервы крепче».
Лодзинским сражением окончился период активных действий наших армий, который продолжался четыре месяца. После этого сражения если мы и наступали, то всегда частично, а не всей совокупностью нашей силы. Подводя итоги этого периода, следует отметить как положительные, так и отрицательные результаты, достигнутые нами.
В территориальном отношении больших перемен не произошло: мы потеряли Западную Польшу, но зато приобрели Галицию, Буковину и часть Восточной Пруссии. К положительным результатам следует отнести приобретенный нами опыт и то, что мы оттянули с Западного фронта часть германских корпусов, чем сильно облегчили положение наших союзников. Отрицательные результаты сказались прежде всего в проникшем всю армию сознании в превосходстве немецкого военного искусства, что, несомненно, охладило наш наступательный порыв. Кроме того, мы потеряли в боях три четверти кадрового офицерства и понесли несоразмерные большие потери в людях.
В снарядах, патронах, винтовках и пулеметах к декабрю 1914-го чувствовался уже катастрофический недостаток, и нам пришлось их собирать с бору и с сосенки.
Морское ведомство передало армии 80 % своих винтовок, пулеметов и патронов, но это была капля в море перед тем, что требовалось для удовлетворения нужд армии. Пришлось ограничивать расход всех этих предметов или, иначе, уменьшать потери неприятеля, что, несомненно, отозвалось на духе войны. Наш тыл в это время работал еще очень слабо и совершенно не успевал удовлетворять растущие потребности армии.
Вскоре после Лодзинских боев немцы получили большие подкрепления и снова атаковали нас с фронта, но больших успехов им достигнуть не удалось. Они потеснили нас к востоку, но мы все же окончательно закрепились на Сохачевских позициях. В это время одни и те же названия местностей по неделям не сходили со страниц официальных бюллетеней. Всем набили оскомину слова Здумска Воля, Мезалибарча и другие, подобно французским Динамюнде, Лабасе и др. Видимо, и на нашем фронте война принимала позиционный характер.
Действия на Балтийском море за ноябрь и декабрь 1914 года
В середине октября приехал в Ставку, от имени командующего Балтийским флотом, флаг-капитан оперативной части капитан 1-го ранга Колчак.[133] Балтийскому флоту была поставлена строгая и определенная задача: не допускать входа неприятельских судов за линию наших заграждений между Ревелем и Парналаудом, и при этом подчеркивалась недопустимость колебания нашей силы вследствие рискованных операций. Капитан 1-го ранга Колчак приехал ходатайствовать о разрешении Балтийскому флоту выходить в море для нанесения возможного вреда неприятелю. Он приводил следующие мотивы ходатайства адмирала фон Эссена: в ближайшее время Финский залив замерзнет и станет недоступным для неприятеля. К весне 1915 года четыре наших дредноута вступят в строй, и сила флота увеличится в несколько раз. От бездействия превосходный дух флота может измениться к худшему. Обида флоту находиться в бездействии и безопасности, когда армия истекает кровью. Невозможность ожидать действия с моря серьезных германских сил, пока немцы находятся под угрозой нападения англичан.
Великий князь принял лично Колчака, был с ним очень любезен, сказал, что очень ценит порыв Балтийского флота, но наотрез отказал в ходатайстве. Пришлось мне вместе с Колчаком напасть на генерала Янушкевича, и после долгих упрашиваний и уговоров мы выторговали разрешение употребить для операции в море все суда, кроме четырех линейных кораблей, которые до готовности дредноутов оставались неприкосновенными как защита подступов к столице со стороны моря.
С этого времени начались активные действия Балтийского флота. Они выразились, главным образом, в смелых вылазках к германскому побережью и в постановке минных заграждений на путях сообщения между портами. Эти операции производились по большей части миноносцами, но иногда и в большом масштабе крейсерами. Для немцев эти вылазки были чрезвычайно неприятны, как мы увидим дальше, но помешать им они не могли, несмотря на все старания.
5 ноября миноносец «Новик» и два миноносца типа «Пограничник» поставили минное заграждение, первое у Пиллау в Данцигской бухте, а второе в районе Мемеля. Такого рода операции стали возможными только во время длинных зимних ночей. Миноносцы вышли из Рижского залива перед закатом солнца и, будучи уверены, что никто их не видал, пошли полным ходом к назначенному месту постановки, рассчитывая время так, чтобы выполнить операцию и успеть вернуться ко входу в Рижский залив к восходу солнца следующего дня. Сама операция постановки мин требовала от четверти до получаса времени, так как миноносцы брали мин немного: «Новик» – пятьдесят, а «Пограничник» тридцать, но все же это было небезопасное предприятие. Обе группы встретились с неприятельскими сторожевыми крейсерами ночью, но нашего полудивизиона немцы не заметили, а «Новик» был обстрелян, но попаданий не было. Вероятно, противник не догадался, зачем ходили наши миноносцы, так как вскоре мы узнали через агентов, что у Мемеля подорвался и потонул крейсер «Фридрих Карл», а у Пиллау подорвался миноносец, но был благополучно доставлен в порт.
23 ноября «Новик» повторил постановку мин, на этот раз у банки Штольце невдалеке от Кольберга, и совершенно благополучно вернулся назад, никого не встретив.
11 декабря наш флот постигло новое несчастье. В этот день четыре наших миноносца типа «Исполнительный», имея на себе каждый по восьми мин, шли из Гельсингфорса в Моонзунд для постановки минных заграждений. Дул шторм, и миноносцы сильно качало. С задних миноносцев вдруг увидели взрыв у миноносца «Исполнительный», и его моментально не стало. Шедший за ним миноносец «Летучий» сейчас же подошел, чтобы спасать команду, но и его вдруг не стало. Тогда оставшиеся миноносцы бросились в сторону из опасения подводных лодок. С погибших миноносцев спасся только один человек.
Вначале общее мнение было, что неприятельская подлодка пробралась в залив и во время шторма взорвала миноносцы, но, как ни велико искусство германских командиров подлодок, все же такое объяснение казалось маловероятным. Скептики говорили, что нельзя было отправлять малые миноносцы с грузом мин в штормовую погоду в море. Они были того мнения, что миноносцы перевернулись от сильной качки при повышенном центре тяжести. Этот случай так и остался неразъясненным.
Итоги действий на всех морях к 1 января 1915 года
К первому января 1915 года Балтийский флот по климатическим условиям был осужден на трехмесячное бездействие, хотя вылазки крейсеров, как мы увидим дальше, время от времени продолжались. Крейсера не так боялись плавучих льдов, как миноносцы с их тонким корпусом, а потому они не прекращали своей деятельности в Балтийском море, которое замерзло только у берегов, в противоположность Финскому и Рижскому заливам, замерзавшим сплошным ледяным покровом.
За первый период войны положение на Балтийском театре не потерпело существенных изменений. Мы по-прежнему крепко держали Финский залив, а немцы считали себя хозяевами Балтийского моря, но мы к концу 1914 года уже нашли способы портить им настроение в их собственных водах, где они чувствовали себя дома. За этот период мы потеряли крейсер «Палладу», два малых миноносца «Летучий» и «Исполнительный», и несколько тральщиков. Немцы потеряли крейсера «Фридрих Карл» и «Магдебург», что, пожалуй, было ощутительнее.
Пока флот в зимний период чинился и отдыхал, в портах зато кипела самая оживленная деятельность: заканчивали постройку наших дредноутов и спешно строили миноносцы типа «Новик» и новые подводные лодки, спешно достраивали укрепления на Ревель-Поркалаудской позиции и выдвигали передовую позицию на меридиан Ганге.
Устраивали также фланговую Або-Аландскую позицию для того, чтобы угрозой тылу удерживать немцев от фронтального нападения. Устраивались и промерялись новые фарватеры в финляндских шхерах для скрытого передвижения наших миноносцев и крейсеров на левом фланге неприятеля, в случае его нападения на нашу главную позицию. Нашли подходящие фарватеры даже для дредноутов, которыми те и пользовались впоследствии. Число вспомогательных судов во флоте быстро увеличивалось. Образованы были дивизия тральщиков, дивизия сторожевых судов и два дивизиона сетевых заградителей специально для борьбы с подводными лодками.
Черноморский флот после успешного сражения с «Гёбеном» почувствовал себя хозяином в Черном море. Будучи бессилен против Босфорских укреплений, он обратил внимание на другие способы вредить неприятелю. Константинополь снабжался углем главным образом из копей Зонгулдака и Эрегли, бывших во владении французской компании и теперь конфискованных турками. Черноморский флот начал систематическое бомбардирование порта Зонгулдак, где были устроены все приспособления для быстрой погрузки угля. Первая бомбардировка была неудачна, но после того как было тщательно изучено расположение всех машин и устройств, дело пошло лучше, тем не менее устранить примитивный способ доставки угля на ослах и погрузки людьми не было возможности. Тогда мы приняли систему неожиданных налетов на Зонгулдак и Эрегли нашими нефтяными миноносцами, которые постоянно заставали грузившиеся пароходы и безжалостно их топили. К 1 января 1915 года в этих портах образовалось уже порядочное кладбище из потопленных пароходов. Турки поставили для защиты портов полевые батареи, но они мало помогали, так как наши пушки были дальнобойные, а орудия крупного калибра они, вероятно, берегли для защиты Дарданелл и Босфора.
Когда после неудачной попытки Энвера-паши овладеть Тифлисом,[134] мы сами перешли на Кавказе в решительное наступление, для содействия Кавказской армии были посланы три канонерских лодки и как прикрытие старый броненосец «Ростислав». В Батум, служивший им базой, из Севастополя отправили четыре десятка 10-дюймовых орудий, которые и составили сильную береговую батарею. При нашем продвижении вперед эти суда принесли большую пользу, так как всегда стреляли в тыл турецким войскам, атакуемым нашей пехотой с фронта. Обыкновенно после получасовой стрельбы во фланг и в тыл турки не выдерживали и оставляли позиции, которые занимались нашими войсками почти что без потерь.
Однажды крейсер «Бреслау» хотел оказать такую же услугу туркам и неожиданно появился в угрожаемом месте. Наших судов не было, и «Бреслау» обстрелял позиции сильным и метким огнем, но турки его плохо ориентировали, и он подвергнул бомбардировке свои позиции вместо наших. Турки в панике бежали, и наши войска, в полном недоумении, сейчас же заняли покинутые позиции, нашли там много убитых и раненых.
Подводя итоги действий на море наших союзников за 1914 год, следует отметить, несмотря на частичные неуспехи, общее улучшение положения. К началу 1915 года англичанам наконец удалось прилично оборудовать свои маневренные базы Скапа-флоу и Кромарти. До начала войны эти оба порта не имели никакой защиты, никаких мастерских и никаких материалов. Адмирал Джелико[135] в своих записках пишет, что ему приходилось переживать трагические моменты во время вынужденных для погрузок угля и других запасов стоянок в импровизированных базах. Два раза, вследствие фальшивых тревог из-за мнимого появления неприятельских подлодок, внутри порта ему пришлось, бросив все приемки, спешно со всем флотом выходить в море.
Адмирал Джелико предпочитал все время проводить в море, вследствие чего флот не отдыхал, изнашивал свои механизмы и даром тратил запасы. Если бы немцы были лучше осведомлены о состоянии английских маневренных баз, то они могли бы натворить много бед, атаковав базы подводными лодками или ночью миноносцами в начале войны, и вообще они сделали, по-видимому, большую ошибку, не последовав совету адмирала Тирпица и не начав с самого начала активных действий против англичан. К первому января 1915 года английский флот обогатился новыми дредноутами, базы были уже оборудованы и защищены батареями, баками и сетями и представляли вполне спокойную и надежную стоянку для флота. Англичане могли смотреть спокойно на будущее и ожидать дальнейших событий.
К этому же времени почти все германские крейсера, кроме двух или трех вспомогательных, были уже уничтожены, и английская торговля работала почти без помех. Германские подводные лодки в 1914 году, хотя уже имели крупные успехи, но их было еще слишком мало, и потому они еще не внушали опасений. Террор подводных лодок против коммерческих судов начался только в 1915 году. Англичане, со своей стороны, установили морскую блокаду Германии с начала войны, и для ее фактического осуществления установили цепь крейсеров в северной части Немецкого моря. Эти крейсера останавливали все входящие в море суда нейтральных держав, осматривали их и все подозрительные в смысле военной контрабанды отправляли в английские порты для подробного осмотра.
Пролив Ла Манш был совершенно закрыт для торговли. Несмотря на эти меры, немцы обходили их, торгуя через посредство Швеции, Норвегии и Дании, хотя, конечно, платили большой процент комиссионерам.
Французский военный флот в 1914 году главным образом занимался блокадой Адриатического моря, базируясь на Мальту, которую англичане им предоставили как операционную базу. Австрийский флот, базируясь на Полу, не проявлял большой активности, но тем не менее, пользуясь далматинскими шхерами, иногда появлялся в Катарро и оттуда производил вылазки, сильно беспокоившие французов.
Вопрос о командовании между союзниками был решен таким образом, что англичане командовали в Немецком море, а французы в Средиземном. Когда Турция начала военные действия, то англичане и французы организовали отряды судов для блокады Дарданелл и турецких берегов с подчинением всех сил французскому адмиралу. В Адриатическом море за весь 1914 год произошло только одно столкновение, жертвой которого стал устаревший австрийский крейсер «Зента», не успевший уйти от сильного противника.
1915 год
Ставка и бои начала 1915 года на Северо-Западном фронте
Праздники Рождества и новый 1915 год наступили среди всеобщего затишья в боевых действиях. Армии прочно сидели в окопах друг против друга, и Ставка обезлюдела наполовину. Все по очереди после пятимесячного сидения уезжали в недельный отпуск. В личном составе произошли некоторые перемены: кто из полковников получил полк, кто штаб дивизии, и вместо них появились новые лица.
Новый год встречали с шампанским в вагоне-столовой, но веселье как-то не клеилось, точно чувствовалось, что предстоит тяжелый год для России. Мы в своем вагоне иногда собирали своих приятелей и за стаканом вина коротали длинные и скучные зимние вечера. За отсутствием веселых тем в настоящем, обыкновенно вспоминали, кто как проводил праздники в прежние веселые времена. Незадолго перед тем переименовали Петербург в Петроград, и ярые германофобы предлагали завести кружку и брать штрафные деньги со всех, кто будет ошибаться, а так как ошибались все и очень часто, то кружка быстро наполнялась. Деньги решено было расходовать на подарки проезжавшим мимо раненым. Мне лично переименование это не понравилось. Как-никак, а двести лет существования уже составляют традицию, да еще установленную не кем-нибудь, а Петром Великим.
Вскоре мы получили немецкий юмористический журнал «Флигендеблетер» и там была следующая карикатура: нарисован был город, и около него столб с надписью «Петербург», следующая картинка – тот же город и столб, на который лезет русский генерал и заменяет надпись словом «Петроград», следующая картинка – на тот же столб лезет немецкий шуцман и вешает доску с надписью «Гинденбург». С легкой руки у нас стали в шутку переименовывать все немецкие фамилии в русские: так полковника фон Нерике[136] стали называть Фонариков, Альтфатера переименовали в Старопапина и т. д.[137]
Еще был установлен сбор в ту же кружку за каждую тысячу взятых пленных. Платили по желанию: я платил за каждую тысячу австрийцев по рублю, а немцев – по 10 рублей. Это было во время позиционной войны неразорительно, и только один раз после боя под Праснышем с меня взяли сто рублей. Некоторое разнообразие в скучную жизнь Ставки вносил приезд гостей, но большинство из них были обыкновенные смененные с мест генералы, приезжавшие жаловаться и просить новых мест, а потому особого веселья они с собой не приносили. Исключением были два ополченских инспектора – старые генералы Адлерберг[138] и Ольховский,[139] которые ездили по всей России и осматривали ополченские дружины. Время от времени они наезжали в Ставку с докладом и тогда рассказывали смешные истории из того, что видели в глубоких захолустьях. Жили они в своих собственных вагонах и имели своих кухарок.
Безмятежная жизнь в Ставке была вскоре нарушена. Германцы настойчиво нас атаковали у Болимова на левом берегу Вислы, но это была только демонстрация. Главный удар был направлен на нашу 10-ю армию, занимавшую Восточную Пруссию. Германцы скрытно от нас подвезли четыре вновь сформированных корпуса на наш фронт и 7 февраля начали наступление в обход обоих флангов 10-й армии. Если бы мы сразу отступили, как только выяснилось, что против нас действуют превосходные силы, то мы вышли бы из этой истории благополучно, но мы, к сожалению, стали цепляться за свои укрепленные позиции, а потому вся армия понесла большие потери, а 20-й корпус был окружен и целиком попал в руки неприятеля.
В Ставке был вскоре получен рапорт начальника штаба одной из дивизий 20-го корпуса, полковника Дрейера,[140] который, зная отлично местность, верхом с несколькими людьми проскочил через окружающее кольцо. Невозможно без слез читать эту трогательную эпопею: 20-й корпус мог бы свободно отступить, но командующий армией[141] задержал его для обороны г. Сувалки. Когда пришлось отступать уже под сильным давлением, 20-й корпус вел бой на три стороны и притом очень успешно, набрав много пленных и орудий. Тем не менее помощи ниоткуда не приходило, и предоставленный своим силам корпус после недельных беспрестанных боев, обезлюдел почти наполовину и, расстреляв все свои снаряды, под самой крепостью Гродно должен был прекратить сопротивление.
Помощь была организована на другой день после сдачи последних остатков корпуса, когда было уже поздно. Эпизод этот произвел на всю Ставку очень тяжелое впечатление. Как раз в эти дни через Барановичи проезжал морской министр адмирал Григорович, и я его встречал на платформе. Я ему сказал про наше всеобщее огорчение, и он меня успокоил:
– Ничего, у нас людей хватит, были бы снаряды.
Действительно, после перегруппировки войск и подхода подкреплений мы снова перешли в наступление и даже под Праснышем одержали значительный успех, взяв до 10 тысяч пленных. После ряда кровопролитных боев на фронте опять восстановилось равновесие, и противники снова закопались в землю. Кроме Прасныша следует еще отметить храбрую защиту нашей маленькой крепости Осовец, которая выдержала жестокую бомбардировку и отбила повторные атаки противника.
Вскоре после этих событий генерал Рузский заболел, и вместо него был назначен главнокомандующим Северо-Западным фронтом генерал Алексеев – очень популярное лицо в армии, но ему уже не пришлось вести активных действий. В это время наше главнокомандование уже пришло к заключению, что в маневренной войне германцы для нас непосильный противник и что нам следует обратить наши усилия в сторону наименьшего сопротивления, т. е. австрийцев. Германцы, по-видимому, со своей стороны пришли к заключению, что на Западном фронте им союзников с места не сдвинуть, и также решили действовать по наименьшему сопротивлению и обратить свою активность против нас. Если Лодзинские бои рассматривать как средство парализовать нашу активность, то наступление на нашу 10-ю армию следует квалифицировать как подготовку операции против наших обоих флангов, начатую весной. Наши цели и стремления встретились. Мы хотели разбить и выбить из коалиции Австрию. Германцы решили попробовать сделать то же с Россией.
Балтийский флот в начале 1915 года
Как выше было сказано, деятельность Балтийского флота сосредоточилась в зимний период главным образом в тылу, но все же вылазки к германскому побережью для постановки мин время от времени производились. Так, 12 января отряд из крейсеров «Россия», «Богатырь» и «Олег» под флагом контрадмирала Канина вышел с рейда Уте и в ту же самую ночь под православный Новый год поставил заграждение: «Россия» у маяка Аркона, а другие крейсера у банки Штольце. В ночь на 14 января крейсера благополучно возвратились в Ревель. Хотя крейсера и видели по дороге два парохода, но, видимо, немцы не узнали о цели похода крейсеров, так как агентура вскоре дала нам знать, что на наших заграждениях взорвались крейсер «Газелле» и один пароход.
12 февраля 2-я бригада в составе крейсеров «Рюрик», «Адмирал Макаров», «Богатырь» и «Олег», под флагом адмирала Бахирева,[142] вышла к германским берегам, причем крейсера «Олег» и «Богатырь» взяли 400 мин заграждения, а «Рюрик» и «Адмирал Макаров» должны были служить им прикрытием. В море к бригаде должен был еще присоединиться полудивизион миноносцев под начальством капитана 1-го ранга Колчака. Бригада вышла в море при густом тумане, вследствие чего не могла определить своего места, и крейсер «Рюрик» попал на банку Фарэ. Хотя он и благополучно перескочил через нее, но все же потерпел большую аварию, а потому бригада должна была вернуться в Финский залив для ввода крейсера в док. Само по себе это было чрезвычайно трудным предприятием в половине февраля, когда восточная часть Финского залива окована сплошным толстым льдом, но ледоколы «Ермак» и «Петр Великий» справились с этим делом и привели «Рюрика» в Кронштадт, сделав переход из Ревеля в течение пяти суток. В это время года это был едва ли не первый случай в истории русского флота.
Капитан 1-го ранга Колчак со своим полудивизионом вышел из Ревеля также 12 февраля, чтобы присоединиться к крейсерам. Ему пришлось пробиваться двое суток через тяжелый для легких корпусов миноносцев лед. Некоторые миноносцы получили пробоины, но они тут же заделывались судовыми средствами. Когда наконец все трудности были побеждены и полудивизиону удалось выйти в свободное ото льда море, вдруг было получено по радио приказание вернуться назад вследствие аварии «Рюрика». Капитан 1-го ранга Колчак немедленно запросил разрешения командующего флотом идти в экспедицию одному без прикрытия. Адмирал Эссен был, конечно, в трудном положении, но, зная хорошо своего сотрудника по оперативной части, все-таки разрешил. Полудивизион, никем не потревоженный, в ночь на 15 февраля наставил мины заграждения в Данцигском заливе и к ночи того же дня благополучно пришел в Ревель, исполнив опасное поручение. На обратном пути, благодаря ветру, подувшему с юга, льды уже не мешали, так как их отнесло на север.
Начало 1915 года в Черном море
Турки ознаменовали начало года высадкой кавалерийского патруля численностью в 25 кавалеристов, который высадился невдалеке от устьев Днестра с намерением подорвать какой-либо железнодорожный мост. Патруль прибыл на пароходе «Зафер» в сопровождении крейсера «Бреслау». Этот патруль через несколько часов был окружен посланной за ним в погоню конной пограничной стражей и сдался в плен, ничего не сделав, тем не менее я получил реприманд[143] от великого князя.
Вообще в это время как великий князь, так и начальник штаба довольно нервно относились к деятельности Черноморского флота, что вызывалось жалобами Кавказской армии на якобы усиливающийся подвоз всякого снабжения для турецкой армии в Трапезунд, Хопу и другие армянские порты. Черноморский флот, вследствие своей слабости и тихоходности, не мог разделять своих сил, и ему приходилось всегда держаться соединенно, чтобы быть готовым к встрече в море «Гёбена», вследствие чего он и не мог одновременно держать зоркое наблюдение и за Босфором, и за Кавказом. Наши тихоходные канонерские лодки также не могли служить для блокадной службы, чтобы не сделаться жертвой любого из турецко-немецких крейсеров, почему мы вначале употребили для этой цели вблизи Батума наиболее сохранившиеся из наших старых номерных миноносцев. Эти суда, несмотря на свою слабость, все же имели ход свыше 20 узлов и могли скрыться от сильнейшего неприятеля. С начала года дивизион номерных миноносцев был усилен двумя более крупными «Живым» и «Жарким», имеющими значительный район действий, что несколько улучшило положение.
Чтобы прекратить или, во всяком случае, затруднить сообщение Константинополя углем из Зонгулдака, адмирал Эбергард решил организовать экспедицию для его заграждения. Были приготовлены два парохода, нагруженные камнем, залитые цементом, и флот, взяв с собой их и приспособленные пароходы – минные заградители, вышел в море. Заградители благополучно ночью поставили заграждение вблизи Босфора, но пароходы с камнем, сопровождаемые миноносцами, в тумане разошлись с ними и встретились с «Бреслау». Один был затоплен, а другой получил сильные повреждения, но ему удалось благодаря туману скрыться. Когда флот возвращался после этой неудачной экспедиции в Севастополь, шедшие впереди миноносцы были атакованы крейсером «Бреслау», но наши крейсера «Кагул» и «Памяти Меркурия» своевременно подошли на помощь и заставили противника обратиться в бегство.
После этого похода «Гёбен» перестал выходить в Черное море, и все недоумевали, почему он не выходит. Агенты сообщали, что он производит ремонт котлов, и только спустя три месяца случайно удалось узнать из полученного секретным образом письма лейтенанта Хижинского,[144] взятого в плен с парохода, потопленного «Бреслау», что «Гёбен» подорвался на наших минах. Хижинский был передан с «Бреслау» на «Гёбен» и находился на нем в кают-компании, когда «Гёбен» получил первую мину. Вместе с другими офицерами он выскочил наверх, и при нем взорвалась вторая мина. По цвету взрыва он даже узнал, с какого транспорта были взорвавшиеся мины. Сверх ожидания, «Гёбен» и не думал тонуть, а, дав большой ход, быстро вошел в Босфор и направился к месту своей обычной стоянки. Приходится удивляться или плохому качеству наших мин, или великолепной немецкой постройке кораблей. Вероятно, что было и то и другое. Нужно также удивляться и завидной способности немцев хранить тайну о своих повреждениях. «Гёбен» снова появился в Черном море только спустя три месяца, что и не мудрено, так как дока в Константинополе не было и ему пришлось чинить свои пробоины примитивным способом, подобно тому, как мы это делали в Порт-Артуре.
4 января наши крейсера поблизости от Синопа встретили крейсер «Меджидие», конвоировавший транспорт. «Меджидие» сейчас же повернул к Босфору, и наш крейсер «Память Меркурия» гнался за ним в продолжение часа, но безрезультатно. Транспорт был потоплен нашими миноносцами. Он был с грузом керосина для Трапезунда. Около этого ж времени миноносцы потопили большой пароход «Деренти» с амуницией.
18 января миноносцы сделали набег на Синоп и на Архаве. В Синопе был потоплен пароход «Георгиос», а в Архаве 12 парусных судов, груженных амуницией.
24 января произошла встреча наших крейсеров с «Бреслау» и «Гамидие», но последние благодаря превосходству хода свободно ушли. Тихий ход был наша трагедия.
26 января наши малые миноносцы вышли из Батума для патрулирования берега и встретили «Бреслау», который сейчас же погнался за ними и открыл бешеный огонь, но миноносцам удалось войти под защиту крепостных орудий Батума, и «Бреслау» пришлось ретироваться.
В начале февраля в Ставке заговорили о готовящейся союзной экспедиции в Дарданеллы, и Черноморскому флоту было отдано приказание разработать способы оказать им содействие.
Действия в иностранных водах
С началом войны на английский флот в Северном море были возложены две главные задачи: на так называемый большой флот под командой адмирала Джелико была возложена борьба с германским флотом, т. е. живой силой противника. Этот флот базировался на шотландские порты Скапа флоу, Разита и Кромарти и состоял из новейших кораблей типа дредноут, лучших крейсеров и миноносцев. Другой флот из более старых судов базировался на порты Ламаншского канала, и его задачей было обеспечить непрерывное и безопасное сообщение между английскими и французскими портами канала, которое было необходимо для непрерывной высадки войск на побережье Франции, для снабжения английской армии всем необходимым и для эвакуации больных и раненых. Чтобы сделать безопасными эти важнейшие операции, англичане поставили поперек всего канала минное поле, охраняемое особым отрядом из контрминоносцев и вооруженных траулеров с базами в Дюнкерке и Дувре. Кроме того, французские и английские патрули ходили по всему каналу и осматривали пролив. Вначале эти меры казались достаточными, но уже в ноябре 1914 года немецкая подводная лодка оказалась в канале, пройдя над заграждениями, и потопила два парохода.
На два дня навигация была закрыта, а патрули усиленно искали лодку. Ее видели в нескольких местах и стреляли по ней, чем, по-видимому, и вынудили возвратиться тем же путем, как она и пришла. Англичане спешно начали усиливать заграждение и ставить противолодочные сети, но все же прошло много времени, пока не нашли способов надежно ограждать сравнительно узкое пространство канала.
В конце ноября 1914 года главные силы германцев держали себя пассивно и не появлялись в море, но в это время линейные крейсера адмирала Хиппера сделали набег на Ярмут, сопровождавшийся бомбардировкой и постановкой мин заграждения у английских берегов.
16 декабря был произведен второй набег и бомбардировка портов Хартлпуля, Скарборо и Витби. Это все были незащищенные порты-курорты, и от бомб пострадало до 600 человек мирных жителей, в числе коих были убиты 138 мужчин, 38 женщин и 19 детей. Надо сказать, что этот варварский поступок не имеет оправдания ни в военных надобностях, ни в международном праве, ни в соображениях этики и морали.
Сам по себе этот рейд чрезвычайно интересен, так как обе стороны благодаря туманной погоде и стечению обстоятельств упустили случай одержать блестящую победу. Мы уже знаем, что германский адмирал Ингеноль[145] имел высочайшую директиву не подвергать флот серьезному риску, тем не менее абсолютное бездействие после неудачи с планом молниеносного окончания войны было признано вредным для духа флота, и операции были разрешены, но с соблюдением осторожности. Для операции против английских портов 15 декабря вышел весь германский флот в полном составе, причем на линейные крейсера возлагалась самая операция, а главные силы должны были их встретить на обратном пути в определенном месте, приблизительно в полпути между Гельголандом и берегами Англии.
Англичане через свою агентуру знали накануне о предстоящем выходе линейных крейсеров, но ничего не знали о главных силах. Поэтому адмирал Джелико выслал в море вторую эскадру дредноутов, состоявшую из шести кораблей, и четыре линейные крейсера адмирала Битти с соответствующим числом крейсеров и миноносцев.
В ночь на 16 ноября адмирал Ингеноль получил известие, что два из его ударных миноносцев и два легких крейсера, каждый порознь, вошли в соприкосновение с неприятельскими миноносцами и отбили их атаки. Отсюда Ингеноль заключил, что план германцев раскрыт неприятелем и что он находится в непосредственной близости от главных неприятельских сил. Под давлением высочайшей директивы, рекомендующей осторожность, Ингеноль решил повернуть флот к Гельголанду, не доходя до намеченного рандеву.
Миноносцы, атаковавшие немецкие крейсера, принадлежали к эскадре адмирала Варендера, но они смогли дать знать о своей встрече с неприятелем только в 7 часов утра. В это же время было получено радио о начавшейся бомбардировке английских портов немецкими минными крейсерами. Тогда английский адмирал решил не обращать внимания на неизвестные суда, находившиеся от него к востоку, и употребить все старания, чтобы перехватить немецкие линейные крейсера, когда они будут возвращаться после бомбардировки. С этой целью он приказал адмиралу Битти следовать за собой в 10 милях расстояния и рассыпать цепь легких крейсеров в направлении предполагаемого пути возвращения неприятеля.
Между тем адмирал Хиппер, окончив операцию, отпустил бывшие при нем четыре легких крейсера и флотилию миноносцев по кратчайшему пути по направлению к своим главным силам, а сам взял курс севернее. Эти легкие крейсера вследствие туманной погоды наткнулись совсем близко на дредноуты адмирала Варендера, но он их принял за своих и не сделал ни одного выстрела.
Быстро повернув и скрывшись от страшного противника, крейсера, идя далее, встретились с легкими крейсерами адмирала Битти, и завязался бой. Адмирал Битти решил, что это авангард адмирала Хиппера, и, не обращая на него внимания, устремился полным ходом по направлению, где предполагался Хиппер. По недоразумению, сигнал, сделанный адмиралом Битти одному из легких крейсеров «Следовать за мной», был понят как приказание всем, почему английские легкие крейсера вышли из боя и присоединились к Битти, который так никого и не встретил. А Хиппер совершенно благополучно прошел севернее стороживших его эскадр, встретив лишь слабые силы, которые и разогнал.
Интересно, что последствием этих запутанных операций, где счастье поочередно служило и тем и другим, была смена обоих высших начальников. Адмиралу Ингенолю было поставлено в вину, что он оставил адмирала Хиппера без должной поддержки, а также, что он повернул, не дойдя до назначенного рандеву, причем не использовал имевшихся при нем легких сил для освещения создавшейся обстановки. Адмиралу Варендеру была вменена в вину ошибка с неприятельскими легкими крейсерами и вообще неудачная операция, а главным образом то, что общественное мнение, возмущенное двукратной безнаказанной бомбардировкой английского побережья, требовало себе жертвы.
Если бы адмирал Ингеноль, имевший при себе 14 дредноутов и 7 более слабых кораблей, пришел бы к месту назначенного рандеву и дождался бы утра, то, несомненно, произошел бы бой, печальный для англичан. То же было бы и с немцами, если бы адмирал Хиппер не пустил бы свои легкие крейсера по другому направлению, чем пошел сам. Эта операция показала также, как много остается в деле успеха или неуспеха на долю счастливой или несчастной случайности.
23 января 1915 года германцы решили снова повторить набег на Англию, и линейные крейсера «Зейдлиц», «Дерфлингер», «Мольтке» и броненосный крейсер «Блюхер» с легкими крейсерами и миноносцами вышли в море. Главные силы должны были выйти только вечером.
Англичане знали о предполагавшейся операции, по-видимому, благодаря добытым нами и переданным им кодексам сигналов, найденным водолазами на дне моря у борта «Магдебурга»; по крайней мере весь английский флот в этот день вышел в море. Из Гарвича ему навстречу вышли такие английские крейсера и миноносцы, находившиеся там. Они первые и увидели легкие крейсера неприятеля и вступили с ними в бой. Адмирал Битти со своими крейсерами, находившимися невдалеке, получив извещение о неприятеле, полным ходом направился к нему.
Адмирал Хиппер, увидев, что он открыт, немедленно повернул к Гельголанду, и началась бешеная погоня. Бой начался с огромной дистанции и вначале был безрезультатен, но вскоре англичане начали нагонять, сосредоточивая огонь на концевом крейсере «Блюхер», который выдерживал огонь пятьдесят минут, но затем стал крениться и заметно отставать. Англичане также растянули линию, и впереди шли «Лион» и «Тайгер», ведя бой с тремя немецкими крейсерами. В 11 часов «Лион» получил тяжелое повреждение в носовой части и должен был застопорить машину, вследствие чего адмирал Битти перешел на миноносец и на нем отправился догонять эскадру.
Бой прекратился вследствие приближения к острову Гельголанду. «Блюхер», весь избитый, с огромным креном, продолжал сопротивление до тех пор, пока легкий крейсер «Аретуза» не потопил его двумя минами.
При спасении оставшейся команды к месту боя явился цеппелин и, думая, что тонет английский крейсер, начал бросать бомбы в спасающие суда.
Про это сражение можно сказать, что немцы потеряли «Блюхера» исключительно оттого, что взяли с собой в такую экспедицию, где успех зависел исключительно от скорости хода, сравнительно тихоходный корабль.
18 февраля Германия объявила подводную блокаду берегов Англии и западного берега Франции. Это был шаг, противный всем международным законам, так как немцы объявили, что в блокадной зоне они будут топить минами все встречные суда как воюющих наций, так и нейтральные, без предупреждения пароходов и не заботясь о судьбах пассажиров и экипажа. По международному праву блокада должна быть действительной, каковому условию невидимые, т. е. подводные, суда не удовлетворяли. Блокада должна сопровождаться осмотром документов и груза захваченного судна, чтобы убедиться в национальности и присутствии военной контрабанды, и, наконец, жизнь пассажиров и экипажа с древних времен уважалась не только военными кораблями, но и корсарами.
Вступая на такой рискованный путь, Германия решала восстановить против себя весь цивилизованный мир и, прежде всего, могущественные Соединенные Штаты, но и это ее не остановило. Так была велика уверенность немцев в результатах подводной войны.
Правда, по мере того как увеличивалось число подводных лодок, построенных в Германии, увеличивалось число и потопленных судов, но, с другой стороны, начали находить и средства против новых пиратов. Коммерческие суда воющих начали вооружаться артиллерией; миноносцы и вооруженные траулеры начали усердно обыскивать все пути подводных лодок; везде на их курсах и поблизости баз ставились мины и сети. Скоро жизнь на подводных лодках также стала несладкой, тем более что, с развитием гидроавиации, аэропланы стали оказывать большие услуги в борьбе с подводным флотом. Число погибших лодок стало быстро увеличиваться, но немцы упорствовали на своем.
Операции у Дарданелл
Мысль о форсировании Дарданелл открытой силой зародилась в штабе английского адмирала Гардена,[146] командующего союзным отрядом судов, блокирующих проливы. Первый лорд адмиралтейства лорд Черчилль очень горячо схватился за эту идею и начал энергично проводить ее осуществление. Запрошенная по этому поводу Франция вначале отказала в своем содействии, но при личном свидании Черчилля с французским морским министром Оганьером его удалось склонить к совместным действиям.
Несмотря на чрезвычайную трудность операции, в особенности имея таких противников, как немцы, руководившие всеми действиями турок, англичане решили действовать одними морскими силами, не прибегая к содействию сухопутных войск. История давала нам несколько подобных прецедентов, как, например, прорыв через те же Дарданеллы английского адмирала Дуркварта в 1808 году,[147] и североамериканского адмирала Фаррагута[148] в реке Миссисипи в 1863 году, но в то время приходилось бороться только с артиллерией противника и не было еще мин заграждения, что совершенно изменило способы обороны узкостей. Тем не менее экспедиция была решена.
В распоряжении адмирала Гардена было три-четыре английских старых броненосца, четыре французских, несколько крейсеров, миноносцев и большое количество тральщиков и всяких других вспомогательных судов, а также и авиационные средства.
Россия, конечно, отнеслась очень сочувственно к идее форсирования Дарданелл и прислала с Дальнего Востока единственный имевшийся у нас в заграничных водах крейсер «Аскольд». Кроме того, было обещано содействие Черноморского флота для действия у Босфора.
Берега проливов представляют из себя пересеченную гористую местность, очень удобную для скрытого помещения орудий и войсковых частей. Форты и батареи, защищавшие проливы, числом 17, хотя и устарелого типа, но все же снабженные орудиями крупного калибра.
Союзники начали действия по определенному плану: 19 февраля все броненосцы приступили к методическому бомбардированию наружных фортов Хеллес, Седуле бар, Кумэ-кале и Орхание с дальних дистанций, находясь вне выстрелов их орудий. После полдня суда подошли уже ближе и снова начали бомбардировку.
На другой день начался шторм, который задержал операцию на целую неделю, и только 25 февраля она продолжилась тем же порядком. Вечером все форты были приведены к полному молчанию, и тральщики вошли в пролив и начали тралить мины, причем к утру 26-го было прочищено пространство в четыре мили длиной. Броненосцы вошли в пролив и начали обстрел фортов Дарданус, а также и фортов, обстрелянных ранее, причем на берег были свезены подрывные партии для уничтожения уцелевших орудий взрывами. К этому времени союзники получили подкрепление из пяти броненосцев, в числе коих были могучий дредноут «Королева Елизавета» и линейный крейсер «Инфлексибль».
До 3 марта операции прогрессировали довольно успешно. Траление хотя и медленно, но подвигалось вперед, и форты понемногу начинали замолкать, причем повреждения на судах были незначительные, но с этого времени фортуна начинает поворачиваться к союзником спиной. Турки установили во всевозможных впадинах и оврагах полевые батареи и орудия среднего калибра, которые, будучи бессильны против броненосцев, делали невозможной работу тральщиков, а без траления броненосцы не могли продвигаться вперед. Таким образом союзники оказались в заколдованном круге. Достать эти расставленные по всему берегу пушки судовыми орудиями было невозможно, и выхода из положения не было.
Так дело продолжалось в течение двух недель, и, наконец, чтобы покончить с турками так или иначе, на 18 марта была назначена генеральная атака. Броненосцы, сменявшиеся каждые два часа, беспрерывно стреляли по фортам Чонак и Килид-бара, а другие суда обстреливали еще не вполне замолчавшие разрушенные форты.
Все шло благополучно до 2 часов пополудни, когда только что сменившиеся французские корабли «Буве» и «Голуа» пошли к выходу из пролива. Внезапно у борта «Буве» раздался сильный взрыв, и он в три минуты пошел ко дну. Почти в то же время «Голуа» получил снаряд большого калибра в подводную часть и, чтобы не затонуть, был вынужден стать на мель у острова Дрепано. Вначале никто не понимал, почему погиб «Буве», но скоро заметили плывущие по течению мины, и большие корабли начали увертываться от них, но это не всем удалось. «Ирезистибль» и «Океан» вскоре были подорваны и медленно затонули, а минный крейсер «Инфлексибль» подорвался, но благополучно вышел из пролива. Итак, потери этого дня определились в три броненосца потонувших и три серьезно поврежденных, считая французского «Сюфрена», сильно потерпевшего от огня.
Неудача 18 марта не расхолодила союзников, и, обсудив положение, они решили продолжать операцию, но уже при содействии сухопутных сил. Если бы они с этого начали, то результат предприятия был бы, вероятно, другой, так как турки почти не имели в Константинополе войск, а за месяц времени, ушедший на подготовку десантной армии, турки успели стянуть войска и, руководимые немцами, подготовились вполне к достойной встрече союзников. Кроме того, немцы позаботились прислать в Средиземное море свои подводные лодки, которые наделали много хлопот союзникам.
С 21 апреля началась снова бомбардировка турецких укреплений на обоих берегах пролива, и 25-го состоялась высадка на Галиполийском полуострове и в Кум-кале. С английской стороны первой высадилась единственная остававшаяся у них в резерве кадровая дивизия, которая понесла большие потери, так как турки упорно сопротивлялись, но все же ей удалось продвинуться в глубь полуострова на пять километров и там закрепиться, но, несмотря на подошедшие подкрепления, дальнейшее продвижение стало измеряться уже метрами и перешло очень скоро в позиционную войну. Интересно, что первый танк был применен на Галиполийском полуострове, но, как первый блин, оказался очень неудачным. Броненосцы оказывали большую помощь войскам своими тяжелыми орудиями, но благодаря крайне пересеченной местности очень редко когда удавалось с кораблей нанести действительный вред войскам противника.
Кто особенно отличался в этот период операции – это английские подводные лодки: им пришлось проходить ночью под минными заграждениями в наиболее узкой части пролива, под угрозой ежеминутно или взорваться, или стать на мель, что в обоих случаях грозило гибелью.
Не могу не описать подвигов двух лодок Е14 и Е11, которые должны быть записаны и занять почетное место в истории английского флота. Е14 под командой старшего лейтенанта Байля вошла в пролив в ночь на 27 апреля. Благополучно пройдя под минными заграждениями, она всплыла на поверхность в самой узкости и была открыта прожектором с форта Чонак. На нее посыпался град снарядов, и один из ее перископов был сбит, что не помешало ей продолжать путь дальше и тут же в проливе, встретившись с броненосцем «Берх-и-Шевкет», потопить его миной. Так был ознаменован выход ее в Мраморное море, где сейчас же были организованы патрули для ее поимки или истребления.
Это была первая лодка, вышедшая в Мраморное море. Пытавшиеся сделать то же до нее, одна английская и одна французская лодки, – обе погибли. 29 апреля Е14 встречает транспорт с войсками, конвоируемый четырьмя миноносцами, и топит его миной. 1 мая она топит турецкую канонерскую лодку. 5 мая большой пароход с грузом подвергается той же участи. 8 мая лодка останавливает пассажирский пароход, полный пассажиров, и отпускает его идти своей дорогой, что находится в полном противоречии с поступками в этих случаях немцев. 10 мая она встречает два парохода под конвоем миноносцев и топит один из них. 13-го она преследует маленький пароход и заставляет его выброситься на берег. 17 мая она получает по радио приказание возвращаться, и в Дарданеллах подвергается обстрелу турецкого патруля, но благополучно скрывается от него под воду и возвращается домой.
Е11 выходит благополучно в Мраморное море 19 мая. 21 мая она топит миной стоящую на якоре в Босфоре канонерскую лодку. 24 мая она останавливает маленький пароход с амуницией, идущий в Дарданеллы, приказывает пассажирам и команде сесть на шлюпки и топит пароход. В тот же день она преследует другой пароход, который скрывается от нее в гавань Радосто. Е11 следует за ним в гавань и топит его миной у самой стенки мола. При выходе из гавани она видит еще пароход и заставляет его выброситься на берег. На следующий день она выходит в Босфор и топит два парохода, стоящие у пристани арсенала. При выходе из Босфора она садится на мель и с большим трудом освобождается. 27 мая она встречает конвой из шести пароходов и топит самый большой из них. В тот же день она стреляет миной по идущему мимо пароходу, но дает промах. Тогда она всплывает на поверхность, находит свою мину, погружает на лодку и снова приготовляется к выстрелу. 31 мая она топит большой пароход в Падермо. 2 июня пароход, груженный амуницией, потоплен в море. 6 июня, имея всего одну мину в аппарате, она вынуждена вернуться домой, проходя проливом, высматривает добычу. Вначале она оставляет без внимания большой пароход, стоящий на якоре у Галиполи, но, подойдя к Чонаку и не видя ни одного судна, возвращается обратно, топит пароход и идет дальше. Проходя под минным полем, она зацепляется рулем за проволочный трос, соединяющий мину с якорем, и вынуждена тянуть за собой готовую каждую секунду взорваться мину. Единственным спасением было всплыть, но тогда лодка могла бы попасть в руки неприятеля, и потому старший лейтенант Насмит не всплывает до тех пор, пока лодка не вышла из пролива. Подобное хладнокровие и самоотвержение поистине изумительно.
Тем не менее, несмотря на геройство английских моряков, Дарданелльская операция не увенчалась успехом, и оккупационные войска пробыли на галиполийском берегу почти до конца года и затем благополучно были эвакуированы. Экспедиция стоила больших жертв как людьми, так и материальных. Как потом выяснилось, в решительный день морской операции у турок уже почти не было снарядов, и, продержись союзники еще несколько дней, форты замолчали бы, а стреляли бы одни полевые пушки. Во всяком случае, экспедиция была начата противно правилам военного искусства и могла увенчаться успехом только при соблюдении принципа внезапности или при малопредприимчивом противнике.
Как выше было сказано, с нашей стороны в экспедиции принимал участие крейсер «Аскольд», который своими действиями заслужил благодарность английского адмирала.
После неудачи 18 марта союзники уведомили нас, что операции в Дарданеллах будут энергично продолжаться, и просили сделать демонстрацию у Босфора, чтобы отвлечь возможно большее число турецких сухопутных сил от Дарданелл. Мы уже изучали с оперативной частью вопрос о возможности одновременной высадки союзников у Дарданелл и нашей у Босфора, но пришли к заключению о крайней рискованности подобной операции. Мы не могли по нашим транспортным средствам высадить сразу более одного корпуса, причем высадку пришлось бы производить в бездорожной гористой местности. Предприятие могло бы удасться только в том случае, если бы наши войска заняли сразу оба берега Босфора на протяжении 10 километров и смогли бы удержаться там до подвоза нового корпуса, что могло произойти только в недельный срок от начала первой высадки войск. Кроме того, главное командование не считало возможным оторвать для этой цели более одного корпуса. С морской точки зрения операция была выполнима, но присутствие «Гёбена», о котором мы не знали, что он подорван нашими минами, все же делало ее небезопасной в смысле возможного потопления нескольких транспортов с войсками. В случае же неудачи захвата части проливов нашими войсками в кратчайший срок, т. е. в два-три дня, положение корпуса сразу сделалось бы катастрофическим, так как без удобной базы для выгрузки снабжения корпус существовать не мог.
27 марта великий князь потребовал меня к себе и сказал приблизительно следующее: «Поезжайте сегодня же в Севастополь и отвезите адмиралу это предписание изготовиться в кратчайший срок к высадке десанта у Босфора, для чего в Севастополь будет доставлен один из кавказских корпусов. На словах же под величайшим секретом скажите ему, что десанта не будет, но нужно, чтобы турки были уверены, что он состоится».
Начальник штаба, когда я пришел доложить о полученном приказании, говорил со мной таким тоном, что можно было думать, что десант дело решенное, и я уехал в некотором сомнении, все ли ему известно относительно военных операций. Что же касается до генерала Данилова, то он только лукаво ухмыльнулся и сказал:
– Ага, наконец-то и за вас всерьез взялись, – но по выражению его лица я понял, что он-то во всяком случае все знает.
Приехав в Севастополь, я сейчас же явился к адмиралу Эбергарду и вручил ему пакет с предписанием. Я наблюдал, как лицо его по мере чтения все омрачалось более и более. Тогда я, убедившись, что нас никто не может подслушать, сообщил ему слова великого князя, и он вдруг сразу расцвел. Мы уговорились, что экспедиция будет подготавливаться без особой секретности, но и без широкой огласки, чтобы не переборщить и не заставить турок догадаться о простой демонстрации, но, конечно, шуму создалось с излишком. Св. Синод даже прислал епископа на должность судового священника на корабль «Ростислав», как говорили для торжественного освящения храма Св. Софии.
Адмирал Эбергард послал своих радиотелеграфистов – офицеров к адмиралу де Робеку,[149] командующему английскими морскими силами, действовавшими против Дарданелл, чтобы завязать прямые телеграфные сношения. Транспортная флотилия приготовилась к приему войск, и Кавказский пластунский корпус по железной дороге был доставлен в Севастополь, где и разместился частью в казармах, частью бивуаком. Вообще личный состав был убежден, что дело предстоит нешуточное, и, конечно, турки обо всех приготовлениях были осведомлены через свою агентуру.
12 апреля наша эскадра появилась впервые непосредственно перед Босфором и начала бомбардировку фортов. Турецкие батареи отвечали, но их снаряды не долетали до наших судов.
19 апреля состоялась вторая бомбардировка, и на форте Эльсам взорвался пороховой погреб, давший очень эффектный взрыв, погубивший, как потом выяснилось, много народу. На другой день бомбардировка продолжалась целый день. Наши миноносцы под вечер подошли к самому Босфору и уничтожили несколько парусных судов. Гидроавионы, которых мы, к сожалению, имели очень мало, бросали бомбы на арсенал, на мост в Золотом Роге и на некоторые правительственные здания, что вместе с слышными в городе залпами наших орудий вызвало сильную панику в населении Константинополя.
25 апреля в Черном море снова показался три месяца отсутствовавший «Гёбен». Эскадра вышла его искать, но не нашла и отправилась к Зонгулдаку, где огнем были потоплены три парохода, грузившиеся углем. 27 апреля эскадра подошла к Босфору. «Три Святителя» и «Пантелеймон» начали бомбардировку фортов, а «Евстафий» и «Златоуст» держались в море в виде поддержки и увидели «Гёбен», подходивший с востока. Сейчас же начался бой, который продолжался полчаса, пока не подошли и не открыли огонь корабли, бомбардировавшие Босфор, и тогда «Гёбен» сейчас же повернул снова на восток и быстро удалился из сферы огня. Наши суда не получили ни одного попадания, а, по донесению нашей агентуры, «Гёбен» получил четыре пробоины и израсходовал 200 снарядов крупного калибра.
На этих операциях мы и покончили с содействием нашим союзникам. Дело пошло в затяжку, и скоро стало ясно, что спешить с этим делом некуда. Очень скоро и десантный корпус был взят на Западный фронт, так что на Кавказе стали говорить, что генерал Данилов нарочно устроил всю историю с десантом, чтобы утянуть с Кавказа пластунский корпус.
За время своей последней поездки в Севастополь я с удовольствием заметил перемену настроения в городе. В начале войны все обыватели ходили с опущенными носами, а дамы – жены офицеров толпами собирались на приморском бульваре и следили за сигналами с адмиральского корабля. Они выучили великолепно наизусть все сигналы флагами, касающиеся стоянки эскадры в порту, и если поднимался утром сигнал быть в 12-часовой готовности, то это означало, что муж съедет на берег, и все лица расцветали, а если в 2-часовой, то омрачались, а наиболее слабонервные начинали плакать и ругательски ругать начальство. Среди офицеров также были нелюбители морских прогулок, и про них говорили, что они заболели новой севастопольской болезнью «гёбенит» в острой форме.
Теперь, после полугода войны, при ничтожных потерях, флот получил веру в себя, и настроение в городе было совсем другое. Повсюду были видны улыбающиеся лица, а на бульваре, как и в мирное время, процветал флирт.
Операции на фронтах с началом весны
В начале марте ко мне в Ставку явился морской офицер из Либавы, отрекомендовавшийся помощником капитана над портом (фамилию я не помню), рассказал про захват им цеппелина, опустившегося вследствие удачного обстрела противоаэропланных батарей, причем нами были взяты в плен три офицера и 24 человека команды, но самого цеппелина ввести в гавань не могли по причине его громоздкости и были вынуждены уничтожить. В заключение своего рассказа он предложил мне, не более и не менее, как с имеющимися в Либаве двумя морскими батальонами взять Мемель. Вначале я рассмеялся, но он меня уверил, что ему точно известно, что гарнизон Мемеля состоит только из двух рот ландштурмистов. Обсудивши его предложение серьезно, я все же отнесся к нему отрицательно, так как удержать Мемель с этими силами было невозможно, а в смысле уничтожения военного имущества он не представлял интереса, как был исключительно коммерческим портом.
С тем он и уехал, но не успокоился и, как оказалось, нашел сочувствие в штабе Северо-Западного фронта, но там взяли его идею, а осуществление поручили командиру ополченской бригады генерал-майору Потапову.[150] В середине марте набег на Мемель состоялся, и он был занят почти без выстрела, так как немецкие ландштурмисты отступили без боя, но через двое суток явились снова, подкрепленные уже полевыми частями. Значительная часть наших ополченцев разошлась по городу и, щедро угощаемая обывателями, напилась пьяной и не вернулась в строй при поспешном отступлении, почему генерал Потапов привел назад не более половины своего состава, потеряв всего двоих убитых и раненых. После этого в немецких газетах появилась довольно конфузное для нас описание этого дела.
На южном участке фронта в это время наши наступательные операции в Карпатах, производившиеся зимой в глубоких снегах, сильно измотали и расстроили три наших левофланговых армии. Немцы, понимавшие опасность нашего проникновения в Венгрию, сильно подкрепили австрийцев во всех угрожаемых пунктах, и продвижение вперед шло черепашьим шагом. 22 марта мы зато были обрадованы известием, что Перемышль сдался после неудачной попытки прорыва. Взято было более 100 000 пленных. Это известие подняло дух у войск. Государь, бывший в этот день в Ставке, во время благодарственного молебствия даже плакал от умиления.
Вскоре состоялась поездка государя в Галицию для смотров войскам, и при посещении перемышльских фортов произошел забавный анекдот. Генерал Воейков, дворцовый комендант, был владельцем источников минеральной воды «Куваки», с которой он ужасно носился и рекламировал. Адмирал Нилов и граф Граббе, желая подшутить, нарочно подбросили по пути государя в австрийских окопах несколько пустых бутылок характерной формы от «Куваки», и государь, сейчас же заметивши их, поздравил Воейкова с успехом его воды даже у наших врагов. После этого Воейкова долго дразнили, что он ухитряется и во время войны продавать свою «Куваку» даже неприятелям.
Не успели еще замолкнуть приветственные «ура» наших войск, встречавших государя в Галиции, как над нею разразился первый удар, знаменующий генеральное наступление немцев на Россию. 1 мая, совершенно скрытно подвезенная ударная группа Макензена, состоящая из гвардии и лучших войск, обрушилась на центр 3-й армии генерала Радко-Дмитриева.[151] В этом бою мы первый раз познакомились со всесокрушающим ураганным огнем. Удар был совершенно неожиданный, и сразу образовался большой прорыв, который так и не удалось ликвидировать, несмотря на брошенные корпуса из резерва. Началось отступление за Сан нашей 8-й армии, глубоко втянувшейся в Карпаты, но удержаться на Сане, несмотря на все меры, на усилия наших войск, нам не удалось, и отступление покатилось дальше. Приходилось подумывать об очищении всей Галиции, которую мы уже привыкли считать своею. Здесь не мешает сказать о тех ошибках, которые были сделаны нами в области гражданского управления.
Назначенный генерал-губернатором Галиции генерал граф Бобринский,[152] сам по себе человек порядочный и почтенный, не имел опыта в гражданском управлении и сильного характера, а потому и слабо противостоял давлению сверху. Ему прислали весьма сомнительные элементы для занятия низших должностей в администрации, вследствие чего развилось взяточничество и сутяжничество, а кроме того, явились тотчас во главе с епископом Евлогием[153] насадители православия, которые правдами и неправдами начали русификацию в стране, далеко еще не закрепленной за нами, что и показали дальнейшие события. Когда австрийцы вернулись на прежние места, они начали мстить перешедшим в православие, и таким образом в населении остался неприятный осадок о нашем там пребывании. Великий князь пробовал бороться с чрезмерным пылом обрусителей, но даже и ему это было не под силу, так как давление шло от министра внутренних дел Маклакова и стоящих за ним всесильных кругов.
Одновременно с сильным ударом по нашему левому флангу последовал более слабый – по правому. Здесь дело ограничилось продвижением в направлении на Митаву и Либаву сравнительно слабых немецких частей, но у нас, кроме ополченцев, ничего не было, чтобы им противостоять. Немецкая кавалерия разлилась по всей Курляндии, и генералу Алексееву спешно пришлось перебрасывать свои войсковые части, надерганные из разных мест, в угрожаемый район.
Как раз в это время я ездил по железной дороге в г. Седлец к генералу Алексееву, чтобы просить его защитить Либаву с сухого пути. Сама по себе Либава имела для нашего фланга весьма мало значения и могла служить только укрытием для миноносцев при их набегах на берега Германии, в случае преследования неприятелем, но для немцев ее удобный порт мог служить близкой и удобной базой при действии против Рижского залива.
Генерал Алексеев, которого я видел в первый раз, произвел на меня прекрасное впечатление своею откровенностью и логичностью рассуждений. Относительно Либавы он мне сказал, что для ее обороны он не может уделить ни одного солдата из полевых войск, так как, будучи оторванными от фронта, эти войска пропадут совершенно даром. Там остается только ополченченская бригада, бравшая Мемель, которая для полевой войны все равно не годится. В лучшем случае она отступит на Виндаву, а в худшем сдастся в плен. Об общем положении своего фронта он сказал, что его войска не имеют резервов, которые все направлены на Юго-Западный фронт и растянуты в ниточку. Стоит неприятелю где-нибудь нажать, и ниточка лопнет.
По счастью, немцы были систематики, и так как на очереди лежало очищение Галиции, то они его и выполняли со скоростью 7–8 верст в день, не занимаясь побочными делами, могущими дать дешевые лавры, но не существенные результаты.
С наступлением весны в Ставке изменилось и настроение. Девятимесячное сидение в вагонах, напоминавшее зимнюю спячку в берлоге, всем ужасно надоело, да и монастырская жизнь давала себя чувствовать. Нервы от постоянных неудач притупились, и захотелось личной жизни. В Ставке стали все чаще и все на больший срок появляться дамы, а некоторые и совсем переехали на жительство. В том месте, где останавливался царский поезд, был разбит цветник с клумбами и поставлена садовая мебель. По вечерам там стали собираться иностранные агенты и другая публика для разговоров. Там же образовался маленький зверинец в загородках из барсука, лисицы и красивых ручных голубей. Один из адъютантов великого князя, барон Медем, оказался великолепным дрессировщиком, и барсук стал скоро за ним ходить, как собака. Все это занимало публику, а в особенности голуби, которые садились ко всем на плечи и на головы, хотя они оставляли иногда после себя неприятные последствия.
В числе развлечений появились также теннис и городки. Младший доктор Ставки нашел, что рестораторский стол негигиеничен, и испросил у дежурного генерала разрешение устроить специальный стол для больных и при этом кормил так вкусно, что число больных увеличивалось с каждым днем. Оказалось, что он тут же в Ставке нашел повара от Кюба, некоего г. Кякшта, брата известной балерины,[154] служившего по мобилизации в телеграфной роте. Кякшт говорил, что его сестра художница в хореографии, а он в кулинарии, и хвастался, что он из одних яиц может приготовить 152 блюда.
Тот же доктор устроил для офицеров ванны, души и солнечные ванны. Вообще потребность к комфорту видимо разрасталась, и прежний суровый образ жизни постепенно нарушался. Многие переехали в комнаты в домах железнодорожной бригады, но мы, моряки, остались твердыми и продолжали жить в своих вагонах, где по-прежнему принимали своих приятелей.
Великий князь Кирилл Владимирович был еще в марте назначен командиром Гвардейского экипажа и начальником речных флотилий и уехал из Ставки в Петербург. Капитан 2-го ранга Немитц получил в командование канонерскую лодку в Черном море, а к нам прибыл на его место лейтенант Гончаров.[155]
Весна 1915 года в Балтийском и Черном морях
С наступлением весны немцы первые открыли военные действия в Балтийском море. В конце апреля несколько миноносцев вошло в Рижский залив, высадили небольшой десант на острове Руно, разрушили маяк и, забрав с собой служащих призывного возраста, удалились. К этому времени лед в заливе уже растаял, а в проливе Моонзунд начал уже быстро таять, почему и нашим миноносцам стало возможным им пользоваться. Первой была послана в Рижский залив подводная лодка «Акула», а затем и миноносцы, чтобы поставить заграждения в Ирбенском проливе.
В начале мая немцы стали усиленно тралить подходы к Либаве. Стало очевидным, что готовится атака порта с суши и с моря. 6 мая два дивизиона миноносцев вышли из Моонзунда и, несмотря на светлую ночь, благополучно, никем не видимые, поставили заграждения в разных местах вокруг Либавы. Немцы почему-то не ждали нас из Рижского залива, и их сторожевые суда – крейсер «Аугсбург» с двумя миноносцами – встретились с нашей крейсерской бригадой, вышедшей из Финского залива для отвлечения неприятеля. После нескольких выстрелов немцы спешно удалились.
Либава была занята немцами 8 мая после бомбардировки с моря и одновременной атаки с суши. Как и думал генерал Алексеев, сопротивление было оказано весьма слабое, но все же значительная часть гарнизона благополучно отошла на север к Виндаве. На вновь поставленных нами заграждениях взорвались два неприятельских миноносца.
20 мая был день траура нашего флота. Скончался в Ревеле от воспаления легких доблестный адмирал фон Эссен. Болезнь началась с чистой простуды, на которую он не обратил внимания, но через три дня эта простуда свела его в могилу. Видимо, его здоровье было сильно подорвано непосильными трудами года войны, и сердце не выдержало высокой температуры.
Адмирал Николай Оттович фон Эссен родился в 1860 году. Морской корпус он окончил первым и после того, уже будучи офицером, окончил Морскую академию и Артиллерийский офицерский класс. Мне лично пришлось с ним встретиться впервые, когда мы оба были назначены в 1892 году в дальнее плавание на крейсере «Адмирал Корнилов», он старшим артиллерийским офицером, а я мичманом. Это было превеселое плавание, продолжавшееся три года. Николай Оттович был душой кают-компании. Всегда веселый и жизнерадостный, он был вечно окружен мичманами и назывался мичманский старшина. Он был первым заводчиком всех мичманских проказ, никогда не отказывался от кутежей на берегу и тем не менее держал в большом порядке свою часть, а потому был любим и начальством. Однако мы в то время никак не предполагали, что среди нас танцует негритянскую джигу будущий наш знаменитый флотоводец. Николай Оттович никогда не был карьеристом и продвигался в чинах строго по линии, не обходя никого. Выдвинулся он только во время японской войны, командуя небольшим крейсером «Новик». В первый же день войны, при первой атаке эскадрой адмирала Того крепости Порт-Артур, «Новик» единственный атаковал японскую эскадру, подойдя к ней на 20 кабельтовых, и, несмотря на серьезные повреждения, преследовал ее при отходе от крепости. С этого времени известность его все растет. В нем обнаружилась душа воина и начальника, что составляет удел немногих избранных натур. В Порт-Артуре уже он получает в командование броненосец «Севастополь», и это единственный большой корабль, который не был затоплен в порту и потом не поднят японцами. «Севастополь» накануне сдачи крепости стоял на наружном рейде и выдерживал постоянные атаки японских миноносцев. Будучи атакован двумя минами, он вышел в море и затонул на большой глубине.
Вернувшись в Россию, Николай Оттович вступил в командование 20-м экипажем и во время беспорядков в Кронштадте один из немногих сумел удержать экипаж в повиновении.
В 1906 году он был назначен начальником минной дивизии, и с этого времени можно считать, что русский флот начал свое возрождение. Вокруг молодого и популярного адмирала сгруппировались все, что было талантливого в строевом флоте. Он приучил своих командиров ходить по шхерам без лоцманов и сумел отстоять перед начальством отмену правила, которым командиры отдавались под суд за малейшие аварии их судов. Живой и беспокойный, он всегда и везде поспевал и не давал никому напиться. Я при нем командовал миноносцем два года, начиная с его вступления в должность, и живо помню, что из себя представляли эти корабли вначале и потом. Вначале считалось доблестью управлять миноносцем как большим, чуть ли не на буксире входя в гавань. Адмирал Эссен смотрел на миноносцы как на шлюпки, несмотря на то, что они уже тогда доходили до 700 тонн водоизмещения. Спустя год после начала его командования миноносцы целыми дивизионами входили, почти не уменьшая хода, в гавань и там одновременно швартовались к стенам и также одновременно выходили из гавани, причем сильно доставалось опоздавшему. На маневр, требовавший ранее часа и более, теперь выходило десять минут. Личный состав, ранее смотревший на съемку с якоря как на событие, чувствовал себя, по выражению адмирала Макарова, «в море – значит дома». Я сам помню, что, когда командовал миноносцем «Гремящий», у меня был такой месяц, когда в вахтенном журнале была записана съемка с якоря 35 раз.
В 1908 году адмирал Эссен был назначен начальником морских сил и мог еще более расширить свою деятельность по подготовке флота к войне. Это был наиболее блестящий период в русском возрождении флота, несмотря на его еще слабые материальные средства, когда два наиболее талантливых начальника, кстати сказать, недолюбливавших друг друга, адмирал Григорович на берегу и адмирал Эссен на море, работали над его созиданием материальным и духовным.
Адмирал Эссен умер, но память о нем не умрет. Она будет жить до тех пор, пока будет существовать русский флот, т. е. Россия.
Тем временем в Черном море операции шли своим чередом. В начале марта при содействии броненосца «Ростислав», бомбардировавшего тылы турецких позиций, была нашими войсками занята операционная база левого фланга турецкой армии – порт Хопа. К 1 апреля число уничтоженных турецких пароходов дошло до 38 и до 200 парусных судов. 24 марта турецкие крейсера «Гамидие» и «Меджидие» в сопровождении двух миноносцев вошли в Одесский залив, вероятно, с целью бомбардирования города, но «Меджидие» попал на наши заграждения и потонул на небольшой глубине. Команда была спасена другим крейсером и миноносцами, которые поспешно ушли. «Меджидие» вскоре был поднят нами, отремонтирован и вступил в строй под именем «Прут».
5 мая наши миноносцы произвели большой налет на весь угольный район, причем уничтожили 4 парохода, 2 буксира и 20 парусных судов. Это показывает, как велика была нужда в топливе в столице Турции. В последнее время турки стали применять перевозки угля на баржах, буксируемых маленькими пароходами, потому что, идя под самым берегом, они были мало заметны, но погода не всегда позволяла этот способ передвижения.
7 мая морской десант был высажен нами в бухте Эрегли. Турецкий гарнизон оказал сопротивление, но был отброшен огнем с миноносцев, и наши подрывные партии разрушили декавильку[156] и краны для быстрой погрузки угля. Мы потеряли всего трех человек ранеными. 18-го большой турецкий пароход, преследуемый нашим миноносцем, был вынужден выброситься на берег и был взорван миной. В этот день германское радио оповестило весь мир, что наш броненосец «Пантелеймон» погиб вблизи Босфора вместе со всем своим экипажем, хотя «Пантелеймон» и все другие корабли спокойно стояли в это время на якоре в Севастополе.
30 мая ночью миноносцы «Гневный» и «Дерзкий» предприняли поиск к Босфору. Ночь была темная, и они встретились с «Бреслау» почти вплотную. «Бреслау» зажег прожектор и открыл огонь по «Гневному», причем сразу попал ему в машину и тем поставил в беспомощное положение, но в это время «Дерзкий» зашел «Бреслау» под корму и открыл почти в упор огонь из своих орудий. Кормовые пушки «Бреслау» были сейчас же сбиты. Он пробовал развернуться бортом, но «Дерзкий» маневрировал так, чтобы держаться у него под кормой, и вел самый интенсивный огонь, вследствие чего «Бреслау» был вынужден потушить прожектор и скрыться в темноте. «Дерзкий» искал всю ночь «Гневного» и нашел его только утром, все в том же беспомощном состоянии, взял на буксир и привел благополучно в Севастополь. На «Гневном» были ранены один офицер и шесть матросов, а на «Бреслау», как потом оказалось, убит командир и 12 матросов, а ранено 40.
В иностранных морях весной 1915 года не произошло ничего особенного. Немцы вели подводную блокаду Англии и Франции, и по мере увеличения числа немецких подводных лодок ежемесячно подсчитываемый тоннаж погибших судов все увеличивался. В особенности много шума вызвало потопление без предупреждения двух больших пассажирских пароходов «Лузитания» и «Арабик». На первом погибло более 1100 пассажиров. А на втором около двухсот. Это вопиющее преступление вызвало такой взрыв негодования в Соединенных Штатах, что объявление войны с их стороны висело на волоске, и Германия была вынуждена объявить, что впредь пассажирские пароходы без предупреждения не будут обстреливаться минами.
Лето 1915 года на сухопутном фронте
Лето 1915 года можно охарактеризовать как период генерального отступления нашей армии на всем фронте. Назначались рубежи, которые войска должны были удерживать, но армия уже приобрела инерцию и остановить ее не было возможности. Вступление в коалицию Италии нисколько не облегчило наш фронт, так как австрийцы взяли против нее войска главным образом с Сербского фронта, а союзники собрались нам помочь тогда, когда немцы уже дошли до намеченного ими рубежа.
В это тяжелое время особенно давали себя чувствовать три бича. Первый – это необычайно разросшееся дезертирство и добровольная сдача в плен. За период нашего отступления мы потеряли пленными, по мнению компетентных лиц, свыше миллиона человек, причем 25 процентов от этого числа приходится на сдавшихся добровольно. Вероятно, почти такое же количество было и дезертиров. Мне самому пришлось наблюдать толпы солдат на железнодорожных станциях, расположившихся как у себя дома. Когда я спросил начальника станции, что это за люди, он мне откровенно сказал, что это дезертиры, которые боятся ехать домой, чтобы их там не арестовали, и они проводят время, кочуя с одной станции на другую. С вопросом о дезертирах удалось справиться только после стабилизации нашего фронта, когда благодаря принятым строгим мерам станции быстро опустели.
Второй бич была эвакуация. Она носила крайне беспорядочный характер. Можно было заключить одно. Или директивы относительно эвакуации не носили достаточно полного характера, или они не выполнялись. Эвакуировалась масса частной мебели и ненужных предметов, а военные склады сжигались, так как их отправлять не успевали. Залежи и пробки образовались на всех главных узлах, и такое положение продолжалось месяцами. Не было указаний, куда что эвакуировать, и потому нужные вещи завозились чуть что не в Сибирь. Еще хуже дело обстояло с эвакуацией беженцев и скота. С вопросом об эвакуации живого материала были все время колебания.
Одно время существовала тенденция применить к немцам скифскую стратегию. Сжечь весь хлеб на полях, разрушить все и вся и оставить между нами и немцами голую пустыню. В этом смысле даже были отданы приказания, но когда коснулось до их выполнения, то это вызвало такое сопротивление у населения, что пришлось от этих мер отказаться. Ограничились поощрением волны беженцев, с которыми пришлось потом много хлопотать, и отправкой скота вовнутрь России. Скот собирался большими стадами, и они перегонялись на восток. К этому делу присосалась масса недобросовестного элемента. Кормов действительно по пути их следования заготовлено не было, вследствие отсутствия организации, но на самом деле, благодаря времени сбора урожая, корм все же можно было доставать, но заправилы этого дела предпочитали показывать скот погибшим от бескормицы, с составлением надлежащих актов, а на самом деле он по пути продавался местному населению по дешевой цене. На этом деле наживались большие состояния, а скот все равно доставался неприятелю. Начальство все это знало, но законных мер применить не могло, так как требовались дознания и следствия, а страна быстро переходила в руки противника.
Третий бич был отсутствие боевого снабжения. Не было снарядов, пулеметов, винтовок, патронов, повозок и стало уже не хватать и лошадей. Вначале думали, что война долго не продлится и мы обойдемся с боевым неприкосновенным запасом. В начале 1915 года, когда выяснился огромный расход боевого материала, мы приступили к усилению заводов, уже в мирное время работавших на военное ведомство, и только с марта того же года, когда катастрофа снабжения уже надвинулась, стали подумывать о мобилизации промышленности. По-настоящему дело началось только в мае, когда были учреждены Особое совещание по обороне и военно-промышленные комитеты. Эти реформы начали давать ощутительные результаты только к концу года, а весь летний период нашего отступления прошел при самых тяжелых условиях нехватки во всем.
В связи с отступлением у нас в Ставке все чаще и чаще между офицерами велись разговоры о внутреннем положении России. Я не раз говорил с гг. Янушкевичем и Даниловым на эти темы, и они вполне разделяли мои опасения.
В июле месяце благодаря настояниям великого князя были назначены три новых министра из общественных деятелей: князь Щербатов,[157] Шипов[158] и Самарин.[159] Военным министром назначен популярный в думских кругах Поливанов.[160] Все это казалось шагом по сближению с обществом и горячо приветствовалось в Ставке. Все как-то повеселели и стали думать, что все беды скоро окончатся и опять снова все пойдет по-хорошему. Погода в это лето стояла чудная. Так приятно было гулять по лесу и хотя на время отрешиться от мрачных мыслей, вызываемых действительностью. Мы разбили перед нашим вагоном наш собственный морской цветничок, у каждого была своя клумба, о которой он и заботился, что вызывало соревнование и давало повод к остротам и даже к мелким ссорам между собой. Так один обвинял другого, что тот нарочно не поливал его клумбу во время командировки на несколько дней.
В это тяжелое время мы, моряки, сделались в Ставке персонами грата. Только мы и давали утешительные сведения. Когда составлялся бюллетень для выпуска в печать, прежде меня всегда просили составить морской отдел возможно короче. Теперь же с большим удовольствием помещали сведения о всех парусных судах, безжалостно уничтожаемых Черноморским флотом. Великий князь Георгий Михайлович,[161] имевший дворец на кавказском побережье, мне в шутку говорил:
– Вы всех моих турецких рыбаков перетопите; у кого же я буду рыбу покупать.
Выше всего наши фонды стояли, впрочем, тогда, когда немцы прорвались в Рижский залив и в Ставке была получена неверная телеграмма о десанте в Пернове. Тогда была спешно двинута гвардия для защиты путей на Петроград, но когда немцы ушли из залива с большими потерями и все было возвращено обратно, то нас чуть не на руках носили.
Лето 1915 года в Балтийском море
Вместо адмирала фон Эссена 25 мая был назначен вице-адмирал В. А. Канин. При вынужденном оборонительном способе действий нашего Балтийского флота этого назначения нельзя было не приветствовать. Адмирал Канин был очень рассудительный, спокойный и опытный моряк. Он не имел в своем характере порыва, но можно было быть спокойным, что он не поставит флота в рискованное положение без крайней необходимости. К тому же флот жил заветами адмирала Эссена, а недостающий в командовании порыв олицетворялся начальником оперативной части капитаном 1-го ранга Колчаком.
С вступлением немцев в Курляндию и занятием Либавы стала все более ощущаться деятельность противника на море. Над Рижским заливом появились неприятельские аэропланы и цеппелины, которые сбрасывали бомбы на наши суда, но, по счастью, попаданий не было, хотя бомбы падали и близко. Наши суда, не имевшие в то время противоаэропланной артиллерии, выработали довольно искусные способы маневрирования, затруднявшие попадания бомб.
Около входа в Рижский залив стали появляться и неприятельские крейсера и миноносцы. 1 июня маленькая старая подводная лодка «Окунь» вышла из залива и встретила большую немецкую эскадру, причем «Окунь» подошел так близко к головному кораблю, что тот заметил его и склонился, чтобы ударить тараном. «Окунь» спешно выпустил две мины и опустился под воду, чтобы избегнуть потопления, но все же прочертил по дну прошедшего над ним броненосца и согнул свой перископ под прямым углом. На «Окуне» ясно слышался взрыв, указывающий, что мина попала в цель. С большим трудом ему удалось отойти на приличную дистанцию от неприятеля, чтобы всплыть, осмотреться и затем вернуться восвояси. Как потом оказалось, был подорван флагманский корабль адмирала Гофмана типа «Кайзер», но ему удалось задним ходом дойти до Данцига, где он был введен в док.
В первых числах июня потонул близ маяка Оденсхольм наш минный заградитель «Енисей». Его потопила подводная лодка U26, та же, что потопила «Палладу». «Енисей» держался на воде не более 8–10 минут. Миноносец «Рьяный», бывший невдалеке, через 20 минут был у места гибели, но успел подобрать только одного старшего механика и 20 матросов. Более 200 человек погибло вследствие холодной воды. Командир заградителя капитан 1-го ранга Прохоров все время стоял на мостике и в последний момент запел гимн, подхваченный командой.
7 июня английская подводная лодка Е9 отомстила за «Енисей» и потопила в море немецкий большой угольный транспорт и грузивший около него уголь миноносец.
27 июня два дивизиона наших миноносцев были высланы на разведку к Виндаве и на возвратном пути имели бой с двумя немецкими крейсерами типа «Бремен», окончившийся безрезультатно для обеих сторон.
1 июля вышла в море наша первая крейсерская бригада в составе крейсеров «Боян», «Адмирал Макаров», «Богатырь» и «Олег» под флагом контр-адмирала Бахирева. К бригаде были еще присоединены крейсер «Рюрик» и эскадренный миноносец «Новик». Цель похода была бомбардировка Мемеля и захват сторожевых судов противника. Во время похода в густом тумане «Рюрик» и «Новик» отделились от бригады, а потом разлучились и друг с другом. На рассвете 2 июля адмирал Бахирев получил телеграмму от начальника службы связи и указания его о месте неприятельских крейсеров и, отставив бомбардировку Мемеля, сейчас же пошел к ним навстречу, отдав приказание по радио «Рюрику» присоединиться к нему.
Пройдя мимо маяка Эстергарн на острове Готланд, бригада увидела при мглистой погоде пять неприятельских судов, идущих навстречу. При ближайшем рассмотрении это оказались крейсер «Аугсбург», заградитель «Альбатрос» и три миноносца. Увидя нашу бригаду, неприятель сейчас же повернул к северу и пробовал уйти, но «Альбатрос», видимо, не имевший большого хода, стал отставать и попал под сильный огонь наших судов. Крейсер «Аугсбург» сначала храбро защищал своего товарища, но, получив несколько попаданий, решил предоставить его собственной участи и, дав полный ход, быстро удалился из боя. Миноносцы также сделали попытку спасти «Альбатрос» и, выпустив дымную завесу, совершенно его скрывшую, храбро пошли в атаку на наши бронированные крейсера, выпустив мины с 25 кабельтовых. Мины прошли близко от наших судов, но ни одна не попала. Оставленный на произвол судьбы «Альбатрос», весь избитый, однако, все же имел возможность двигаться и выбросился на берег почти около самого маяка.
Не имея возможности преследовать его в шведских водах, адмирал Бахирев прекратил огонь, взял курс на север и очень скоро увидел еще двух неприятелей, один из коих был сильный броненосный крейсер «Роон». Сейчас же завязался новый бой. Опасаясь, что вслед за «Рооном» появятся новые силы, предупрежденные о нашем появлении в немецких водах, адмирал хотел заманить его далее на север, а потому приказал дать полный ход и стал понемногу увеличивать расстояние, но «Роон» не последовал за ним и повернул обратно.
Очень скоро он встретился с «Рюриком», идущим с юга, и вступил с ним в бой, но, получив несколько повреждений, быстро удалился. «Рюрик» и «Новик» скоро присоединились к бригаде, и все вместе благополучно вернулись в Ревель. При входе в Финский залив бригада подверглась атаке подводной лодки, но высланный для охраны дивизион миноносцев был уже на месте и хорошо выполнил свое назначение. Миноносец «Внимательный», будучи головным и заметив лодку, сейчас же бросился ее таранить, что ему и удалось. Он получил небольшие повреждения руля, и слегка была вогнута обшивка.
Разбирая это сражение, нельзя не сказать, что оно, несмотря на наш видимый успех, носило несколько конфузный характер. Успех наш выражается в том, что мы уничтожили заградитель и повредили два крейсера. С другой стороны, выяснились следующие недочеты. Суда эскадры не выказали должной тренировки, разойдясь во время тумана друг с другом. Оправданием до некоторой степени, впрочем, служит, что и «Новик», и «Рюрик» не принадлежали к составу бригады и привыкли ходить не в строю, а одиночным порядком. Бой в продолжение почти одного часа четырех кораблей с одним показывает, что стрельба сосредоточенным огнем по одному противнику была у нас очень плохо разработана. Несомненно, что любой из кораблей бригады, сражаясь один, достиг бы тех же результатов в 10–15 минут времени. Корабли безусловно мешали один другому. Наконец, «Роон» был нами несомненно упущен, оказавшись между бригадой и «Рюриком». Не выказали ли мы себя в этом деле чересчур осторожными?
Здесь уместно сказать несколько слов о стрельбах вообще. Мы выработали наш способ стрельбы, совершенно самостоятельный, только после Японской войны. Он базировался исключительно на пристрелках, и дальномеры у нас употреблялись только для начального ориентирования артиллерийского офицера. Немцы, наоборот, руководствовались при стрельбе, главным образом, дальномерами и благодаря этому сразу достигали хороших результатов, но когда, вследствие сотрясений корпуса корабля в бою от своей стрельбы и разрывов неприятельских снарядов, дальномеры расстраивались, стрельба начинала терять свою мощность, чего у нас не замечалось. Наш способ имел несомненные преимущества в бою с одним противником, а немецкий при сосредоточенном огне. Надо еще принять во внимание, что немецкие дальномеры были гораздо более совершенными, чем наши.
2 июля английская подводная лодка Е9 подорвала немецкий броненосец «Поммерн», но он благополучно дошел до порта.
15 июля наши войска оставили Виндаву, а 18-го неприятель уже ее занял. Чувствовалось, что приближаются решительные действия против Рижского залива. Неприятельские миноносцы часто подходили ко входу в залив и вступали в перестрелку с нашими охранными судами. Мы смогли противопоставить вторжению неприятеля только минное поле, защищенное слабым огнем 4-дюймовых и 3-дюймовых пушек наших миноносцев. Ясно, что неприятелю ничего не стоило отогнать нас орудиями крупного калибра, протралить себе проход и проникнуть в залив.
Чтобы как-нибудь помочь горю, командующий флотом решил ввести в Рижский залив старый линейный корабль «Слава», но это был паллиатив, так как 12-дюймовые орудия «Славы» не могли состязаться в дальности с немецкими орудиями новых кораблей. 1 августа «Слава» была введена под прикрытием двух дредноутов, которые в первый раз с разрешения Ставки вышли в море. Все обошлось благополучно. Пока «Слава» с тральщиками и миноносцами входила в Рижский залив, дредноуты крейсировали на параллели Виндавы и ушли только тогда, когда операция окончилась.
Наконец 9 августа к Ирбенскому проливу подошел целый немецкий флот в составе броненосцев, крейсеров, миноносцев и тральщиков, всего не менее 50 вымпелов, и приступил к тралению. Когда тральщики начали приближаться, то к позиции подошла «Слава» и открыла огонь, но ее снаряды не долетали. Ей сейчас же начали отвечать два немецких корабля типа «Дейчланд», и их снаряды начали великолепно ложиться около нее.
Чтобы помочь горю, дали ей крен в пять градусов, но из-за этого она могла стрелять только одним бортом, и броня этого борта, выйдя из воды, обнажила для неприятельского огня существенные части корабля, при нормальной осадке прикрытые водой. После часового боя «Слава» получила семь попаданий и должна была удалиться, чтобы не быть потопленной. С наступлением вечера траление прекратилось, и неприятель отошел на ночь. Видимо, он встретил большие препятствия, чем ожидал, потому что наша связь перехватила его донесение о том, что он встретил сильное сопротивление, а также потому, что вторая попытка форсирования залива совершилась только 18 августа. Вероятно, нужно было сделать новые приготовления и организовать новые средства.
Мы воспользовались передышкой, чтобы вновь закидать минами протраленные места, причем были проложены так называемые вахтенные мины, о существовании которых неприятель еще не знал. Это приспособление состояло в том, что вытраленная мина заменялась новой, которая автоматически поднималась со дна моря и становилась на место старой.
18 августа с раннего утра неприятель в больших силах начал свою работу. Колонна состояла не менее как из 25–30 тральщиков, шедших фронтом около одной мили шириной, далее следовали миноносцы, крейсера и, наконец, линейные корабли. Около полудня голова колонны настолько приблизилась, что стоило было подошедшей «Славе» открыть огонь, но в ответ посыпался целый град снарядов с дредноута, который в этот раз оказался в составе колонны. Засыпанная снарядами, «Слава» должна была быстро отступить, и работа неприятеля продолжалась беспрепятственно. К ночи неприятель прошел уже значительную часть пути и на другой день возобновил свои действия. Два неприятельских миноносца, однако, успели прорваться в залив и имели перестрелку с нашими сторожевыми миноносцами, но противники в ночной темноте быстро потеряли друг друга. На рассвете 19 августа их заметил вступивший в дозор «Новик» и немедленно открыл по ним огонь.
Неприятель, имевший превосходство в силах, принял бой, который продолжался всего 17 минут. Один миноносец должен был, чтобы не потонуть, выброситься на берег, а другой с тяжелыми повреждениями и большими потерями с трудом добрался до Виндавы, где и получил первую помощь.
Это дело было хоть и маленького масштаба, тем не менее делает большую честь личному составу «Новика». Будучи в полтора раза слабее своих противников (четыре орудия 4-дюймового калибра против шести таких же), он в короткий срок вывел из строя обоих, и можно сказать, что его командир капитан 2-го ранга Беренс[162] и артиллерийский офицер лейтенант Федотов[163] вполне по праву заслужили полученные ими Георгиевские кресты.
К вечеру 19 августа неприятель закончил свои работы и 20-го числа вошел в залив. Наши суда отошли к Моонзунду, чтобы, действуя во фланг и тыл немцам, ведущим операции против России, по возможности отравлять им существование.
В ночь на 21-е наши маленькие канонерские лодки «Сивуч» и «Кореец», стоявшие в устье Двины, по чьему-то распоряжению были также отправлены в Моонзунд и встретились с немецким крейсером «Аугсбург» и двумя миноносцами. «Кореец» успел скрыться в темноте, а «Сивуч» был окружен и после жестокого боя потоплен неприятелем. «Кореец», идя к Моонзунду, потерял свое место и сел на мель, но ему удалось сняться своими средствами, и он укрылся в небольшой бухте вблизи Пернова.
На другой день неприятель бомбардировал Пернов и командир «Корейца», видя приближавшиеся дымы, затопил свое судно, свезя команду на берег. Это оказалось совершенно ненужным, так как неприятель его не заметил, и вообще вся эта история с канонерскими лодками носила бестолковый характер. Это были слабенькие тихоходные суда, но все же неприятно терять и такие, раз они не выполнили своего боевого назначения.
21 августа неприятель неожиданно для нас покинул Рижский залив. Как потом оказалось, неприятель потерял на минах семь тральщиков, три миноносца и один легкий крейсер, и, кроме того, оказались подорванными дредноут «Мольтке» английской подводной лодкой Е1, легкий крейсер нашей подводной лодкой «Акула» и еще один легкий крейсер на минах. Наши вахтенные мины, видимо, смутили и привели в унынье немцев, не могших понять, каким образом хорошо протраленные пространства снова оказываются минированными. Мы потеряли только «Сивуча» и «Корейца», как оказалось, из-за неуместной пунктуальности командира Рижского порта, исполнившего распоряжение штаба флота, когда его уже нельзя исполнять.
Другая конфузная история произошла в Пернове. Туда явились 20 августа два легких крейсера и несколько миноносцев, обстреляли порт и неизвестно с какой целью затопили при входе три парохода с камнями, после чего благополучно ушли. Это незначительное происшествие было раздуто местным комендантом в грандиозную высадку десанта и бой с ним, что повлекло сплошную посадку гвардии в вагоны для выручки угрожаемого Петрограда, по счастью отмененную после извещения об уходе немцев из залива.
К сожалению, подобные реляции были у нас в армии частым явлением и, кажется, виновник вышеописанной нисколько не пострадал.
Вскоре после этих событий я ездил в Ревель для согласования некоторых вопросов в Балтийском и Черноморском флотах. Я был у адмирала Канина на «Кречете» и у него обедал. Он рассказывал о событиях в Рижском заливе и был очень доволен действиями минной дивизии. Вопросом о подводных лодках он не очень беспокоился и находил, что при большом ходе и надлежащей охране подводные лодки не страшны.
В Ревеле я также видел адмирала Непенина,[164] который приобрел популярность прекрасной постановкой дела службы связи, чему наш флот много обязан своими успехами. В оперативном отделении мне показывали карты [неразборчиво] глубин Балтийского моря, по которым ходили наши крейсера на вылазки и где вследствие большой глубины не могло быть мин заграждения. Благодаря этим мерам наши суда ни разу не подрывались в море, но как раз во время моего пребывания в Ревеле было получено известие, что заградитель «Ладога» наткнулся на мину в наших шхерных фарватерах. Это дело, несомненно, было работой подводных заградителей, идею которых немцы заимствовали у нас, так как мы еще до начала войны начали строить в Черном море подводный заградитель «Краб». «Ладога» была посажена своим командиром на мель, и вся команда осталась на ней целой.
Лето 1915 года в Черном море
В Черном море за лето 1915 года не произошло никаких выдающихся событий. 2 июля подводная лодка «Морж» потопила у Босфора пароход, два больших парусника и заставила выброситься на берег буксир с двумя угольными баржами. С тех пор как в строй вступили три больших подводных лодки, получилась возможность держать беспрерывную блокаду Босфора, где лодки чередовались через каждые 10 дней. 4 июля эскадра бомбардировала Зонгулдак, батареи которого безрезультатно отвечали на наш огонь.
10 июля только что закончивший испытания наш заградитель «Краб» поставил минные заграждения в самом Босфоре, и через три дня на них подорвался крейсер «Бреслау».
12 июля вступил в строй наш первый черноморский дредноут «Императрица Мария». Он вышел из Николаева на буксире в Одессу и оттуда под прикрытием всего флота под своими машинами пришел в Севастополь. Там ему сделали торжественную встречу. С его прибытием мы сделались вдвое сильнее, но тем не менее преимущество осталось за «Гёбеном», так как скорость его хода превышала скорость «Марии» на 7 узлов. Поймать его все-таки не было возможности.
16 июля два наших миноносца потопили на пути в Босфор три парохода и несколько барж – все с углем. В тот же день подводная лодка «Морж» под огнем турецких батарей уничтожила и сожгла 9 парусных судов, также с углем.
17 июля подводная лодка «Нерпа» потопила у Босфора пароход с углем.
14 июля было снова бомбардирование Зонгулдака. В тот же день между Босфором и Константинополем потоплены миноносцами два парусных судна с керосином.
20 июля наши миноносцы нашли у берегов Анатолии скрывавшийся караван из 50 парусников – судов с припасами для турецкой армии. Весь караван был сожжен.
24 июля наши миноносцы заметили турецкий кавалерийский лагерь, расположившийся недалеко от берега в Кара-Бурну. Когда миноносцы открыли огонь, поднялась страшная паника, и лошади поскакали во все стороны от коновязи. По сообщениям агентов, турки понесли большие потери как в людях, так и в лошадях.
25 июля в угольном районе уничтожено около сорока парусных судов с углем.
27 и 28 июля миноносцы обошли всю Анатолию от Босфора до Трапезунда, причем уничтожено до 150 парусных судов.
30 июля миноносцы под самой батареей Килия у Босфора уничтожили минами стоящий пароход и, несмотря на жестокий огонь, не понесли никаких повреждений.
После этой громадной угольной гекатомбы турки совершенно отказались от перевозки угля морем и стали возить его гужевым способом, что, конечно, требовало громадной затраты труда и денежных средств. Также за большие деньги покупался уголь в Болгарии.
В Немецком море за лето не произошло ничего особенно значительного, кроме мелких стычек и потопления подводными лодками отдельных военных и коммерческих судов. Следует отметить вошедшие в привычку налеты цеппелинов на Англию, отчего страдали почти исключительно мирные жители. За 19 налетов, совершенных в течение лета, иногда по нескольку цеппелинов за раз, всего было 197 убитых и 421 раненый. В начале цеппелины терроризировали население, но потом к ним привыкли. Этот способ борьбы, по-видимому, нельзя назвать продуктивным.
С вступлением Италии в коалицию началась довольно оживленная борьба на Адриатическое море, и первые результаты были не из удачных для Италии. Она потеряла несколько легких крейсеров и миноносцев, главным образом от подводных лодок противника.
Осень на сухопутном театре военных действий
Оставление немцами Рижского залива после того, как они туда уже прорвались, следует объяснять не столько понесенными ими потерями, сколько изменением стратегического плана. Первоначально они, вероятно, предполагали занять Ригу и Двинск и остановиться на несколько десятков верст впереди, чтобы использовать Западную Двину как удобную коммуникационную линию. Стратегические условия коммуникации через Рижский залив ими, вероятно, не были точно изучены. Когда же они убедились, что для безопасности коммуникации необходимо прочно занять острова Эзель и Даго и держать большие морские силы как в заливе, так и в море, чтобы парировать наши удары из Моонзунда и с севера, от Финского залива, то, вероятно, решили, что игра не стоит свеч, тем более что у них уже назревал план активных действий в море против Англии, а потому все суда была на счету. Этим и объясняется, что Рига и Двинск остались в наших руках.
В это же приблизительно время на юге мы перешли в контрнаступление и одержали победу над австрийцами, взяв много пленных. Таким образом, на флангах немецкого наступления произошла остановка, и только центр все время продвигался. Мы возлагали большие надежды на фронт Ковно, Гродно,[165] Брест,[166] сильный этими тремя укрепленными пунктами, но падение Ковны[167] после трехдневного штурма разрушило эти надежды, и мы покатились дальше.
Надлежало подумывать и о переносе Ставки в более удаленное место. В начале августа были посланы квартирьеры в Борисов, Смоленск и Могилев, но, не зная, сколько еще продвинутся немцы, наметили уже следующий этап – Тверь или Калуга. Выбран был Могилев, как небольшой город, удобный для расположения штабов и охраны Ставки. За две недели до отъезда наш поезд послан был сделать пробег в Слоним, так как оси вагонов за время почти годичной стоянки заметно подзаржавели. Это было своего рода развлечением, так как мы там прогулялись по живописной местности вдоль берега реки.
Последние дни в Барановичах были очень грустные. Стояла прекрасная погода, и как там в общем ни было скучно, но все же покидать старое и привычное всегда тяжело. Конечно, настроение было бы совсем другим, если бы предстояло двигаться на запад, а не на восток. За несколько дней до отъезда около 2 часов дня нас всех всполошили несколько пушечных выстрелов. Мы все выскочили, ничего не понимая. Оказалось, что это прилетел из Новогеоргиевска наш аэроплан, привезший известие о безнадежном состоянии крепости.
Наконец 20 августа мы тронулись в путь, как и приехали сюда, пятью эшелонами. Наш вагон следовал в эшелоне дежурного генерала. Что нас ожидало в будущем? Большинство смотрело скептически и считало, что Могилев это только промежуточный пункт и мы скоро поедем дальше. Также мы думали и про Барановичи, когда ехали туда. Когда я первый раз въехал в Могилев на извозчике, направляясь в отведенное мне помещение, у меня явилось предчувствие, что здесь будет и конец войны. Самое название Могилев мне показалось символическим – это могила разбитых надежд.
Утром на следующий день меня разбудил колокольный звон. Мы так отвыкли от него в Барановичах, что он производил удивительно приятное впечатление, и мое мрачное впечатление понемногу рассеялось. Далее я с удивлением заметил, что спать на удобной мягкой кровати гораздо приятнее, чем на жестком вагонном диване. Мне отвели большую светлую комнату с удобным письменным столом и видом на площадь. Наше управление помещалось все вместе, и даже была еще общая комната, из которой мы сейчас же сделали кают-компанию для приема гостей. У подъезда нашего дома мы поставили садовую скамейку, которая получила название завалинки и куда приходили на беседу гости из всех управлений. Сейчас же за нашим домом, который раньше изображал из себя окружной суд, начинался маленький городской сад, расположенный над самым берегом Днепра. Вид оттуда был чудесный, и самый садик очень симпатичный и удобный для прогулок. Наш дом стоял на небольшой площади, на которую также выходили губернаторский дом, где поместился великий князь с начальником штаба и ближайшей свитой. Рядом с домом губернатора, в губернском правлении, разместилась квартирмейстерская часть, а еще дальше, в казенной палате, военные сообщения. Дежурный генерал со своим управлением занимал большую часть нашего дома. Общая столовая поместилась в бывшем кафе-шантане, где остался бильярд, и офицеры, любители этой игры, могли сколько угодно упражняться. Игроки в складчину завели даже маркера.
Жизнь в Могилеве сразу приняла совершенно другой характер, чем в Барановичах. Это был хотя и небольшой город, но все же губернский, с 40-тысячным населением, причем одна треть была евреи. В городе была одна хорошая улица, много приличных домов, красивый собор, построенный Растрелли, и даже музей, где было собрано много предметов, относившихся ко времени церковной унии с католиками. В губернаторском доме, между прочим, жил некоторое время маршал Даву[168] во время похода на Россию.
В Барановичах мы жили очень скучно, но все же общей семьей, а здесь, в большом городе, все куда-то рассыпались. В городе была своя интеллигенция, и сейчас же завелись знакомства. Начался флирт с местными дамами, а более практичная молодежь занялась местными еврейками, которые, кажется, были очень этим довольны. Служба, я думаю, от этого не выиграла, и шпионство, как это и показало будущее, значительно облегчилось. В Барановичах про всякого офицера было известно все, а здесь, за дверями канцелярии, можно было заниматься чем угодно. Этим и объясняется, что в Ставке мог почти целый год состоять заведомый шпион, и никто об этом не подозревал.
Окрестности Могилева были очень живописные. Мы с Даниловым завели обыкновение с 4 до 6 часов ездить на прогулку в автомобиле, собирали грибы, которых было великое множество и которые шли на закуску в Морском управлении. Одной из любимых прогулок была старая мельница на поле сражения Даву с Раевским в кампанию 1812 года.[169] Там стоял памятник, воздвигнутый недавно исторической комиссией с надписью, именующей все наши воинские части, участвовавшие в бою. Генерал Данилов, хорошо знавший это сражение, рассказывал мне, где и какие войска стояли, и весь ход маневров.
С самого приезда в Могилев в Ставке пошли слухи о грядущих переменах, но потом они затихли, и казалось, все пойдет по-старому, но вот однажды, когда я пришел с обычным докладом к генералу Янушкевичу, он мне вдруг сообщил о своем уходе и о том, что вместо него назначается генерал Алексеев. На мой вопрос о великом князе он ответил, что великий князь, вероятно, также уйдет. На другой день все это окончательно подтвердилось. Великий князь назначался наместником Кавказа, а генерал Янушкевич его помощником.[170] Генерал Данилов получал корпус. Я пошел к Данилову и нашел его очень расстроенным. Я постарался его утешить и уверял, что он все равно выдвинется в строю и, наверное, скоро получит армию. Как жаль, что Алексеев и Данилов не смогли работать вместе. Из них двоих могла выйти прекрасная комбинация. У Алексеева был несомненный талант, но он любил делать все сам вплоть до чинения карандашей и, конечно, переутомлялся не в пользу дела. Данилов был прекрасным работником, но его воля требовала подчинения себе и младших и старших. Противоречий он ни в ком не выносил.
В Ставке почти все опечалились происшедшим переменам. Радовались только карьеристы, рассчитывавшие выдвинуться на глазах у государя, но таких, впрочем, было мало.
Государь приехал без всякой помпы и торжественной встречи, а как всегда, при посещении Ставки. За несколько дней приехал генерал Алексеев, и начальники управлений его встретили на вокзале. Речей он никаких не говорил, а со всеми поздоровался и сказал, что очень рад вместе служить.
Великий князь выехал через два дня после приезда государя. Он простился со всеми чинами Ставки в помещении дежурного генерала, где был большой зал, сказал короткую патриотическую речь и ушел, видимо, взволнованный. На вокзале его провожали начальники управлений, но проводы были очень официальными благодаря присутствию государя.
Особых нововведений в Ставке не последовало. Государь поселился в губернаторском доме, который с этого времени получил название дворца. С ним поместилась и ближайшая свита: министр двора граф Фредерикс, назначенный командующим главной квартирой, адмирал Нилов, гофмаршал князь Долгоруков, комендант главной квартиры генерал Воейков, лейб-хирург Федоров, начальник конвоя граф Граббе и флигель-адъютанты Дрентельн и Саблин.[171] Генерал Алексеев занял две комнаты в квартирмейстерской части.
Каждое утро в 10 часов государь ходил в оперативную часть, где принимал доклад начальника штаба, который продолжался около часа, потому возвращался во дворец и принимал приезжавших по служебным делам до завтрака. В 1 час был завтрак, на котором присутствовало около 30 человек, т. е. столько, сколько могло поместиться за столом, причем постоянными гостями были лица свиты и старшие иностранные агенты, мы приглашались по очереди. В 3 часа государь обыкновенно уезжал на автомобиле за город и там гулял пешком около двух часов. После возвращения обычно подавался чай, а потом государь читал бумаги и письма.
В 8 часов был обед на такое же количество, как и завтрак. После обеда государь занимался в кабинете, а с 11 до 1 часу пил чай и играл в домино с приближенными.
Генерал Алексеев отказался от ежедневного стола во дворце, так как это отвлекало его от занятий, и завтракал и обедал у нас в собрании за одним столом с начальниками управлений, а во дворец приходил только по воскресеньям и особо торжественным дням.
Завтрак во дворце состоял из трех блюд и обед из четырех. После завтрака и обеда государь минут двадцать беседовал с приглашенными. Нам, т. е. начальникам управлений, приходилось бывать у царского стола раза два или три в неделю, что, пожалуй, было слишком часто и потому теряло интерес. Младших офицеров обыкновенно приглашали не чаще раза в месяц, и они, конечно, очень это ценили. Со мной раз вышел такой казус, что я позабыл про приглашение и не пошел, так что пришлось надевать саблю и идти извиняться перед гофмаршалом. В общем, все церемонии по случаю военного времени были упрощены и особого этикета не соблюдалось, даже лакеев из красных кафтанов переодели в защитный цвет. Сам государь ходил всегда в защитной блузе и держался очень просто. Когда он разговаривал с кем-нибудь, то умел говорить с особым шармом, и никто не мог так обласкать, как он.
С новым командованием в Ставке появились новые лица. Вместо генерала Данилова был назначен генерал Пустовойтенко,[172] который играл совершенно подчиненную роль у генерала Алексеева и не пользовался никаким влиянием. Кроме него появился еще генерал Борисов[173] – большой оригинал. Он все время сидел у себя в комнате, которую называл щелью, так как она была очень маленькой. Его роли при Алексееве точно никто не мог понять. По-видимому, он служил ему памятной книжкой, так как обладал большой эрудицией по военным вопросам, а также говорят, что Алексеев давал ему на критику свои проекты и зачастую исправлял их согласно его указаниям. Его в шутку называли нимфой Энрией[174] Алексеева. Появилось еще много людей как военных, так и штатских. С принятием главного командования государем Ставка сделалась землей обетованной, штаты стали пухнуть и расширяться, и карьеристы всех рангов устремились туда в надежде урвать свой кусок пирога. Особенных талантов, впрочем, не появлялось. Между военными следует упомянуть полковника Генштаба Базарова,[175] назначенного состоять при агентах, а между гражданскими чинами инженера Паукера,[176] назначенного заведовать железными дорогами прифронтовой полосы, и Базили[177] – начальника дипломатической канцелярии.
В это же время был назначен помощником ко мне флигель-адъютант фон Ден,[178] женатый на Шереметевой и потому приходившийся дальним родственником государя. Он был очень порядочный, умный и способный человек, но, к сожалению, совершенно больной. У него была наследственная сухотка спинного мозга, вследствие чего он не мог служить в строю. Мы были с ним сослуживцами еще с мичманских чинов, и я был очень доволен его назначением. Мы часто говорили с ним о военном и внутреннем положении в стране, и он соглашался со мной, что мы стремимся в пропасть, но тем не менее твердо надеялся на какое-то чудо, которое спасет государя и Россию.
Жизнь в Могилеве постепенно стала укладываться в свои рамки. Днем все работали, но вечера уже проводились иначе, чем в Барановичах. Там обыкновенно сидели по вагонам и занимались, кто своим делом, а кто беседой с приятелями. Здесь же или ходили в гости к знакомым или играли в карты, или кутили по ресторанам. Женатая публика стала выписывать свои семьи, чему начальство не препятствовало, и скоро в Ставке появились нарядные дамы, которые устраивали приемы по определенным дням. Дамы соперничали друг с другом, и скоро публика стала делиться на лагери, одним словом, от прежнего не осталось ни следа, а о войне как-то даже и позабыли.
Впрочем, она о себе еще напоминала. Под Вильной от 10 до 15 сентября начались сильные бои, и немецкая кавалерия произвела большой прорыв в направлении на Молодечно и быстро разлилась в направлении на Минск и Борисов. Это уже было не так далеко от Могилева, и даже ходили слухи, оказавшиеся потом неверными, что немецкий разъезд видели в лесу верстах в тридцати от Ставки. Спешно вызвали бригаду кавалерии, и даже сотни императорского конвоя вышли на заставы. Несколько дней только и было разговоров о немецкой кавалерии, но затем все стихло. Алексеев тут обнаружил свой талант. Удачной рокировкой корпусов он посадил зарвавшихся немцев в мешок, из которого им удалось выкарабкаться только с большим трудом и потерями. Все обошлось благополучно. К концу сентября фронт окончательно стабилизировался в довольно неудобном для нас положении, так как мы потеряли Вильно и Барановичи со связанной с ними рокировочной магистралью. Немцам в это время угрожало наступление союзников на Западном фронте, и нужно было взять войска с нашего для других целей.
Балтийский флот осенью 1915 года
После ухода немцев из Рижского залива Балтийский флот сейчас же занялся восстановлением минного поля в Ирбенском проливе. На этот раз поле было заметно усилено, причем были употреблены, главным образом, двойные, или вахтенные, мины. Также были на мелких местах затоплены шхуны с песком и камнями. Во время этих работ у нас подорвался миноносец «Охотник», но благополучно был доставлен в Ревель. В начале августа в Ставку прибыл с Северо-Западного фронта капитан 2-го ранга Альтфатер с просьбой разрешить командующему флотом употреблять дредноуты для операций в море, мотивируя свою просьбу невозможностью производить операции мелкими судами без поддержки крупных. Мотивировка была совершенно правильная, но генерал Данилов занял определенное оппозиционное направление. Было собрано совещание у великого князя в вагоне, на котором присутствовали начальник штаба, генерал-квартирмейстер, я и Альтфатер. Данилова убеждали целый час, но он твердо стоял на своем, говоря, что в случае гибели и тяжелой аварии дредноутов придется к Петрограду с фронта посылать два корпуса. Наконец я предложил ограничиться двумя дредноутами с тем, что два других и «Павел» с «Андреем Первозванным» останутся неприкосновенными для обороны Финского залива. Великий князь чрезвычайно обрадовался этому выходу из положения и сейчас же дал свое разрешение. Данилов потом на меня дулся три дня.
12 сентября «Слава» была приглашена оказать содействие нашим войскам при атаке местечка Шион(?) на нашем крайнем правом фланге. Ее огонь произвел такое сильное впечатление на немцев, что они моментально оставили местечко, и оно было занято нами. После этого успеха наши суда стали часто приглашаться для содействия нашим войскам. К сожалению, когда бой уже фактически был окончен, неприятельская полевая батарея, вероятно, только что подвезенная, открыла огонь из леса, и одним из трех попавших снарядов убило командира и флагманского артиллериста в боевой рубке. «Слава» сейчас же открыла огонь по лесу, и там начался такой грохот от падающих деревьев, что батарея замолчала моментально.
В половине сентября начальник минной дивизии и обороны Рижского залива контр-адмирал Трухачев[179] сломал себе руку, и вместо него был назначен временно командующим капитан 1-го ранга Колчак. По темпераменту нового командующего можно было ожидать, что он что-нибудь предпримет, и, действительно, 20 октября был высажен имитированный десант у Долиснеса. В десанте участвовали эскадрон драгун, две роты морской пехоты из Ревельской крепости, сформированные из маршевых рот, и подрывная партия. Офицеры были волонтеры с миноносцев, а командовал капитан 2-го ранга Шишко,[180] также командир миноносца. Как видно отсюда, кроме драгун, весь состав в сухопутном военном деле был, что называется, взят прямо от сохи, причем офицеры в первый раз видели своих подчиненных. По счастью, им пришлось иметь дело с ландштурмом, а иначе кончилось бы для них плохо. Десант высадился без всякой помехи со стороны неприятеля и, только подойдя к местечку Долиснес, встретил роту ландштурмистов. Произошел бой, и неприятель, охваченный с фланга и в тыл драгунами, был наголову разбит, оставив на поле сражения убитыми своего начальника, и 42 солдата, и 7 человек было взято в плен. Остальные разбежались и попрятались в лесу. Десант победоносно возвратился на корабли. Потом рассказывали много смешных эпизодов, происшедших из-за неопытности моряков в сухопутном деле. Наши потери заключались только в четырех раненых.
23 октября английская подводная лодка Е8 потопила у Либавы броненосный крейсер «Принц Адальберт». К этому времени к нам подошли уже пять английских подводных лодок. Для них был в Ревеле оборудован под жилье транспорт «Двина», и они там жили, питались и получали жалованье на английский образец. Старший из командиров получал приказания из штаба флота.
В начале ноября обнаружилась первая ласточка грядущей революции на кораблях «Гангут» и «Павел I». Как всегда в этих случаях, началось с недовольства пищей, а затем было предъявлено требование о смене офицеров с немецкими фамилиями, в том числе и старшего офицера, который был очень строг. Конечно, все это были предлоги, а на самом деле это действовала политическая пропаганда, центр которой для флота был Гельсингфорс и которая работала на германские средства. Главным образом, ею обрабатывались команды больших кораблей, базировавшихся на Гельсингфорс. После этого случая большие корабли стали держать на внешнем рейде, не спуская команду на берег.
В Черном море за этот период произошли следующие столкновения с неприятелем. 7 сентября два наших больших миноносца «Пронзительный» и «Быстрый» под командой капитана 1-го ранга князя Трубецкого вышли в обычный рейд к берегам Анатолии и, [проходя] мимо острова Кефкен, обнаружили крейсер «Гамидие» с двумя миноносцами, конвоировавшие четыре парохода с углем.
Наши миноносцы, несмотря на свою слабость, немедленно атаковали «Гамидие» и вступили с ним в перестрелку на расстоянии около 60 кабельтовых. При такой дистанции 4-дюймовые орудия «Гамидие» не могли достигать до нас, и он мог противопоставить нашим шести орудиям в 4 дюйма только два своих 6-дюймовых. В то же время подводная лодка «Нерпа», находившаяся на пути «Гамидие», выпустила в него мину и, хотя не попала в цель, сбила его с курса и заставила делать зигзаги. После получасового боя «Гамидие», делавший все время радио «Гёбену», бросил свой конвой и устремился полным ходом к Босфору. Князь Трубецкой его некоторое время преследовал, но затем, опасаясь появления «Гёбена» из Босфора, что неминуемо спасло бы транспорты, повернул к ним. Транспорты в это время подошли совсем к берегу и при приближении миноносцев выбросились на берег. Они были расстреляны с близкой дистанции в подводной части и подорваны минами. Это было очень красивое дело, так как «Гамидие» был, конечно, сильнее наших миноносцев.
10 сентября неприятельская подводная лодка появилась перед Ялтой и потопила три наших парусных судна.
21 сентября три наших больших миноносца во время мглистой погоды неожиданно увидели вдалеке уходящее от них военное судно, которое они приняли благодаря неясной атмосфере за «Гамидие». Каково же было их удивление, когда корабль вдруг повернул и оказался «Гёбеном». «Гёбен» сейчас же открыл по ним меткий огонь, и им ничего другого не осталось, как быстро уходить. По счастью, ни одного снаряда в них не попало, хотя некоторые падали совсем близко.
30 сентября наша эскадра бомбардировала Зонгулдак, причем подверглась нападению подводных лодок, но, по счастью, безуспешно.
7 октября наши миноносцы сожгли 18 парусных судов вблизи Трапезунда.
10 октября был арестован и отведен в Севастополь румынский пароход «Краево» с контрабандным грузом.
27 октября наша эскадра, ввиду начала военных действий с Болгарией, бомбардировала Варну, причем наши гидропланы бросали бомбы в город. Немцы официально оповестили по радио, что при этой операции их подводная лодка потопила броненосец «Пантелеймон». Таким образом «Пантелеймон» уничтожался ими уже второй раз. Эти радио пугали только меня, потому что мне приходилось опрометью бежать к аппарату, соединяющему нас с Севастополем, и там справляться, верно ли известие.
24 ноября наши миноносцы потопили артиллерийским огнем зазевавшуюся немецкую подводную лодку U13 около Сахарии.
28 ноября немецкая подводная лодка атаковала наш маленький пароходик у кавказских берегов и принудила его выброситься на берег.
В заграничных водах ничего особенно примечательного за это время не произошло.
Зимний период 1915 года
После стабилизации фронта наша армия занялась восстановлением своих сил. Прежде всего был установлен порядок в ближайшем тылу, и безобразные картины на станциях железных дорог прекратились. Громадный некомплект людей начал понемногу пополняться, и, что самое главное, начало приходить в порядок и снабжение. Число поступивших в армию снарядов, патронов, винтовок и пулеметов увеличивалось с каждым месяцем. К январю армия снова уже представляла из себя силу, по крайней мере количественную. Чего, к сожалению, нельзя было пополнить – это кадровых офицеров, составлявших душу армии. На 40 % офицерский состав состоял из молодежи, едва прошедшей короткую военную школу и не знающей ни службы, ни солдата. В составе нижних чинов также не было прежнего подъема. Люди устали, дух был сломлен постоянными неудачами, и вера в вождей подорвана. Злонамеренная агитация пораженцев уже проползла в армию, как и во флот, и начала свою медленную разрушительную работу. Теперь все сдерживалось только страхом и суровой дисциплиной. Если прежде солдаты рвались вперед, то теперь поднять их из окопов стоило немалого труда.
Германия, отбросив нас далеко на восток, сочла возможным заняться другими предприятиями. Французское наступление было ликвидировано, был нанесен короткий удар Италии, а затем пришла очередь Сербии. Болгарии давно хотелось свести с ней счеты за 12-й год,[181] но она боялась и выжидала, чья возьмет. Наш разгром и отступление окончательно ее убедили, что Германия победит. Царь Фердинанд приложил много усилий, чтобы сделать возможным выступление Болгарии против России, и это ему в конце концов удалось. Германцы и австрийцы двинулись на Сербию с севера, а болгары с востока. Геройская армия этого народа сопротивлялась сколько могла, но в конце концов была вынуждена к тяжелому отступлению на Албанию, откуда была перевезена союзниками на остров Корфу, где снова подготовилась к новым действиям. Сербия была оккупирована, и Германия осуществила заветную мечту. Теперь средние державы были соединены между собой, что сильно облегчало взаимную помощь как предметами вооружения, так и жизненными припасами, которые в Германии уже истощались. Император Вильгельм лично посетил всех своих союзников, чтобы вдохнуть в них новые силы и бодрость для борьбы.
Болгары первыми открыли против нас неприязненные действия, хотя мы еще не объявляли им войны. Они напали на наш пароход, шедший по Дунаю мимо их берегов со снабжением для Сербии, и арестовали его, хотя не имели никакого права, так как Дунай был река международная.
Мы открыли военные действия против них бомбардировкой Варны, а союзники одновременно бомбардировали Дедеагач.
С морской точки зрения вступление Болгарии в коалицию ничего существенного Германии не дало. «Гёбен», «Бреслау» и подводные лодки получили новые базы Варну и Бургас, что же касается морских сил Болгарии, то они состояли только из нескольких старых миноносцев, не могущих удаляться от своих берегов.
В Ставке выступление Болгарии вызвало большое возмущение против дипломатов. В особенности нападали на нашего посланника Савинского,[182] и его неуменью приписывали этот новый афронт. Не знаю, насколько справедливо обвинение и мог ли он что-либо сделать, чтобы помешать этому делу.
Верховное командование, по существу, значительно теперь отличалось от прежнего. При великом князе Николае Николаевиче первую скрипку играл генерал Данилов, но он не старался забрать все в свои руки, а держался в пределах своих полномочий генерал-квартирмейстера, и преобладающее влияние его было больше моральное. Все важные военные дела решались на периодически созываемых совещаниях, в которых участвовали главнокомандующие, их начальники штабов и другие лица по приглашению, и таким образом ходом операций распоряжался военный совет.
При государе военных советов не созывалось, и всеми делами ведал непосредственно генерал Алексеев. Я думаю, что вторая система предпочтительнее первой. Государь был почти все время в разъездах, объезжая войска и делая смотры. Во время одной из таких поездок на Южный[183] фронт, воспользовавшись тем, что неподалеку от места смотра неприятельский аэроплан сбросил бомбы, главнокомандующий Брусилов, заменивший Иванова, поднес государю Георгиевский крест 4-й степени от имени всего Южного фронта. Государь принял крест и с тех пор носил его постоянно вместе с французскими и английскими военными крестами.
Я лично скоро познакомился близко с генералом Алексеевым, и помимо официальных сношений мы часто с ним беседовали и за обедом и завтраком в столовой штаба и у него в его маленькой комнатке за стаканом чая. Это был кристально честный человек, горячо любивший свою родину. Он обладал несомненным талантом и колоссальной работоспособностью, но его большим недостатком была любовь делать все самому, что при грандиозном масштабе его деятельности, несомненно, вредило делу. Этот недостаток происходит, вероятно, вследствие его долголетней службы в строю в младших чинах. Он мне сам рассказывал, каким образом случайно изменилась вся его карьера. Он вышел в офицеры в пехотный, кажется, Казанский полк, и так освоился с полковой жизнью, что и не хотел никуда уходить. Там он и женился на дочери командира полка.
Однажды в город приехал начальник Академии Генерального штаба генерал Драгомиров[184] для производства какой-то инспекции. Он сделал полку смотр и после проэкзаменовал ротных командиров по военному делу. После смотра он обратился к капитану Алексееву и сказал:
– Капитан, я вас увижу на экзаменах в академию через полгода.
Алексеев ответил:
– Слушаю, ваше превосходительство, – и как это ему ни было неприятно, засел за книжки.
Через полгода он на 12-м году службы поступил в академию вторым, а окончил ее первым. Отсюда и пошла его карьера.
Познакомился я также с генералом Борисовым и иногда захаживал к нему в щель, где он сидел всегда в каком-то штатском пиджаке без погон. Знания военной истории у него были колоссальные, и к тому же изумительная память. Но он производил впечатление не совсем нормального человека и годился только для кабинетной работы, к которой и был приставлен.
С принятием на себя государем верховного командования, участились приезды к нам иностранцев. Приезжал старый семидесятилетний генерал По, потерявший руку еще в войне с Пруссией в 1870 году.[185] Он произвел на всех очень приятное впечатление своей прямотой и солдатским добродушием. Потом на смену ему явился еще молодой генерал Жанен,[186] очень любезный человек, но, кажется, с хитрецой. Очень ненадолго заезжал генерал Дамад, отличившийся очень строгой военной выправкой. Были еще англичане и итальянцы, но я не упомню их фамилий. Всех гостей возили на фронт, угощали и всячески чествовали, вероятно, они оставались довольны. Приехал наконец и моряк – английский контр-адмирал Филимар, бывший командир «Инфлексибля» в Фолклендском сражении. Он был мало симпатичен и очень любил разъезжать по всей России. Вначале за ним ухаживали, но потом перестали, и он как-то сошел на нет.
26 ноября по старому, или 7 декабря по новому стилю, в Ставке справлялся георгиевский праздник. От всех корпусов было созвано в Ставку по два офицера и по десять нижних чинов, были представители и от флота и даже англичанин, командир подводной лодки, заслуживший Георгиевский крест. Для парада составилась рота офицеров и батальон нижних чинов. Я тоже парадировал вместе с англичанином на правом фланге офицерской роты. После парада был обед в помещении дежурного генерала, почему-то довольно простой и ничем не напоминавший роскошные георгиевские обеды в Петербурге. На меня как прежние, так и последний обед не производили впечатления выдающегося торжества. Не знаю почему, но это все носило вид отбывания какого-то необходимого номера. Я не могу сказать чего, но чего-то не хватало. А ведь это символический праздник военного могущества России, и нужно, чтобы он запечатлелся в сердцах присутствующих. На этом празднике встретились храбрейшие люди Русской земли, и они должны были давать честную рыцарскую клятву не посрамить имени русского.
В декабре возник вопрос о сформировании особой гвардейской армии. Были пущены всевозможные влияния, чтобы двинуть этот вопрос, которому противодействовал Алексеев, и в конце концов была сформирована гвардейская группа из двух корпусов. В группу вошли четыре пехотных дивизии и три кавалерийских. Командующим группой назначен генерал Безобразов,[187] несмотря на то, что он был отчислен от командования гвардейским корпусом за неудачные распоряжения. Одним из корпусов назначен командовать великий князь Павел Александрович.[188] Группа стояла в резерве и предназначалась для наступательных операций. Алексеев ее называл стратегическим уродом и не упускал случая над ней поиздеваться.
Генерал Безобразов имел большое влияние при дворе и пользовался большим уважением в гвардии. Я познакомился с ним в Могилеве и несколько раз беседовал. Это был большой барин со всеми достоинствами и недостатками, свойственными этому званию. Главным недостатком следует, конечно, считать весьма слабые познания в военном деле, хотя он и любил рассказывать про Суворова и других полководцев. Но он был благороден, лично храбр и не интриган, а потому и пользовался уважением.
Про его боевую деятельность мне рассказывал один из состоявших при корпусе офицеров Генерального штаба. В первом же сражении в Галиции одну из дивизий, которой командовал генерал Олохов,[189] пустили в дело до прибытия к месту всего корпуса. Когда прибыл генерал Безобразов, то послал капитана Генерального штаба К. передать на словах начальнику дивизии Олохову приказание вывести из боя гвардию до окончания ее сосредоточения. Олохов выслушал К. и сказал ему:
– Такие приказания на словах не отдаются, пожалуйте в письменной форме.
К. вернулся и доложил. Безобразов вскипел, но все же написал приказание. К. опять поехал к Олохову и получил в ответ:
– Раз гвардия вступила в бой, так она его прекратит только после победы.
Нужно сказать, что в это время было уже более 2000 пленных. Безобразов вскипел окончательно и отдал приказание об отстранении Олохова. Однако вечером все закончилось мирно за бутылкой шампанского, которого всегда у Безобразова был большой запас. Поводом к его отрешению послужил другой бой, где он заставил гренадерский полк сражаться с целой дивизией, когда у него в резерве стояло три свободных полка.
В декабре же решился вопрос, касающийся и лично меня. С вступлением государя в командование начальник Морского генерального штаба адмирал Русин решил, что ему также надлежит переехать в Ставку, но он не хотел ехать на скромное место начальника Морского управления и подал проект об учреждении независимого морского штаба, что встретило возражение со стороны военного ведомства. Вопрос тянулся три месяца и кончился компромиссом. Морской штаб был образован, но подчинен генералу Алексееву, причем адмирал Русин имел доклад в его присутствии. Балтийский флот был изъят из подчинения Северному фронту и передан непосредственно Ставке. Я был назначен помощником к адмиралу Русину, и он остался одновременно начальником Генерального штаба, т. е. в двойном подчинении и начальнику полевого штаба, и морскому министру, противно всем принципам администрации.
Тем временем мы подошли к окончанию 1915 года, самого тяжелого вследствие постоянных военных неудач. К первому января 1916 года наша армия уже пополнила значительные свои потери и снова представляла внушительную силу.
Праздники в Могилеве прошли довольно весело. Государь уехал в Царское, но жизнь била ключом. Устраивались даже танцы, спектакли, концерты и все прочее, как подобает в глубоком тылу. Все думали, что 1916 год будет последним на войне и предполагаемое весеннее наступление на всех фронтах сметет немцев, как пыль с дороги. Но человек предполагает, а Бог располагает.
Действия в Балтийском и Черном морях
В Балтийском море, несмотря на тяжелые климатические условия, деятельность не утихала. 13 ноября вышли в море дредноуты «Петропавловск» и «Гангут», бригада крейсеров и дивизион миноносцев, но последний, вследствие чрезвычайно свежей погоды, пришлось отпустить домой, кроме «Новика», который мог держаться с крейсерами. Командовал отрядом вице-адмирал Кербер.[190] Крейсера под прикрытием дредноутов поставили большое минное заграждение южнее острова Готланд, и все благополучно вернулись назад, не видав неприятеля. В тот же день английская подводная лодка Е19 донесла, что она потопила немецкий крейсер «Ундине».
20 ноября миноносцы «Новик», «Охотник», «Эмир Бухарский» и «Страшный» под командованием капитана 1-го ранга Колчака вышли из Рижского залива, чтобы захватить немецкий дозорный корабль у Виндавы. Глубокой темной ночью миноносцы нашли бывший дозорным пароход стоящим на якоре и открыли по нему огонь. Пароход сейчас же загорелся и после выпущенной с «Охотника» мины затонул. Команда в числе 21 человека была спасена нашими миноносцами.
5 декабря эскадра в том же составе повторила экспедицию для постановки мин заграждения с крейсеров и благополучно вернулась, не видав неприятеля. Вышедшая для постановки мин 27 ноября подводная лодка «Акула» не вернулась и пропала без вести. То обстоятельство, что с немецкой стороны также не было о ней никаких сообщений, заставляет предполагать, что она или наткнулась на мину или, еще вероятнее, погибла в море от нарушения своими же минами мореходных качеств лодки. Приспособление обыкновенной подводной лодки под заградитель делалось у нас первый раз и испытывалось только на рейде. Возможно, что с ней произошло то же самое, что и с миноносцами «Живой» и «Летучий» год тому назад. Тайну своей гибели она унесла с собой на дно. Это, пожалуй, самая страшная смерть на море, так как команда потонувшей лодки умирает в большинстве случаев не сразу, а может жить, если лодка не будет раздавлена давлением воды на большой глубине, до тех пор, пока хватит воздуха, т. е. несколько часов.
15 декабря наши миноносцы ставили заграждение на путях в Виндаву и Либаву, и на этих заграждениях взорвались и погибли крейсер «Бремен», дозорное судно и два миноносца. Такое обилие взорванных судов показывает неопытность немцев в деле траления и определения места заграждений.
23 декабря капитан 1-го ранга Колчак был окончательно назначен начальником минной дивизии и в тот же день вышел в море на постановку мин, но этот поход был неудачен, так как в пути ночью миноносец «Забияка» наткнулся на плавающую мину и получил большую пробоину. С трудом в плавучих льдах его удалось отбуксировать в Ревель.
В Черном море за этот период следует отметить встречу двух наших миноносцев 23 декабря с двумя турецкими канонерскими лодками «Малассиа» и «Дуран-Реис», которые конвоировали большое парусное судно в угольном районе. Миноносцы вступили в бой с лодками и после получасового боя парусное судно и «Малассиа» были потоплены, а «Дуран-Реис» выбросился на берег на мелководье у острова Кесриен(?). На другое утро миноносцы опять вернулись к месту боя и нашли «Дуран-Реиса» уже плавающим на глубокой воде и окончательно его утопили. Турецкие команды спаслись на берег на шлюпках.
Делая обзор истекшего года на обоих морях, его можно признать удачным, так как мы понесли очень мало потерь, а неприятель значительное количество. Оба наших флота количественно и качественно значительно усилились, а личный состав приобрел большую опытность. В Балтийском море вошли в состав флота четыре дредноута, три больших миноносца типа «Новик», четыре больших и три малых подводных лодки. Последние были куплены в Америке и в разобранном виде доставлены в Петербург через Владивосток. Всех лодок было куплено пять. Число тральщиков и сторожевых судов было также значительно увеличено, причем под тральщики были реквизированы мелкосидящие теплоходы с Волги.
Оборудование позиций, защищающих вход в Финский залив, было также значительно усилено. Построено много новых батарей как на основной позиции, так и на передовой, между Даго и Тангеудом и в Або-Аландском фланговом районе. Ревельская крепость также постепенно оборудовалась полевыми укреплениями. Для ее обороны были сформированы две морских дивизии из маршевых рот, и они постепенно сплачивались и обучались, насколько это позволяло отсутствие надлежащего офицерского состава.
В Черном море вступил в строй один дредноут, один легкий крейсер «Прут», бывший «Меджидие», совершенно исправленный и перевооруженный, четыре больших миноносца и столько же подводных лодок. Кроме того, из Владивостока были доставлены по железным дорогам четыре малых миноносца и три подводных лодки. Эти суда годились только для охраны портов. Следует отметить также, что мы, наконец, получили некоторое число приличных гидроаэропланов, которые приносили большую пользу при разведке, в службе связи и при охране портов от покушений подводных лодок.
Большие германские подводные лодки стали часто подходить к Севастополю и устраивали как бы дежурство у входа в порт, подобно тому, как мы это устроили при входе в Босфор. При входах и выходах больших судов пришлось организовать целую систему охраны. Линейные корабли и крейсера входили и выходили всегда окруженные тремя ступенями из миноносцев и тральщиков, а сверху парили гидропланы. Эта система оказалась удачной, и мы не потеряли от подводных лодок ни одного военного судна.
1916 год
Ставка в зимний период 1916 года
За весь этот период никаких серьезных действий не было. Были бои под Ригой, не имевшие крупных результатов, но силы нашей армии постепенно обновлялись, и чувствовалось, что весной предстоит новый период наступательных действий. Наступление, предпринятое 7-й армией на Юго-Западном фронте, не дало нам ожидаемой победы, а потому до весны было решено продолжать накопление сил.
В самой Ставке жизнь текла своим чередом. С прибытием адмирала Русина я почти освободился от всякой работы и имел массу свободного времени. Мне очень бы хотелось получить строевое назначение, но, с другой стороны, я опасался, что за два года войны я окажусь отставшим в техническом и тактическом отношениях. Когда я высказал свои пожелания и опасения адмиралу Русину, он вполне со мной согласился и сказал, что постарается предоставить мне место, где мне можно будет постепенно подготовиться к ответственным обязанностям на море, а пока что нужно было подождать.
Вскоре я отправился в командировку в Севастополь и решил непременно выйти в море. Большого похода, однако, не представилось, а потому я попросился у адмирала Эбергарда пойти в виде пассажира на миноносце в обычное блокадное крейсерство. Я сговорился с начальником 1-го дивизиона князем Трубецким, что пойду с ним вместе на миноносце «Пылкий». В назначенный день мы снялись с якоря и пошли вместе с другим миноносцем.
Я уже восемь лет как не плавал на миноносцах, но все же не представлял себе того неприятного сюрприза, который меня ожидал. Как только мы покинули Севастопольскую бухту, стало сильно свежеть, и вскоре начался шторм баллов в восемь. Меня, к моему стыду, форменным образом укачало со всеми последствиями. Трубецкой меня утешил тем, что с английским адмиралом Филимором было то же самое, когда он ходил с ним на миноносце.
По счастью, к утру стало стихать, а в 8 часов, когда я вышел на палубу, уже была прекрасная погода, и только легкое приятное покачивание на неулягшейся еще зыби. После четырехлетней кабинетной работы в штабе было чрезвычайно приятно подышать свежим морским воздухом. Несмотря на январь месяц, температура на солнце была выше 16˚R,[191] и я мог прогуливаться по палубе в одном кителе, не надевая пальто. Сразу явился колоссальный аппетит, и я выпил с наслаждением два стакана кофе, закусив еще ветчиной, телятиной и яйцами, а в 12 часов, кроме прекрасного обеда, съел еще пробную миску командного борща, который мне показался необычайно вкусным.
В 10 утра мы подошли к Зонгулдаку. Начальник дивизиона не имел разрешения вступать в перестрелку с береговыми батареями, а потому заявил мне, что приблизится только не ближе дальности берегового огня, т. е. семи или восьми миль. С этой дистанции я мог рассмотреть в зрительную трубу стоящий в гавани пароход и некоторые строения на берегу. Тем не менее мы потихоньку все приближались и приближались, пока на берегу не вспыхнули вдруг два огонька и не послышалось характерное жужжание приближающихся снарядов. Оба были перелеты, но один упал довольно близко от миноносца. Вслед за первыми ласточками прилетели и другие, но миноносец уже дал большой ход и быстро вышел из опасной сферы. Я проверил свои ощущения – сильно ли я отвык от постоянного обстрела в Порт-Артуре, и убедился, что не очень. Далее мы пошли вдоль анатолийского берега, и Трубецкой мне показывал в разных местах остовы выкинувшихся на берег турецких пароходов. Самое большое кладбище было в Эрегли, там торчало из воды много мачт и труб.
Около 2 часов мы подошли к Босфору, не видав ни одного дыма, ни паруса. Единственным развлечением был расстрел двух плавающих мин, вероятно, оторвавшихся от нашего заграждения у Босфора. Босфор я видел только издали, так как Трубецкой не желал приближаться близко, чтобы сохранить за собой свободными пути отступления на случай внезапного появления противника с тыла. От Босфора мы прошли миль двадцать вдоль европейского берега, а затем свернули в море. Часов около пяти, когда мы с Трубецким сидели в его каюте и мирно пили чай, вдруг вбежал вахтенный унтер-офицер и доложил, что на востоке виден густой дым, по-видимому, от большого военного корабля. Трубецкой стремительно выскочил наверх, а я, о стыд! почувствовал, что заболел «гебенитом» в острой форме. Во рту внезапно пересохло, и дыхание сперлось. Какое счастье, что меня никто в это время не видел. Через несколько минут, собрав всю свою волю, я уже небрежной походкой, по-видимому, спокойно, прошел на мостик и, пожалуй, чересчур равнодушным голосом спросил Трубецкого о причине тревоги. Тот посмотрел на меня с некоторым любопытством и, как мне показалось, лукавством, и ответил:
– А вот скоро узнаем.
Миноносцы уже шли 24-узловым ходом, чтобы выиграть у возможного противника пространство и не быть прижатыми к берегу. Дым понемногу приближался, и, наконец, стало возможным разобрать трубы и мачты. Оказалось, что это «Императрица Мария», которую мы считали гораздо далее к востоку. Она должна была в случае надобности служить опорой миноносцам и ходить зигзагами в определенном месте. Первым моим впечатлением было приятное чувство безопасности, а вторым разочарование от неудавшейся авантюры. Нам было запрещено без крайней надобности пользоваться радиотелеграфом, чтобы не выдать своего места неприятелю, и потому Трубецкой решил подойти к «Императрице Марии» для переговоров.
Наш первый черноморский дредноут имел очень импозантный вид на ходу в море. Мы подошли к нему на расстояние голоса, и Трубецкой доложил адмиралу Новицкому,[192] державшему флаг на «Императрице Марии», о нашем походе. Получено было приказание ночью держаться вблизи острова Кефкен, наблюдая возможное движение угольщиков, а днем патрулировать опять в угольном районе. Ввиду того что неприятель знал о нашем присутствии у анатолийских берегов, надежды на добычу было мало, и действительно, ни днем ни ночью мы не видели ни одной живой души.
На третий день мы получили по радио приказание приблизиться к адмиралу и совместно с «Марией» пошли к Севастополю, усилив его охрану от подводных лодок нашими двумя миноносцами. Таким образом, моя первая экспедиция прошла без встречи с противником, но тем не менее я был очень доволен сделанной прогулкой. Личный состав как офицеров, так и матросов произвел на меня очень приятное впечатление. Было видно, что команды прошли хорошую боевую школу. Видна была уверенность в себе. Все маневры исполнялись быстро и отчетливо, а самое главное, что каждый знал, что делает и для чего он это делает. Разница с временем Японской войны была огромная и сразу бросалась в глаза.
Возвращался в Ставку я через Москву, и меня поразил грязный и неопрятный вид города. Затяжная война уже давала себя чувствовать, и ощущался недостаток рабочих рук. От прежнего воодушевления не было и следа. Все утомились, и недовольство высказывалось повсюду. О политике говорили и в вагонах, и в трамваях, и в ресторанах. Увеселительные места работали великолепно, но работа тыла, видимо, иссякала. Тыл переставал подпирать армию, и мер к оживлению тыла не принималось.
В Ставке все шло по-прежнему. Нас часто посещали великие князья. Мы даже устроили для них раз в неделю бридж, причем играли на двух столах и старались приглашать подходящих партнеров, но это не всегда удавалось, и однажды великого князя Георгия Михайловича посадили играть с одним артиллерийским полковником, которого он терпеть не мог. Мы не понимали, почему великий князь так насупился, а он, сыграв один роббер, встал, сказал, что у него болит голова, и ушел.
О настоящей причине мы узнали только на другой день. Во время пребывания в Ставке мне пришлось познакомиться со многими великими князьями. Большинство из них поражали своим малым знакомством с практической жизнью. Это были люди из какого-то другого мира. За малыми исключениями, они были слабо знакомы и с литературой, и жили исключительно мелкими придворными интересами. Вопросы формы одежды и этикета трактовались ими как чрезвычайно важные, что, впрочем, не мешало им держаться со всеми просто и приветливо.
Почти то же можно было сказать и о лицах государевой свиты. Почти все они были чрезвычайно милые люди, но также живущие какой-то растительной жизнью. Наиболее частыми нашими посетителями были начальник конвоя граф Граббе, лейб-медик Федоров и флигель-адъютант Саблин.
Граф Граббе был хитрый хохол, очень себе на уме. Довольно тяжелый на подъем и ленивый, он был несчастным человеком, когда государь брал его с собой на пешеходные прогулки. Чтобы не отстать, он прибегал иногда к разным хитростям. Зная направление предполагаемой прогулки, он отправлял туда заблаговременно крестьянскую подводу, которая не могла возбудить подозрений, и затем, незаметно отстав от гуляющих, садился в нее и следовал на почтительном расстоянии. Говорят, что после отречения государя он будто бы просил разрешение представиться новому начальству. Я его встретил в последний раз в Одессе, когда он, уже в штатском платье, пробирался к своим родственникам в Ригу. Вид у него был сконфуженный, и он быстро со мной простился.
Про доктора Федорова я не могу ничего сказать, так как он был очень сдержан в обращении и никогда не высказывался. Что же касается капитана 1-го ранга Саблина, едва ли не самого близкого человека к государю и государыне, то должен отметить, что он был одним из первых покинувших его после отречения.
Граф Фредерикс, министр двора и командующий Главной квартирой во время пребывания в Ставке, уже понемногу впадал в детство. Иногда он бывал в здравом уме и твердой памяти, но бывали у него моменты полного потемнения. Один раз он спросил у государя, приглашен ли он к высочайшему столу, а другой раз в Одессе спрашивал, как можно проехать на пароходе в Петергоф. Несмотря на то что ноги его уже дрожали, он еще прекрасно ездил верхом, и когда государь делал смотр Конному полку, где граф числился шефом четвертого эскадрона, он, несмотря на все уговоры, все же поехал на смотр и парадировал сам во главе своего эскадрона. Говорили, что его нельзя было сменить, так как он сейчас же умрет, но оказалось, что он с успехом пережил и крушение самой монархии.
Гофмаршал князь Долгоруков был честнейший и вполне порядочный человек; он делал свое дело, не вмешивался ни в какие интриги и сохранил верность своему государю до самой смерти. Влияния никакого он не имел.
С генералом Воейковым мне довольно часто приходилось встречаться и разговаривать. Это был, несомненно, самый живой человек из лиц ближайшей свиты и имевший наибольшее влияние. Не скажу, чтобы он был особенно умен, но у него была воля и энергия. Он был, наверное, хорошим строевым начальником и свою комендантскую часть держал в строгости и порядке. Думаю, впрочем, что он свои личные интересы ставил слишком высоко, а потому не использовал своего влияния, когда это могло повредить его карьере, но требовалось государственными интересами. Пример князя Орлова и Дрентельна, бывшими также близкими к царю лицами и попавшими в опалу, видимо, сильно охладил патриотические порывы лиц свиты. С Воейковым мне приходилось разговаривать о военных вопросах и о гимнастике, которой он очень увлекался и даже сочинил свое собственное руководство.
Адмирал Нилов был вполне порядочный человек, но влияния не имел. Он, видимо, сознавал все ошибки последнего времени перед революцией, но не решался выступить открыто и поставить на карту свое положение. Чувствуя свое бессилие, а может быть и малодушие, он часто уединялся в свою комнату и поверял свое горе бутылке коньяку, который очень любил. Иногда он не выдерживал, и я сам слышал, как он, глядя злыми глазами на г-жу Вырубову,[193] приехавшую в Ставку с государыней, прошипел: «Эта с…а опять притащилась».
Главным мотивом у всех лиц свиты был девиз «Не огорчать государя», и это проходило через всю их работу и разговоры. Естественно, что такое старание могло создать у монарха представление, совершенно не похожее на действительность. Я сам помню, что как-то спросил капитана 1-го ранга Саблина по поводу какого-то вопиющего факта, известно ли это государю, и получил в ответ: «Нет, это бы его очень огорчило».
Часто к нам заходил еще главноуполномоченный Красного креста Кауфман-Туркестанский.[194] Это был весьма почтенный старик. Он разговаривал со мной откровенно и очень печаловался на ход политических событий. Его почтенные годы и долгая служба давали ему известные права поднять свой голос в критические минуты, и он воспользовался этим правом. Он не щадя себя доложил государю свои опасения за будущность династии и сейчас же получил приказание покинуть Ставку. Много сановников приезжали в это время в Ставку на короткий срок, но мне если и приходилось с ними разговаривать, так только о пустяках.
Помню, как приехал престарелый Куропаткин[195] и обедал в штабной столовой. При его входе в столовую все, точно сговорившись, встали, хотя он в это время занимал скромную должность командира Гренадерского корпуса. Генерал Жилинский, обедавший тут же, скорчил гримасу, но тоже встал. После ухода Куропаткина он не преминул, впрочем, его ругнуть и резюмировал свое поведение такими словами: «Корпусный командир он, пожалуй, и не дурной, а начальник дивизии был бы еще лучше, но дальше его допускать никоим образом нельзя».
Генерал Поливанов стал бывать в Ставке довольно часто после назначения военным министром вместо генерала Сухомлинова.[196] Мне лично с ним говорить не приходилось, а мнения о нем были очень разнообразные. Между прочим помню, что генерал Данилов, отзывавшийся о нем как об очень умном человеке, рассказывал, какого мнения был генерал Поливанов о составлении отчетов. «Отчет, – говорил он, – должен выражать не то, как дело было, а как должно было быть».
Генерал Татищев,[197] друг государя и императора Вильгельма, пользовавшийся доверием и того и другого, джентльмен до мозга костей, некоторое время состоял при Ставке. Он вполне заслуживает, чтобы его имя попало в историю, так как, не занимая никакой должности при государе, последовал за ним в изгнание и своею кровью запечатлел свою преданность престолу. Бывши очень долго при берлинском дворе, он знал все мелочи придворной жизни.
Из его рассказов помню, что один раз в интимном кругу у императора шутя разговаривали о возможности войны с Россией, и вновь назначенный командир германского полка телохранителей, соответствующего нашему Кавалергардскому, просил Татищева поместить по мобилизации Кавалергардский полк так, чтобы его полк с ним встретился. Император Вильгельм, слышавший разговор, сейчас же вмешался и сказал:
– Да, да, передайте, пожалуйста, что я тоже прошу. Я с удовольствием присутствовал бы на этом турнире.
Он рассказывал также, что у императора Вильгельма было по крайней мере добрый десяток ролей, в которых он выступал в различных случаях, причем менялось не только выражение лица, но и манеры и даже тембр голоса. Обыкновенно костюм всегда соответствовал известной роли. С войсками он обыкновенно говорил отрывистым голосом, отчеканивая слова, с дамами с обворожительной улыбкой и, слегка грассируя, с дипломатами в интимном тоне и т. д.
Татищев рассказывал, что последний из русских послов, умевший высоко держать русский престиж, был старик Остен-Сакен.[198] При нем очень строго соблюдалась традиция, что полк, имевший шифр государя, проходя мимо русского посольства, всегда играл поход, и посол, выходя на балкон, здоровался с полком. Также строго соблюдалась прерогатива русского посла не ездить к министру иностранных дел по маловажным вопросам, а ожидать министра у себя в посольстве. Министр Киндерлен-Вехтер[199] попробовал нарушить этот обычай, но из этого ничего не вышло. Он пригласил посла к себе по поводу какого-то мелкого пограничного инцидента. Остен-Сакен, получив приглашение, ответил, что приедет, дал знать в полицию о своем приезде, потребовал чрезвычайную охрану, надел полную форму с лентой Черного орла и в сопровождении целой свиты приехал в министерство. Министр был вынужден встречать его на подъезде, и когда оба наконец уселись в кабинете и Киндерлен рассерженным голосом стал говорить о деле, причем в такт ударял рукой по столу, наш посол молчал, но когда тот кончил, то слабой старческой рукой тоже ударил по столу и сказал:
– Ну, с меня достаточно, а об остальном мы поговорим у меня в посольстве.
Киндерлен жаловался императору, но получил в ответ: «Оставьте старика в покое, ведь ему уже восемьдесят лет».
Заместитель Остен-Сакена, Свербеев,[200] совершенно не пользовался авторитетом в германских сферах и сразу же лишился привилегированного положения. Граф Татищев уверял, что если бы старик Остен-Сакен был послом в 1914 году, то войны конечно бы не было.
Балтийский флот в 1916 году
Всю зиму 1915–1916 года Балтийский флот деятельно перевооружался и усиливал береговую оборону подступов к Финскому заливу. Заводы морского ведомства были завалены работой по выделке орудий, снарядов, сетей против подводных лодок, мин заграждения и прочих боевых материалов. Спешно достраивались также новые миноносцы типа «Новик» и подводные лодки.
Весну 1916 года Балтийский флот встретил значительно усилившимся. Все миноносцы в 600 тонн водоизмещением получили 100-миллиметровые пушки взамен 75-миллиметровых, бывших у них раньше. На крейсерах значительная часть 6-дюймовых орудий была заменена 8-дюймовыми, что имело большое значение, так как 6-дюймовая пушка Канэ имела наибольшую дальность только до 60 кабельтовых, а немецкие 4-дюймовые орудия стреляли дальше. На некоторых судах взамен 8-дюймовых были установлены 130-миллиметровые орудия русского образца, очень удачные и имевшие дальность свыше 80 кабельтовых.
Сильно возросли в числе вспомогательные силы флота: тральщики, сетевые заградители, сторожевые суда, плавучие мастерские, базы и пр. Начались также работы по прорытию Моонзундского канала. Целью этой большой работы было сделать Рижский залив столь же малодоступным для неприятеля, как и Финский. Моонзунд имел в некоторых местах всего 18 футов глубины, а потому был всегда доступен только для миноносцев и подводных лодок. Для начала была поставлена задача сделать его проходимым для всех крейсеров и 2-й бригады линейных кораблей, с тем, чтобы впоследствии углубить и для дредноутов. Для этой работы собраны были почти все землечерпалки, имевшиеся в нашем распоряжении, и работы начались очень энергично.
Многие сухопутные батареи, служащие для обороны входов в Финский залив и в або-аландские шхеры, получили новые пушки, и был учрежден специальный отряд для обороны этой фланговой позиции.
Активные действия флота начались в половине апреля, когда лед в Рижском заливе начал таять. Сейчас же было приступлено к возобновлению минного заграждения в Ирбенском проходе. Работа была тяжелая и опасная, и ей очень мешали германские аэропланы. Не обошлось, конечно, и без жертв. Погибли два тральщика, и были потери в людях.
Из военных событий за это время следует отметить гибель английской подводной лодки Е18, без вести пропавшей в Балтийском море. Последнее известие от нее было получено 15 мая, в котором ее командир сообщал о взрыве им немецкого миноносца № 100.
1 июня контр-адмирал Колчак, произведенный в этот чин на Пасху 1916 года, вышел со своими лучшими миноносцами «Новик», «Победитель» и «Гром» – все нового типа, под охраной бригады крейсеров, на поиски немецкого каравана, перевозившего руду из Швеции вдоль шведских берегов. Эти караваны следовали обыкновенно в нейтральных водах, т. е. в трехмильном расстоянии от берега, но для соблюдения этой предосторожности приходилось терять много времени и тратить лишний уголь, а потому немцы решили сократить путь и в некоторых местах пускать караваны морем, охраняя их миноносцами и вооруженными пароходами, предполагая противником подводные лодки. Действительно, наша подводная лодка «Тигр» встретила в начале весны караван из девяти пароходов и потопила тремя минами наибольший из них. Сейчас же создался дипломатический инцидент. Шведы стали доказывать, что потопление произошло в территориальных водах, а подводной лодке по самым условиям своего плавания чрезвычайно трудно опровергнуть возводящиеся на нее обвинения. Вследствие этого нашим подводным лодкам было категорически приказано нападать на неприятельские суда только в случаях, не допускающих никакого сомнения в навигационном смысле. Такое распоряжение, однако, имело последствием то, что немецкие караваны стали совершенно беспрепятственно совершать свой путь, проходя морские плесы исключительно в ночное время.
Контр-адмирал Колчак решил помешать немецкой торговле и напасть на караваны своими миноносцами. Мы имели довольно точные сведения от своей шведской агентуры о времени выхода каравана, но первый выход адмирала все же был неудачен. Караван успел пройти раньше опасное место, зато второй выход 1 июня увенчался полным успехом.
В 2 часа ночи наши миноносцы встретили не менее десяти немецких судов и атаковали их минами и пушками. Немецкие конвоиры, несмотря на свою слабость, храбро вступили с нашими силами в бой и тем дали возможность спастись в ночной темноте большей части судов своего каравана. Но зато сами погибли. Всего было потоплено два конвоира и два парохода. Следствием этого нападения стало длительное прекращение немецкой торговли морскими путями из Северной Швеции.
После этой экспедиции война на Балтийском море приняла характер почти аналогичный с сухопутным фронтом, т. е. стала походить на позиционную. Главными факторами войны сделались подводные лодки и мины заграждения. Мы крепко держали Финский и Рижский заливы и аландские шхеры, замыкающие вход в Ботнический залив. В самом Балтийском море плавали только наши, германские и английские подводные лодки, и то только в тех местах, где вследствие большой глубины нельзя было ставить минных заграждений. Все море вблизи берегов было и нами, и немцами засорено минами до такой степени, что навигация без предварительного траления сделалась невозможной. Наши подводные лодки часто встречались с немецкими, причем обыкновенно противники сейчас же погружались в воду и старались подкараулить друг друга, но из этого обыкновенно ничего не выходило. Было несколько случаев выпуска мин, но ни одного попадания. Это объясняется тем, что с подводной лодки гораздо легче заметить неприятельский перископ, чем с высокого борта корабля.
В этом году немцам удалось построить несколько подводных заградителей, которые благодаря своим совершенно гладким обводам могли проходить над минными заграждениями, так как минрепа[201] по ним скользила и ни за что не зацеплялась. Один такой заградитель прошел в Финский залив и разбросал свои мины на главном корабельном фарватере. Крейсер «Рюрик», идя в Кронштадт, попал на такую мину в самой глубине залива около маяка Нерва и получил пробоину у носовой части в 800 кв. футов величиной. По счастью, его удалось благополучно довести до Кронштадта и там ввести в док. Идея этого рода судов принадлежит нам. Инженер Налетов[202] стал строить подводный заградитель еще в 1911 году на Николаевских судостроительных заводах, но, сконструировав прекрасно минную часть, он благодаря своей неопытности сделал никуда негодный корпус. Пришлось все переделывать, и заградитель был готов только в 1915 году и все-таки оказался очень плохим мореходом.
По счастью для нас, немецкий подводный заградитель, совершивший такое трудное предприятие, домой не вернулся и бесследно погиб, почему подобные экспедиции больше ими не повторялись.
Деятельность нашей минной дивизии, кроме сторожевой службы и постоянных работ по усилению Ирбенского прохода, была также направлена на содействие правому флангу армии генерала Радко-Дмитриева. Наши суда очень часто оказывали содействие сухопутным силам как при нашем, так и при германском наступлениях, и всегда заслуживали благодарности за свою меткую и весьма действительную стрельбу. Немцам пришлось в конце концов выставить по побережью целый ряд батарей тяжелых орудий, чтобы оказывать нам противодействие. По мере увеличения нашего оборудования по части авиации наши летчики стали все чаще и чаще оспаривать немецкую гегемонию в воздухе. Часто происходили воздушные бои, и потери с обеих сторон были почти одинаковы. Несколько раз немцы высылали против наших судов ночью и свои огромные цеппелины, но у них не было ни одной удачи.
3 июля контр-адмирал Колчак был произведен в вице-адмиралы и назначен командующим Черноморским флотом. Это было совершенно необычайным назначением. Адмиралу было всего 41 год, и он пробыл контр-адмиралом всего два месяца. Официальная биография адмирала напечатана во многих изданиях, и потому я ограничусь только своими личными впечатлениями. Мне пришлось впервые встретиться с ним в эскадре Тихого океана в 1898–1899 годах, когда он был молодым мичманом на крейсере «Крейсер». Он уже и тогда обращал на себя внимание своими познаниями в морском деле и порывистостью своего характера. Он чрезвычайно интересовался военно-морской историей и знал все морские сражения как свои пять пальцев. Его в шутку называли маленьким Нельсоном,[203] а его приятеля и товарища мичмана Дукельского, погибшего впоследствии вместе с адмиралом Макаровым на «Петропавловске», маленьким Фаррагутом.
Вторично мне пришлось с ним встретиться в Порт-Артуре, когда он командовал миноносцем. Я его видел довольно редко, но всегда в мрачном настроении. Видимо, он, как и некоторые другие, видел, что у нас делается не то, что надо, что мы оказались совершенно неподготовленными к тому, что надо делать, и занимались все время до войны тем, чего не следовало делать, но в то время у нас глаза еще не открылись, и это влекло за собой тяжелое настроение. Тем не менее Колчак прекрасно командовал миноносцем и оказал большую пользу делу защиты Порт-Артура.
Далее нам пришлось встретиться уже после войны на службе в Морском генеральном штабе, в котором Александр Васильевич играл немаловажную роль. Здесь мне удалось поближе к нему присмотреться. А. В. был человек глубоко честный и преданный своему долгу. Карьеризма в нем не было никакого. Наоборот, он был, пожалуй, даже слишком скромен, и ловкачи из его товарищей шли всегда впереди него по службе. Он выдвигался исключительно своими делами, а не умением показать товар лицом. Его нельзя было назвать исключительно умным человеком, но он имел душу воина и, главным образом, порыв. Характер его был очень решительный, и порой задерживающие тормоза у него плохо действовали. Но вместе с тем он умел сознавать свои ошибки и принимать меры к их исправлению. Будучи прекрасным примером, он мог подчинять себе многих слушателей, а потому и был одним из виновников запоздания развития нашего подводного флота, так как верил в неодолимую силу дредноутов. В 1913 году он осознал свою ошибку, не побоялся открыто высказать это и настаивал на скорейшем создании сильного подводного флота во всех наших морях. К сожалению, его агитация уже явилась запоздалой, и наш флот к началу войны почти не имел правоспособных подводных лодок.
Как строевой начальник А[лександр] В[асильевич] был безусловно выдающийся, и он умел внедрять и в подчиненных свои высокие качества воина.
В последний раз я встретился с ним, когда был подчинен ему в качестве начальника обороны Дуная, но об этом периоде будет речь позже.
Черноморский флот в 1916 году
Черноморский флот также вступил в 1916 год значительно усиленный. В декабре вступил в строй новый дредноут «Екатерина II», и таким образом у нас образовалось тройное превосходство в силах. У «Гёбена», впрочем, осталось одно неоспоримое преимущество – это 27 узлов хода, благодаря чему поймать его было чрезвычайно трудно. Нужно, впрочем, сознаться, что адмирал Эбергард не действовал энергично в этом направлении, что и послужило причиной его смены.
С вступлением в строй «Екатерины II» началась фактическая блокада Босфора, и она производилась следующим образом. Были образованы две группы, причем в каждую входили дредноут, крейсер и четыре или пять нефтяных миноносцев. Кроме того, постоянно дежурили две подводные лодки, одна у Босфора и другая в угольном районе. Группы чередовались между собой, причем дредноуты с крейсером ходили переменными курсами в расстоянии 50–100 миль от Босфора, посылая от себя патрули из миноносцев для осмотра берегов. Три старых броненосца типа «Евстафий» были базированы в Батуме и составляли охрану правого фланга нашей армии, начавшей наступление на всем фронте. Блокада Босфора была довольно действительна, но все же изредка неприятельские крейсера прорывались, выходя из Босфора и входя в него ночью, когда подводные лодки были слепы. Для наших больших кораблей держаться к Босфору ближе 50 миль было опасно, вследствие присутствия там нескольких немецких подводных лодок.
Из военных действий следует отметить в это время следующие эпизоды.
8 января «Императрица Екатерина II», не окончив своих артиллерийских испытаний, была почему-то назначена в дежурство для блокады Босфора. Кроме нее в группу входили крейсер «Память Меркурия» и пять миноносцев. Всей группой командовал контр-адмирал князь Путятин.[204] Ночью с «Екатерины» увидели какое-то судно без огней, но огня не открывали из опасения ошибки. Рано утром, еще до рассвета, два миноносца, посланные накануне вечером для осмотра берегов, донесли по радио, что видят пароход, а затем и «Гёбен». Далее миноносцы сообщили, что «Гёбен» их преследует и что они идут на соединение с отрядом. В это время «Екатерина II» была на меридиане мыса Эрегли милях в 50 от него. Контр-адмирал князь Путятин отдал приказ дать полный ход и идти навстречу «Гёбену». Вскоре показались наши миноносцы, а за ними милях в десяти был виден густой дым «Гёбена». Опасаясь, что «Гёбен» займет позицию между нами и восходящим солнцем, которое будет светить нам в глаза и ослеплять наводчиков, адмирал при сближении с «Гёбеном» приказал склониться влево и взять его на правый курсовой угол, чем открыл «Гёбену» путь к Босфору. Бой начался с расстояния в 85 кабельтовых. После третьего залпа с «Екатерины» были замечены попадания, и «Гёбен» круто повернул к Босфору, после чего началось уже преследование.
Бой продолжался всего 24 минуты и прекратился, когда расстояние увеличилось до 110 кабельтовых. «Екатерина II» выпустила всего 96 снарядов 12-дюймового калибра. К концу боя на «Екатерине II» действовали только шесть орудий из двенадцати, так как в двух башнях произошли аварии с различными приборами управления башнями. Причиной этого прискорбного явления была неготовность корабля и спешное его вступление в строй до окончания всех испытаний. Если бы «Гёбен» не избегал сам старательно боя, то возможно, что еще через некоторое время он имел бы дело с обезоруженным кораблем. Адмиралу Путятину ставили в упрек, что он своим маневром дал возможность «Гёбену» уйти беспрепятственно в Босфор, но, принимая во внимание неготовность корабля в материальном отношении и отсутствие сплоченности и практики в личном составе, мне кажется, что с его стороны вполне логично и извинительно желание вступить в бой в благоприятной для себя тактической обстановке.
Этот бой интересен тем, что он был единственным за всю войну единоборством двух дредноутов.
Во время одного из последующих своих выходов «Екатерина II» подверглась ночной атаке своих же собственных миноносцев и только по счастливой случайности осталась целой и невредимой. В этом случае вина была всецело на начальнике дивизиона, капитане 1-го ранга Черкасове,[205] храбром и образованном офицере, который решился на эту атаку, считая «Екатерину» на 20 миль севернее, чем она была. Во всех флотах мира существует неписаное правило, что большой корабль ночью открывает огонь по приближающимся миноносцам, не заботясь о том, свои они или чужие, когда ему это точно не известно. Наоборот, миноносцы не смеют ночью приближаться к своим кораблям и не смеют атаковать, не будучи уверены, что перед ними неприятель.
Та же «Екатерина II» подверглась атаке двух неприятельских подводных лодок, когда она неосторожно подошла к берегам. По ней было выпущено три мины, но, по счастью, две крайние мины прошли с носу и с кормы, а средняя, которая направлялась прямо в борт, не дошла и затонула.
В феврале 1916 года наша Кавказская армия победоносным маршем заняла Эрзерум, и сейчас же начались затруднения со снабжением армии продовольствием, вследствие чего понадобилось занять Трапезунд, чтобы облегчить снабжение, пользуясь шоссейной дорогой Эрзерум – Трапезунд. Наш флот своими обстрелами тыла и фланга неприятеля все время облегчал движение вперед правого фланга нашей армии, но при подходе к Трапезунду было решено взять обороняющиеся турецкие силы в клещи, и проектирован десант силой в одну дивизию с артиллерией и кавалерией. В Новороссийск было собрано около сорока транспортов под охраной «Екатерины II», крейсеров «Память Меркурия» и «Прута» (бывшего «Меджидие»).
3 марта транспортный флот должен был выйти в море и высадить войска в тылу неприятеля, обороняющего Трапезунд. «Екатерина II» с двумя миноносцами вышла ночью накануне, чтобы охранять вход в порт во время выхода огромного количества судов.
На рассвете, когда она была милях в тридцати от входа в порт, при легком низовом тумане с нее заметили приближающийся дымок. Адмирал Погуляев,[206] командовавший охраной, ожидал в это время присоединения «Памяти Меркурия», но все же отдал распоряжение приготовиться к бою. Сделали опознавательный сигнал, получили в ответ непонятный сигнал и сейчас же увидели поверх тумана мачты спешно поворачивающего корабля. Тогда был открыт огонь, но «Бреслау» под покровом тумана и дымовой завесы, которую он выпустил, уже быстро удалялся. Это был удобный случай с ним покончить, но он был пропущен. Наш десант был высажен вполне благополучно в районе Эмине, после чего турки очистили Трапезунд без боя и ушли в горы. Трапезунд был занят нашими войсками, и в нем сейчас же была организована база для снабжения правого фланга нашей армии.
Из действий мелких судов в начале 1916 года следует отметить работу подводного заградителя «Краб». Как уже выше было сказано, «Краб» обладал хорошими и остроумными приспособлениями для постановки мин, но имел очень скверные качества подводного судна.
Вскоре по вступлении в строй ему было приказано поставить мины заграждения в самом Босфоре поперек пролива. «Краб» вышел в море, сделал благополучный переход и перед сумерками в 15 милях от входа погрузился и пошел под моторами, изредка показывая перископ. Ход был не более 6 узлов. Через два часа обнаружился ранее не замеченный конструктивный недостаток лодки. Пары керосина, которым работали двигатели, начали насыщать атмосферу лодки. У команды начались головная боль и слезоточивость. Тем не менее командир решил во чтобы то ни стало выполнить поручение. Всплыть, не будучи незамеченным, уже не было возможности и оставалось только терпеть, обливаясь холодной водой и нюхая нашатырный спирт. Наконец пришли на место по счислению и начали постановку мин, идя поперек пролива на глубине 20(?) футов. Перед самым концом работы послышался сильный удар и затем другой, помягче. Оказалось, что лодку снесло сильным Босфорским течением с курса, и она стукнулась о камни. Пришлось вынырнуть на поверхность и осмотреться. По счастью, уже была темная ночь. Светил совсем близко маяк, но, к удивлению «Краба», никто его не заметил. Убедившись, что в лодке нет течи, командир снова опустился, быстро закончил постановку и взял курс в море. Работа прошла совершенно незамеченной для противника, и через двое суток крейсер «Бреслау» подорвался на этом заграждении.
Тому же «Крабу» пришлось ставить минное заграждение под Варной. По пути он выдержал жестокий шторм, причем произошло много мелких поломок. Подходя к Варне, «Краб» был атакован четырьмя неприятельскими гидроаэропланами. На него было сброшено 36 бомб, которые рвались очень близко, и только чудом он уцелел от них. Тем не менее «Краб» все-таки поставил мины и благополучно вернулся в Севастополь. Когда его осмотрели по возвращении, то оказалось, что одна мина во время шторма соскочила с рельс, накренилась, и предохранительный механизм у нее отработал. Один легкий толчок, и мина должна была взорваться. Благодаря этому случаю, почти все мины правого борта при постановке не вышли из элеватора, но что самое ужасное, это то, что экипаж и не подозревал, что он целую неделю плавал, находясь на волосок от моментальной гибели.
С лодкой «Нерпа» также произошел интересный случай во время ее плавания вблизи Босфора. Лодка шла на поверхности, и вдруг вахтенный начальник увидел след мины, идущей прямо в борт. Он сейчас же круто повернул от нее, но мина все же под острым углом достигла лодки и ударилась. На глазах оцепеневшего офицера зарядное отделение вдруг отломилось от мины и, вместо того чтобы взорваться, пошло ко дну. Это необычайно счастливая случайность.
Весной этого же года Черноморский флот понес некоторые потери: во время рекогносцировки Варны был потоплен подводной лодкой угольный миноносец «Лейтенант Пущин». Что же касается до потопления госпитального судна «Португалия», то тот поступок нельзя иначе квалифицировать, как варварским. «Португалия» была окрашена по уставу кораблей Международного Красного Креста и о существовании ее было дано знать как в Женеву, так и турецкому правительству. Она шла вдоль берега около Ризе и, обнаружив вблизи себя перископ подводной лодки, спокойно продолжала идти своим курсом, будучи уверена в своей полной безопасности. Лодка прошла вдоль борта, повернула и затем спокойно без предупреждения выпустила мину. В результате – гибель корабля, половины команды и медицинского персонала, в том числе и нескольких сестер милосердия.
Ставка летом 1916 года
Начиная с весны все время у меня прошло в поездках. На самую Пасху я был командирован в Севастополь по вопросу о защите от подводных лодок, которые начали скопляться в Босфоре в значительном количестве. Нужно было делать сетевые заграждения в массовом количестве и притом в кратчайший срок, а также организовывать специальные отряды сетевых заградителей и сторожевых судов. В Черном море благодаря его глубоководности маленьких мореходных судов было очень мало, и нужно быть высчитать потребности и привезти недостающие по железной дороге из других морей.
Во время моего пребывания в Севастополе произошел прискорбный случай с угольным миноносцем. Из очередного дежурства возвращалась группа в составе «Императрицы Марии», «Кагула» и нескольких миноносцев. Большие корабли прошли благополучно, а миноносец, идя несколько в стороне от входного створа, при самом входе на рейд вдруг наткнулся на мину и затонул. Около четверти команды погибло при взрыве. Оказалось, что неприятельский подводный заградитель поднырнул под наше заграждение и поставил семь мин с надписью «Христос Воскрес». Заградителю не удалось, видимо, поставить мины точно на фарватере, который мы протраливали ежедневно, и все мины оказались в непосредственной близости от фарватера. Следует заметить, что шутка с надписью довольно дурного тона и вполне достойна губителей госпитальных кораблей. Если бы миноносец следовал точно по фарватеру, то он бы не погиб. После этого случая заграждения входа на рейд были усилены специальными противолодочными сетями с подрывными патронами, и подобных происшествий больше не повторялось.
В мае месяце в Ставку поступили жалобы из Кавказской армии на замедление доставки боевых припасов и продовольствия в Трапезунд. С другой стороны, адмирал Хоменко – начальник транспортной флотилии, доносил, что все требования сухопутных войск им полностью удовлетворены. Для разбора этого дела послали меня. Я был очень рад этой командировке, так как никогда еще не бывал на Кавказе.
Я поехал через Севастополь, где получил в распоряжение нефтяной миноносец, и на нем прямо пошел в Трапезунд, чтобы на месте выяснить недочеты. В Трапезунде я уже был раньше при посещении турецких портов нашей эскадрой в 1911 году. Это небольшой, но очень красивый по местоположению азиатский городок. Население наполовину турецкое, наполовину армянское. Съехав на берег, я был поражен громадным количеством всяких запасов, сложенных на набережной, частью покрытых брезентом, а частью лежащих без всякого прикрытия. Временный командир порта, капитан 1-го ранга Мордвинов,[207] очень удивился, когда я ему сообщил о жалобах на морскую доставку, и, указав на горы материалов, сказал, что скоро будет в большом затруднении, куда складывать все эти запасы, которые никто не вывозит.
В Трапезунде стоял штаб корпусного командира, и я сейчас же отправился туда в надежде получить указания оттуда, но, к моему удивлению, ни корпусный командир, ни его начальник штаба ничего не могли мне сказать о претензиях на транспорты. Они только сказали мне, что страдают от недостатка конских и воловьих подвод, так как турки отобрали все средства передвижения у местного населения. Командир корпуса просил меня также оказать ему содействие и подкрепить его просьбу об установке на побережье Трапезунда 10-дюймовых орудий, чтобы парировать возможный налет «Гёбена» с целью разгромить и зажечь наши интендантские склады. Это действительно являлось необходимым, так как все увеличивающаяся гора всяких материалов составляла, несомненно, большую приманку для тяжелых орудий «Гёбена». Вообще на Трапезунд следовало обратить больше внимания благодаря его особому значению. Помимо береговых укреплений следовало обеспечить рейд от проникновения подводных лодок, так как на рейде постоянно стояло несколько разгружающихся пароходов. Нужно было удивляться, что немцы до сих пор еще не сделали попытки их потопить.
Пробыв в Трапезунде до вечера, я отправился дальше в Батум. Картина снабжения стала для меня выясняться в следующем виде. Шла обыкновенная русская неразбериха. Войска предъявляли свои требования к тылу, и в данном случае правый фланг страдал от недостатка дров для варки пищи, тогда как в каменистых горах расположения армии дров достать было невозможно. В Батуме же этого не предвидели, и дров не было, а потому послали в Трапезунд, главным образом, фураж, в котором недостатка летом не чувствовалось. Войска жаловались. Великий князь сердился, а потому, спасая свою голову, стали все валить на морской транспорт, которому было совершенно безразлично, что возить. По своей неопытности в интендантских кляузах, я, к сожалению, не собрал нужных письменных документов, в чем мне пришлось раскаяться впоследствии.
В Батуме я нашел необычайное явление. Вся маленькая гавань была заставлена судами как военными, так и коммерческими. Из адмиралов я нашел там Хоменко, Львова[208] и Каськова.[209] Хоменко, как всегда, страшно суетился, повел меня по всем транспортам, причем я, конечно, в этой суете не мог ни в чем отдать себе отчета. Мой приятель Львов сейчас же потащил меня на бульвар обедать, причем меня привели в такой вид, что уже нечего было думать о делах, а только бы поспать.
Как я ни пробовал приступить к делу, но это никак не удавалось. То приехали дамы, то прогулка на автомобилях, – словом, бесшабашное житье. Когда я заикался о неудовольствиях, то Хоменко – начальник транспортной флотилии, говорил: «Они все врут и валят с больной головы на здоровую». В конце концов, по-видимому, так и было. Интендант в Батуме не выразил мне никаких претензий на флот и адресовал меня в Тифлис.
Мне все-таки удалось проследить транспортную службу. Ежедневно по вечерам два небольших транспорта около тысячи тонн каждый выходили из Батума и, идя ночью под самым берегом, рано утром приходили в Трапезунд. При самых примитивных способах разгрузки, сначала на баржи и затем с барж прямо на берег, разгрузка занимала двое суток в случае благоприятной погоды. Если на море начиналось волнение, то разгрузка прекращалась и ждали хорошей погоды. При таких условиях летом, когда хорошие погоды почти постоянны, Трапезунд получал ежедневно около 1000 тонн груза, т. е. от трех до четырех товарных поездов в сутки, что вполне достаточно для снабжения двух корпусов.
Путешествие было довольно безопасно, и мы за все время, пока действовала эта коммуникационная линия, потеряли на ней всего два транспорта. Один потоплен подводной лодкой, а другой расстрелял крейсер «Бреслау».
Наконец я добрался и до Тифлиса поздно ночью и остановился в гостинице. Утром на следующий день я отправился во дворец и сейчас же получил аудиенцию. Великий князь, одетый в белый бешмет, который к нему очень шел, принял меня очень любезно, как старого знакомого, сказал, что надеется, что я устраню все недоразумения и шероховатости со снабжением, и в заключение пригласил завтракать. Не выяснив предварительно всех претензий, я не мог доложить своего уже составившегося мнения об этом деле, а потому отложил доклад до прощальной аудиенции, которую так и не получил.
На завтрак собралось многолюдное общество. Присутствовали великая княгиня Анастасия Николаевна,[210] великий князь Петр Николаевич[211] с женой и дочерью, вся свита великого князя и много посторонних лиц, в большинстве военных. Великий князь был очень оживлен и весел, сообщал сведения о Брусиловском наступлении, которое только что началось, громко говорил и смеялся. Завтрак не носил официального характера, как это бывало в Ставке, а имел, вероятно, благодаря присутствию нескольких дам, семейный вид. Меня посадили рядом с княжной Марией Петровной, и мы очень оживленно разговаривали. Против меня сидел генерал Палицын,[212] который все время острил и смеялся. Вообще Кавказ с самого приезда в Батум производил на меня впечатление, после довольно мрачного Могилева, самого веселого места в России. Вероятно, так действовали постоянные успехи нашей армии на Кавказе.
В этот день мне так и не пришлось заняться делами, потому что обедать я был приглашен к помощнику главнокомандующего генералу Янушкевичу, а затем он меня повез в оперу в свою ложу. Я думал, что Янушкевич меня посвятит в интересующие меня вопросы, но он оказался не в курсе дела и рекомендовал мне обратиться к начальнику снабжений. Это оказалась нелегкая задача. Сколько я ни старался поймать генерала (забыл фамилию), он оказывался неуловимым: то у него комиссия, то доклад, видимо, он меня просто избегал. Если бы я был старый воробей по кляузным делам, то я, конечно, легко бы его вывел на чистую воду, но я привык к нашей системе, принятой при министре Григоровиче: решать все на словах, а документ только должен поступать для хранения в архиве уже после решения дела, и думал, что и здесь могу поступать таким же образом.
В конце концов, мне все-таки удалось на пять минут поймать генерала в штабе округа. Он мне сейчас же сказал, что ему страшно некогда и нет с собой справки, но, действительно, моряки очень задерживают грузы, но что он надеется, что вскоре все наладится и будет хорошо. Мне, конечно, следовало бы попросить великого князя или его начальника штаба устроить компетентное заседание, а на нем выяснить все недостатки снабжения сухопутного и доказать, что морской транспорт выполняет свою задачу, но я этого не догадался сделать и решил уехать, доложив все великому князю на словах, но великий князь уехал на неделю в Боржом, а мне нужно было возвращаться, потому я уехал без доклада. В результате моя поездка пропала даром, так как взаимные попреки и жалобы продолжались и дальше.
В общем, мои впечатления о Тифлисе были следующие: удушающая жара в городе и чудная температура и воздух на горе, с которой город сообщается фуникулером, идущим не более 10 минут. Прямо попадаешь из пекла в рай. Веселое бесшабашное житье. Работа, как и везде, с прохладцей. Не в пример России настроение всюду хорошее.
Только что я вернулся в Батум, меня пригласили на госпитальный пароход обедать, накормили хорошим обедом, причем за столом сидел целый цветник красивых сестер и пили шампанское. Я спросил, всегда ли это так, но мне объяснили, что больных и раненых сейчас нет, а потому они отдыхают. Вечером я наконец ушел на миноносце в Севастополь и оттуда вернулся в Ставку.
Там настроение было бравурное после удачи Брусиловского наступления,[213] и я было тоже им заразился, но генерал Ронжин,[214] только что вернувшийся из поездки на Южный фронт, сильно меня охладил, сообщив цифры наших потерь, которые были потрясающе велики и не соответствовали добытым результатам. Мы все еще не научились ценить людские жизни и заменять, где это можно и нужно, людей машинами. В результате порыв быстро выдохся. Тем не менее успех был несомненный и тем более важный, что мы уже совсем отвыкли от удач. Сейчас же явилось желание попробовать на других фронтах.
Выбрали Слуцкое направление для Юго-Западного фронта, Барановичское на Западном, а на Северном решили произвести сложную операцию с большим десантом в три дивизии в Рижском заливе с направлением на Туккум. Две последних операции, впрочем, были отставлены, а Слуцкая повела к разгрому гвардии и к ничтожным успехам.[215] Не знаю, кто виноват в этом злосчастном деле, но, как мне рассказывали, операция велась самым бестолковым образом. Порыв гвардии был превосходен, но он разбился о плохую артиллерийскую подготовку и болотистые места, выбранные для атаки. Большие нападки были как на генерала Безобразова, так и на его инспектора артиллерии герцога Мекленбург-Стрелицкого.[216] Брусиловский успех повлиял на решение Румынии выступить на нашей стороне.
Генерал Алексеев был против активного выступления Румынии, и обстоятельства показали впоследствии, что он был прав. Действительно, благодаря нейтралитету Румынии наш фронт от Балтийского до Черного моря сокращался на 600 верст, а с включением румын в число воюющих нам пришлось там сосредоточить до 300 тысяч войск, взяв их с других фронтов. На вступлении румын в коалицию настаивали, главным образом, французы, и их мнение одержало верх. Кроме того, большую энергию в этом направлении развивал вождь румынской оппозиции в парламенте Таке-Ионеску,[217] убеждавший своих соотечественников, что если Румыния не выступит активно, то ничего не получит из австрийского наследства.
Вообще наши дипломатические сношения с румынами велись довольно оригинальным способом. Официальный представитель – посланник в Румынии Поклевский-Козелл,[218] выполняя инструкции министра Сазонова, сдерживал румынский шовинизм, но у нас был еще другой, неофициальный, представитель, контр-адмирал Веселкин, начальник экспедиции особого назначения на Дунае. Веселкин был личный друг государя и подчинен начальнику Морского генерального штаба, но фактически действовал совершенно самостоятельно, опираясь на свою силу при дворе. Экспедиция, как это уже было сказано выше, имела своим назначением снабжение Сербии боевыми и всякими другими припасами и выполняла эти функции очень хорошо, но после того как Сербия была занята немцами и болгарами, Веселкин остался без дела и, будучи человеком энергичным, занялся дипломатией. Об адмирале Веселкине, как об очень оригинальном человеке, нужно вообще сказать несколько слов.
Он был очень умный и чрезвычайно веселый человек с неисчерпаемым запасом анекдотов, чем привлекал к себе всех, с кем имел сношения. Вместе с тем он не был типичным карьеристом и делал всегда много добра своим подчиненным. Вся беда его была в том, что он не родился в век Екатерины, так как самодурство его не знало границ. Он не признавал никаких правил и законов и действовал всегда по своим личным соображениям. Как пример можно привести раздачу им знаков военного ордена и медалей по своему личному усмотрению не только воинским чинам, но и штатским людям и даже женщинам. Над ним уже военное начальство собиралось наряжать следствие, но приехал государь и Веселкин подал его величеству список, и на нем было начертано: Согласен. Воспользовавшись приездом государя, Веселкин произвел в следующие чины почти всех своих подчиненных, большинство которых не имело никаких прав на производство, и в Морском министерстве прямо за голову схватились, чтобы дать этой каше какие-нибудь законные формы.
При нем всегда состояла кучка прихлебателей всяких профессий, составлявших его личный двор, и обязанность которых была в развлечении своего покровителя. Тут были и певцы, и музыканты, и просто пьяницы из хороших фамилий. Все они были записаны как рабочие в мастерские и получали паек и жалованье.
Когда в Румынии начали серьезно поговаривать о выступлении, Веселкин приехал в Ставку за получением инструкций. Генерал Алексеев поручил ему построить плавучий понтонный мост для соединения местечка Исакчи в Добрудже с русским берегом Дуная, а от государя он получил в свое распоряжение полтора миллиона рублей для расположения румынского общественного мнения в нашу пользу.
Веселкин сейчас же накупил в Москве на 50 тысяч всяких серебряных и золотых вещей и с этим багажом начал действовать. Румыны очень падки на всякие подарки, а Веселкин был щедр, и скоро он сделался персоной грата как в румынском флоте, так и в партии Таке-Ионеску. Он субсидировал две большие газеты и, действительно, много способствовал благодаря своей энергии, обаянию своей личности повышению настроения в Румынии. Поклевский-Козелл, конечно, писал жалобы, что Веселкин ему портит всю его политику; Сазонов жаловался морскому министру, но Веселкин никого не слушал и вел свою линию. В июле месяце, когда выступление Румынии в недалеком будущем стало уже делом решенным, адмирал Русин послал меня на Дунай, чтобы на месте составить план действий для помощи Румынии со стороны Черноморского флота.
Я поехал на Одессу и оттуда через Раздельную и Бендеры на Рени. Я сел в обыкновенный вагон 1-го класса, но вскоре ко мне пришел какой-то господин в форме военного чиновника и предложил пройти в специальный вагон экспедиции, курсирующий постоянно по линии. Он мотивировал свое предложение тем, что здесь меня могут побеспокоить, а в вагон экспедиции никто не имеет права войти без разрешения. Влияние Веселкина начинало, оказывается, сказываться уже с Одессы. Я перешел в вагон, и, действительно, ни одна живая душа не смела туда войти, хотя все вагоны были переполнены.
По приезде в Рени сейчас же явился сам Веселкин и повез меня обедать на свой флагманский пароход «Русь».
Я провел на Дунае три дня, и все время были завтраки и обеды с возлияниями, так что я боялся, что заболею от несварения желудка.
В особенности мне памятен завтрак в Вилкове в устье Дуная, куда меня Веселкин возил на своей яхте [неразборчиво]. Там при нас распотрошили только что пойманного осетра, при нас же вынули из него икру, посолили так называемым сладким рассолом и потом на пароходе подали на тарелках к водке.
Однако Веселкин успевал не только кушать и пить. Он совмещал в себе все свойства энергичного администратора, помпадура щедринского типа и нормального кутилы. Дисциплина у него, по крайней мере наружная, была самая строгая. И офицеры, и нижние чины тянулись и отдавали честь как в Петербурге. Я видел развод караулов, и ей-богу он происходил как во времена императора Николая I, и все это с ополченскими частями, которых у него было шесть рот. Как он все это устраивал, я просто диву давался. Одновременно он был и Аракчеевым, и демагогом, и, например, разрешил, в противность всем уставам, нижним чинам курить на улице. В конечном результате его все любили, несмотря на порку, потому что в нем чувствовали сердце и широкую русскую натуру.
Наконец мне удалось сделать то, зачем я приехал. Для этого мы поехали в Галац. Как только пароход подошел к пристани, со всех сторон к Веселкину бросились наши русские извозчики-скопцы, которым он особенно покровительствовал. «Со мной, Михаил Михайлович», – раздавались отовсюду голоса. Когда в Рени был государь, Веселкин представил его величеству депутацию от скопцов, и государь им обещал разрешение вернуться в Россию. Потом в Совете министров были в крайнем затруднении, как поступить с этим делом, и Маклаков как-то его спрятал под сукно.
В Галаце мы поехали к начальнику штаба румынского флота контр-адмиралу [в тексте оставлено место для фамилии]. Почтенный адмирал был очень любезен и настроен самым оптимистическим образом. Когда я его спросил, не опасается ли он прихода австрийской флотилии, то он мне сказал, что они не посмеют, а если и придут, то мы их так примем, что им не поздоровится.
Тем не менее оказалось, что у них нет ни мин заграждения, ни заградительных батарей. Мне пришлось растолковывать ему необходимость принять нужные меры предосторожности, и он, как бы делая мне одолжение, согласился принять сто мин заграждения и четыре 6-дюймовые пушки со всем снабжением и прислугой для постановки с началом войны выше Браилова. Мне сразу стало видно, что нам с такими союзниками еще придется наплакаться. На их помощь можно было рассчитывать только в смысле плавучих материалов для транспорта. У нас уже было решено послать на Дунай три канонерских лодки, пять малых мониторов и немедленно приступить к оборудованию барж для установки на них 6-дюймовых орудий. С этими силами мы рассчитывали не пустить в наши воды австрийскую речную флотилию, состоящую из 10 мониторов, причем половина из них была устарелого типа.
Таким образом моя миссия окончилась благополучно, и я уехал из Рени, унося с собой приятные воспоминания о вкусной рыбе и икре, и в очень скверном состоянии желудка от переедания и перепивания. Веселкин не преминул отправить со мной в подарок государю императору какой-то особенный сыр качкавал[219] весом чуть ли не в два пуда.
15 августа Румыния наконец начала военные действия. Мы отправили на Дунай две дивизии пехоты, дивизию кавалерии под общим начальствованием генерала Зайончковского.[220] По наведенному Веселкиным мосту около Исакчи первой переправилась наша кавалерия, встреченная румынами с большой помпой. Командовал ею, кажется, генерал Леонтович.[221] Полевые войска румын все были на Северном фронте, а на юге против болгар они оставили исключительно ландвер, в чем им скоро пришлось горько раскаяться. Болгары, руководимые немцами, сразу обрушились на их выдвинутый плацдарм впереди городов Туртукая и Силистрии, соединенных с другим берегом Дуная только двумя деревянными мостами. Болгары прорвали фронт, а немецкие аэропланы сожгли самый большой мост и отрезали этот путь отступления. Ничего не было предвидено и ничего не подготовлено, даже не было приготовлено плавучих средств для переправы войск на баржах. Почти целиком весь гарнизон плацдарма попал в плен к противнику.
Генерал Зайончковский получил приказание зайти в тыл противнику, но все произошло так быстро, что он, войдя в соприкосновение с ним, получил уже известие, что румынские войска сдались, и ему самому спешно пришлось ретироваться в Добруджу, во избежание подобной же участи.
Наша флотилия под начальством капитана 1-го ранга Зорина поступила под начальство румынского адмирала Негреско,[222] который, по-видимому, во все время этого дела сохранял нейтралитет и ничем не облегчил участь своих войск. По счастью, австрийцы со своей флотилией в это время занимались ловлей румынских барж и пароходов у Турке-Северины и ничем не помогли болгарам. После этой катастрофы Зайончковский отступил на линию Черноводы – Констанца и поспешно окопался, заняв оборонительную позицию.
В самом начале сентября меня снова послали на Дунай, чтобы ознакомиться с положением. Я застал в Рени полное оживление. Там стояла сербская дивизия, образованная из австрийских пленных, только что пришедшая из Одессы. Она занимала своими палатками все обширное поле между городом и Дунайским пароходством. Офицеры дивизии вместе со своим начальником, генералом Хаджичем, главным образом прибыли с острова Корфу, куда эвакуировалась сербская армия после оккупации Сербии. Я вместе с Веселкиным объехал лагерь. Сербы имели прекрасный и бодрый вид как своей выправкой, так и веселыми лицами. Действительно, эта дивизия, попав в ряд боев в Добрудже, покрыла себя славой и совершила много подвигов, причем потеряла более половины своего состава.
На реке также было очень оживленно: все время ходили караваны из барж, груженных или войсками, или военными грузами, отправляемыми в Черноводы, а оттуда уже по железной дороге, идущей параллельно нашему фронту между Черноводами и Констанцей. В мастерских экспедиции шла лихорадочная работа по приспособлению барж для перевозки раненых. Я был на самой нарядной из них, борт № 1, отделанной действительно на диво, на которой служила жена адмирала Веселкина. Эта баржа отличалась от прочих как элегантностью отделки, так и красотой своих сестер, набранных из бессарабских помещичьих семейств. Сам Веселкин распоряжался самым энергичным образом. Когда это было нужно, он умел заставить работать и самых ленивых, и, действительно, Зайончковский был им очень доволен.
Я долго в Рени не задержался и отправился на пароходе в Черноводы, где застал и нашу флотилию, стоявшую и оберегавшую знаменитый Черноводский мост. Мост этот действительно очень красив и составляет чудо инженерного сооружения. Прямо какие-то ажурные кружева на огромной высоте. Болгарские аэропланы ежедневно сбрасывали на мост бомбы, но почти всегда безуспешно, а маленькие поломки сейчас же чинились. Наши лодки обстреливали аэропланы из своих аэропушек и, по-видимому, успешно, судя по минимальным повреждениям на мосту.
В Черноводах я сел на автомобиль и отправился в штаб генерала Зайончковского, стоявший в местечке с названием, похожим на Меджидие. Генерала я нашел в очень хорошем расположении духа, вероятно, вследствие недавнего удачного боя, где болгары были отражены. Он меня пригласил обедать и все время рассказывал разные разности. Он был очень доволен приемом при румынском дворе, очень много говорил о любезности королевы, но о румынском войске, подчиненном ему, был очень скептического мнения. Нижние чины, по его словам, были неплохи, но офицерский и, в особенности, командный состав не имел никакого представления, что такое война. Ни связи, ни взаимной поддержки совершенно не было. Полки оставляли свои позиции, совершенно не заботясь о соседях. Он был вынужден расставить в тылах свою кавалерию с приказанием гнать обратно отступающие части. Рассказал также несколько анекдотов. Один раз в тылу румынский полк принял нашу кавалерию за болгарскую и недолго думая положил оружие. Чтобы этого впредь не случалось, он приказал всей кавалерии надеть румынские шапки.
Жаловался он на своего начальника штаба, что он вместо того, чтобы работать, только ухаживает за сестрами милосердия. Про Веселкина сказал, что он им очень доволен и что он его взял лаской. «Он такой человек, что если его попросить, то он все сделает, а если приказать, то ничего». В общем, он надеялся, что с прибытием подкреплений он перейдет в наступление и опрокинет болгар.
В этом он ошибался. К нему прибыли сильные подкрепления, но болгары его опрокинули, и ему пришлось отступать в полном беспорядке.
От Зайончковского я приехал в Констанцу. Очень нарядный курортный город представлял картину полного беспорядка. Все состоятельные жители в панике бежали, побросав свое имущество. По улицам бродил голодный домашний скот, который подбирали наши солдаты и отправляли в свои части. В гавани стояли наш броненосец «Ростислав» под флагом адмирала Паттона[223] и несколько миноносцев. Их назначением было поддерживать левый фланг нашей позиции. Я проехал прямо на «Ростислав».
Адмирал Паттон был очень рад меня видеть. Он мне сообщил, что в Констанце стоять было бы неплохо, если бы не постоянные налеты аэропланов, которые ежедневно делали визиты и сильно разрушали город. В «Ростислав», впрочем, пока не было еще ни одного попадания. На «Ростиславе» был очень толковый артиллерийский офицер. Он мне сказал, что благодаря отсутствию практики мирного времени и выработанных методов чрезвычайно трудно использовать надлежащим образом могущественную судовую артиллерию на пользу армии. Он сейчас работал в этом направлении с сухопутными артиллеристами, но боится, что не успеет закончить своей подготовки и что армию собьют раньше. Он просил меня повлиять на генерала Зайончковского, чтобы будущее наступление повелось в охват приморского фланга болгар, с высадкой небольшого десанта в тыл болгарам, как это успешно уже практиковалось на кавказском побережье. Пока что наши миноносцы практиковались в стрельбе по неприятельским позициям, но, вследствие трудности наблюдения, о результатах было судить трудно.
Я перекочевал на «Ростислав» и на другой день рано утром присутствовал при входе в Констанцу пяти больших наших транспортов, привезших пехотную бригаду.
Адмирал Паттон сильно опасался неприятельских подводных лодок и все время сигналами торопил транспорты, которых охраняли миноносцы. Действительно, в продолжение двадцати минут транспорты один за другим вошли к узкую гавань и пришвартовались к пристаням. Сейчас же началась высадка, чтобы успеть убрать с судов всех людей до налета аэропланов, что также удалось очень счастливо. Через час уже все войска были размещены на берегу, и продолжалась только выгрузка грузов. В 9 часов утра я отправился в обратный путь.
Приехав в штаб, я передал просьбу моряков об атаке приморского фланга, но генерал меня рассеянно выслушал и, видимо, был занят чем-то другим.
Впоследствии оказалось, что неприятель обрушился на наш центр, прорвал его, и приморскому флангу пришлось спешно отходить. Те, которые успели отойти на Констанцу, благополучно сели на транспорты под защитой судовых орудий и эвакуировались, а отступившие сухим путем сильно пострадали от атак болгарской кавалерии, и часть их сдалась неприятелям.
У адмирала Колчака, тогда уже командовавшего флотом, был план обороны Констанцы, но, так как заблаговременно не устроили никаких укреплений и войск, отступивших на Констанцу, было очень мало, то пришлось его отбросить. Наши суда очистили порт уже под огнем неприятельской артиллерии.
Тем же путем, как я приехал, так и вернулся в Ставку. Общий смысл моего доклада был тот, что на румын надеяться нечего и нужно рассчитывать только на себя. Генерал Алексеев сейчас же принял меры к усилению наших войск в Добрудже, но они уже прибыли поздно.
Вслед за назначением адмирала Колчака командующим флотом в Черном море контр-адмирал Непенин был назначен командующим в Балтийском море вместо адмирала Канина. Оба эти назначения составили своего рода революцию, так как адмиралу Колчаку было всего 41 год, а Непенину 43 года. Обоим старым командующим нельзя было поставить в вину никаких важных ошибок или промахов, но несомненно, что оба обнаруживали некоторую вялость и, может быть, слишком большую осторожность. На самом деле это было следствием того, что и на море благодаря минам и подводным лодкам война приобрела позиционный характер.
Новый командующий Балтийским флотом в противоположность адмиралу Колчаку учился в корпусе плохо, был изрядным шалопаем, постоянно сидел в карцере и сейчас же по производстве в мичмана попал в кутежную компанию, почему долгое время был на плохом счету у начальства. Только попав в штаб-офицеры, он переменил образ жизни и вдруг обнаружил недюжинные способности. Получив в командование отряд маленьких миноносок, очень неудобно построенных, он быстро привел его в отличное состояние и обратил на себя внимание адмирала Эссена. Назначенный затем начальником службы связи, учреждения совершенно нового, он так сумел поставить этот сложный аппарат, что обратил на себя всеобщее внимание. В своем лице он объединил как оперативную, так и агентурную разведку и, действительно, знал все, что делается как в море, так и у неприятельских берегов, так и в Кильском канале. Он снабжал ценными сведениями не только свой флот, но неоднократно и английский, за что получал особые благодарности. Каждый наш командир или начальник отряда, выходя в море и получив задачу от оперативной части, непременно шел к Непенину для ориентировки об обстановке в море и, возвратившись, давал ему сведения о том, что он видел и слышал.
Таким образом, из скромного места начальника службы связи Непенин создал положение с огромным влиянием на все операции флота, и популярность его возросла до необычайных размеров.
Про адмирала Непенина можно сказать, что он, не имея широкого философского ума, имел большую практическую сметку и положительный административный талант. Его назначение было приветствовано всем личным составом флота.
Лето 1916 года на морях
Лето 1916 года все прошло без крупных столкновений. В Балтийском море морская война окончательно приобрела окопный характер вокруг минных полей. Чаще всего мелкие стычки бывали около Ирбенского заграждения, которое мы сделали очень солидным. Немцы старались открыть в нем путь своим подводным лодкам для прохода в Рижский залив вдоль курляндского берега, который был покрыт их батареями. Мы всячески старались препятствовать им в этой работе и постоянно обстреливали их тральщиков. Почти ежедневно происходили бои в воздухе между нашими и немецкими летчиками с переменным результатом, но все же можно сказать, что постепенно мы все более и более получали над ними перевес. За лето мы потеряли на минах эскадренный миноносец «Доброволец» и тяжело был поврежден другой, «Донской Казак». Немцы потеряли большое число тральщиков как от мин, так и от нашей артиллерии. Трем подводным лодкам все же удалось проникнуть в Рижский залив, но наши миноносцы сделали им своими постоянными преследованиями жизнь в нем невыносимой, и они, не сделав никакого вреда, быстро оттуда исчезли. В сентябре Моонзундский канал был углублен для прохода кораблей додредноутского типа, и в Рижский залив были введены старый линейный корабль «Цесаревич» и крейсеры «Адмирал Макаров» и «Диана». «Слава», простоявшая в заливе больше года, получила возможность идти для отдыха и ремонта в Кронштадт.
В Черном море вступление в командование адмирала Колчака вызвало громадное оживление. Энергичный адмирал, которого сразу прозвали железным за его неутомимость, заставил всех кипеть как в котле.
При снисходительном и довольно вялом, хотя и храбром, Эбергарде все немного распустились. Колчак сразу начал жесткую подтяжку. Начались беспрестанные выговоры и даже смены с командования прямо сигналом адмирала в море. Наступил своего рода террор. Молодежь восторгалась адмиралом, а люди постарше только кряхтели и желали ему от души скорее сломать себе шею.
Как Колчак распоряжался, можно видеть из следующего факта. Первому дивизиону миноносцев было приказано поставить минные заграждения у Босфора. Дивизион принял должное количество мин и вышел в море, а вслед за ним вышел сам адмирал на «Императрице Марии», служившей поддержкой. Рано утром на следующий день дивизион согласно оперативному приказу подошел к флагманскому кораблю, и начальник дивизиона доложил на словах, что не мог исполнить приказания, так как по нему был открыт огонь с батарей. Адмирал приказал ему отойти от борта и затем поднял сигнал «Начальник дивизиона *** сменяется с должности», а затем другой: «Флаг-капитан по оперативной части капитан 1-го ранга Смирнов[224] назначается начальником дивизиона на время предстоящего похода». Капитан Смирнов, прибывший вместе с адмиралом из Балтийского моря, вступил в командование и в следующую ночь блестяще выполнил поручение.
Капитан 1-го ранга Савинский, смененный с командования, был виновен, главным образом, тем, что дал себя обнаружить противнику, так как по установившимся понятиям главным условием постановки заграждения была секретность операции, и потому такая мера наказания была чересчур жестока, но адмирал не допускал мысли, чтобы полученное приказание не было исполнено. Он считал, что за отдание приказания отвечает начальник, а подчиненные только за точное исполнение. Так гласит морской устав.
Интересно также вступление адмирала Колчака в должность командующего флотом. Обыкновенно такая смена сопровождалась известным церемониалом, но обстоятельства им помешали.
Когда адмирал Колчак, только что прибывший, сидел в кабинете у адмирала Эбергарда, пришли доложить, что по радиопеленгам видно, что крейсер «Бреслау» находится в море и двигается к востоку. Адмирал Эбергард хотел отдать распоряжение дежурной группе из дредноута, крейсера и дивизиона миноносцев выйти в море, но Колчак забыл все церемонии, заволновался и захотел непременно идти сам с группой. Через час была назначена съемка с якоря, успели только немного закусить, и никаких формальных сдач и приемок соблюдено не было. Адмирал Колчак вышел в море, и ему удалось заключить в кольцо «Бреслау», но последний все-таки благодаря огромному преимуществу в ходе прорвался, обменявшись несколькими выстрелами с крейсером «Память Меркурия».
Жизнь на берегу с вступлением нового командующего также изменилась. Адмирал Эбергард с началом войны отменил все балы и вечера, и жизнь носила несколько монастырский характер. Адмирал Колчак говорил, что война – это нормальная жизнь воинов, почему она не должна ничем нарушать установившихся привычек и обычаев. С его приездом повсюду началось веселье, и он сам принимал в нем участие.
В смысле ведения операций адмирал Колчак обратил особенное внимание на постановку мин у Босфора, чем неглижировал[225] Эбергард, который все еще надеялся, что нам придется высаживать там десант, и потому не хотел засорять вход в Босфор минами. Адмирал Колчак начал усиленное минирование Босфора, и в течение месяца там было поставлено около 2000 мин. На некоторое время все турецко-германские суда как военные, так и коммерческие исчезли из Черного моря, но затем немцы протралили канал под берегом под защитой береговых батарей, и суда снова, правда, значительно реже, но все же начали опять выходить в море. Значительных столкновений, впрочем, не было.
Следует отметить геройский подвиг подводной лодки «Тюлень» под командой капитана 2-го ранга Китицына.[226] В канун сентября «Тюлень» находился невдалеке от Босфора ночью в надводном положении и заметил силуэт приближающегося корабля. Корабль шел мористее «Тюленя» и видеть его не мог. Командир «Тюленя» дал полный ход и пошел на сближение, надеясь рассмотреть его поближе. По-видимому, это был коммерческий пароход, и потому, приблизившись на 15 кабельтовых, Китицын дал ему под нос два выстрела, приказывая этим пароходу остановиться, но в ответ с парохода началась орудийная стрельба. Так как опускаться под воду было уже поздно, Китицын решил продолжать бой, сближаясь все больше и больше. По счастью, орудия на противнике, видимо, управлялись неопытной командой, так как его стрельба все время шла на перелетах. Бой продолжался уже более получаса, и «Тюлень» не получил ни одного попадания, а пароход загорелся и наконец остановился и прекратил огонь. Китицын подошел к нему близко и переправил на своей маленькой шлюпке на него четырех человек команды с офицером, которые быстро потушили пожар. Пароход оказался турецким транспортом «Родосто» под командой немецкого офицера. Он был вооружен одним орудием в 87 миллиметров и двумя 57-миллиметровыми, а на «Тюлене» было одно 76-миллиметровое и одно 57-миллиметровое. Таким образом «Тюлень» одержал победу над более сильным противником. Серьезных повреждений на «Родосто» не было, и, сняв с него всех немцев, Китицын отправил его со своей командой в Севастополь. За этот подвиг Китицын получил по статуту Георгиевский крест.
Несмотря на всю энергию адмирала Колчака, судьба была все-таки против него. В начале октября рано утром, когда команда еще спала, на «Императрице Марии» возник пожар в бомбовом погребе. Пробили тревогу и начали заливать пожар водой, открыв кингстоны. Адмирал тотчас же прибыл на корабль и сам распоряжался действиями. Пожар прекратить не могли, и начались частичные взрывы, видимо, жар распространился на другие погреба, хотя общего взрыва погребов не было. Между тем под влиянием вливания воды корабль погрузился носом и получил крен, который все больше увеличивался. Инженеры уверяли при постройке этих дредноутов, что они не будут переворачиваться подобно прошлым кораблям, и потому не было сделано распоряжения сейчас же после начала пожара отвести корабль на мелкое место. Адмирал все время надеялся потушить пожар и не жалел воды. Когда стало ясно, что корабль в опасном положении, то распоряжение было сделано, но было уже поздно. Когда крен достиг 20˚, команду сняли с корабля, и адмирал сошел сам. Через некоторое время корабль плавно перевернулся и сел на дно. Из числа тысячи человек команды 92 человек недосчитались совсем и около 50 было раненых и обожженных, которых свезли в госпиталь.
После «Марии» случилось несчастье и с «Екатериной». Корабль, входя ночью на рейд, стал на мель вследствие неправильно зажженных на берегу огней. По счастью, его скоро сняли с мели. Считая себя виновником обоих несчастий, как главный начальник, адмирал Колчак просил о своей смене, но его просьба была отклонена.
В Немецком море произошло в этот период знаменитое Ютландское сражение, о котором уже написано на всех языках много томов, и споры продолжаются до сих пор. Я не буду описывать этого сражения, но позволю себе высказать некоторые соображения по поводу обоих сражавшихся флотов. Английский флот был сильнее германского, по крайней мере, в треть силы, т. е. относился к германскому как три к двум, и тем не менее тактический успех все же следует отнести к стороне немцев. Причина этого успеха кроется в превосходстве немецкого тактического обучения и лучшей постройке немецких кораблей. Английский главнокомандующий адмирал Джелико сделал две существенные ошибки. Первая заключалась в том, что он запоздал с разворачиванием своих сил для боя, чем потерял драгоценные полчаса для действия своей могучей артиллерии, а вторая в том, что он не сделал попытки догнать немецкий флот у Харп-Рифа на другой день утром при отступлении немцев на свои базы.
В обоих случаях адмирал Джелико проявил нерешительность, которая и лишила его вполне вероятного успеха. Германский главнокомандующий адмирал Шер[227] проявил, наоборот, большую решительность и даже дерзость, сделав маневр, подобный нельсоновскому в Трафальгарском сражении.[228] Адмирал Шер во вторую стадию боя атаковал англичан в перпендикулярном направлении к их фронту, что считалось противным всем тактическим указаниям. Как сами немецкие критики говорят, такой маневр может быть оправдан только успехом. Успех действительно был достигнут тем, что англичане вынуждены были уклониться от минных атак немцев и этим потеряли последний остаток светлого времени для продолжения артиллерийского боя.
Оба главнокомандующих сделали также ошибки с употреблением своего минного флота. Адмирал Шер тем, что пустил его на поиски неприятеля в неправильном направлении, а адмирал Джелико совсем его не выслал, а употребил как завесу для охраны своего тыла. Вообще адмирал Джелико проявил в противоположность своим флагманам слишком большую осторожность. В своем донесении первому лорду он ставит себе в заслугу, что во время его непосредственного командования в бою английский флот не понес никаких существенных потерь, и все таковые пришлись на время командования адмирала Битти.[229] При таком взгляде, конечно, самое благоразумное было не вступать в бой совсем. Английское общественное мнение, впрочем, не согласилось с адмиралом Джелико и всецело стало на сторону храброго и решительного Битти, который в скором времени и вступил в командование флотом.
Ставка осенью 1916 года
Когда случилась катастрофа с «Императрицей Марией», мне пришлось взять на себя грустную обязанность докладывать об этом несчастье государю, так как адмирал Русин был в Петрограде. Когда я доложил о катастрофе, то государь отнесся к этому событию совершенно спокойно. Его величество спросил меня, отчего это могло случиться? Я ответил, что подобные случаи уже были во всех иностранных флотах вследствие самовозгорания пороха и весьма вероятно, что и тут подобный же случай. После этого государь сейчас же заговорил о том, какой образ следует послать в Севастопольский морской кадетский корпус по случаю его открытия, и, видимо, придавал этому вопросу чрезвычайно важное значенье. На этом аудиенция и кончилась. В тот же день государыня, бывшая в это время в Ставке, после обеда подозвала меня к себе и расспрашивала о подробностях катастрофы и может ли это отразиться на военных действиях в Черном море. Я ответил, что превосходство за нами сохранится и нужно надеяться, господство на море останется за нами.
Меня поразила разница в выражении лица государыни с того времени, когда я ее видел в первый раз близко в 1907 году. Я тогда, командуя миноносцем «Гремящий», был приглашен к высочайшему столу во время плавания «Штандарта»[230] в шхерах. В то время у государыни был какой-то ореол счастливой жены и матери, и это счастье светилось в ее глазах. Теперь на меня смотрела трагическая женщина с упрямым подбородком и куда-то ушедшими вовнутрь себя глазами. В ней чувствовалась какая-то назойливая мысль, которая ее никогда не оставляла.
Через несколько дней меня послали в Севастополь для участия в комиссии по разбору дела о катастрофе с «Императрицей Марией». Комиссия проработала несколько дней, опросила всех причастных к делу лиц, но никаких оснований к возможности предположения злого умысла не нашла. С хранением взрывчатых веществ были найдены некоторые упущения против правил, но не существенные, чтобы придать кого-либо суду. Заключение комиссии говорило о возможности самовозгорания как вероятной причине несчастья.
Между тем в Ставке атмосфера становилась все тяжелее и тяжелее, вследствие безнадежности с внутренними делами. Все начали чувствовать, что дело добром не кончится, и говорили об этом сначала шепотом друг другу, а потом все громче и громче. Когда первый раз наружу выплыл Протопопов[231] и вдруг появился в Ставке, все с любопытством на него смотрели. Никто его еще не знал, и многие от него чего-то ожидали, но его комическая фигура скоро предстала перед всеми во всем блеске. Он стал появляться в Ставке в мундире министра внутренних дел и наслаждался своею властью и почетом, который ему оказывали городовые.
Нельзя сказать, чтобы государю никто не открывал глаза на положение и не говорил правды: начиная с лиц свиты, как например, князя Орлова и Дрентельна и кончая его советниками Кауфманом-Туркестанским, генералом Алексеевым, Родзянко и даже великими князьями, многие лица требовали свалить Распутина[232] и устранить его пагубное влияние, но ничто не помогало. Все попытки кончались опалами, так как [неразборчиво] императрицы была слишком силен. Был один момент, когда нам казалось, что дело может еще наладиться. Это было в последние дни министерства Штюрмера.[233]
Один раз вечером к нам пришел веселый и радостный флигель-адъютант Саблин и сообщил, что государь вызвал Григоровича в Ставку и предложил ему стать председателем Совета министров. Государь им это уже сказал, и телеграммы посланы. Мы все возликовали, так как считали, что Григорович – единственный человек, который в настоящем положении может еще спасти положение. Мы базировались на следующих основаниях: адмирал Григорович был безусловно талантливый администратор, опытный политик и ловкий человек. Он обладал особым умением привлекать к себе людей. Его авторитет в государственных учреждениях был неоспоримый. Он нравился даже императрице. Лучшего человека выбрать было нельзя. Сумел ли бы он справиться с Распутиным – это, конечно, вопрос, но другого, более походящего, человека не было. Я сейчас же снарядил капитана 1-го ранга Альтфатера навстречу Григоровичу в город Оршу, чтобы предупредить его и рассказать ему положение. Когда Григорович приехал, то государь сказал ему несколько незначительных слов и задал несколько пустых вопросов по морскому ведомству. Григорович и мы все остались в полном недоумении и разочаровании. Потом Саблин говорил, что государь разговаривал по прямому проводу с императрицей, и все переменилось.
Все пошло по-старому, и разговоры шли все громче и громче. Великий князь Дмитрий Павлович[234] часто заходил к нам и говорил совершенно откровенно о полной безнадежности положения. Он все приписывал Распутину и, как известно, сделался душой заговора против него.
Много говорили и говорят повсюду о причинах русской революции: большинство считает главными виновниками евреев и масонов, но есть и более наивные люди, которые винят отдельных лиц, как, например, государя, государыню, Гучкова, Милюкова и Родзянко, английского посла Бьюкенена, Распутина и прочих лиц; другие винят кадетскую партию, всю русскую интеллигенцию и, наконец, весь народ; есть и такие, которые говорят, что всему причина война. Мне лично кажется, что все эти мнения ищут на поверхности и не хотят посмотреть в глубину вещей, т. е. на корень всех причин. Я лично думаю, что революция есть болезнь, которая поражает только нездоровые и ослабленные организмы и не может привиться к здоровым и сильным.
Была ли Россия здоровым организмом? Да, была двести лет тому назад. Рассмотрим только главные части ее организма того времени.
Во главе был самодержавный царь и сильное правительство, им назначенное. Правящим сословием, которое поставляло всю высшую и среднюю администрацию, всю военную иерархию и питало все культурные элементы страны, было поместное дворянство – сословие, крепко связанное с землей, благодаря владению крепостными крестьянами и сильное своими традициями и общими интересами. Третьего кита, на котором покоилось государство, составляли крестьяне, в то время бесправные рабы, которые беспрекословно выполняли все, что им приказывали, и работали не только за страх, но и за совесть, так как они были привязаны к своим помещикам.
Эти три элемента, т. е. царь с правительством, дворянство и крестьянство, были связаны в одно целое крепким цементом: в то время крепкой и непоколебимой православной верой.
Доказательством здоровья русского государственного организма служит весь восемнадцатый век. Несмотря на фаворитизм двора, взяточничество приказных, произвол администрации, неправедный суд, темноту народных масс, как бы наперекор всему этому, государство росло, процветало и ширилось в своих границах.
Первый удар здоровому организму был нанесен еще Петром Великим. Он уничтожил патриаршество и подчинил церковь государству. Екатерина II конфисковала церковные имущества и положила тем начало постепенному обращению пастырей церкви в чиновников духовного ведомства. Таким образом, цемент сословной спайки был нарушен, что и принесло свои плоды много лет спустя. Эта же монархиня положила начало разложению дворянства, подарив ему грамоту о вольности дворянской. Получилось сословие без обязанностей, с одним правами, а крестьянство осталось по-прежнему в бесправном положении, с одними обязанностями. От безделья дворянство начало разлагаться и постепенно выродилось сначала в чацких, онегиных, печориных, маниловых и ноздревых, а потом в обломовых, рудиных, верховенских и, наконец, в типов Чехова и Арцыбашева, которые существовали у нас на глазах.
Указ 19 февраля освободил крестьян, но не создал из них граждан, так как не сделал из них собственников, а вместо помещика прикрепил их к общине.
Малоземельное дворянство после освобождения крестьян захирело экономически и выделило из себя интеллигентский пролетариат, а крестьяне, под влиянием новых условий промышленной жизни, выделили рабочий пролетариат, которые и образовали вредные элементы в государственном организме и нарушили прежнюю гармонию.
Наконец, царь и правительство с течением времени обособились от народа. Прежде дворянство, тесно связанное с крестьянами, служило посредником между правительством и народом, теперь же централизованная бюрократия отделила верхи от низов непроходимой стеной. Еще царь Николай I с грустью констатировал, что Россией правят столоначальники.
Таким образом, мы видим, что все три кита, державшие Россию, и связующий их цемент подверглись разрушению, а новых форм вместо одряхлевших создано не было. Жизнь идет вперед, и отжившие формы должны безболезненно переходить в новые согласно требованиям времени.
Из крепостных рабов должны были выкристаллизоваться консервативные земельные собственники-хлеборобы. Из поместных дворян в соединении с купечеством должна была организоваться крепкая национальная и патриотическая буржуазия, которая должна была стать культурным элементом в стране.
Дворянство, как сословное органическое целое, после освобождения крестьян потеряло смысл своего государственного существования, но землевладельцы как крупные, так и средние, независимо от сословия, вполне его сохраняли, подобно владельцам фабрик и заводов. Большое имение при интенсивном хозяйствовании весьма сходно с фабрикой и управляется на тех же принципах экономики.
Что касается до пролетариата, вызванного к жизни новыми экономическими условиями, то его значение в России, как в государстве земледельческом, должно было быть второстепенным и не играть важной роли в политической жизни страны.
При такой эволюции государственный организм не потерял бы сил и здоровья, и революции бы не было. Всякая страна выделяет из себя нездоровые соки, но они могут отравить только больной организм, как это и было у нас. В последние пятьдесят лет перед войной Россия была тяжелым хроником, хотя и казалась здоровой и сильной, и недаром лорд Биконсфильд[235] называл ее колоссом на глиняных ногах.
У нас революцию устроил численно ничтожный пролетариат только потому, что он был хорошо организован, а элементы спокойствия и порядка, т. е. буржуазия, находились еще в эмбриональном состоянии. Если бы ко времени революции мы имели хотя бы один из вышенамеченных элементов, сорганизованный на новых началах, то революция была бы быстро подавлена.
Крестьяне-собственники не допустили бы разыграться революции, как это было в Финляндии и Венгрии. Организованная буржуазия подавила бы революцию, как это произошло в Германии. Наконец, сильное правительство могло бы несомненно подавить петербургское восстание и тем отсрочить пожар революции до окончания войны.
Таким образом, мы пришли к заключению, что революция произошла оттого, что в России не успели еще образоваться на новых началах элементы порядка, служащие антитоксином всяким ядовитым инфекциям, или, иначе сказать, Россия запоздала с преобразованием из государства патриархально-бюрократического, каким она была до великих реформ императора Александра II, в государство буржуазно-крестьянское, каким она должна быть и будет рано или поздно.
Все прочие причины если и влияли, то только в смысле ускорения кризиса, а основная причина, несомненно, вышеуказанная. Кто виноват в этом запоздании – это уже другой вопрос, но, конечно, нельзя в этом винить одно правительство. «Народ имеет такое правительство, которое он заслуживает», сказал Монтескьё, и это правда. Вину вместе с правительством следует разделить и всему народу, а главным образом интеллигенции, так как она нисколько не помогала правительству стать на правильный путь, а, наоборот, сбивала его с него.
Действительно, как работало наше общественное мнение и вдохновляемая им литература? Требовала ли она создания крестьян-собственников и патриотической буржуазии? К сожалению, нет! Наша литература восхваляла идиллию крестьянской общины, а собственника называла кулаком и мироедом. Оракул кадетской партии Герценштейн[236] составил проект экспроприации земли у помещиков, но отнюдь не выдвигал крестьянскую собственность, а все собирался отдать общине.
Наша литература клеймила буржуазию и восторгалась пролетариатом до босяков включительно, а больше всего работала на разрушение веры, семьи и морали, т. е. прямо в руку революции.
Правительство не могло идти по той дороге, куда его толкала интеллигенция, и топталось, не зная, что делать, на месте, до самого своего свержения. Один Столыпин чутьем большого государственного человека понял верный путь и пошел по нему, но один в поле не воин. Столыпина убили, и замены ему не нашлось.
Между тем в Ставке и по всей России атмосфера все сгущалась. Чувствовалась какая-то апатия, хотя наружная жизнь текла по-прежнему: писались бумаги, офицеры ходили на службу, но настроение у всех было тяжелое. Многие начали искать забвения в вине, в картах и в женщинах, и все ожидали чего-то тяжелого, неизбежного и неумолимо надвигающегося. Чувствовалось как в море перед наступлением урагана. Была тишина, но эта тишина наводила страх.
В октябре адмирала Веселкина назначили севастопольским комендантом, а я попросился на его место. Мое ходатайство было уважено. Сослуживцы сделали мне теплые проводы с обильными возлияниями. Государь император принял меня в особой аудиенции, очень благодарил за службу и сказал, что место остается за мной, и когда я захочу, то могу всегда вернуться. Я объяснил свой уход желанием не отставать от строя, но мне показалось, что государь не поверил мне и что он думал, я не знаю. Во всяком случае, я был очень тронут милостивым приемом.
Все же мне было грустно уезжать из Ставки. Более двух лет я пробыл там. Там было много милых и симпатичных людей, с которыми приятно было служить и часто встречаться. Конечно, Ставка Верховного главнокомандующего, которая должна проливать свет и одушевление на всю армию, была далеко не на высоте положения, но мы давно уже страдали безлюдьем. Такие были времена, и недаром мы навлекли на себя Божью кару.
Общее впечатление от действий армии и флота в Великую войну
Мне пришлось наблюдать действия армии издалека и, так сказать, со стороны, не принимая самому участия в работе штаба. Позволяю себе все-таки высказать результаты моих наблюдений без всяких претензий на их правильность. Мне кажется, что наша армия выступила на эту войну все же неподготовленной, несмотря на общий опыт Японской войны. Может быть, этот опыт не дал должных результатов благодаря особенностям Японской войны, преимущественно позиционной по условиям общей обстановки, но, думаю также, что опыт не мог проникнуть во всю толщу армии благодаря громоздкости и тяжеловесности нашей бюрократической машины мирного времени.
Главным недостатком нашей армии считаю ее малоподвижность и, так сказать, слабую маневренность. Нельзя все оправдывать слабым развитием наших путей сообщения и недостатками технических средств. Конечно, при перебросках по железнодорожным путям больших войсковых масс наши противники имели над нами огромное преимущество, но, когда война перешла на нашу территорию, мы работали зачастую даже в лучших условиях, чем они. Немецкие корпуса наскакивали и отскакивали как искусные фехтовальщики, а мы почти никогда не могли сохранить в тайне наши передвижения вследствие продолжительности времени.
Помню, как генерал Алексеев в разговоре со мной искренно восхищался немецкими маневрами в Курляндии в 1915 году, когда они, имея меньше сил, чем мы, повсюду успевали сохранять инициативу в своих руках. Помню также, как генерал Данилов от души удивлялся, каким образом немцы успели отступить от Гродно в 1914 году, когда мы, казалось, зажали их в тиски, и при этом не оставили нам ни одного колеса от повозки в качестве трофея. Даже австрийская армия была в этом отношении выше нас. Австрийцы маневрировали прекрасно в первую Галицийскую операцию, несмотря на наше превосходство в силах, и, проиграв сражение, в тяжелых условиях сумели благополучно отступить, не оставив в наших руках ни одной крупной части. Огромное число австрийских пленных объясняется исключительно добровольной сдачей славян, не желавших драться с русскими.
Второй крупный недостаток – это чрезвычайная пестрота состава армии. Один полк мог идти в уровень с любым немецким полком, а другой, рядом стоящий, не стоил и немецкого батальона. Это объясняется исключительно отсутствием русской военной доктрины, проникающей всю армию от мала до велика. Нельзя набрать талантов для командования всеми частями армии, и эта невозможность заменяется привитием автоматических действий еще в мирное время, когда каждый знает, как ему поступать при известных обстоятельствах. Этот недостаток чрезвычайно затруднял все расчеты командного состава при операционных соображениях. Приходилось принимать во внимание не количество, а, главным образом, качество. Часто бывали случаи, когда с переменой начальников полки быстро преображались и из плохих делались отличными. Должен сказать, что у нас бывали случаи, когда для командования полками и бригадами присылались лица, всю жизнь стоявшие на полицейских постах на углу Невского и Морской. Конечно, для обучения этих лиц новому для них ремеслу требовалось немало времени и крови.
Далее следует указать на отсутствие понимания в армии необходимости твердой связи со своими соседями. За это небрежение мы часто платились большими потерями. Этот недостаток следует приписать неправильной постановке маневров в мирное время, и вообще следует сказать, что маневры в мирное время у нас не были поставлены на должную высоту. Даже гвардия благодаря тактическим ошибкам своих руководителей не дала того, что она могла дать по доблести своего личного состава, что же говорить о других частях.
Не могу не упомянуть также о больном вопросе нашей армии, о нашей кавалерии. Этот род оружия почти не был использован, несмотря на свою многочисленность.
Несомненно одно – армия доблестно сражалась, в чем нам отдают справедливость и наши противники немцы, но если бы к нашей доблести прибавить побольше умения, то результаты войны были бы другими, и революции у нас не было бы. В этом, конечно, виновата не сама армия, и даже не ее главные руководители, а общий моральный упадок русского общества и безлюдье. Достаточно вспомнить, что ни в Японскую, ни в Великую войну у нас не выдвинулся ни один, я не скажу, народный герой, но даже крупный талант. Мы все слыхали имена Плеве, Брусилова, Алексеева, но разве можно было поставить их рядом в народном сознании со Скобелевым,[237] Гурко[238] и Радецким[239] или с Гинденбургом или Фошем.[240]
Переходя теперь к флоту, боюсь, что я не буду столь объективен, так как сам принимал близкое участие в работе по его воссозданию после Цусимского погрома. По-моему, флот больше использовал уроки Японской войны, чем армия. Главная причина этой разницы лежит в том, что почти весь личный состав флота испытал на себе тяжесть поражения, тогда как в армии воевала только ее часть, и притом поражения флота были несравненно существенней неуспехов армии. И все-таки морской молодежи пришлось долго бороться, прежде чем удалось победить рутину и старые порядки, зиждившиеся на безукоризненной чистоте кораблей и строгости вахтенной службы.
В Балтийском море дело шло гораздо лучше и скорее, во-первых, потому что он с 1906 года был в руках адмирала Эссена, а во-вторых, он был ближе к Петербургу, т. е. к Генеральному штабу, что давало возможность с помощью непосредственных сношений проводить все нужные мероприятия.
С Черным морем было гораздо труднее. Значительная часть личного состава Черноморского флота не принимала участия в Японской войне, так как оставалась на своих кораблях и таким образом не получила непосредственного опыта, а кроме того, высшее командование там отличалось большей консервативностью. На младотурок, как называли офицеров молодого Генерального штаба, там смотрели очень косо и хода им не давали. Достаточно сказать, что из-за больших ежегодных осенних маневров, на которых настаивал Генеральный штаб, постоянно возникали препирательства, и выходило всегда так, что маневров делать нельзя. То какой-нибудь большой корабль не может в них участвовать вследствие поломки, то не пройден еще курс стрельбы и т. д. На самом деле причина всегда была та, что начальники становились на маневрах на роли экзаменуемых, а экзаменаторами был младший чином начальник Генерального штаба со своим совсем молодым штабом.
Вследствие снисходительности министров такие увертки часто увенчивались успехом, что, конечно, отражалось вредно на деле. Другая причина была та, что личный состав Черноморского флота был вообще слабее Балтийского, так как общее стремление офицеров флота всегда было быть ближе к солнцу, т. е. к Петербургу, где на виду у начальства легче можно было сделать карьеру, да и сам Петербург был своего рода магнитом.
Когда началась война, личный состав Балтийского флота был достаточно подготовлен, но материальная часть еще вся была старая. Кроме миноносца «Новик» в строй не вошло еще ни одного нового судна. В своем официальном издании о войне германский Генеральный штаб отдает должное подготовке Балтийского флота, но есть и критические замечания, которые сложно оспаривать. Например, немцы говорят, что стрельба у нас, хотя в общем и хорошая, тем не менее значительно уступала стрельбе главных боевых флотов. С этим заключением нельзя согласиться. Мы выработали наши методы стрельбы совершенно самостоятельно, не копируя иностранцев. Главным фактором стрельбы был глаз артиллерийского офицера и единственным его инструментом артиллерийский пятикратный бинокль. Немцы же базировали всю стрельбу на дальномерах, в которые слепо верили. Как нам показал опыт Японской войны, дальномеры сильно расстраивались во время боя, почему мы им и не доверяли. Конечно, у немцев были лучшие дальномеры, чем у нас, но тем не менее во всех наших столкновениях с ними было замечено, что начальная стрельба немцев была почти безукоризненна по точности, но через некоторое время точность уменьшается и, наконец, сильно падает.
Наша стрельба, дававшая великолепные результаты при разделении огня, оказалась неудовлетворительной при сосредоточенном огне, но то же самое мы видели и при стрельбе иностранцев. Достаточно вспомнить безрезультатный обстрел крейсера «Висбаден» в Ютландском сражении. Немцы также несколько скептически относятся к нашей минной стрельбе, но нужно сказать, что у нас почти не было случаев применить наши таланты на деле. В стрельбе минами у нас были также свои самостоятельные методы. Мы установили на наши миноносцы по четыре тройных минных аппарата, чтобы иметь возможность стрелять залпами веером до 12 мин в залп. Главной целью этого метода были повторные атаки на неприятельский флот, прорывающийся через наше минное поле Нарген – Поркалауд в Финском заливе. Атаки должны были вестись днем и с дальних дистанций, чтобы не мешать стрельбе своих судов. Метод был вполне рациональный, но применить его на деле не удалось.
Зато немцы чрезмерно превозносят постановку у нас дела минных заграждений. Правда, что мы единственные оценили значение мин заграждения в будущей войне и единственные, которые имели в начале войны достаточный их запас, но мы делали мины с недостаточным количеством взрывчатого вещества, а потому наши мины только тяжело ранили неприятельские корабли, а не губили их окончательно. В чем мы действительно спасовали – это в деле подводного плавания, о чем говорилось и ранее, и нам, благодаря нашей слабой технике, очень трудно было наверстать упущенное время.
В главную заслугу нашему флоту следует поставить систематичность плана подготовки театра военных действий. Ко времени начала военных действий, наша позиция Поркалауд – Нарген была далеко не готова и представляла только остов намечавшейся артиллерийской обороны, тем не менее немцы, правда, имеющие против себя англичан как главного противника, не смели и думать покуситься против этой ловушки, как они ее называли.
План немцев, поддерживаемый, как известно, главным образом канцлером Бетман-Гольвегом, в противность мнению адмирала Тирпица, был следующий. Быстрыми ударами на сухопутном фронте принудить сначала Францию, а потом и Россию к миру, причем флоты обоих союзников, согласно мирному договору, должны были поступить в распоряжение немцев для борьбы с Англией. Согласно этому плану, германский флот должен был беречь себя до решительного момента будущей борьбы на море.
С началом военных действий создалось довольно странное общее положение: англичане, не имея оборудованных баз в Северном море, все время дрожали за безопасность своих главных сил, ежеминутно ожидая минных атак на эскадры, отдыхающие в гаванях после утомительных крейсерств. Немцы все время опасались нападения на Гельголанд и на Киль через Большой и Малый Бельты, и, наконец, Россия ожидала нападения на Нарген – Поркалауд для диверсии на Петербург. Все противники ждали нападения, и ни один не нападал.
Первой уяснила свое положение Россия. После того как выяснилось окончательно, что главный удар Германии направлен на Францию, стало ясно, что Финский залив временно находится в безопасности. В нашем флоте, после выяснения этого обстоятельства, сейчас же появились наступательные тенденции, но категорическим приказом Ставки всякие помышления об этом были прекращены. Верховный главнокомандующий объявил, что он ничего не требует от флота, кроме обороны подступов к столице, и категорически воспрещает выход главным сил флота за оборонительную позицию.
Немцы в первый период войны держали в Балтийском море 4-ю и 5-ю эскадры броненосцев старого типа, укомплектованных по преимуществу резервистами, но эти эскадры не подчинялись командующему Балтийским флотом принцу Генриху,[241] а находились в подчинении адмиралу Ингенолю, командующему флотом Немецкого моря, составляя его резерв и имея задачей оборону обоих Бельтов[242] на случай появления англичан из Каттегата.[243]
В распоряжении принца Генриха, кроме совсем устаревших судов, имелся лишь маленький отряд новых, состоящий вначале из двух легких крейсеров и трех миноносцев, который постепенно увеличивался другими судами. План принца Генриха состоял в том, чтобы все время держать русских в убеждении, что немцы подготавливаются к широким наступательным операциям, и для этого маленькому отряду давались постоянно активные задачи. По временам принц Генрих, испрашивая разрешения главной квартиры, появлялся у наших берегов с обеими резервными эскадрами и старался сделать как можно больше шуму.
Этот способ действия обманывал нас очень недолго. Во-первых, летучий немецкий отряд, бывший сначала под начальством контр-адмирала Мишке, а потом контр-адмирала Беринга, во время своих операций, правду сказать, очень отважных и хорошо задуманных, понес тяжелые потери, а, во-вторых, наша разведка, очень хорошо поставленная адмиралом Непениным, давала нам очень точные сведения о местонахождении немецких судов и их состоянии. Несмотря на слабость наших сил, состоящих из устаревших миноносцев и крейсеров, мы очень скоро отняли у немцев инициативу действий и совершенно засорили море у их берегов своими минами заграждения, чем причинили им тяжелые потери и затруднили свободу передвижений.
Владение Балтийским морем до самой революции было спорным, но мы шаг за шагом выдвигали наши позиции вперед, и участки моря, находившиеся под нашим непосредственным контролем, все увеличивались и увеличивались. К началу 1917 года весь Финский, Рижский и Ботнический заливы были в нашем владении, а самое море было доступно только для подводных лодок обеих наций, так как большие надводные суда не рисковали в нем ходить, вследствие засоренности всех фарватеров минами заграждения. Последняя попытка немцев сделать набег в Финский залив в октябре 1916 года дала фатальные результаты. Из 11 миноносцев новейшего типа, участвовавших в набеге, уцелело только три, а восемь погибли на наших минах. Это была настоящая трагедия.
Резюмируя работу Балтийского флота за время войны до наступления революции, можно сказать, что он дал больше того, чего от него требовали возложенные на него задачи. Конечно, и там были ошибки, были и примеры малодушия, но в общем флот сдал экзамен больше чем на «удовлетворительно».
Что касается до Черноморского флота, то он по вышеприведенным причинам действовал значительно слабее. В последние два года флотом командовал бывший начальник Морского генерального штаба адмирал Эбергард, который, конечно, понимал недостатки флота, но по свойству своего характера не был достаточно настойчив для их устранения. В результате, при внезапном открытии военных действий со стороны немцев, они нас застали врасплох, и только благодаря счастливой случайности мы отделались легкими жертвами, выразившимися в потоплении «Прута» и «Донца».
Когда я приехал в Севастополь, сейчас же после открытия военных действий, то я нашел там порядочное смущение, очень живо напомнившее мне состояние умов после первой японской атаки в Порт-Артуре. Все как-то потеряли уверенность в своих силах, на лицах была видна растерянность, а морские дамы бегали по городу и наводили на всех панику. Я имел серьезный разговор с адмиралом Эбергардом, в результате которого состоялось решение не уклоняться от боя с «Гёбеном», но действовать осторожно, не разделяя сил и по возможности принять бой вблизи Севастополя.
Как уже было в свое время сказано в записках, решить вопрос, кто сильнее, «Гёбен» или наши четыре старые калоши, было теоретически очень трудно. У нас было 16 старых 12-дюймовых орудий против его 10 новых 11-дюймовых, но его пушки были все на одной платформе, что давало громадные преимущества управления. Ход его почти вдвое превышал наш, и он мог начать и кончить бой, когда хотел; но, с другой стороны, один наш удачно попавший снаряд сразу выводил из строя всю неприятельскую силу, а у нас в случае гибели корабля потеря была только в одной четверти.
Решить вопрос могла только одна практика, т. е. бой, и этот бой вскоре состоялся и был решен в нашу пользу. В дальнейшем Черноморский флот действовал почти всегда успешно, но как-то всегда без решительных результатов. Со вступлением в строй двух дредноутов, мы сделались неоспоримо сильнее противника, и все же он, хотя и редко, но появлялся в море и беспокоил нас своим присутствием.
Характеризуя действия Черноморского флота в общем, можно сказать, что он выполнил следующие данные ему задачи: не допустил высадки сухопутных сил противника на нашей территории, прекратил морское снабжение турецкой армии, действовавшей против Кавказа, почти прекратил снабжение турецкой столицы углем из копей района Зонгулдак – Эрегли, успешно содействовал правому флангу нашей армии в ее поступательном движении и прикрывал высадку десантов, но главной задачи, покрывавшей все остальные, – достичь полного владения морем – не мог, так как «Гёбен» все-таки до самого конца в нем появлялся.
На Дунае в 1916, 1917, 1918 годах
Рени
26 ноября, в день георгиевского праздника, я подъезжал к Рени,[244] месту своего нового назначения. Это совпадение мне показалось хорошим предзнаменованием, и действительно, все последующие ужасы и страдания, обрушившиеся во время революции на нашу армию, коснулись нашего медвежьего угла только краем. Тем не менее обстановка, которую я нашел, была очень невеселая. Наша и румынская армии были в полном отступлении; Бухарест уже был занят неприятелем, и король и двор переехали в Яссы;[245] румынская армия была в состоянии полного разложения, масса офицеров и солдат дезертировала с фронта и пряталась по своим домам; некоторые полки развалились, не сделавши ни одного выстрела, а наши подкрепления подходили очень медленно. Всеми войсками командовал генерал Сахаров,[246] имевший звание помощника главнокомандующего, которым считался румынский король. Генерал Зайончковский, командующий в Добрудже, уже был сменен за отдачу Констанцы и Меджидие и вместо него временно командовал генерал Вобель.
Весь Румынский фронт[247] по плану состоял из четырех армий, двух наших и двух румынских, но наши еще не сформировались, а румынские разложились. Ввиду деморализации румынских войск было предположено отвести их в тыл и привести в порядок при помощи французских инструкторов под командой генерала Бертело,[248] и таким образом вся оборона фактически возлагалась на нас. Оказалось, что генерал Алексеев был совершенно прав, когда предпочитал румынский нейтралитет их активному наступлению, так как мы получили 600 верст лишнего фронта для обороны и дали возможность немцам крепко сцепиться со своими союзниками через Румынию.
Наше отступление было в полном ходу, и мы были в полной зависимости от немцев, так как до прихода всех подкреплений нельзя было и думать о серьезном сопротивлении. Приходилось только гадать, где немцам будет угодно остановиться. Чрезвычайно трудно было снабжать армию, так как железнодорожная сеть в этих местах была слабо развита, и наша колея разнилась с румынской. Большие надежды возлагались на Дунай, но он мог служить артерией только в том случае, если бы мы удержали за собой северную часть Добруджи, а на это надежды было мало.
Ознакомившись с этой неприглядной обстановкой, я с Веселкиным отправился в Браилов[249] явиться генералу Сахарову, имевшему там Ставку. Генерал нас сейчас же принял и произвел на меня приятное впечатление. Он был совершенно спокоен и сказал, что вряд ли немцы еще долго будут наступать и что он считает своей задачей вывести благополучно войска из боев по возможности без всяких катастроф. Он мне приказал подготовить благополучное отступление войск из Добруджи и эвакуацию плавучих средств вниз по Дунаю.
Проводив Веселкина, который был назначен комендантом Севастопольской крепости, я приступил к ознакомлению с вверенной мне частью. Мои функции были одновременно и боевые, и по снабжению армии; боевая часть состояла из двух отдельных отрядов. Первый – морской, состоящий из пяти старых миноносцев, имел задачей оборону устьев Дуная и базировался на Сулин,[250] где нами были реквизированы плавучие средства и мастерские Дунайского международного общества и учреждено временное портовое управление. Второй – речной, состоял из трех канонерских лодок и трех вооруженных тральщиков и имел задачей противодействовать австрийской речной флотилии. Мне же подчинялась и румынская речная флотилия, состоящая из четырех мониторов.
Часть снабжения состояла из четырех морских пароходов, державших правильные рейсы между Одессой и Рени и 16 речных, главным образом буксиров, служивших для буксировки барж, которых было около 50. В устьях Дуная находился еще землечерпательный караван, поддерживавший глубину в так называемом Потаповском канале, прорытом Веселкиным и названном по имени начальника работ по его устройству. Кроме того, в моем владении были два плавучих моста, один в Браилове, а другой в Исакчи, и пять сухопутных батарей тяжелых орудий, расположенных на берегу Дуная и предназначенных для обороны морской базы Рени от нападения австрийской речной флотилии, на случай, если наша флотилия будет вынуждена к отступлению.
Сухопутные силы состояли из шести рот ополченцев, которые занимали караулы, служили конвоирами грузов и несли гарнизонную службу. Совершенно на отлете от меня в устьях Днепра и Буга находился еще подчиненный мне отряд транспортов, занимавшийся перевозкой хлебных грузов для нужд армии. Он был подчинен Веселкину по настоянию главноуполномоченного хлебозаготовками южного района, члена Государственного совета Бергеля.[251]
Штаб экспедиции состоял из флаг-капитана капитана 1-го ранга Климова, помощника по хозяйственной части капитана 1-го ранга Ермакова,[252] помощника по сухопутной части генерал-майора Невского[253] и по гражданской части генерал-майора Майера. Этот последний занимал должность главноначальствующего Измаильского уезда с правами губернатора и был подчинен мне. Всего в экспедиции состояло около трехсот офицеров, трех тысяч военных нижних чинов и тысячи мобилизованных коммерческих моряков, мастеровых и рабочих. Как видно из этого перечня, функции экспедиции были чрезвычайно разнообразные, и состав очень пестрый. Много офицеров при экспедиции было совершенно лишних и ни к чему не пригодных.
Веселкин по своей доброте брал всех, кто к нему просился, да и начальство к нему подсылало по большей части такую публику, которую некуда было девать. Сам Веселкин любил кутнуть, и потому, по примеру свыше, повсюду шло разливанное море. С этим явлением мне было чрезвычайно трудно бороться, так как оно пустило глубокие корни.
Из числа моих помощников наиболее ценным был Ермаков. Пробыв 8 лет директором Дунайского пароходства, он знал Дунай как свои пять пальцев, отлично знал весь личный состав, хорошо был знаком с румынскими порядками и, будучи сам человеком очень умным, мог дать совет по всякой отрасли службы. Мне он был особенно полезен, так как я никогда не имел соприкосновения с коммерческим пароходством. Флаг-капитан Климов был рядовой работник и был вначале полезен, но, когда началась революция, он бросил все и поспешил к своей семье в Севастополь, где и погиб во время матросских зверств. Об генералах Невском и Майере не могу ничего сказать особенного, так как их роли были очень незначительные.
В начале моего командования боевых действий как на Дунае, так и на море, вблизи его устьев, почти не было. Наш речной отряд совместно с румынским, по мере отступления наших войск, также отходил вниз по реке. Австрийская флотилия держала себя пассивно и не сближалась с нами на расстояние выстрела. Я съездил к начальнику флотилии капитану 1-го ранга Зорину и нашел его в состоянии нервного расстройства, почему и должен был телеграфировать, чтобы его заменили. Морской отряд, защищавший устья Дуная с моря, также не подвергался нападениям, так что с этой стороны все было спокойно, но войска все продолжали отступление, и было совершенно неизвестно, где оно остановится.
Фронт в Добрудже все оттягивал и оттягивал и, наконец, дошел до последних удобных позиций, верстах в 25 перед рекой. Надо было серьезно думать об отводе всего громадного количества русских и румынских барж и других плавучих средств в районе гирл Дуная, т. е. Измаила и Килии. Если этого не сделать своевременно, то в случае выхода болгарских войск в Добрудже на Дунай, путь отступления нашим плавучим средствам был бы отрезан и с выходом неприятеля с запада на Прут, все целиком попало бы в руки неприятеля. Эвакуация вниз по течению была бы очень легка, если бы ей не мешали два моста у Исакчи, которые разводились для прохода судов только на два часа ночью, причем разводной пролет был очень узкий и требовал при его проходе большой осторожности, чтобы не поломать мостов. На основании этих соображений я просил у генерала Сахарова разрешения начать эвакуацию ненужных барж, но получил отказ, чтобы не тревожить население.
Между тем в ожидании эвакуации плавучих средств уже давно шла эвакуация преимущественно зажиточных румын, непрерывно прибывающих в Рени, чтобы садиться здесь в поезда, идущие в Одессу. Каждый день приезжало человек 30–40 беженцев целыми семействами и отправлялись на санитарных поездах, так как боев больших не было и места в поездах всегда были. В начале декабря в Рени прибыл генерал Цуриков,[254] вновь назначенный командиром 6-й армии, формируемой на Румынском фронте совместно с 9-й, примыкающей к 6-й с севера. Вместе с Цуриковым прибыл его начальник штаба генерал Вирановский.[255] С их прибытием я поступал под команду генерала Цурикова и встречал обоих генералов на вокзале. Генерала Цурикова я видал в первый раз, а с Вирановским встречался, когда был еще молодым офицером.
Оба генерала были еще мало осведомлены об обстановке в их армии, и я рассказал им то, что знал сам. Цуриков сказал, что он лучшего и не ожидал, и затем махнул рукой и прибавил:
– Не в первый раз, и не из такой трясины сивая кобыла судьба вывозила, пойдемте-ка чай пить.
И сразу как-то стало на душе весело и спокойно. Уезжая в Галац к Сахарову, который уже перебрался туда, Цуриков мне разрешил начинать эвакуацию ненужного для нужд армии имущества.
В тот же день я начал понемногу сплавлять излишние баржи, но, к сожалению, из-за мостов более 10 барж в ночь проводить не мог, а мосты разводить на более долгий срок, чем на два часа, несмотря на мою просьбу, разрешено не было. При таком темпе работ на всю эвакуацию пришлось бы употребить полтора месяца. В самый разгар эвакуации 7 декабря я получил телеграмму от генерала Вирановского, что наши войска сбиты с последней позиции в Добрудже и отступают к мостам. Мне предписывалось взять в свое заведование оба моста у Исакчи и переправить по ним полторы дивизии пехоты, а бригаду, отступавшую на Тульчу,[256] переправить на плавучих средствах. Еще одна дивизия отступала на Галац, и ее предполагалось переправить на румынском понтонном мосту, что до меня уже не касалось. Конечно, пришлось сейчас же прекратить эвакуацию и делать надлежащие распоряжения.
Я предписал начальнику морского отряда капитану 1-го ранга Медведеву со всеми своими плавучими средствами идти в Тульчу для переправы отступающей туда бригады. По счастью, благодаря уже эвакуированным в Измаил баржам, плавучих средств у него было достаточно. К Исакче были направлены имевшиеся в моем распоряжении пять броневых катеров, вооруженных пулеметами, и два вооруженных тральщика с одним 120-миллиметровым орудием на носу каждый. Я не знал, в каких условиях будут отходить войска, и думал, по примеру румынской катастрофы у Рущука, что и нас может постигнуть та же участь, но оказалось, что наш двухгодовой опыт не прошел даром и наше отступление прошло как на маневрах.
Сделав все нужные распоряжения, я сейчас же поехал к мостам и застал там красивую боевую картину. На правом берегу Дуная слышалась непрерывная канонада и трещание пулеметов, временами замолкавшее, а временами усиливавшееся. Разрывы шрапнелей белыми барашками бороздили все небо, но главным образом сосредоточивались против местечка Исакчи. Видимо, главный напор шел на наш центр. По обоим мостам шел непрерывный поток беженцев и неисчислимые количества баранов, которых гнали пастухи. О разводе мостов для пропуска скопившихся трех десятков барж нечего было и думать.
По прибытии на место, я немедленно отправился в Исакчи к генералу Симанскому,[257] временно командовавшему войсками в Добрудже. Я застал его на паровой мельнице, где находился штаб корпуса. Генерал был очень озабочен и сказал мне, что более суток он держаться не может, но, чтобы быть вполне уверенным в благополучном отходе, нужно перевести войска на левый берег в эту же ночь. Он да сих пор не получил разрешения на переход через мосты, и это его очень беспокоит. Начальник штаба сообщил мне, что командир говорил по прямому проводу с Верховной ставкой, и разговор носил очень горячий характер. Генерал Гурко,[258] временно исполняющий должность начальника штаба Верховного главнокомандующего, не давал разрешения на очищение Добруджи и требовал, наоборот, перейти здесь в наступление, а у них три дня назад взяли с фронта дивизию для отправки на запад. Пока я был еще у генерала, пришло наконец разрешение отступить, и все сразу повеселели. Генерал пригласил меня обедать, чему я был очень рад, так как с 6 часов утра ничего не ел, и кроме фляжки с коньяком для согревания ничего не имел с собой.
За обедом мы сговорились о порядке отступления. Было решено, что войска начнут переход с началом темноты и сам генерал к этому времени прибудет к мосту на левом берегу и останется там до перехода главной массы войск. Румынский понтонный мост мне было разрешено отправить в Галац еще засветло, так как наши войска успеют вполне пройти и по одному мосту. На мой вопрос, когда можно ожидать подхода к мосту неприятеля, генерал ответил, что это будет зависеть от его доброй воли, но что он мне не советует оставаться на месте с приближением рассвета. Большое счастье было, что у болгар, атакующих нас, не было достаточного количества аэропланов-бомбометателей. Если бы таковые были, то наша переправа не прошла бы так благополучно, посыпаемая сверху неприятельскими бомбами.
После обеда я отправился к своему посту у моста против Исакчи. Поток беженцев и баранов становился уже не столь густым, и я приказал разводить и убирать румынский мост. Вся эта операция заняла не более часа времени, и мост двинулся вверх по Дунаю на буксире у двух пароходов, всегда при нем состоящих. Наш мост, хотя был тоже плавучий, но носил постоянный характер. Все было скреплено большими гвоздями, и на правильную разборку моста и выемку всех якорей понадобилось бы дня два работы с опытными мастеровыми. На основании этих соображений мост был подготовлен к взрыву.
Наши обозы и кухни начали переход по мосту еще засветло, когда канонада была в самом разгаре. С темнотой, впрочем, вся стрельба стихла и слышались только отдельные выстрелы. Артиллерия начала переходить в 9 часов вечера и пехота в 11 часов. Один полк на все время перехода занимал тыловую позицию в пяти верстах от Исакчи, но неприятель нас не тревожил.
Я находился все время переправы на мосту и видел, как были утомлены солдаты. Они еле-еле волочили ноги, и почти все, переходя через мост, крестились, а перейдя, падали и засыпали где попало, несмотря на холодную погоду.
В 1 час ночи явился начальник дивизии и сменил генерала Симанского, который со штабом корпуса на восьми автомобилях поехал в селенье Кадыкиой, назначенное местопребыванием штаба. Все войска окончили переправу в 3 часа ночи.
Я выслал три разъезда по трем дорогам, приказав им не уходить далее трех верст от моста, и приступил к разборке моста, но работа оказалась чрезвычайно трудная: заржавевшие гвозди не выколачивались и якоря нужно было вытягивать, закладывая по двое талей на цепь. Кроме разводной части моста, к рассвету мы успели вынуть всего один якорь и освободить только три понтона, составлявшие одно целое, т. е. мостовое звено. В 6 часов утра, когда рассвет уже начался, послышались выстрелы со стороны Исакчи, и приехал пограничник с запиской, что неприятельская кавалерия движется к мосту. Дальше медлить уже было рискованно.
Если и предположить, что мы могли бы, поставив артиллерию, не пустить неприятеля на мост, но все же работать по его разборке не представлялось возможности, так как неприятельские стрелки, рассыпавшись в кустах, били бы на выбор всех работающих на мосту. На основании этих соображений я приказал взорвать мост. Внутреннее чувство мне также говорило, что мост этот нам больше не понадобится. В 7 часов мост был взорван и отдельными звеньями начал сноситься течением по Дунаю.
Образовался широкий проход, и мы сейчас же начали сплавлять через него скопившиеся выше моста баржи для отправки в Измаил. В Рени я вернулся только к обеду. Сверх моего ожидания, болгары оказались плохими стратегами, и, вероятно, у их начальника не было под рукой немцев. Если бы они сейчас же поставили на командующих высотах правого берега Дуная хотя бы одну полевую батарею и прожектор, то могли бы совершенно прекратить нашу эвакуацию, а они додумались поставить батарею только через три дня, а прожектор не ранее чем через десять дней. За это время мы переправили, сначала днем и ночью, а потом только ночью, свыше пятидесяти барж, кранов, понтонов и всяких других плавучих средств в Измаил и Килию. В Рени и Галаце было оставлено только то, что непосредственно должно было служить для текущих нужд армии.
Также благополучно сошла переправа и в Тульче, но там не обошлось дело без курьеза. Когда капитан 1-го ранга Медведев явился в Тульчу со своими плавучими средствами, то начальник гарнизона генерал Казанович[259] был удивлен и сказал, что на фронте все благополучно и ему ничего не известно об отступлении. Медведев не знал, что ему делать, и послал телеграмму мне, а сам стал на якорь против Тульчи в ожидании ответа. Через два часа на пристань прибегает адъютант генерала Казановича и кричит, чтобы баржи скорее подходили, так как наши колонны уже подходят к Тульче и неприятель следует за ними по пятам. В Тульче был страшный переполох, тем не менее войска, т. е. 13-й пехотный полк, благополучно сели в баржи и, никем не беспокоенные, оставили эти берега. Капитан 1-го ранга Медведев спросил генерала Казановича, все ли войска сели и не осталось ли частей на берегу? Генерал ответил отрицательно, и тогда он отвалил, оставив для сбора могущих быть отсталыми один небольшой пароходик, вооруженный пулеметом.
Неприятель так и не показывался, но через два часа после ухода Медведева в Тульчу прибыл кавалерийский полк и, узнав, что войска уже отплыли, не знал, что ему делать. Лейтенант, бывший на катере, предложил командиру полка пойти за Медведевым в Измаил и привести баржи для перевозки, но на это потребовалось бы время, и, в лучшем случае, перевозка могла состояться только глубокой ночью. Командир полка подумал и спросил лейтенанта, нет ли брода на остров Чатал. Остров Чатал отделялся от правого берега Дуная сравнительно узким протоком, шириной не более 50 сажен, и только в середине на пространстве не более 15 сажен лошадям пришлось бы плыть. Через весь остров на расстоянии около 15 верст была проложена вполне приличная дорога, выходящая напротив Измаила, а там через широкий Килийский проток можно было переправиться и на баржах. Командир полка недолго размышлял и решился на самостоятельную переправу. Несмотря на холодную зимнюю воду, полк бодро влез в реку и быстро переправился через проток. Ни один человек и ни одна лошадь не погибли.
Между тем в Рени мне пришлось разрешать другой весьма важный вопрос. С выходом болгар к Исакчи отрезался путь не только плавучим средствам, но и нашей и румынской воинским организациям. Я поехал в Галац к командарму б выяснить этот вопрос. Генерал Цуриков мне заявил, что он решил оставить нашу флотилию между Галацем и Браиловым для содействия нашим войскам. Если же придется отступать далее Рени, то суда можно взорвать, а экипажи отступят вместе с армией. Мне он предложил поднять свой флаг на одном из наших судов с тем, чтобы активно командовать русско-румынской соединенной флотилией, так как неудобно, что румынский адмирал является старшим.
С такой постановкой вопроса я не мог согласиться. Во-первых, суда флотилии со своими несколькими 6-дюймовыми пушками не могли сыграть существенной роли в обороне наших позиций, но самое главное, что мы могли совершенно напрасно потерять могущие еще пригодиться суда и, наконец, оставляли в руки неприятеля в случае взрыва трофеи, которые он мог бы в реке легко поднять и исправить. А мы в эту войну не дали неприятелю еще ни одного трофея. Взвесив все это, я доложил генералу Цурикову, что не могу на себя принять решение столь важного дела и телеграфирую начальнику Морского штаба при Верховном главнокомандующем. Цуриков ответил, что он с своей стороны также телеграфирует генералу Сахарову.
На мою телеграмму я на другой же день получил ответ от адмирала Русина: «Государь император приказал немедленно вывести флотилию в Измаил. Румынскому адмиралу предоставить свободу действий». Я, конечно, дал немедленно предписание начальнику флотилии отойти ночью в Измаил, не отвечая на огонь с батарей, уже установившихся в Исакче, чтобы себя не обнаружить. Командарму я послал копию полученной телеграммы, а румынскому адмиралу Негреско послал письмо с указанием, что русская флотилия отводится в Измаил и ему предоставляется действовать по усмотрению.
Наша флотилия прошла совершенно благополучно, не замеченная неприятелем, а румынская, которая следовала двумя днями позже, попала в луч прожектора, уже установленного в Исакче, и была осыпана снарядами. На ней было четверо раненых. В ту же ночь подверглись обстрелу наши два парохода, «Бессарабец» и «Мстислав Удалой», которые все время водили баржи из Рени в Измаил. Они шли без буксиров из Измаила и внезапно были освещены прожекторами и осыпаны снарядами. Один снаряд угодил прямо в машину «Мстислава», и пароход остановился, но командир «Бессарабца» не растерялся. Под жестоким огнем он повернул, подошел к «Мстиславу», ошвартовал его к своему борту и таким образом отвел в Рени. Убитых и раненых не было, но корпус «Мстислава Удалого» пострадал и потом ему пришлось чиниться.
Подвиг капитана «Бессарабца» усиливается еще тем, что он был коммерческим моряком, в первый раз бывшим под огнем. Генерал Цуриков по моему представлению наградил капитанов и команду крестами и медалями. Я хотел выхлопотать капитану «Бессарабца» офицерский Георгиевский крест, следуемый ему по статуту, и сделал соответствующее представление в Думу, но началась революция, и все дело об этом куда-то затерялось.
6 декабря меня произвели в вице-адмиралы, и вслед за тем я получил назначение начальником обороны гирл Дуная. Это, собственно, не было новым назначением, а скорее переименованием ввиду непосредственного соприкосновения с неприятелем, но я выходил из подчинения 6-й армии и подчинялся непосредственно командующему флотом Черного моря. Для обороны мне был назначен один стрелковый полк, а впоследствии обещали прислать целую морскую дивизию, которая формировалась в окрестностях Николаева.
Получив это известие, я сейчас же отправился в штаб 6-й армии, чтобы откланяться и установить новые взаимоотношения. Там уже имелись соответствующие распоряжения из Ставки. Генерал Цуриков сказал, что он очень доволен, что его избавили от обязанностей защищать это болото, то есть гирла Дуная, и обещал мне свое содействие. На моем участке было собственно только одно уязвимое место – это Измаил, и так как одного батальона для его обороны было, конечно, недостаточно, то генерал Цуриков обещал в Измаиле держать пехотный полк и назначил начальником гарнизона генерал-майора Васильева, опытного вояку, с которым рекомендовал мне войти в соглашение. Я, со своей стороны, рекомендовал генералу Цурикову капитана 1-го ранга Ермакова, который оставлялся мною в Рени для обслуживания нужд армии. Таким образом, все было устроено к общему благополучию, и я мог ехать.
Я выехал на автомобиле с флаг-офицером через Болград в Измаил в отвратительную погоду по страшной грязи и тут только познакомился настоящим образом, что значит бессарабская черноземная грязь. Автомобиль еле мог двигаться и раз пять застревал настолько основательно, что нам пришлось вылазить и, по колено в грязи, помогать шоферам его вытаскивать. За пять часов нам пришлось добраться только до Болграда и там ночевать. Обыкновенно это расстояние, не превышавшее 50 верст, проходилось в час с четвертью. Я от души жалел, что не дождался до ночи и не пошел на быстроходном катере по Дунаю. В такую погоду можно было смело пройти необнаруженным неприятелем. Впрочем, от Болграда до Измаила дорога была уже лучше, и мы 40 верст прошли в два часа.
В Измаиле я нашел генерала Васильева, который на меня произвел прекрасное впечатление. Мы с ним обсудили стратегическое положение моего участка. Задача, возложенная на меня, не была особенно трудной. Следовало закрепить гирла Дуная, т. е. пространство, заключавшееся между Георгиевским и Килийским рукавами. Это пространство заключало в себе очень мало твердой земли, но массу непроходимых болот, лагун и озер, пересеченных множеством каналов.
Оригинальной особенностью местности были так называемые плавучие острова. Эти острова образовывались из перегноя камыша, каждый год вырастающего со дна реки в неимоверном количестве и зимой высыхающего, ломающегося и гниющего. Камыш сцепляется друг с другом и образует сначала нечто вроде пластов, которые также сцепляются и образуют уже островки. На этих последних появляется сначала трава, которая сгнивает и обращается в землю. В результате получаются островки, не только поросшие травой и кустарником, но на которых растут и деревья. В конце концов такие острова садятся на мель и делаются материком, но иногда бывает, что с большой прибылью воды эти островки отрываются от земли и снова начинают путешествовать, пока снова не прирастают в другом месте. После больших половодий конфигурация внутренности гирл сильно изменяется, и рыбакам приходится отыскивать себе новые пути и протоки для сообщения между деревнями. Иногда также бывает, что рыбачий скот, который свободно бродит вблизи деревень, попадает на такой приросший к берегу остров и на нем отправляется путешествовать. Тогда рыбакам приходится искать его на лодках.
Для нас гирла Дуная имели важное значение только в том случае, если бы наши войска удержали за собой линии Серета или Прута, так как открывалась возможность подвоза продовольствия и припасов к армии по Килийскому рукаву через озеро Ялпух и далее на железную дорогу в Рени и Галац, а также на проектированные узкоколейки от Болграда к различным частям фронта. Что касается до неприятеля, то для него они имели значение только в случае необходимости произвести диверсию в тыл нашим войскам, защищающим линии Серета или Прута, на Измаил и далее на Болград. Неприятель почти не имел плавучих средств, а потому вообще гирла для него не были лакомым кусочком, и, наоборот, для него гораздо удобнее было, в случае продолжительной стоянки, владеть правым нагорным берегом и сидеть там спокойно в хороших климатических условиях.
Весь мой участок имел в длину по Георгиевскому протоку от моря до поста Раздельного около 150 верст, но из них едва ли было 10 доступных для военных операций. Для обороны этого участка, кроме имевшихся у меня в распоряжении сил, назначался полк стрелков в составе трех батальонов, который должны были перевезти морем из Одессы в Сулин, и батальона гвардейского экипажа. Впрочем, последний пробыл в Измаиле не более месяца и был отправлен в Петроград. Сухопутной артиллерии мне дано не было, так как предполагалась ее заменить артиллерией на судах. Моим начальником штаба был назначен капитан 1-го ранга Медведев и еще было дано несколько флаг-офицеров.
Главное неудобство участка заключалось в невозможности протянуть телефонные линии по озерам и болотам гирл. В особенности трудно было сообщение с островом Чаталом против Измаила, которое постоянно прерывалось. Этот участок являлся совершенно отрезанным от Сулина, и подать ему помощь в случае нападения неприятеля было бы невозможно. Пришлось бы кружным путем морем и через Килийский канал везти подкрепления на расстояние 150 верст.
По обстановке было ясно, что границей между флотом и армией следовало бы сделать пункт, где Сулинский канал сливается с Георгиевским, так как Сулинский канал являлся единственной и удобной коммуникационной линией для водяных сообщений на всем своем протяжении. Далее же на Чатал прохода не было. Ввиду того, что разграничение было произведено Ставкой В[ерховного] г[лавнокомандующего], только она и могла его изменить, и я послал мотивированный рапорт адмиралу Колчаку с просьбой ходатайства в этом смысле, а сам решил в ожидании ответа взять решение на себя и вступил в частное соглашение с генералом Васильевым. Я ему подчинил батальон, который был предназначен на остров Чатал, а он обязался его подкрепить всеми своими силами в случае нужды. Обстоятельства показали, что я был прав, поступив таким образом, хотя это навлекло на меня большие неприятности. Генерал Васильев сейчас же после моего разговора с ним, не ожидая прибытия моего батальона, отправил свой на остров Чатал и приказал ему занять позицию на Георгиевском канале. Как артиллерийскую поддержку я оставил генералу Васильеву три канонерских лодки, хотя их орудия и не хватали до неприятельского берега, но в случае отступления могли держать неприятеля в почтительном ожидании.
Сулин
Покончив все дела с генералом Васильевым, я на пароходе «Нанимар» служившем мне яхтой, отправился в Сулин и там вступил в командование обороной гирла Дуная. Стрелковый полк, как оказалось, уже прибыл накануне, и сегодня батальоны занимали назначенные им позиции. Мой штаб помещался в единственном большом здании городка, так называемом дворце Международной дунайской комиссии. В мирное время эта комиссия управляла всем судоходством на Дунае на участке от устья до Браилова, т. е. до того места, где было возможно морское судоходство. Комиссия состояла из генеральных консулов в Галаце четырех заинтересованных держав: России, Австрии, Румынии и Болгарии, и ей подчинялась администрация Сулинского канала и регулирование дноуглубительных и оградительных работ на нижнем Дунае.
Сейчас мы реквизировали все плавучие средства и мастерские комиссии и образовали временный военный порт в Сулине, который и обслуживал наши суда. Что касается до самого городка Сулин, то это было почти совсем брошенное жителями местечко, состоящее из одной только улицы, которая была одновременно и набережной судоходного канала. В последнее время сюда, впрочем, приехали некоторые эмигранты из Румынии, занятой немцами, преимущественно чиновники с семьями, и они разместились в свободных домах. Наши две роты полкового резерва разместились в свободных складах для товаров и там же команда приморской батареи и авиационный отряд. Румынские части имели небольшие казармы, свободно вместившие сводную команду около 300 человек и противоаэропланную батарею в 60 человек. Больше у румын войск не было.
Первым моим делом по приезде в Сулин и вступлении в должность была организация разведки неприятеля. Никого знакомого с этим делом у меня под рукой не было и пришлось налаживать дело самому при помощи румынской полиции, знавшей местные условия и жителей. Благодаря особенностям местности проникновение к неприятелю рыбаков не было затруднительным, тем более что и там и здесь жили, главным образом, русские некрасовцы, имевшие на обоих берегах родственников.
Через неделю я уже знал точный состав и наименование частей, стоявших на правом берегу Георгиевского канала. Так как я денег не жалел, то впоследствии я стал получать сведения о неприятеле ежедневно. Рыбачьи лодки каждую ночь переплывали канал туда и обратно и доставляли все нужные сведения. Конечно, весьма вероятно, что и неприятель получал таким же образом сведения о нас и даже возможно, что те же лица служили и ему и нам, но изловить этих господ бывает чрезвычайно трудно.
Как оказалось, против нашего участка на правом берегу Георгиевского гирла расположилась бригада болгарской пехоты, причем один полк стоял целиком в Тульче, а другой был рассыпан мелкими частями по всему нагорному побережью до морского берега. Таким образом, мои предположения подтверждались, и наиболее угрожаемым пунктом был Измаил.
Командир стрелкового полка, бывшего на моем участке, оказался очень милым человеком, и мы с ним очень скоро поладили. Он вполне согласился с моим мнением о необходимости подчинения его третьего батальона, стоявшего в Чатале, генералу Васильеву, а сам ревностно принялся за укрепление участка против деревни Принц Кароль. Этот участок также мог быть легко атакован неприятелем, но дальнейшее продвижение было возможно только по направлению к Сулину вдоль Сулинского канала, которое могло быть легко остановлено огнем орудий одного миноносца, а потому опасности не представляло.
В общем, неприятель вел себя довольно пассивно. Временами возникала с обоих берегов небольшая перестрелка, и иногда бывали раненые, большей частью вследствие собственной нерасторопности. Мое время протекало в периодическом осмотре позиций и штабной работе, но оставалось много и свободного времени. Мы жили очень комфортабельно в больших комнатах дворца Международной комиссии, у нас был рояль, и иногда устраивались концерты с импровизированными артистами. За это время я познакомился со многими румынскими офицерами, и должен сказать правду, что они произвели на меня хорошее впечатление. Большинство из них были образованы, знали языки и не имели недостатков своих сухопутных товарищей, которые взяли у немецких лейтенантов только их напыщенный вид, но не дисциплину и знание военного дела. Всем им, конечно, не хватало морского опыта, который приобретается только долгими плаваниями и постоянной жизнью в море.
На третий день моего приезда меня посетил адмирал Колчак, пришедший на двух миноносцах. Адмирал ознакомился с положением, но не согласился с моим заключением и нашел, что самый важный участок – это против деревни Принц Кароль, и еще раз приказал обратить на него главное внимание. Он мне рассказал, что только что получил известие о гибели подводной германской лодки на наших заграждениях у Босфора, и потому был в хорошем расположении духа. Через месяц, он надеялся, что в Сулин прибудет Балтийская морская дивизия, и тогда можно быть вполне спокойным за гирла Дуная. По его отъезде я долго думал, как быть с его директивами, и по здравом размышлении решил все оставить по-старому, взяв всю ответственность на себя.
Весь декабрь был довольно спокойный и нарушался только частыми налетами аэропланов, которые бросали бомбы иногда поодиночке, а иногда целыми группами. Вначале они спускались довольно низко, но постепенно наши батареи начали пристреливаться и заставили их брать высоту все выше и выше. Вред, причиняемый ими, в общем, был невелик. Они старались попасть, главным образом, в наши аэропланные ангары, но те были хорошо замаскированы, и бомбы падали главным образом в воду и в плавни. Несколько домов, впрочем, немного пострадали, но жертв почти не было. Зато в Измаиле несколько аэропланов произвели атаку в базарный день на городскую площадь, которая была полна народа, и устроили настоящую гекатомбу. Пострадало более 100 человек и много лошадей. Наши аэропланы также делали налеты на Тульчу и на другие места, где располагались войска, но, в общем, войны в воздухе не было. Между авиаторами как будто установилось безмолвное соглашение друг друга не трогать и нападать только на находящихся на земле.
В конце декабря очень красивый маневр проделала лодка «Донец». Ее командир получил приказание от генерала Васильева подойти в сумерки к посту Раздельному и вызвать на себя огонь неприятельских береговых батарей, которые, как мы знали от агентов, были поставлены, но ничем себя не обнаруживали. Командир «Донца» подошел к Раздельному, но неприятель молчал. Тогда он стал спускаться по Георгиевскому гирлу и подходить все ближе и ближе. Между тем уже стемнело и поворачивать назад было опасно, так как можно быть стать на мель. Тогда командир решил дать полный ход и, пройдя вплотную мимо Тульчи, идти Сулинским рукавом в Сулин. Опыт был рискованный, но удался блестяще. Болгары открыли огонь с трех батарей, когда «Донец» был уже не более как в 8 кабельтовых, но их неопытные артиллеристы все время вели стрельбу на перелетах, даже когда «Донец» проходил вплотную мимо города. Ружейный и пулеметный огонь также был малодейственным, так как, по-видимому, вследствие паники не был никем управляем.
«Донец», проходя мимо набережной, открыл оба своих прожектора и слепил глаза стреляющим войскам и прислуге орудий, а картечь, которой он сыпал из всех орудий, по-видимому, производила ошеломляющее впечатление. С «Донца» при свете прожекторов была ясно видна масса мечущихся повсюду людей, видимо, совсем потерявших голову. В общем, «Донец» пробыл под неприятельским огнем более получаса, из коих минут 10 на расстоянии 50–150 сажен от неприятеля, и потерял от ружейного огня всего одного человека убитым и одного раненым. Дело было блестящее в полном смысле этого слова.
Адмирал Колчак оценил подвиг «Донца» и издал по этому поводу специальный приказ по флоту. Командир получил золотое оружие, а офицеры и команда награды. Как мы узнали потом от агентов, у болгар был страшный переполох. Они подумали, что это начало нашего наступления, и послали спешно подкрепления в Тульчу. Пострадавших от огня «Донца» было более ста человек в одних войсках, но было еще убито и ранено много мирных жителей, главным образом, от огня болгарских солдат, стрелявших в панике по всему городу, считая, что наши войска высадились уже на берег.
Когда «Донец» пришел в Сулин, я ему сделал торжественную встречу с музыкой, игравшей туш. Команде был дан улучшенный обед, а офицеров я всех пригласил к себе.
Между тем наступили праздники. Погода стояла все время чудная. На самое Рождество мы расхаживали в одних кителях без пальто. Рыбаки по своим приметам предсказывали на этот год очень суровую зиму, и мы все время ее ждали, но, видя, что и на праздниках температура стоит 15–16 градусов, стали уже над ними смеяться, но в скором времени оказалось, что они были правы. На праздниках мы придумывали разные развлечения и один раз устроили даже целый бал с танцами, на котором присутствовало около двадцати дам румынок и сестер милосердия с санитарных барж для перевозки раненых, которых в это время почти не было.
Болгары придумали в это время пускать по течению к нам в Сулин плавающие мины, но одна из первых же мин взорвалась о выступ стенки набережной, не причинив никому вреда. Мы поставили тогда поперек канала минные сети и этим вполне себя обезопасили от этих неприятных сюрпризов.
В один из дней начала января около 4 часов дня мы сидели мирно в столовой и пили чай, когда мне подали телеграмму от генерала Васильева, извещающую меня, что он в сумерки предпринимает атаку на Янковицу и надеется иметь успех. Янковица была маленькая деревушка на острове Чатал против Тульчи и занималась нашей передовой заставой в количестве полуроты.
Для меня это известие оказалось полной неожиданностью, и, как оказалось, первая телеграмма Васильева до меня не дошла вследствие хронической неисправности проводов связи, протянутой по болотистым местам. Я сейчас же запросил соседний участок в деревне Принц Кароль. Оттуда ответили, что утром слышали небольшую перестрелку на Чатале, но не придали этому значения, так как это бывало часто.
Как оказалось впоследствии, произошло следующее: часов около 8 утра был сильный туман, и на реке ничего не было видно. Внезапно застава в Янковице была атакована с левого фланга, и прапорщик, командовавший ей, поспешно отступил на вторую заставу, находившуюся в трех верстах к северу, где были окопы и стояла другая полурота. В двух верстах дальше на север стояли остальные три роты батальона и два полевых орудия. Командир батальона не решился самостоятельно на контратаку и попросил у генерала Васильева подкреплений. Последний тотчас же приехал сам и перевез через Килийский канал еще два батальона стоявшего в Измаиле полка. Обсудив положение, он решил произвести контратаку в сумерки, так как у него было всего две пушки, а неприятель мог поддерживать свои атаки артиллерией из Тульчи.
Неприятель сначала перевез через Георгиевский канал всего одну полуроту на четырех рыбачьих лодках, бывших у него в распоряжении (мы увезли все лодки из Тульчи при нашем отступлении). Постепенно он довел свои силы до батальона и тогда начал движение вперед, но, встреченный огнем со второй заставы, прекратил атаку и отступил снова в Янковицу. Генерал Васильев начал контратаку в 4 часа 30 минут, и через час уже весь болгарский батальон до 500 человек был в наших руках. Положение было восстановлено, и генерал Васильев пожал вполне заслуженные им лавры. Наши потери заключались в 5 убитых и 15 раненых. Если бы я понадеялся на свои силы, т. е. на один батальон, которому я ничем не мог помочь, то положение могло бы принять совершенно другой характер и Чатал был бы нами потерян. Таким образом мое самостоятельное решение принесло благие результаты.
Когда я донес адмиралу Колчаку о происшедшем, то получил жестокий нагоняй за то, что привлек на помощь войска из 6-й армии, а не справился собственными силами. Правильно ли я поступил, пусть судят критики, если у них найдется время для разбора таких пустяшных эпизодов.
6 января, как раз на Крещение, погода резко переменилась: задул жестокий северный ветер со снежной пургой, и температура резко упала с 10˚ тепла до 10˚ мороза, который по ночам доходил и до 15˚. Ветер продолжался три дня, и после того сразу наступила зима, продолжавшаяся целых 6 недель до половины февраля. Таким образом, рыбаки, предсказывавшие суровую зиму, были правы. По Дунаю начал идти лед, сначала тонкий, а потом все толще и толще. Пришлось принимать меры, чтобы наши суда и в особенности миноносцы с тонкой обшивкой, не пострадали от напора тяжелых льдин. По счастью, в Сулинском канале было много закрытых уголков, где их можно было безопасно разместить. Наконец местами Дунай крепко стал, но Сулинский канал мы все время держали свободным для прохода судов при помощи крепких буксирных пароходов, исполнявших роль ледоколов.
Неприятель после полученного им урока держался пассивно и не предпринимал никаких действий. Так продолжалось до конца января, когда, наконец, начала прибывать на транспортах балтийская морская дивизия. Раньше ее около 10 января прибыл из Одессы Гвардейский экипаж в составе одного батальона боевого состава. Я получил извещение о их прибытии из морского штаба в Ставке с указанием, что они должны быть в резерве. Будучи в Ставке, я знал, что это означает. Существовали некоторые излюбленные части, которые нельзя было подвергать большим потерям. Нужно было употреблять их так, чтобы они имели видимость участия в боях, но по возможности не имели потерь. Эти части служили большой обузой для начальников, потому что он не мог на них рассчитывать.
Впрочем, Гвардейский экипаж пробыл на Дунае не более месяца и был вызван в Петербург, куда и прибыл за неделю до начала революции. Согласно полученным указаниям, я поместил Гвардейский экипаж в Измаил под команду генерала Васильева, но предупредил его, что он может его употребить в дело только в крайнем случае, если Измаилу будет угрожать опасность. При поездке в Измаил я сделал экипажу смотр и прямо залюбовался выправкой и дисциплиной этих гигантов, маршировавших как в Петербурге на Дворцовой площади. За обедом в их кают-компании мне некоторые офицеры жаловались, что им самим неловко, что они как бы присутствуют на войне, а не участвуют в ней фактически. За всю войну они потеряли одного офицера убитым и несколько раненых нижних чинов.
Когда в Сулин прибыла морская дивизия, то стрелковый полк получил приказание присоединиться к своей дивизии, стоявшей где-то на реке Серет. Мы им сделали очень теплые проводы. Морская дивизия разместилась так: один полк стоял на Чатале, другой в Измаиле в резерве, третий занимал посты по Георгиевскому каналу и четвертый в Сулине, также в резерве. Полки сменяли друг друга, и вообще войск для обороны было более чем достаточно. С прибытием начальника дивизии свиты Его Императорского Величества контр-адмирала Фабрицкого[260] я получил приказание сдать ему оборонительный участок, а самому вернуться к прежней должности начальника экспедиции особого назначения. Это, конечно, было естественно, так как двум адмиралам там делать было нечего, но тем не менее я был уверен, что причина моей смены крылась в истории с генералом Васильевым. Этот последний после прихода морской дивизии получил другое назначение и уехал из Измаила.
Килия
19 января я прибыл в Килию и вступил в исполнение новых обязанностей. В это время наш фронт уже начал стабилизироваться. Выяснилось, что дальше Серета немцы идти не собираются, и мы имели время устроить наш новый фронт. 6-я армия занимала фронт по Дунаю и Серету, где севернее ее к ней примыкала 8-я армия. Штаб 6-й армии разместился в маленьком городке Болград, знаменитом своими виноградниками и грязью, которая действительно была необычайна.
Моя задача заключалась в снабжении армии всем необходимым из Одессы, так как железная дорога Бендеры – Рени, выстроенная наспех во время войны 1877 года, была мало провозоспособна и не могла обслуживать нужд армии. Спешно пришлось углублять землечерпалками проход из Дуная в озера Кугурлу и Ялпух для проводки барж с грузом, которые должны были направляться в северную часть озера Ялпух к специально построенной пристани и далее по проложенной узкоколейке на фронт. Эта работа заняла около шести недель.
Озеро Ялпух было в мирное время большим рыбьим садком, и на канале, соединяющим его с озером Кугурлу, была устроена специальная плотина, препятствующая рыбе в половодье уходить в Дунай. Никакое судоходство там не разрешалось. Само собою пришлось эту плотину разрушить. Одновременно Килия служила портом для погрузки зерна и отправки его в Одессу в центральные склады, для перемалывания в муку и привоза снова к нам для отправки на фронт. Признаюсь, этого интендантского круговорота я никак понять не мог. У нас в Килии были свои паровые и водяные мельницы, и для чего нужно было возить зерно в Одессу, было выше моего понимания. Раза два мне пришлось проехать в Одессу на совещания, и я там говорил об этом, но мой голос был гласом вопиющего в пустыне.
В Одессе шла опера, царило веселье, маскарады и балы, шла крупная игра, и если бы не запущенный вид города, трудно было бы догадаться о близости театра военных действий. Наша тихая и мирная Килия на меня действовала гораздо лучше, чем шумная Одесса со своим оживлением.
Килия занимала довольно большое пространство, вытянутое в длину перпендикулярно к Дунаю, но, по существу, похожа была на деревню, а не на город. Там считалось около 20 000 жителей, главным образом, хлебопашцев и рыбаков. Землепашцы были хохлы, а рыбаки – русские старообрядцы. Около трех тысяч было евреев-ремесленников и торговцев, но должен сказать, что они вели себя прилично и злобы против них в населении не было. Интеллигенции почти совсем не было, кроме чиновников и учителей в очень малом количестве. На месте старой турецкой крепости с сохранившимися рвами был разбит городской садик, очень запущенный, но все же могущий служить для отдыха.
В общем, скука, конечно, была изумительная, и если бы не сестры милосердия с санитарных барж, за которыми ухаживала молодежь, то они опять бы запьянствовали, несмотря на мои усилия прекратить эту манеру развлечений. Наше однообразие, несомненно, всколыхнуло известие об убийстве Распутина. Все радовались и думали, что теперь все пойдет хорошо и что главное зло удалено, и никто не ожидал, что еще несколько недель, и грянет гром революции с такими ужасными последствиями.
Революция
Про события в Петербурге мы ничего не знали, и первым известием была ошеломившая нас телеграмма от Колчака с извещением об отречении государя императора и вступлении на престол великого князя Михаила Александровича. Не успел я еще обдумать совершившееся событие, как посыпался уже целый дождь телеграмм: от генерала Алексеева, от Родзянко, от Гучкова[261] и т. д. Выждав один день и видя, что события действительно свершились, я собрал свое воинство, состоящее из четырех рот ополченцев, и объявил им о совершившихся событиях, после чего сказал им краткое слово о необходимости вблизи от фронта сохранения полной дисциплины и спокойствия. Все прошло чрезвычайно гладко и без всяких шероховатостей. Дисциплина нигде не была нарушена, и даже приказ № 1 не изменил ничего в поведении моего воинства.
Рабочие мастерских устроили митинг и на нем решили устроить торжественное шествие по городу с красными флагами. Не разрешить такой манифестации не было возможности, и я ограничился только тем, что потребовал к себе руководителей, ответственных за порядок. Явились трое рабочих, один пожилой и двое молодых, и стали меня успокаивать, что все будет совершенно спокойно и ничего не произойдет, за что они вполне ручаются. Я с ними разговорился и, к удивлению, убедился в их большом знакомстве с социалистической литературой. Каждый из них мог цитировать Маркса, Жореса, Энгельса и других. Как, однако, мы проспали нарастание этой единственной организованной силы в России. Ведь мы не могли им ничего противопоставить, кроме нашей бюрократии. 20-го числа манифестация прошла в полном порядке, и масса беспрекословно повиновалась своим вожакам.
Желая быть в курсе событий и видя, что у нас все благополучно, я поехал в Болград в штаб армии, чтобы посмотреть, что делается там, и по возможности согласовать свои действия. С трудом добравшись по неимоверной грязи, я прибыл туда и был поражен обилием красных флагов. Они торчали почти на всех домах. Генералы щеголяли в огромнейших красных бантах. Командарм-6 генерал Цуриков оказался вдруг величайшим революционером, принужденным лишь временно скрывать свои настоящие убеждения. Он и со мной говорил как революционер и не щадил слов в осуждении старого режима. Начальник штаба генерал Вирановский, с которым я был знаком, оказался несколько откровеннее. Он также был украшен огромным красным бантом, но, когда мы остались наедине в его кабинете, похлопал меня по коленке и сказал:
– Ну, попали же мы с вами, батенька, в грязную историю. Как только удастся расхлебать эту кашу? Прежними способами после приказа номер один держать солдатскую массу нельзя, и мы теперь попробуем взять ее в руки другим способом. Завтра или послезавтра вы получите положение о солдатских комитетах. Если этот способ не удастся, то надо складывать свои чемоданы и спасать паспорта, иначе нас всех перережут.
Нельзя было не согласиться с этими словами, хотя в это время великая бескровная еще только переживала медовый месяц своего счастья и кровь и эксцессы только местами омрачали всеобщее радостное настроение. Еще повидал я генерала Святловского,[262] начальника артиллерии армии. Симпатичный старикан только махал руками и говорил, что все пропало и Россия погибла безвозвратно. Эти три лица – Цуриков, Вирановский и Святловский – были довольно типическими выразителями мнений различных начальников времени начала революции.
Четвертая категория, к которой принадлежал и я, рассуждала приблизительно так: несомненно, что наконец случилось то, что должно было случиться по ходу всех событий последнего времени. Надо с этой мыслью примириться и установить точно линию своего поведения. Сейчас идет вой на и независимо от правительства, которое существует, наш долг оставаться на месте и, пока существует возможность, стараться выполнять свои обязательства перед родиной. Копошилась, конечно, надежда, что, может быть, все уляжется и власть снова овладеет положением. Все чувствовали, что Германия уже выбивается из сил и мир недалек. Может быть, найдется сильный человек, который овладеет положением и спасет Россию. Так думали многие, но, к сожалению, человека не нашлось.
Была еще пятая категория начальников, которая посмотрела на события с наплевательской точки зрения и решила использовать безвластие для того, чтобы весело и привольно пожить, но среди начальников таких было немного.
Очень скоро мы действительно получили положение о комитетах и приступили к их образованию. Первый состав комитетов у нас был очень хороший. Туда вошли по большей части люди здравомыслящие и желающие сохранения порядка, и авторитет их вначале был достаточно велик. Председателем центрального комитета был избран доктор Песнячевский, кадет по убеждениям, но твердый и не занимавшийся демагогией. Он вначале имел очень большое влияние на массы, и мне с ним было совершенно спокойно. Первая шероховатость вышла у нас в экспедиции после заявления соединенного заседания всех военных комитетов о необходимости удаления некоторых офицеров. Должен сказать, впрочем, что большинство из них действительно не были на высоте в моральном отношении, но были и такие, которых хотели уволить вследствие их строгости. Я категорически отказался удалять этих последних, и комитет свое требование взял назад.
Вышла также история из-за моего помощника капитана 1-го ранга Ермакова. Против него были, главным образом, матросы с пароходов Дунайского общества и рабочие мастерских. Капитан 1-го ранга Ермаков, несмотря на свои достоинства, имел два существенных недостатка: он имел своих любимцев и нелюбимцев и был очень резок с подчиненными. Ему я дал отпуск на два месяца, и дело понемногу затихло.
Вообще, первые два месяца революции команды вели себя лучше, чем в прежнее время: пьяных почти не было и нарушителей дисциплины также, но очень скоро отсутствие принудительной палки сказалось на продуктивности работ, которая значительно упала. В особенности это стало заметно на ремонте судов. Я писал понудительные письма комитету, который уверял меня, что старается вовсю, но толку было мало. Все время вместо работы у станков уходило на праздные разговоры о политике и курение. К этому скоро присоединились и требования повышения заработной платы. На этом я тоже поставил свое вето и не соглашался до тех пор, пока такие же прибавки не последовали в Одессе. Там это произошло очень просто. Матросы и рабочие составили свои табели жалованья и, когда в Одессу приехал Гучков, подали ему на утверждение. Он подмахнул, и все было кончено одним росчерком пера. Конечно, после этого пришлось ту же плату ввести и у нас.
Тем временем начался период воззваний, они потекли как из рога изобилия, самые жалостные, но, к сожалению, не подкрепленные никакой палкой. Они скоро надоели, и никто не обращал на них внимания. Приезжали также депутации уговаривать войска. Их угощали, чествовали, но толку никакого из этого не было. Благодаря нашему захолустью к нам, слава богу, совсем не ездили агитаторы и потому с внешней стороны у нас царило полное спокойствие и шла беспечная жизнь. Все были довольны и все больше и больше отвыкали от мысли, что мы находимся на войне. Приблизительно то же происходило и в штабе армии. Генералы катались верхом с дамами, устраивали концерты и вообще старались не скучать. Конечно, армия начала понемногу разлагаться, но я уверен, что если бы наша интеллигенция не была больна хронической неврастенией и безволием, еще можно было бы поправить дело и окончить войну благополучно.
Как пример можно привести Германию. Она потерпела гораздо большее поражение, чем мы, и также попала в руки большевизма, но их победа была непродолжительна. Вся германская интеллигенция сплотилась вокруг офицеров, и коммунизм был поражен в самом начале своего развития. У нас же интеллигенция вместо Корнилова бросилась к Керенскому, ища в нем спасителя от большевистской опасности. Мы сами – русские интеллигенты – погубили свою родину. О генералах я уже говорил, что же касается до младших офицеров, то это были в большинстве хорошие и симпатичные люди, но они страдали природными недостатками русской интеллигенции. Это были тоже безвольные неврастеники. Они отлично все понимали и обсуждали, но для проявления действия требовали порки.
Конечно, были и исключения, но процент их был невелик. Я сам могу указать нескольких лиц, которые, несмотря на безнадежную обстановку, пытались своим примером заразить массы и повести их к подвигам. Таков был командир 2-го морского полка полковник Жебрак,[263] таков же был и прапорщик Дамонтович, были и другие, фамилию которых не помню, но это были исключения. Остальные удивлялись им, но примеру не следовали.
В частности, в первые месяцы революции про вверенную мне часть могу сказать, что на ней события отразились только тем, что работоспособность понизилась приблизительно наполовину, но все остальное было без перемен и все органы функционировали по-прежнему. В мае все управление как обороной, так и снабжением было объединено в моих руках. Я получил назначение начальником речных сил Дуная с подчинением командарму 6. Моему штабу назначено местопребывание в Измаиле, и я туда и переехал.
Измаил
Речные силы Дуная состояли из военной флотилии под начальством капитана 1-го ранга Гезехуса,[264] транспортной флотилии под начальством капитана 1-го ранга Хоматьяно,[265] балтийской морской дивизии под начальством контрадмирала князя Трубецкого, бригады полевой артиллерии, нескольких тяжелых батарей, бригады пограничной стражи, моторно-понтонного батальона, привязного воздушного шара, румынской военной флотилии и румынской транспортной флотилии. Кроме того, при речных силах состояли два землечерпательных каравана: один в Ботановском канале, а другой на озере Ялпух.
Должен сказать, что во главе почти всех этих частей стояли достойные люди, с которыми легко было сговориться и работать. Мой штаб состоял из капитана 1-го ранга Кононова[266] и начальника сухопутного отделения полковника Кардашенко,[267] честного и дельного работника, которому я очень был обязан по его самоотверженной работе. Он погиб впоследствии в бою с большевиками в армии Деникина. При таком прекрасном составе не мудрено, что нам удалось сохранить видимость дисциплины и работы, когда повсюду уже был полный развал. Политическую организацию в речных силах представлял центральный комитет, во главе которого стоял художник-футурист Филонов,[268] по убеждениям анархист, интеллигентный и довольно разумный человек, который понимал, что нельзя сразу обхозяить анархию, и потому он вел свою линию в порядке строгой постепенности. До корниловского выступления против Керенского с ним можно было уживаться довольно удобно.
Ознакомившись с положением дел на фронте, я убедился, что наш единственно уязвимый пункт в Чатале защищен достаточно сильно. Для обороны его всегда были в готовности два полка, один на позициях и один в резерве, а невдалеке в деревнях были расположены части общего армейского резерва. Артиллерия состояла из четырех полевых батарей и десяти тяжелых 6– и 8-дюймовых орудий морской артиллерии, установленных на баржах, и, кроме того, к услугам были пушки румынских мониторов и наших канонерских лодок и миноносцев.
Если бы можно было быть уверенным в войсках, то смело следовало переходить в наступление, но сейчас нужно было думать лишь о том, чтобы не исчез совсем воинский дух в частях. Так как неприятель держался пассивно, то следовало частыми поисками на его территорию возбуждать деятельность наших войск. У неприятеля было много уязвимых мест. Если бы мы собирались наступать, то, конечно, не следовало бы обращать его внимание на них, но при наших обстоятельствах следовало, конечно, их использовать.
Одиночные смельчаки находились во всех частях, но особенно много увлекал за собой командир 2-го полка полковник Жебрак. Несмотря на свою раненую ногу, он всегда сам участвовал во всех вылазках, и всегда они сопровождались успехом. Интереснее всего, что Жебрак, будучи военным юристом, в мирное время не служил в строю, но и на Японской, и на Великой войне немедленно отправлялся в самые опасные места и брал любые назначения в самом центре военных действий. Одну из его операций я позволяю себе привести как образец находчивости и умения в это тяжелое время.
План операции
Пункт Х, конечное сухое место на правом берегу Георгиевского гирла, был занят ротой болгарской пехоты. Ближайшие к нему части болгар были расположены в двух километрах западнее пункта С. Полковник Жебрак вызвал охотников из своего полка и отобрал из них 150 человек. Половина из них должна была открыть огонь в условленный час по болгарам с противоположного берега, а другая половина была разделена на две части. Одна на рыбачьих лодках по каналу Д должна была прибыть в пункт В и высадиться в тыл болгарам, а вторая на броневом катере по фарватеру, известному только рыбакам, должна была высадиться в пункте С. Сам Жебрак был с этой последней частью.
Все вышло согласно плану: часов в 6 вечера охотники с левого берега открыли сильный огонь по болгарам из ружей и пулеметов, чем привлекли их внимание. Одновременно взвод, высадившийся незаметно в пункте В, зашел им в тыл и также открыл огонь. Болгары сейчас же начали отстреливаясь отступать к пункту С, но здесь уже ожидал их полковник Жебрак, взявший с броневого катера два пулемета. Привлеченные стрельбой, болгарские подкрепления также начали подходить к пункту С с запада, и Жебрак обратил на них огонь пулеметов. Наши охотники, бывшие на левом берегу, сейчас же после отступления неприятеля переправились на правый на рыбачьих лодках и в результате вся болгарская рота, потеряв 15 убитыми и 40 ранеными, попалась к нам в плен. Наши потери состояли всего в трех человеках раненых. Жебрак покинул свой опасный пункт только тогда, когда убедился, что все наши люди и пленные покинули правый берег Дуная.
Еще должен упомянуть о прапорщике Дамонтовиче, который неоднократно на броневом катере с несколькими охотниками проникал в тыл к болгарам, снимал их пикеты, брал пленных и наводил панику. К сожалению, в один из таких налетов он наткнулся на мину и геройски погиб со своим катером.
Кроме таких частных налетов изредка предпринимались для общего развлечения бомбардировки Тульчи из морских орудий. Объектами обыкновенно избирались неприятельские батареи. Мы имели в общей сложности на судах и на баржах свыше 30 орудий калибра от 100 мм до 8 дюймов и учились сосредоточивать их огонь и быстро его переносить на различные пункты.
Главным препятствием служила, как и всегда, плохая связь, вследствие часто рвущихся проводов. Наблюдение и указания в центральный пункт давались с привязного воздушного шара, и один такой шар неприятелю удалось сжечь на моих глазах. Стрельба окончилась, и я отправился домой обедать, как вдруг, сидя за столом, услышал на близком расстоянии стрельбу из ружей и пулеметов. Я подошел к окну и увидел наш воздушный шар, подошедший уже на буксире парохода к городу, и быстро его сшибающий неприятельский аэроплан, сыплющий в него из пулеметов. По аэроплану стреляли из винтовок и пулеметов, но он быстро удалился, по-видимому, без повреждений. Я уже думал, что все обошлось благополучно, как вдруг заметил небольшую струйку дыма над шаром. Дым делался все больше и больше, и, наконец, показалось пламя. Через две минуты шар, объятый племенем, плавно спустился на воду. Один из бывших на нем наблюдателей выбросился из корзинки на парашюте и благополучно спустился на воду, а другой спустился по привязному канату и обжег себе руки. По расследованию оказалось, что охраняющий пароход с противоаэропланными пушками был отпущен слишком рано, а полки сухопутной батареи прозевали аэроплан, так как он шел от солнца.
Неприятель также попробовал раз обстреливать Измаил и наделал там народного переполоха. Мы, находясь в 18 верстах от Тульчи, считали себя в полной безопасности и вдруг неожиданно были удивлены, когда в городе стали рваться огромные чемоданы калибра, как оказалось, в 9 дюймов, но их было выпущено всего 14 штук, и затем стрельба прекратилась. Я сейчас же поехал на набережную на автомобиле и нашел там перепуганных сестер милосердия, сбежавшихся с санитарных барж, стоявших у берега и не знавших, куда им скрыться. Как оказалось потом, по донесениям наших агентов, в Тульчу была доставлена 9-дюймовая пушка, но, как только сделали несколько первых выстрелов, станок орудия сломался, и его увезли обратно. Больше бомбардировок Измаила уже не было.
В середине июня меня вызвал в Яссы главнокомандующий генерал Щербачев[269] для переговоров с новым командующим флотом контр-адмиралом Немитцом, который также приехал в Яссы. Вновь испеченный адмирал Немитц был мне знаком уже давно. Человек, несомненно, очень талантливый, но его талантливость носила в себе что-то недалекое от сумасшествия. Его отец умер в сумасшедшем доме и, несомненно, в нем самом были эмбрионы этого недуга. Он был очень силен в стратегии и одновременно очень недурной поэт, что как-то мало вязалось между собой, был очень религиозен и совершенно беспринципен в практической жизни, был хорошим семьянином, любил жену и детей и постоянно менял женщин, был храбрым человеком на войне и боялся тараканов и пауков. Революция как раз была сферой для выдвижения таких людей, и он из начальников дивизиона миноносцев, после ухода Колчака, был назначен командующим Черноморским флотом, будучи 36 лет от роду.
Путешествие в Яссы из Измаила я совершил на автомобиле, так как это был скорейший способ передвижения. Железные дороги были перегружены, и мне пришлось бы потратить на путешествие не менее трех-четырех дней, а на автомобиле я доехал за одни сутки. Правда, это было довольно томительное путешествие под жарким солнцем и все время в пыли, которая слоями лежала на дороге. Выехав в 5 часов утра, я приехал в Яссы в 12 часов ночи в указанную мне по телеграфу гостиницу, где нашел вполне приличное помещение для себя и адъютанта. Так как буфет уже был закрыт, а мы были голодные, то решили использовать взятые запасы в виде жареной курицы, но – увы! – она при этой жаре уже успела протухнуть. Так и пришлось лечь спать голодными.
Яссы был недурной городок, но донельзя перегруженный населением, так как двор и половина Бухареста перебрались туда. Генерал Щербачев помещался в отдельном доме, и его штаб был также размещен очень комфортабельно.
На другой день утром я отправился с визитами. Главнокомандующий принял меня очень милостиво, расспрашивал о моем участке обороны и сказал, что ему известно о порядке и дисциплине во вверенных мне частях. Он заявил, что надеется на скорое улучшение внутреннего положения и что усилия Верховного главнокомандующего генерала Корнилова[270] будут иметь успех. В заключение он сказал, что следует быть готовым к переходу в наступление и заблаговременно изучить всю обстановку, чтобы не было потом никаких сюрпризов. Я вышел от него повеселевшим, и мне самому показалось, что, может быть, все еще опять наладится. От него я пошел к начальнику штаба, где встретился с адмиралом Немитцом. Генерал Головин[271] был еще полон впечатлениями о недавнем бое под Марачешты,[272] где мы с румынами имели успех и, как мне показалось, немножко презрительно отзывался о немцах. Немитц все время говорил об экспедиции на Босфор и взятии Константинополя и, по-видимому, считал это совсем нетрудным делом.
Зная из писем и рассказов о положении и настроении умов в Черноморском флоте, а из личного знакомства с таковым же в 6-й армии, я вставил и свое слово, что наступление в настоящем положении совершенно невозможно, но мне было отвечено, что через месяц или самое большее два все будет приведено в порядок и армия будет крепче, чем прежде. Я мог только порадоваться предстоящим блестящим перспективам. В результате совещания я получил приказание разработать план наступления у Тульчи, и Немитц обещал мне полное содействие всеми судами, которые смогут войти в Дунай. Те же приблизительно разговоры были и за обедом в штабной столовой, и настроение там было мажорное. Я так и не понял, обманывали ли все друг друга или в самом деле верили в лучшие возможности.
На другой день рано утром я уехал из Ясс по измененному маршруту. Я приехал к местечку Колуэш, откуда можно было спуститься по Пруту на маленьком мелкосидящем пароходе, и, погрузив на него автомобиль, совершил очень приятное речное путешествие. За время войны, вследствие отсутствия охотников, расплодилось пернатое речное царство, и они перестали бояться людей. Было очень интересно наблюдать их жизнь на мелких островах.
В Рени я сделал смотр местному отделению речной флотилии и затем уже на автомобиле проехал в Болград, чтобы доложить командарму 6 о своей поездке. Генерал Цуриков при моем докладе о воинственном настроении штаба фронта только скептически улыбался, а его новый начальник штаба генерал Радус-Зенкович[273] мне прямо сказал, что все это вздор, что народ не желает войны и никакого наступления не будет, а генерал Корнилов если начнет все поворачивать по-старому, очень скоро сломает себе шею. Мне генерал Радус-Зенкович рекомендовал вместо подготовки наступления лучше заняться подготовкой выборов в Учредительное собрание, чтобы прошли не большевики, уже начавшие поднимать голову, а эсеры, куда в партию записался и он сам, и рекомендовал сделать то же и мне.
Я учтиво поблагодарил за совет. Вообще, генерал Радус-Зенкович, игравший первую скрипку и имевший несомненно огромное влияние как на генерала Цурикова, так и на весь штаб, видимо, окончательно определился на революцию и отрезал себе все пути отступления. Его ближайшим помощником был начальник политического отдела полковник Альбединген, который занимался уже прямо разложением армии.
Приехав в Измаил, я передал помощникам свои впечатления и решил выжидать дальнейших событий, которые должны были показать, возьмет ли верх созидающая сила или разрушительная. Все должно было разрешиться в Петербурге. Глубоко уверен, что если бы Корнилову удалось взять верх над Керенским, то в какой-нибудь месяц можно было бы ценой очень немногих жертв привести армию снова в порядок, но вышло иначе, потому что наше офицерство, до многих высших чинов включительно, не имело в душе патриотизма и не стало дружно на защиту правого дела. Офицерская масса в это время состояла уже сплошь из интеллигенции, т. е. из безвольного и к добру, и ко злу материала.
Что касается до солдат, то у них в это время голова пухла от сыпавшегося на них со всех сторон пропагандистского материала от всех социалистических партий. Большевики еще не успели в то время развить полной деятельности, но их обещания, конечно, должны были иметь полный успех, так как больше них обещать уже никто не мог. Эсеры про них острили, что они обещают все и еще по полтиннику на брата. Солдаты во всех прокламациях разбирались плохо, но хорошо поняли одно: конец войне, возвращение домой и дележ земли. Ряды полков начали сначала понемногу, а потом все быстрее и быстрее редеть. Вначале были отпуска, а когда их прекратили вследствие невозвращения отпускных, то началось дезертирство. К тому же начальство начало само увольнять старшие сроки службы. Масса оказалась также больных, которым запуганные врачи без отказа выдавали свидетельства.
После неудачной попытки Корнилова захватить власть развал пошел уже быстрым темпом. Умеренные комитеты заменялись крайними, и положение делалось напряженное. До большевистского переворота мне еще кое-как удавалось сохранять подобие порядка, но, когда пришло известие о событиях в Петербурге и о вступлении Ленина с компанией во власть, я понял, что делать уже больше нечего. Съездил в Болград и, посовещавшись с генералом Цуриковым, я по его примеру образовал революционный комитет, которому и передал власть, но предварительно передал также оборону участка румынскому адмиралу Скодре.[274] Скодра сначала поморщился, но затем снесся с Яссами и согласился, несмотря на то, что у него было всего две роты матросов. Видимо, румыны уже решили вступить в переговоры с Германией.
Революционный комитет сейчас же избрал триумвират из солдата, матроса и прапорщика Нижерадзе, которые и приняли у меня бразды правления. Из этих трех лиц самый несимпатичный был прапорщик, который явно стремился к провокации всех начальников, но, по счастью, ему этого не удалось. По его проискам сейчас же была назначена ревизия дел штаба, которой никаких упущений обнаружить не удалось. Наоборот, чины штаба, собравшись на пленарное заседание, решили мне преподнести по правилам, изданным Керенским, солдатский Георгиевский крест. Прапорщик скрежетал зубами, но все же был вынужден подписать мой патент.
С этого времени я сделался только зрителем всех событий, которые продолжали развиваться в порядке окончательного разложения. В Килии остатки 4-го полка, стоявшего там, произвели еврейский погром и разграбили полковые суммы. Измаилу угрожало то же самое, но здешние жидки уплатили порядочную сумму и наняли из тех же солдат вооруженную охрану и таким образом откупились от погрома.
Председатель объединенных комитетов футурист Филонов, когда-то имевший большое влияние, на одном из митингов был избит толпой и после этого случая потерял всякий авторитет. Триумвират, меня сменивший, также сам еле влачил свое существование, хотя и продолжал писать декреты. Мое положение пока не изменилось. Я был свободен и по вечерам даже выходил на прогулку по городу и мог бы уехать куда хочу, но я положительно не знал, куда ехать при полном развале на железных дорогах, и потому предпочитал оставаться в Измаиле, где меня все знали и относились ко мне хорошо.
В декабре в Измаил пришел карательный миноносец из Севастополя и потребовал моей выдачи для следствия и суда. Комитет собрался на пленарное заседание и постановил отказать в моей выдаче, так как судить меня незачем, и, наоборот, они все мною очень довольны. Признаюсь, я пережил довольно неприятные минуты, пока решалось это дело, и очень удивился, что комитет решил проявить такую твердость. Так карательный миноносец и ушел без всякого успеха.
Конец декабря и начало января прошло на мирном положении. В Измаиле остались только человек 300 солдат и комитеты, которые распродавали казенное имущество и сколачивали себе деньгу. Настроение у всех было самое миролюбивое, как у всех коммерсантов. Мы праздновали мирно праздники Рождества Христова и даже недурно продовольствовались, так как в Бессарабии еще всего было много.
Мирное житие товарищей солдат и матросов было внезапно прекращено румынами. Однажды ко мне пришел мой бывший адъютант и сообщил, что комитет находится в большой панике. Получено известие, что румынские войска заняли Болград и разоружили местный гарнизон. День и ночь шли заседания комитета, и после долгих споров решили защищать Измаил до последней капли крови, о чем объявили населению, а сами ночью перебрались на суда и приготовились к спешному отплытию. Ко мне накануне явился член триумвирата солдат Егоров, объявил, что они думают защищаться, и спросил меня, не соглашусь ли я принять начальство над обороной Измаила.
Я мог только рассмеяться на такое предложение и спросил, кем же я буду командовать. Оказалось, что никто драться не хочет. Он ушел от меня сильно смущенный.
Прошла довольно тревожная ночь, и после полдня 17 января послышалась ружейная стрельба. Оказалось, что румыны для производства впечатления на жителей выпустили несколько очередей шрапнелей с высоким разрывом.
От этой стрельбы слегка пострадал один из прапорщиков, мирно сидевший за столом и обедавший, когда к нему в комнату влетел неразорвавшийся снаряд и штукатуркой со стены ему слегка поранило ногу. Вслед за пальбой румыны без сопротивления вступили в город. Защитник Измаила нашелся только один. Какой-то пьяный матрос сел верхом на лошадь и один с саблей бросился в атаку на румын, подходивших уже к центру города. Бедняга был сбит с лошади, взят в плен, предан суду и расстрелян за вооруженный бунт против законной власти. Я пробовал его спасти и ходил к начальнику гарнизона, но из моего ходатайства ничего не вышло.
Румыны быстро навели порядок и тишину в Измаиле. Беспорядочная стрельба в городе для развлечения прекратилась, и город принял прежний дореволюционный вид. Все солдаты разбежались по деревням, а флот попробовал обосноваться в Вилкове, но после нескольких выстрелов румынских мониторов и он решил подобру-поздорову отплыть в Одессу.
Несмотря на неприятную картину чужестранного засилья, должен сказать, что чувство спокойствия и безопасности, которые мы испытали по приходе румын, превозмогло ненависть к захватчикам. Румыны сделали регистрацию, и на нее собралось около 300 офицеров, явившихся из различных мест, где они скрывались. Мне было предложено быть русским начальником гарнизона, но я отклонил от себя эту честь, так как считал, что, служа румынам, до некоторой степени покажу солидарность с ними. Это несколько охладило наши отношения, бывшие до того очень хорошими, так как многие из них были раньше моими подчиненными.
Румыны понемногу начали румынизацию Бессарабии, но делали это довольно постепенно. Вначале они говорили, что берут Бессарабию только как бы на хранение, желая ее сохранить в порядке и передать снова России как только в ней установится сильное и признанное народом правительство. Вместе с тем румыны начали организовывать, не щадя средств, свою румынофильскую партию и создали для Бессарабии фиктивное подобие представительства, так называемую Сфатул Церию, которая и сделалась центром румынской пропаганды. Однако, несмотря на все их ухищрения, не только русские, хохлы, болгары и турки, населявшие южную и восточную Бессарабию, но даже и молдаване, говорившие на румынском языке, не поддавались пропаганде и явно тянули к России.
Мы, то есть несколько русских семейств, временно оставшихся в Измаиле, продолжали жить своей жизнью, не вмешиваясь в политику и оставаясь в роли спокойных наблюдателей. Нам жилось неплохо, потому что у нас были небольшие сбережения, и мы решили оставаться и ждать развития дальнейших событий.
В марте из Ясс приехал полковник Жебрак с полномочиями от генерала Щербачева для набора офицерской бригады, которая должна была служить для охраны порядка и огромного имущества русской армии, оставшегося в Бессарабии, но затем ее назначение изменилось и вылилось в форму активной борьбы с большевиками. По просьбе полковника Жебрака я собрал общее собрание всех офицеров, живущих в Измаиле, и сказал им импровизированную речь, после чего был объявлен набор. Записалось около 200 человек, из коих полтораста действительно поступили в сформированный батальон. Жебрак принялся за дело очень энергично: через неделю батальон из двух рот пехоты, взвода конных разведчиков и взвода полевых орудий был сформирован, снабжен всем необходимым до обоза включительно и через две недели уже выступил на соединение с полковником Дроздовским, который уже выходил в свой поход, приведший его к соединению с добровольцами генерала Алексеева.
Схематический план гирлов Дуная
В то время, когда мы формировали отряд в Измаиле, мы о добровольцах еще ничего и не слышали. До нас вообще доходило мало слухов. Мы знали, что немцы вступили в Украину и двинулись также к Москве. Слышали о переговорах их с большевиками, но все это доходило до нас через пятые руки, так как газет мы никаких не получали.
Между тем румыны начали понемногу проявлять свою настоящую физиономию. Начались притеснения офицеров и даже высылка некоторых из них за пределы Бессарабии. Со мной обращались до сих пор вежливо, но я решил, что не стоит дожидаться, когда это обращение переменится, и потому предпринял шаги к переезду в Одессу, оккупированную в это время австрийцами. Я написал письмо капитану 1-го ранга Хоматьяно, бывшему начальнику транспортной флотилии, и просил прислать за мной маленький пароход, так как железнодорожное сообщение в то время было ниже всякой критики. В самых первых числах мая пароход был прислан, и я при великолепной погоде в компании еще десяти офицеров с семействами покинул Измаил и переехал в Одессу.
Оглядываясь на краткий период, проведенный мной на Дунае, я должен сказать, что провидение ко мне было очень благосклонно. Я попал в самый развал отступления нашей армии и затем в революцию и тем не менее у меня не было никаких несчастий, катастроф и других невзгод, а даже в такой тяжелый период были еще события и факты, которые можно вспомнить с удовольствием. Великая война для России кончилась, но страдания бедной Родины от этого не уменьшились, а увеличились. К этому периоду я перейду в отделе «Добровольная армия»,[275] где мне было суждено сыграть еще роль.
Часть II Гражданская война
Добровольческая армия
Одесса
В Одессе я нашел полную перемену: не было больше бродящих повсюду товарищей и солдат, лузгающих семечки и наполнявших атмосферу отборной руганью; улицы были вымыты и прибраны и по ним гуляли, кроме обыкновенных обывателей, чисто одетые австрийские патрули и немецкие и австрийские лейтенанты. Конечно, это было приятнее товарищей, но невольно приходило в голову – неужели для этого мы терпели столько жертв и страданий.
В Одессе мне удалось довольно удобно устроиться у моих дальних родственников. Я получил две комнаты со столом за недорогую цену на Пироговской улице невдалеке от вокзала. За несколько дней до моего приезда произошел с помощью немцев политический переворот, и генерал Скоропадский[276] сделался гетманом Украины. Не успел я еще оглядеться в Одессе, как уже получил приглашение приехать в Киев на совещание с гетманом по делам Черноморского флота. Такое же приглашение получили адмиралы Покровский[277] и Паттон, находившиеся также в Одессе. Не зная хорошо, в чем дело, я все же рискнул поехать. К образованию самостийной Украйны я, конечно, симпатий никаких не имел и, наоборот, решил отнюдь не служить делу расчленения России, но меня главным образом влекло желание узнать сущность совершающихся политических махинаций, а в Киеве это, конечно, было легче, чем в Одессе.
Благодаря немцам между Одессой и Киевом уже циркулировали скорые поезда с вполне исправными вагонами, и мы в вагоне 1-го класса, никем не беспокоемые, менее чем в сутки добрались до Киева и заняли уже приготовленные для нас номера в гостинице.
На другой день мы отправились на аудиенцию к ясновельможному гетману, который жил во дворце генерал-губернатора. Приемные комнаты были полны народа. Караул занимали офицеры в русской форме, и только за письменным столом сидел какой-то господин с прической à la Кочубей, как его рисуют на портретах, и в форме, весьма напоминающей певчего из синодального хора. Мне сообщили, что это генеральный писарь пана гетмана. Когда я был в приемной, он ничего не писал, а сидел молча, как Будда, и, по-видимому, обязанности его были исключительно служить манекеном или символом украинской государственности. На мове еще не говорил никто, и этому языку только еще учились у галицийцев.
Спустя некоторое время нас пригласили в отдельную комнату, и к нам сейчас же вышел моложавый красивый блондин в казачьей форме и предложил нам сесть. Это и был ясновельможный пан гетман. Разговор длился около часа. Гетман нам сказал, что пригласил нас для совета по делам Черноморского флота, который Украйна решила взять в свое ведение впредь до решения вопроса об отношениях будущей России с Украйной. Гетман нас просил составить записку об управлении флотом и передать ему на утверждение через совет министров, только что тогда образованный. На наш вопрос о границах Украйны, он ответил, что в Украйну войдет Крым, а затем, вероятно, присоединятся и казачьи области до Урала включительно, а в дальнейшем, вероятно, и Москва. При этом гетман понизил голос и сказал, что с нами он будет вполне откровенен. Он взял власть как тяжелый крест, так как не видел другого выхода из положения. С поддержкой немцев и своих хлеборобов, которые его выбрали и которых насчитывается 14 миллионов, он надеется установить прочный порядок сначала в Украйне, а потом и в России. Он не самостийник, а желает только автономии Украйны, на которую она имеет полное право. Для всей России он был и есть монархист и надеется дожить до того времени, когда снова сделается верноподданным законного русского монарха.
Мы сидели и, развесив уши, слушали и верили, но, может быть, и правда, что в то время Скоропадский, еще не опьяненный почетом и властью и не ласкаемый как младший брат императора Вильгельма, правда говорил, что думал. Разговоры о том, что несчастная Украйна стонала несколько веков под игом злокозненной России, начались уже два месяца спустя, когда гетман имел свой двор и принимал всех как коронованная особа. Теперь же он держал себя с нами совсем как равный с равными.
Мы ушли от него почти что очарованные и почти что верящие в близкое избавление России от большевиков.
Теперь нужно было начинать работу, но оказалось, что Покровскому требовалось спешно выехать в Одессу, а Паттон объявил, что никогда проектов не писал и подпишет все, что я напишу. Так мне и пришлось работать одному. Я просидел два дня над эскизным проектом управления морским ведомством в двух вариантах: один в составе военного министерства, а другой при самостоятельном управлении. Само собою, эти проекты были чисто эскизные, где перечислялись только пункты управления и их права и обязанности. Требовалось только разработать принципиальные условия управления, чтобы Совет министров мог понять, в чем состоит дело. К обоим проектам я написал объяснительную записку.
Когда я уже кончил работу, около 12 часов ночи, сидя в номере гостиницы, ко мне явился неизвестно где оба дня пропадавший адмирал Паттон и объявил, что приехал со специальной миссией от дам, чтобы привести меня ужинать. Весь город говорит, что я буду украинским морским министром, и ему дамы приказали доставить меня живого или мертвого в ресторан. Я спросил, интересные ли дамы, и, получив утвердительный ответ, решил поехать, так как моя голова от двухдневной непрерывной канцелярской работы после долгого безделья начала уже, что называется, пухнуть.
Приезжаем: залитый светом ресторан, красивая сервировка, масса элегантной публики, дамы в нарядных платьях, дрессированная прислуга – все пахнуло довоенным старым режимом. Меня представили дамам и мужчинам. Настроение уже было приподнятое благодаря шампанскому, лившемуся рекой, и меня приняли с радостными восклицаниями. Здесь был вновь назначенный министр внутренних дел Варанович,[278] впоследствии расстрелянный петлюровцами, с женой и еще несколько дам и мужчин из так называемых хлеборобов, а на самом деле крупных помещиков и сахарозаводчиков. Ужин был изысканный, веселый и политый обильно шампанским. Настроение было самое оптимистическое. Все крепко надеялись на немецкие штыки и несокрушимую силу императора Вильгельма. О большевиках говорили как о кошмаре далекого прошлого, который уже не может повториться.
Я пробовал войти в общий тон, но это мне как-то не удавалось. В этом уповании на штыки недавних противников чувствовалось что-то фальшивое и ненатуральное, а столь скорое забвение кошмаров большевизма также не сулило ничего хорошего. Домой я вернулся скорее подавленным, чем довольным приятно проведенным вечером.
На другой день утром я отправился к премьеру Украйны пану Лизогубу[279] со своей запиской. Это оказался премилый человек, типичный кадет прогрессивной направленности, со всеми свойственному этому классу людей достоинствами и недостатками. Ему бы было хорошо сидеть в своем уютном кабинете, окруженным книгами и бумагами, а не управлять вновь создающимся государством среди разбушевавшихся стихий. Он принял мою записку и сказал, что, ввиду массы неотложных дел, рассмотрение ее, вероятно, затянется, и предложил мне заняться выработкой штатов проектированных учреждений. На это я ему ответил, что здесь, в Киеве, за неимением нужных справок и материалов, этого исполнить нельзя, а потому лучше всего образовать из компетентных людей в Одессе комиссию, которой и поручить эту работу. Он сейчас же согласился и дал мне карт-бланш на составление комиссии. На том мы с ним и порешили.
Так как я уже опоздал к скорому поезду, то пришлось остаться еще на целый день в Киеве. Я употребил это время на прогулки по городу во всех направлениях. Киев, также как и Одесса, при немцах почистился и на улицах везде был относительный порядок. Мне пришлось видеть проезд германского генерала Эйхгорна в автомобиле с адъютантом. Это был уже глубокий старик, которому немецкая каска придавала весьма воинственный вид.
В одном из ресторанов меня неприятно поразила офицерская прислуга. Как-то режет глаз исполнение офицерами лакейских обязанностей, хотя, конечно, нельзя ничего возразить против приложения труда ко всякому ремеслу, включая самые черные работы. Здесь самое главное, кажется, – необходимость получения на чай, а не определение платы за работу. Вечером Паттон затащил меня в какой-то клуб, или, вернее, игорный дом. Там также все крупье были офицеры, а один из них даже с Георгиевским крестом. Разложение, видимо, началось и захватило все слои общества.
На другой день утром я уехал в Одессу. По приезде я сговорился с адмиралом Покровским, и он, как старший из находящихся в Одессе адмиралов, назначил комиссию под своим председательством, а я был его заместителем. Комиссия работала с прохладцей, и у меня было много свободного времени. Чем больше я присматривался к окружающей обстановке, тем хуже становилось мое настроение.
Никто в Украйну не верил, кроме небольшого числа щирых полуинтеллигентов, предводимых Петлюрой,[280] но все охотно шли на службу для устройства своих личных дел. Саботаж процветал вовсю. Образовалось множество всяких ликвидационных комиссий для ликвидации оставшегося после войны имущества. Комиссии эти ничего не делали и не ликвидировали, а продавали понемногу имеющееся у них имущество и выдавали себе аккуратно жалованье. Все спешили веселиться и жить, чтобы вознаградить себя за лишения войны и кошмарные месяцы большевизма. О восстановлении родины и активной борьбе с большевизмом никто не думал, а все надеялись на немецкие штыки. Простой народ временно притих, но было видно, что он еще не вкусил в достаточной степени прелестей большевистской анархии и все симпатии его на их стороне. Кадетское правительство гетмана мало чем отличалось от Временного правительства князя Львова.[281] Оно не проявило твердой власти и не дало народу ничего в аграрном вопросе, почему быстро утратило симпатии среди даже зажиточного крестьянства. Все эти обстоятельства сильно повлияли на мое решение отклонить предложение о поступлении на украинскую службу, я уже начинал подумывать о частной службе в пароходном предприятии. У меня еще были сбережения от прежних высоких окладов, но надолго их хватить не могло.
Однажды, идя по улице, я встретил офицера с углом национальных цветов на руке. Я его остановил и спросил, что это значит, и он мне рассказал про вновь образованную Добровольческую армию под предводительством генерала Алексеева, только что вернувшуюся из Кубанского, так называемого Ледяного, похода и находящуюся сейчас на Дону. Он приехал, чтобы набирать новых добровольцев. Меня точно толкнуло в грудь, и я понял, что то, что сделала эта горстка людей, то и надлежит делать всем русским людям, любящим свою родину.
Генерала Алексеева я знал хорошо по Ставке. Это был глубокий патриот и кристально честный человек. Если он и сделал какие-либо ошибки во время переворота, то он думал, что делал добро. Бог ему простит это. Офицер мне сказал, что желающие ехать в армию имеются, но денег у него всего 1000 рублей, и он не знает, как ему их отправить. Я сейчас же вызвался ему помочь, и он в тот же день явился ко мне со своим товарищем для совещания по этому делу.
Придя домой и обдумав все дело, я уже твердо решил, что не пойду на службу к гетману и сделаюсь добровольцем. Мне уже стало почти очевидно, что из украинской затеи ничего не выйдет. Личность генерала Алексеева служила порукой, что его дело чистое и патриотическое, а потому не откладывая в долгий ящик я написал ему письмо с предложением своих услуг и отправил его с первой партией добровольцев, так как почта еще была в хаотическом состоянии. Когда явились ко мне оба офицера-добровольца, я объявил им, что делаюсь их сотоварищем, и они сейчас же заявили о своей полной готовности мне подчиниться. Так организовался одесский центр Добрармии,[282] давший впоследствии свыше 12 тысяч бойцов за ее дело.
На совещании выяснилось, что почва для пропаганды чрезвычайно удобна, так как по городу слонялось много безработных офицеров. Оставалось только найти средства для их отправки. Первая партия в двести человек уже была готова, и не хватало только 2000 рублей для ее отправки. Эти деньги я дал из своего кармана. Мы решили, что старший из офицеров (забыл фамилию) отправится с партией на Дон, а я с другим, капитаном Соловским, займусь подготовкой новой партии. Капитан Соловский оказался прекрасным помощником. Юрист по образованию, он был великолепным пропагандистом, был чрезвычайно подвижен, легко знакомился с нужными людьми и сходился с ними. Он поселился в гостинице «Владивосток» и открыл там вербовочное бюро, очень скоро сделавшееся популярным в Одессе. Народ там толпился с утра до вечера. Немцы вначале не обращали на нас никакого внимания, и мы этим пользовались и действовали почти совершенно открыто, выставляя на улице свои афиши и объявления.
Все шло бы прекрасно, если бы были деньги, а без них, как известно, предпринять ничего серьезного было невозможно. Но тут мне уже начало помогать провиденье. Для отправки второй партии я занял денег у капитана 1-го ранга Хоматьяно, который еще продолжал управлять делами транспортной флотилии, и он же посоветовал мне обратиться к госпоже Регир,[283] жене богатого пароходовладельца. Она была председательницей благотворительного общества и сейчас же дала мне из сумм общества 10 тысяч. 10 тысяч прислал генерал Алексеев при письме, которым давал мне полномочия действовать от его имени в Одессе и других ближайших городах на пользу Добровольческой армии. Таким образом, мне удалось обернуться на первое время и начать активную перевозку офицеров на Дон.
В конце мая в Одессу приехал генерал Лукомский[284] проездом в Киев. Он был на Дону и был осведомлен вполне о создании и делах Добровольческой армии. Мне пришла в голову мысль основать патриотический комитет в Одессе, и я попросил его сделать сообщение о целях и значении Добровольческой армии для восстановления России. Пригласил на собрание несколько богатых людей и политических деятелей, так как делать собрание многолюдным по политическим причинам не было возможности. Генерал Лукомский сделал правдивое и толковое сообщение, причем подчеркнул равнодушие общества к делу спасения России, и затем я встал и предложил организовать комитет для содействия генералу Алексееву в его патриотических делах. Увы, эффекту было мало. Первыми ушли из заседания кадеты, заявив, что немцы будут противиться самостоятельным действиям русских для объединения России, что они решили объявить Украйну самостоятельной и нам нужно терпеливо ждать, когда они захотят сбросить большевиков, что они это, несомненно, сделают, покончив войну. Оставшиеся несколько человек заявили свое сочувствие Алексееву, но активно работать отказались из-за боязни немецких и украинских репрессий. С Украйной они были связаны своим имущественным положением, но заявили готовность лишь помогать тайным образом. Впоследствии помощь эта выразилась в двух тысячах рублей, данных мне одним из присутствовавших купцов, а остальные так ничего и не дали.
После отъезда генерала Лукомского я еще раз попробовал установить контакт с обществом и принял приглашение на заседание кадетов в клубе общественных деятелей. Собралось человек двадцать, и я им изложил программу и идеологию Добровольческой армии. Начались прения, и в результате громадное большинство высказалось за Уфимскую Директорию,[285] которая только что начала себя в это время проявлять и носила чисто партийный эсеровский характер.
Видя, что с кадетами каши не сварить, я подумал, что, может быть, найду опору в более правых кругах, и записался членом в Английский клуб, но и там меня ждало одно разочарование. Там сидела публика совершенно равнодушная ко всяким патриотическим вопросам и уповавшая исключительно на немецкие штыки. Главной их заботой был собственный карман, и они думали только о его сохранении.
Толкался я и в банковские сферы, но там мне прямо сказали, что капитал аполитичен и политикой не занимается. Я им на это ответил, что большевики другого мнения, и если они не выступят на защиту своих интересов, все их капиталы испарятся как дым, но это на них не подействовало. В результате один еврей Хари(?) дал мне пять тысяч и притом даже без расписки, сказав, что знает отлично, куда я трачу деньги. Таким образом, мои попытки разыскать мининых в Одессе были безуспешны. Оставалась одна надежда найти пожарских на Дону.
Тем более отрадным при таком моральном развале общества были редкие исключения, которые мне встречались на пути. Я уже упомянул об госпоже Регир и еще должен сказать о княгине Яшвиль,[286] с которой я познакомился в этот период своей деятельности. Она разыскала меня сама и, будучи небогатой женщиной, не могла мне оказать финансовой поддержки, но сделала очень много по части снабжения добровольцев бельем, одеждой и всяким другим снабжением. Когда мое положение сделалось сомнительным и надо мной повисла угроза ареста, она предложила скрыть меня на своей даче, что могло ей самой грозить большими неприятностями. Женщины оказались патриотичнее мужчин.
Несмотря на все эти неудачи, дела мои шли вполне хорошо. Соловский надоумил меня воспользоваться законом об эвакуации для бесплатной отправки офицеров до границы Донской области. Я съездил к воинскому начальнику, который оказался любезным человеком, и раздобыл у него перевозочных бланков. От донской границы до Ростова ходили уже воинские поезда, так что фактически вся перевозка шла даром. Приходилось только выдавать суточные по 10 рублей на человека в день, т. е. за всю поездку 40 рублей. Тем не менее перевозка шла так интенсивно, что мои фонды стали быстро иссякать.
Я бился как рыба об лед, стучался во все двери, но при всем желании у частных лиц более 50 тысяч за все время добыть не мог.
Тактика перевоза заключалась в следующем: в бюро Соловского в гостинице «Владивосток» являлась публика и записывалась, оставляя свои адреса. Я назначал старшего в каждой партии, которая обычно составляла около ста человек. Эту норму мы взяли потому, что комендант станции больше трех вагонов нам предоставить не мог. Мы отправляли наши эшелоны два, а иногда даже три раза в неделю. Капитан Соловский являлся к каждой отправке и вручал старшему, обыкновенно штаб-офицеру, деньги на пропитание эшелона и бланки для перевозки. Обыкновенно 10 или 15 процентов не доезжали до места и выходили где-нибудь по пути. Эти господа, конечно, и не собирались в Добровольческую армию, а пользовались нами для того, чтобы даром проехать куда им было нужно. В душу человеческую, конечно, не влезешь, и с этими убытками приходилось мириться. Однако бывали случаи, когда нашей любезностью хотели воспользоваться целые большие семейства со стариками и детьми и массой багажа, но тут мы уже были тверды и прямо отказывали. Много было также желающих сестер милосердия, которым некуда было деться, и они назойливо предлагали свои услуги, но генерал Алексеев писал нам, что им и своих некуда девать.
Я разговаривал со многими едущими офицерами и, к своему удивлению, заметил, что многие из них плохо понимали, для чего они едут. Сознательных патриотов, дающих себе ясный отчет, что они едут жертвовать своею жизнью для спасения родины, вряд ли было более 20 процентов. Большинство же ехало потому, что в Одессе не было приятного и хорошего заработка. Во время войны молодежь отвыкла вообще от систематической работы, а тут приходилось добывать себе кусок хлеба пилкой дров и другими тяжелыми работами. На всякое дело смотрели как на приятное ремесло, свою жизнь не ценили, а потому шли в добровольцы, чтобы переменить тяжелое ремесло на легкое, приятное и привычное.
Вообще русскую интеллигенцию времен Гражданской войны можно разделить на пять групп: первая – это мы, которые сознательно поняли, что большевизм грозит гибелью России, и, движимые чувством патриотизма, немедленно отозвались на призыв генерала Алексеева и других вождей Белого движения и пошли жертвовать своею жизнью для спасения родины. Эта группа была очень немногочисленна. Она составляла не более 5–10 процентов фронтового офицерства, и большая часть ее полегла на полях сражений и в госпиталях от сыпного тифа. Те, которые остались живыми, эмигрировали за границу и составили там ядро офицерских обществ, которые до сих пор хранят заветы славного прошлого русской армии и с нетерпением ждут того момента, когда они снова смогут отдать свою жизнь и силы на службу своей родине.
Вторая группа состояла из людей менее сильных духом. Они также понимали, что долг зовет их отдать свою жизнь родине, но семейные обстоятельства, заботы о своих близких, болезни, последствия ран и контузий и другие подобные обстоятельства удерживали их от поступления в белые армии. Эта группа, также очень немногочисленная, частью эмигрировала, а частью осталась в России. За границей она присоединилась к первой группе, а в России ради куска насущного хлеба пошла на службу к большевикам и теперь ждет не дождется, когда придет освобождение от интернационального ига.
Третья группа – это так называемые испуганные интеллигенты. Это самая многочисленная группа, по меньшей мере четыре пятых всей интеллигенции. Их главнейшим импульсом было спасение своей жизни и имущества. Самые умные из них своевременно перевели за границу что могли из своего состояния и сами туда перебрались. Оставшиеся метались из стороны в сторону. Вначале они возложили всю надежду на немецкие штыки и толпами бросились на Украйну, а когда немцам стало плохо, перекинулись к союзникам и, наконец, к добровольцам, когда Деникин объявил поход на Москву. Они-то, главным образом, и разложили морально Добровольческую армию, бывшую до того сплоченной и крепкой. Почти вся эта группа попала за границу и здесь в безопасности разбилась на политические группы, которые занимались взаимными раздорами вместо того, чтобы объединиться против общего врага.
Четвертая группа почти вся осталась в России. Эти люди не имели определенных политических убеждений. Когда был царь, они верно служили царю, но, когда царя свергли и воцарились большевики, они стали также верно служить большевикам. Они только переменили доброго барина на злого, но барин был, и они продолжали ему служить, как и прежде. Психология этой группы ушла недалеко от психологии домашних животных. Когда снова вернется царь, они будут очень рады, но они не способны ничего предпринять, чтобы приблизить это время.
Пятая группа, немногочисленная, как и первая, сознательно пошла на службу к большевикам, одни с тем, чтобы сделать себе карьеру, другие с тем, чтобы весело пожить и половить в мутной воде рыбку. Первые внутри таили мысль, что им удастся забрать большевиков в руки, а потом сбросить и занять господствующее положение, но они ошиблись в расчетах и заняли место на запятках большевистской колымаги. Большевики пользуются их услугами, платят им за это, но безжалостно их изгонят, как только смогут поставить на их места своих людей из рожденных пролетариев.
Если бы первая группа состояла не из 5, а из 25 процентов, большевистская революция была бы подавлена в самом начале, пока она не сумела еще сорганизоваться. Примером тому служит Германия. Там тоже одно время властвовал совдеп, но германская интеллигенция быстро объединилась и сбросила иго в течение двух месяцев. И это сделала побежденная страна, а Россия не была побеждена. У нас не хватило, как и в Содоме и Гоморре, должного числа праведников, чтобы Господь отвел от нас свою кару.
Наши третья и четвертая группы составляли в общем не менее 90 процентов нашей интеллигенции, а ведь она была господствующим и правящим слоем в России.
Кто пожелает углубиться в истинный смысл нашей революции, тот должен заключить, что наша интеллигенция оказалась недостойной того положения, которое она занимала, а потому Высшее Провидение решило ее заменить новой, взятой из народа. Мы же, как евреи во время сорокалетнего странствования в пустыне, должны переродиться, чтобы, когда Бог судит нам вернуться, занять снова подобающее нам место.
Чтобы не быть голословным, сделаем краткий анализ нашего интеллигента. Он, безусловно, талантлив. Он даже слишком умен, у него доброе сердце, он отзывчив и легко переносит все невзгоды и неприятности. Это, конечно, положительные качества, но нужно отметить, что ум русского интеллигента довольно своеобразен. Впрочем, благодаря классицизму в обучении, не сродному русскому народу, ум интеллигента оторвался от практической жизни и ушел в теоретические мечтания. От этой же причины и чрезмерных школьных занятий, при отсутствии физических упражнений, получилась дисгармония между умом, духом и телом. Русской дореволюционный интеллигент – это человек с гипертрофированным мозгом, слабой душой и дряблым телом.
Наряду с достоинствами нужно отметить и его крупные недостатки: прежде всего, русский интеллигент – плохой патриот, и даже самое это слово было чуть ли не ругательным в известных кругах; чувство долга у нас было весьма слабо развито в противоположность англичанам и немцам; мы все были фантазеры и мечтатели; неврастения и слабоволие были присущи почти каждому русскому интеллигенту. Мы не были способны к систематическому труду и умели работать только порывами, что очень метко было отмечено поэтом, сказавшим: «Суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано»; у нас всегда отсутствовала и теперь отсутствует взаимная солидарность, чему ярким примером служат разногласия и ссоры в нашей эмиграции. Но и со всем этим можно было еще мириться. Когда же ко всему прибавилось еще моральное разложение, падение религии, семьи и нравов, то жребий на весах Высшего Правосудия был брошен: русская интеллигенция была осуждена и обречена [к] политической смерти до ее раскаяния в своих грехах и нравственного и морального возрождения. Оно идет, но идет очень медленно. Нужно, чтобы лучше люди работали над ускорением этого процесса. Как это сделать, поговорим в другом месте.
Главным источником пополнения для Добровольческой армии в Одессе служил Офицерский союз. Союз этот образовался, когда после окончательного разложения армий на фронте масса офицеров осталась без всяких занятий и оказалась преимущественно в больших городах. Ехать на родину в это время было небезопасно, а в некоторые местах даже и невозможно вследствие беспорядков на железных дорогах и различных трудностей и строгостей на новых границах, появившихся на месте России новых государственных образований. В Одессе таким образом скопилось от десяти до двенадцати тысяч бывших офицеров, не имеющих средств к существованию. Новое украинское правительство, обеспокоенное таким наплывом безработной интеллигенции, дало некоторые средства и поручило генералу Леонтовичу организацию работ для их прокормления. Таким образом и образовался Союз офицеров в Одессе.
Генерал Леонтович выхлопотал большое помещение в центре города, принадлежавшее военному ведомству, где и разместилось правление союза со всеми своими отделениями. Тут же был и кооператив, т. е., вернее, отделение бывшего магазина гвардии, армии и флота. К сожалению, посреди существовавшей неразберихи трудно было предоставить офицерам какой-либо интеллигентный труд. Часть их разобрали различные учреждения, ликвидированные после войны, в качестве сторожей; для той же цели их охотно брали и частные фирмы, так как время было беспокойное, но все же главная масса должна была добывать себе прокормление физической работой, т. е. пилкой дров, строительными и землеройными работами. Вот из этого-то контингента мои помощники и вербовали добровольцев для отправки на Дон.
Правление союза вначале враждебно отнеслось к нашей пропаганде, так как руководствовалось указаниями от гетмана, интересы которого как сепаратиста были прямо противоположны идеям добровольцев, выставивших своим лозунгом великую и неделимую Россию. Генерал Леонтович собирал молодежь и говорил им, что вся затея добровольцев – глупая авантюра, которая только увеличит число жертв и провалится как мыльный пузырь, что нужно надеяться на немцев, а пока что пилить дрова и ждать лучших времен. Молодежь его слушала и толпами шла записываться в добровольцы в гостиницу «Владивосток». Рознь внутри союза стала расти настолько, что главари заволновались и, обсудив положение, решили переменить политику, так как союз угрожал полным распадением. В один прекрасный день генерал Леонтович явился ко мне со своим адъютантом, принес повинную голову и пришел засвидетельствовать генералу Алексееву верноподданнические чувства. Мне, конечно, было приятно работать без противодействия, и я охотно пошел навстречу. Таким образом у нас восстановился мир.
Пробовал я также пропагандировать идеи Добровольческой армии через прессу, но на мой призыв отозвалась и то с большой опаской одна только газета «Одесский листок». Редактор согласился помещать только мои собственные небольшие заметки, в которых указывались факты и события, но без всяких рассуждения и комментариев. У нас стремились угождать немцам больше, чем они сами требовали.
Счастливый случай помог мне выйти из финансовых затруднений, которые сильно парализовали мою деятельность. Я случайно встретился с графом Уваровым,[287] членом Государственного совета по выборам, временно живущим, как и многие другие, в Одессе. Узнав о моих затруднениях, он написал письмо Поклевскому-Козелл, посланнику в Румынии, имевшему на руках большие казенные средства, и тот немедленно прислал ему двести тысяч рублей. Таким образом, деньги появились, и я мог уже беспрепятственно продолжать свою работу. Но, к сожалению, одно затруднение окончилось, но появились другие. Немцы, ранее нисколько нам не мешавшие, вдруг начали чинить затруднения. В один для нас непрекрасный день в гостиницу «Владивосток» в бюро к капитану Соловскому явилась полиция, забрала все бумаги, т. е. списки готовящихся ехать со следующей партией, и взяла с него расписку с обещанием прекратить отправку добровольцев на Дон и закрыть вербовочное бюро.
В связи с этим мы услышали, что и в других местах начались репрессии по отношению к добровольцам. Обсудив положение, мы решили уйти в подполье и менять свое местожительство каждые две недели. Благодаря полученным средствам мы имели возможность завести себе приятелей как в немецких штабах, где служило много русских, так и в украинской полиции. Наши агенты заблаговременно нас предупреждали о готовящихся репрессиях. Мне самому также пришлось принять меры предосторожности, хотя мне лично, по-видимому, непосредственная опасность не угрожала. Немцы не любили шума, а арест такого лица, как я, несомненно, бы его наделал. За мной были прежнее высокое положение и большие знакомства и связи. Поэтому опасность угрожала только моим помощникам, которые рисковали невеселой поездкой этапным порядком в германский или австрийский концентрационный лагерь. Тем не менее я все свои наиболее важные бумаги, как, например, письма генерала Алексеева, переправил одной знакомой даме, жившей этажом выше меня, а все свои записи стал вести на различных страницах шеститомного собрания сочинений Шекспира, которое помещалось в моей комнате в хозяйской библиотеке. Но и эти записи я старался вести так, чтобы они носили самый невинный характер.
Капитана Соловского арестовывали два раза, но он так был ловок и увертлив, что на допросах с ним ничего не могли сделать и каждый раз отпускали со строгим внушением не заниматься пропагандой. В результате мы продолжали работать, хотя и с некоторой заминкой, главным образом, вследствие необходимости часто менять адреса.
Немцы, видя, что симпатии к добровольцам все возрастают, решили переменить свою тактику. В противовес добровольцам генерала Алексеева они решили создать Южную и Астраханскую армии, которые были бы под непосредственным немецким влиянием. Во главе первой был поставлен престарелый генерал Иванов, бывший командующий Юго-Западным фронтом. Генерал Иванов, движимый лучшими чувствами и желая принести родине пользу в ее тяжелые минуты, дал себя соблазнить льстивыми немецкими речами и обещаниями и согласился припечатать свое имя к этой авантюре. Добровольцы не выставляли монархического лозунга, а Южная армия прямо объявила себя монархической, шедшей для восстановления старого режима. Добровольцы также были на три четверти монархисты, но они понимали, что народ, еще не испробовавший в полной мере большевизма и вырвавшийся как зверь на свободу, не захочет снова идти под власть станового пристава, а потому воздержались от предрешения вопроса о правлении, предоставив это самому народу, через его выборных.
Судьба Южной армии была довольно печальной: она очень долго формировалась на севере Донской области, под прикрытием казачьих войск, но не могла развернуть больше двух бригад пехоты весьма слабого состава. Казаки, которым начали уже сильно угрожать красные, всячески давили на нее, чтобы заставить наконец выйти в боевую линию, но когда это наконец произошло, то армия при первых же выстрелах большевиков разбежалась. Это так подействовало на бедного старика Иванова, что он заболел с горя и умер. Большая часть его армии присоединилась к добровольцам, но это не принесло им пользы, так как Южная армия состояла из элементов, которые действовали разлагающим образом на те части, куда они попадали.
Во главе Астраханской армии стал калмыцкий князь Тундутов.[288] Это был еще совсем молодой человек, которого я хорошо знал по Ставке Верховного главнокомандующего. Он был адъютантом у начальника штаба генерала Янушкевича и абсолютно ничего из себя не представлял. Во время революции ему удалось как-то убедить немцев, что он имеет огромное влияние на весь калмыцкий народ, и стал изображать из себя владетельного князя. Немцы клюнули на эту удочку, дали ему денег, и он, окруженный несколькими авантюристами, стал формировать собственную армию. Эта армия в составе нескольких сот человек все же принесла некоторую пользу тем, что расправилась с местными большевиками и очистила от них Астраханскую губернию, после чего разошлась так же, как и Южная, так как у Тундутова вышли все деньги и ему нечем было платить жалованье.
Вербовка в обе новые армии, конечно, отразилась на количестве желающих поступить в добровольцы, но зато мы выиграли в качестве. Оба главных вербовочных бюро поместились в лучших гостиницах, расклеили огромные плакаты по всем улицам, давали офицерам по 400 рублей подъемных и обещали жалованье вдвое большее, чем добровольца. Конечно, все хлынули к ним, но три четверти аспирантов, получив подъемные, исчезали бесследно, что заставило вербовщиков объявить, что подъемные будут выдавать по прибытии на место, и это распоряжение сразу уменьшило наплыв желающих. Я отдал распоряжение своим помощникам не интриговать и не бороться с конкурентами, так как цель у нас и у них была общая – борьба с большевиками, но ввиду того, что в вербовщики попали лица с сомнительной репутацией, очень скоро опять большинство потянулось к нам, и мы стали работать по-прежнему.
Кроме людского материала, нам удавалось отправлять иногда и довольно ценное снаряжение. Капитан Соловский быстро перезнакомился с низшей украинской администрацией, и мы через них доставали и патроны, и снаряды, а иногда даже пушки. Посредством небольших подарков и денежных пособий мы раскинули сеть своих приятелей во всех полезных для нас учреждениях. Один раз целый товарный поезд с военным материалом по ошибке попал вместо Харькова в Ростов-на-Дону прямо в руки приемщиков из Добровольческой армии, и все это обошлось в двести рублей.
Вообще через низшую администрацию можно было сделать многое, так как все спешили себя перестраховать на случай неудачи с Украйной, опиравшейся исключительно на немецкие штыки, а со вступлением Соединенных Штатов в коалицию исход войны сделался более чем сомнительным. Что касается до высших чинов, там дело обстояло иначе. Те служили немцам если не за совесть, то за страх. Во главе гражданской администрации стоял генерал Раух,[289] хотя и русский свитский генерал, но немец до конца своих ногтей. К нему я даже и не обращался, но сделал попытку склонить на свою сторону генерала Березовского,[290] командира формирующегося украинского корпуса, но он так испугался, что я его уже больше не трогал. Старший морской начальник адмирал Покровский также очень дружил с немцами, и я предпочитал, когда это было нужно, иметь дело с его помощниками.
Кроме нас, добровольцев, как оказалось, работали в Одессе и организации другого рода. В один прекрасный жаркий день я шел по Дерибасовской улице вместе с моим бывшим помощником капитаном 1-го ранга Ермаковым, как вдруг мы услышали в ясный и солнечный день раскаты грома: один, другой и третий. Ничего не понимая, мы в изумлении остановились и стали осматривать небо, но скоро нам все объяснилось. Густой черный дым взвился широким столбом к небу, и в нем засверкали знакомые разрывы шрапнели. В Одессе повторилось то же, что и в Киеве и других городах, где были большие склады военных припасов. Это союзники, опасаясь того, что немцы используют огромные запасы русского военного материала, усердно уничтожали их через своих агентов. Зрелище было красивое и даже грандиозное. Взрывы следовали один за другим в течение целого часа, и небо все заволокло тучами дыма, так что даже и солнце не могло пробить эту дымовую завесу. В городе оказалась масса разбитых стекол, а поблизости от артиллерийского городка на окраине произошли большие разрушения и были человеческие жертвы.
Еще в Одессе действовала организация эсеров. Это были совсем странные люди. У них была своя какая-то туманная национально-социалистическая программа, но проведением ее в жизнь и пропагандой они мало интересовались, а всю свою энергию тратили на то, чтобы пакостить другим партиям. В описываемый мною период они действовали против украинцев и немцев, но, увидав, что мы начинаем забирать силу, сейчас же начали вставлять палки в колеса и нам, вплоть до анонимных доносов включительно.
Оглядываясь на первый период моей деятельности во время Гражданской войны, должен сказать, что, несмотря на все трудности и мелкие неудачи, он все же оставил во мне хорошее впечатление. Интенсивная работа в маленьком кружке патриотически настроенных людей, борьба с различными препятствиями и даже самая конспиративность работы и опасность арестов, обысков и других помех вносила в нашу деятельность своего рода поэзию, а самое главное, впереди блистала звезда Великой России, в которую мы тогда верили. Идейная работа всегда увлекательна, и, когда крепко веруешь в свою правоту, можно двигать горами. Добровольческая армия служит тому живым примером: маленькая кучка в три тысячи человек, сражаясь на фронте, в тылу и на флангах, вышла победительницей против в двадцать раз сильнейшего неприятеля, и та же Добровольческая армия полтора года спустя, разросшаяся до сотен тысяч, всем снабженная, но потерявшая идейность и обратившаяся в скопище людей, движимых разнообразными страстями, а главное стяжательностью и кутежами, разнузданная и потерявшая дисциплину, не могла устоять против равных ей сил большевистских войск, опиравшихся на сочувствие масс.
Путешествие на Дон
В июле месяце немцы решили наконец взяться за нас серьезно. За мной и моими помощниками шпионы ходили по пятам. Работа затруднилась до крайности, и мы вынуждены были совершенно закрыть бюро и прекратить отправку эшелонами, отправляя людей только одиночным порядком. К этому времени накопилось и много вопросов, требующих личных переговоров с генералом Алексеевым. Взвесив все это, я решил на время исчезнуть из Одессы, распустив слух о прекращении нашей деятельности. Со мной вместе попросились ехать чины Одесского бюро Союза городов во главе с г. Елачичем, которые имели несколько миллионов денег и небольшие запасы санитарного имущества. Заодно я решил захватить человек двадцать офицеров из задержанных отправкою партий. Сговорившись с директором Русского общества пароходства и торговли, который нам сочувствовал, мы решили, что приедем на 40 минут позже назначенного часа отхода парохода, а он даст взятку таможенным и полиции, чтобы на нас не обращали внимания. Мы так все и сделали. Он задержал пароход, объявил, что случилась авария в машине, и все портовое начальство ушло, а нижние чины получили по десятке и оставили нас спокойно целой гурьбой пройти на пароход.
Перед самым отваливанием парохода прибежал один из моих агентов и сообщил, что немцы решили меня арестовать в Севастополе. Не могу сказать, чтобы это известие меня обрадовало, но я решил, что пугаться особенно не следует, так как немцы не любили шуму, а мой арест его неизбежно сделает, так как и в Севастополе я не был незаметной личностью. Тем не менее, подходя к Севастополю, я все же чувствовал себя не особенно приятно. Когда пароход подошел к пристани, первое, что меня поразило, это целая толпа морских офицеров, из которых многих я знал, в рабочих костюмах пришедшая грузить уголь на пароход. Русское общество пароходства и торговли, чтобы поддержать их материально, предоставило им монопольное право на этого рода работы. Я чуть не заплакал, увидев эту картину.
В Севастополе получилось то же, что и в Одессе. По приходе немцев офицеры объединились в союз и выбрали председателем адмирала Канина. Канин был умный человек и недурной моряк, но он не имел военного духа. Он, так же как Леонтович, умел устраивать офицеров на разные тяжелые работы и так же отрицательно относился к активной борьбе с большевиками. Он даже запретил офицерам носить погоны и установил форму, утвержденную Временным правительством, т. е. галуны на рукавах.
Небольшая часть офицеров во главе с контр-адмиралом Остроградским,[291] щирым украинцем, образовала свою украинскую группу, говорила на мове и относилась к русским как к иноземцам и пришельцам. Были еще и приверженцы так называемого крымского правительства, не то татарского, не то караимского, а в общем был развал и столпотворение вавилонское. Один не понимал, что говорит другой, да и сам говорящий не понимал того, о чем говорит.
Корабли стояли в Южной бухте как покойники, грязные и оборванные. Немцы организовали государственный систематический грабеж. Все, что было удобно для перевозки в вагонах, систематически вывозилось в Германию. Севастополь имел громадные запасы всего нужного для флота. В первую очередь, конечно, поехали к немцам запасы сухой провизии, мука, пшено, солонина, консервы и т. д., так как немцы ощущали огромный недостаток во всем этом, но когда провизия была ликвидирована, то за ней последовали и материалы, полотно, сукно, кожа, медь, латунь, олово и т. д. Медные части прямо снимались с машин и отправлялись в переплавку на германские заводы.
С другой стороны, должен сказать, что в противоположность союзникам, пришедшим на смену немцам, у них была строгая дисциплина и частного грабежа почти не было. Жители от немцев почти совершенно не страдали.
Подумав немного, я решил сойти на берег и вести себя как самый невинный пассажир, тем более что я был в штатском платье. Когда мы прошлись немного по улицам, всевидящий глаз Соловского заметил какого-то юркого жидка, следующего за нами по пятам. Это мне не понравилось, и тогда я решил идти прямо волку в пасть. У меня быстро созрел в голове план. Я отпустил Соловского на разведку по части настроений и местных новостей, а сам направился в гостиницу «Кист». Там жил вице-адмирал Гофман, германский морской начальник в Севастополе, мой старый знакомый по Порт-Артуру, где он пробыл всю осаду в качестве немецкого военного представителя. В Порт-Артуре мы с ним часто встречались и дружески беседовали. Я решил сделать ему визит как старому знакомому и посмотреть, не выйдет ли из этого чего-нибудь для меня благополучного.
Только что я вошел в вестибюль, ко мне кинулась пожилая дама и стала меня просить заступничества за ее сына, арестованного немцами за принадлежность к Добровольческой армии. В то время, когда я с ней разговаривал, мимо прошел немецкий штаб-офицер и посмотрел на меня взглядом боа-констриктора.[292] Я поскорее простился с дамой и пошел к князю Ливену – лейтенанту, бывшему в Ставке адъютантом великого князя Кирилла Владимировича. Сейчас он состоял при адмирале Гофмане в качестве лица, хорошо знающего немецкий язык. Я сказал Ливену, что желал бы повидать адмирала Гофмана как старого знакомого по Порт-Артуру. Ливен пошел доложить, и я сейчас же был принят.
Не знаю, знал ли что-нибудь Гофман относительно распоряжения о моем аресте, так как это делалось обыкновенно военно-сухопутными властями, от которых моряки были независимы, но он принял меня очень любезно и тепло как старого доброго знакомого. Мы поговорили о старых воспоминаниях и знакомых, а затем, конечно, перешли на политику. Он выразил надежду, что я украинец, а я прямо сказал ему, что помогаю генералу Алексееву, и попросил его сказать по-товарищески, как бы он поступил на моем месте. Гофман засмеялся и, не говоря ни слова, крепко пожал мою руку. Далее он стал говорить, что они все очень огорчены тем, что Добровольческая армия от них сторонится. Если бы генерал Алексеев признал Украйну, то Германия оказала бы полное содействие добровольцам и снабдила бы их всем нужным. Далее адмирал начал меня расспрашивать о состоянии Добровольческой амии. Я и сам о ее состоянии знал очень мало, но сообразил, что нужно, конечно, расписать как можно лучше, и сказал, что она насчитывает, кроме казаков, до ста тысяч бойцов, когда на самом деле в то время было вряд ли десять или двенадцать, но что она сильно нуждается в снаряжении всякого рода. Я не преминул, впрочем, указать, что материальные недостатки компенсируются воодушевлением и патриотическими чувствами. Гофман меня внимательно выслушал и сказал свое личное мнение по украинскому вопросу, что это с их стороны ошибка и он писал об этом императору Вильгельму. Он надеется, что это еще может быть исправлено, и просил передать генералу Алексееву от него письмо, которое тут же и написал.
Месяца полтора спустя, когда я снова уже был в Одессе, однажды читая газету, я был очень удивлен речью германского канцлера в рейхстаге. Говоря о русских делах вообще и Добровольческой армии в частности, канцлер буквально слово в слово повторил то, что я сказал адмиралу Гофману. Очевидно, что он послал донесение императору и от него уже оно попало к канцлеру.
Мы заговорились с Гофманом до полудня, и он пригласил меня завтракать. Получив письмо к генералу Алексееву, я уже был совершенно спокоен, что не буду арестован, а потому с некоторым злорадством посмотрел на немецкого полковника, встретившего меня в вестибюле и также бывшего на завтраке. При нашем входе Гофман скомандовал: «Господа офицеры», и я внезапно превратился из подозрительной личности в почетного гостя. За завтраком разговор не касался политики, а шел о разных посторонних вещах, а после него Гофман предложил мне свой автомобиль для поездки по городу. Я, конечно, не преминул воспользоваться таким способом еще застраховаться от всяких случайностей и поехал навестить своих знакомых. К адмиралу Канину я не поехал, так как он отрицательно относился к Добровольческой армии и принадлежал к партии нейтралистов или, вернее, ожидавших, чья возьмет, чтобы затем принести верноподданнические чувства.
Вернувшись на пароход, я нашел там Соловского, который успел наскоро собрать и привести с собой человек тридцать добровольцев для армии, и контр-адмирала Клочковского,[293] который возглавлял в Севастополе сочувствующих Добровольческой армии. Он приехал ко мне просить инструкций – что ему делать. Это был вопрос довольно трудный. Добровольцы вели сейчас исключительно сухопутную войну, а моряки были плохие сухопутные вояки и если бы их послать сейчас воевать в полки, то они принесли бы мало пользы и мог бы погибнуть дорогостоящий материал.
В Одессе ко мне обращались многие моряки, я их записывал, но рекомендовал ждать, пока не найду подходящего для них применения. То же самое я сказал и Клочковскому и рекомендовал ему ожидать моего возвращения в Севастополь после подробного ознакомления с обстановкой.
Следующий наш этап был город Керчь, где мы должны были сойти с парохода и ждать сутки – другие, меньшего размера, из ходящих по Азовскому морю. В Керчи было очень грязно и абсолютно нечего было делать. С горя мы пошли осматривать табачную фабрику, и управляющий, узнав, что мы добровольцы, подарил нам два пуда табаку, который мы тут же братски разделили на всю нашу едущую компанию. Здесь к нам прибавилось еще человек пятнадцать добровольцев.
На пути в Бердянск вечером, сидя на верхней палубе в чудную теплую погоду, мы внезапно услышали дуэт двух прекрасных женских голосов. Оказалось, что это поет известная оперная артистка Збруева,[294] ехавшая со своей подругой в Ростов-на-Дону. Все сразу притихли и стали слушать. Когда они кончили, публика зааплодировала и потребовала повторения. В результате они дали нам целый концерт, который продолжался целый вечер.
В Таганроге я воспользовался случаем, чтобы посетить дом, где умер император Александр I. Большевики там ничего не тронули, и все картины и мебель остались неповрежденными. Странное впечатление производят дома с обстановкой прошлых веков. Мне такое же чувство пришлось испытать при посещении старинного дома главных командиров в г. Николаеве, а также в некоторых старинных домах в Москве. Кажется, как будто там, в другой комнате, где-то находятся их прежние обитатели, и невольно начинаешь говорить тише и ходить на цыпочках, чтобы их не потревожить.
В Ростов мы прибыли на другой день и сейчас же отправились в Новочеркасск на поезде, к которому пришлось прицеплять вагоны, так как наша компания за время путешествия перевалила за триста человек. В Новочеркасске первое, что порадовало наш глаз, были станционные жандармы в своих красных шапках и аксельбантах. Этого мы не видели с начала революции. На улицах везде были наши добрые старые городовые, и порядок и чистота были полные. Ни одного немца нигде не было видно. Одним словом, мы снова приехали в Россию, которую так давно не видали. Как-то вдруг невольно захотелось кричать «ура».
С большим трудом мне с Елачичем удалось найти себе ночлег в гостинице «Европа», а вся прочая компания должна была ночевать на вокзале. На следующий день утром я отправился к генералу Алексееву, но оказалось, что он уехал на станцию Тихорецкую, где был штаб генерала Деникина, наступавшего в это время на Екатеринодар. Меня приняла генеральша Анна Николаевна,[295] с которой я был знаком еще по Ставке. Она мне рассказала про местные дела и посвятила в закулисную жизнь Новочеркасска. Оказалось, что и здесь, и повсюду шла рознь и несогласия. Атаман Краснов[296] ссорился с Деникиным. Родзянко со своими думцами пытался играть роль и мечтал о созыве Думы в Новочеркасске. Приезжая из Петрограда аристократия усиленно муссировала альянс с немцами. Генерал Алексеев пытался всех умиротворить и объединить, но толку выходило мало. Он сам не вполне поправился, и Анна Николаевна очень беспокоилась, чтобы он не свалился окончательно.
От А. Н. я отправился к генералу Эльснеру,[297] начальнику тыла Добровольческой армии. Там я застал Соловского, который передавал ему привезенную партию и санитарные материалы. Оказалось, что оказия в Тихорецкую будет только через два дня, и это время нам придется провести в Новочеркасске. Как это ни было обидно, но пришлось подчиниться. Знакомых у меня в городе почти не было и дела тоже. Оставалось ходить по городу и собирать сплетни, чем я и занялся.
Все разговоры, в общем, вертелись вокруг генерала Краснова. Во всяком случае, он представлял из себя незаурядную личность. Энергия, с которой он принялся за восстановление порядка и выведение большевизма из области, заслуживает всякой похвалы. Ему ставили в вину хорошие отношения с немцами, но он, безусловно, не мог поступить иначе, имея против себя значительную часть зараженной большевизмом молодежи, а также иногородних, т. е. живущих на казачьей земле крестьян; не имея ни снаряжения, ни боевых патронов, он должен был обратиться против регулярных большевистских войск, тогда уже сформировавшихся. При этом нужно еще прибавить интриги его завистников и недоброжелательство Добровольческой армии, направленное лично против него вследствие его властного характера. Если бы он еще пошел против немцев, то, конечно, был бы раздавлен, и с ним вместе погибла бы и Добровольческая армия, которую он прикрывал с севера и запада. Только благодаря Дону Добровольческая армия могла сохранить верность союзникам, но генерал Деникин этого не мог или не хотел понять.
Несмотря на все трудности, Краснов в самый короткий срок создал целую казачью армию из кавалерии, пехоты и артиллерии, которая очистила всю область от большевиков. Мало того, он организовал гражданскую администрацию, создал финансовое управление и действительно явился главой маленького государства с 5-миллионным населением. Его энергия заразительно действовала на других, а кроме того, когда это требовалось обстоятельствами, он не стеснялся принимать самые жестокие меры против ослушников. Зато в области царил образцовый порядок и тишина, и это там, где два месяца тому назад бушевали шайки разбойников и грабили всех и каждого.
Я не был лично знаком с генералом Красновым, а потому, не имея к нему непосредственного дела, не решился его тревожить по пустякам. Я ограничился визитом к генералу Богаевскому,[298] бывшему в то время председателем Совета управляющих отделами, т. е. изображавшего нечто вроде премьер-министра. Я был с ним знаком по Ставке, а потому сейчас же был принят. Богаевский предложил мне быть донским представителем в Одессе, чему я, конечно, очень обрадовался, так как делался в глазах немцев персоной грата. С представителем Дона, т. е. союзной державы, обращение должно было быть совершенно иное, чем с добровольцем, т. е. личностью в политическом отношении подозрительной. Богаевский выдал мне надлежащее удостоверение за своею подписью и печатью.
Через два дня, как мне и было обещано, я отправился на грузовом автомобиле к Алексееву. Со мной поехали Соловский, Елачич, два кубанских полковника и еще два офицера. Ехать пришлось около 160 верст до первой станции, от которой железнодорожный путь был испорчен. Дело в том, что большевики, желая преградить немцам доступ к Екатеринодару, испортили путь на протяжении более ста верст. Благодаря хорошей погоде дорога была вполне приличная, и мы беспрепятственно проехали весь путь со средней скоростью в 20 верст в час. По дороге мы останавливались в одной казачьей станице и одном селении иногородних крестьян. Разница в настроении была огромная. В казачьей станице нас не знали чем угостить и не хотели ни за что брать денег, а у крестьян мы видели сумрачные лица, и они не скрывая говорили, что они пролетарии, прикидывались бедняками и говорили, что у них нет ни яиц, ни молока.
В Тихорецкую мы прибыли уже на поезде в два часа ночи, но вокзал был освещен и царило полное оживление. Все столы в буфете были заняты офицерами, и мы с трудом достали себе свободный. Тихорецкая была главным тыловым пунктом Добровольческой армии и до сих пор служила главной квартирой. За ужином меня поразила дешевизна. За порцию поросенка с меня взяли полтора рубля. Мы уже давно отвыкли от таких цен. Соловский сейчас же нашел знакомых на вокзале из числа отправленных им в армию и узнал от них новости о последних успехах добровольцев и адреса всех начальствующих лиц. Он же предложил мне и ночлег в помещении кондукторской бригады, но там был такой клоповник, что я вылетел оттуда турманом.
На другой день я отправился к Алексееву. Он сильно постарел, осунулся, но глаза горели прежней энергией. Принял он меня как родного, сейчас же предоставил свой вагон для помещения и пригласил завтракать и обедать во все время пребывания в Тихорецкой. Бедный старик по-прежнему работал как вол и почти без помощников, окруженный одними юнцами из Добровольческой армии, может быть, очень храбрыми и честными, но без всякого служебного опыта.
Генерал Алексеев возглавлял Добровольческую армию в идейно-политическом отношении, был главным начальником ее тыла, ведал финансами и политикой, но не вмешивался в военные операции, которые велись командующим армией генералом Деникиным, сменившим убитого Корнилова. Сейчас он был занят ликвидацией военной добычи, взятой у большевиков в последних сражениях.
Добыча была крайне разнообразная: кроме военного материала, тут были и мануфактура, и сахар, и шоколад, и уголь, и даже дамские ботинки и прочие принадлежности дамского туалета, награбленные большевиками в разных местах. Все это нужно было разобрать, рассортировать, сосчитать, награбленное вернуть владельцам и все, что не нужно армии, обратить в деньги, в которых армия чрезвычайно нуждалась. Для всех этих дел, чтобы сделать их как следует, требовался целый легион опытного персонала, а генерал Алексеев был один как перст. На добычу щелкала зубами целая толпа собравшихся спекулянтов, и бедному генералу с большим трудом и не всегда успешно удавалось отбивать атаки этой жадной группы, строящей свое счастье на общем разорении. Воровство уже начало подтачивать тыловые учреждения армии, хотя сама армия еще состояла из бескорыстных и идейных бойцов, способных на великие подвиги.
В день моего приезда генерал Деникин с оперативной частью выехал на фронт для действий против Екатеринодара, и мне так и не удалось его повидать. Из штаба я успел увидеться только с дежурным генералом Трухачевым,[299] с которым я уже был знаком по Ставке Верховного главнокомандующего.
От него я узнал, что армия очень довольна моей работой в Одессе. Только Одесса и Харьков дали значительные контингенты добровольцев для армии. Остальные города дали очень мало, что объясняется отсутствием надлежащей организации и умелых людей. Все требовали денег, и никто не умел обходиться и добывать их своими средствами, а денег и у армии почти совсем не было и жалованье часто задерживалось за неимением средств. Я получил от него список нужд Добровольческой армии для будущей работы. Главная нужда была теперь в санитарном материале, так как благодаря взятой в последних боях добыче боевых припасов на некоторое время должно было хватить. Армия в это время уже насчитывала до 15 тысяч бойцов и благодаря удачной мобилизации кубанцев росла день ото дня все больше и больше. Противник считался в 80 тысяч, но это никого не пугало, так как отношение одного к десяти в то время считалось вполне достаточным для успеха. В общем, настроение в армии было уверенное и бодрое.
С генералом Алексеевым я покончил свои дела в два дня и мог бы уже уезжать, но, видя его тяжелое положение, я стал подумывать, не остаться ли мне здесь ему помогать, чтобы облегчить его сложную работу, однако по здравом размышлении я решил этого не делать, так как сам не имел хозяйственных способностей и ничего не знал по военно-хозяйственной части. Поэтому я решил найти ему надлежащих помощников. Раздумывая о подходящих людях, я остановился на генералах Санникове[300] и Тихменеве,[301] которые оба жили в Одессе. Генерал одобрил мою мысль, и я получил полномочие пригласить их в Добровольческую армию.
Письмо адмирала Гофмана, как и следовало того ожидать, заключало в себе предложение Добровольческой армии признать Украйну и взамен обещало широкую помощь и покровительство немцев в борьбе с большевиками. Генерал Алексеев не решился сам ответить на него и послал его к Деникину, который дал отрицательный ответ, ссылаясь на их девиз Единой и неделимой России. Генерал Деникин был абсолютно прямолинейный человек и не шел ни на какие компромиссы. Конечно, это весьма почтенно, но вопрос – применимо ли при занятиях политикой. Ведь против Украйны Добровольческая армия ничего не могла предпринять в то время, а противодействие немцев очень мешало формированию армии, когда большевики были еще совсем слабы и плохо организованы. В то время 25 тысяч хорошо вооруженных и храбрых бойцов совершенно свободно могли бы дойти до Москвы. Ведь признание Украйны генералом Деникиным ни к чему не обязывало будущее русское правительство.
Меня очень еще занимал вопрос о моряках в Добровольческой армии, которых насчитывали человек до 30, и это число постепенно увеличивалось. Раздумывая об их применении, я остановился на мысли устроить броневые поезда и посадить моряков на них, как людей, хорошо знакомых с артиллерией. Я написал Деникину письмо с этим предложением и получил одобрительный ответ. Нужно было в Ростове заняться организацией этого дела, так как там были большие технические средства. Это было мною поручено капитану 1-го ранга Потемкину, который служил в армии с начала возникновения.
Надлежало также облегчить сношения с армией, для чего обратиться к морскому пути. Единственным портом, принадлежавшим армии, был Ейск, до взятия ими Новороссийска, но он был очень неудобен, так как допускал входить в него суда с осадкой не более 10 футов. Чтобы окончательно убедиться в его пригодности, я решил обратный путь совершить через него. Мы выехали целой компанией: Соловский, Потемкин и Елачич, который сговорился с Алексеевым и получил от него некоторые поручения по обеспечению тыла армии. Железная дорога в Ейск, несмотря на совсем недавнее хозяйничанье большевиков, была в относительном порядке, и мы доехали до места без всяких приключений.
Ейск оказался самым дешевым городом на всем юге России. Цены здесь были до смешного низки не только по сравнению с Одессой, но даже и с Новочеркасском. Вообще этот маленький городок производил очень симпатичное впечатление своею внешностью, так как весь утопал в садах. Я повидал здешнего командира коммерческого порта и узнал от него, что обычно, кроме случаев особо низкой воды в зависимости от ветров, можно ввести в порт пароходы с осадкой и в 12 футов. Это было мне очень на руку. Через день пароходы Азовского общества содержали рейсы между Ростовом и Ейском, и мы воспользовались одним из таких пароходов. В Ростове нас порадовало известие о занятии добровольцами Екатеринодара, что давало армии солидную базу и прочную опору.
Вообще, уезжая из армии, я чувствовал радостное настроение. В этот героический период своего существования армия еще была идейной, и бациллы разложения, впоследствии ее погубившие, работали только в тылу, да и там еще явно себя не обнаруживали.
Обратный путь в Одессу по железной дороге был довольно кошмарный: ободранные и битком набитые вагоны с насекомыми и длительные остановки на станциях совершенно портили мне настроение, тем более что я уже успел привыкнуть в последние дни ездить в отдельном купе и скорых поездах.
Должен сказать, что я с большим удовольствием протянулся на своей чистой и мягкой постели в уютной комнате по возвращении в Одессу после двухнедельного скитания. В особенности меня радовало, что я теперь представитель войска Донского и могу не бояться арестов и обысков. От генерала Богаевского у меня, кроме удостоверения, был еще чек на пятьдесят тысяч рублей, так что я имел законное право иметь свою канцелярию и даже печать, что должно было импонировать местным властям. Нужно, конечно, было соблюдать известный такт и проявлять ловкость, чтобы не быть взятым врасплох и не попасться слишком явно.
На другой же день по приезде в Одессу я сделал визиты австрийскому генералу, командующему войсками в Одессе, представителю гетмана генералу Рауху и градоначальнику генералу Мустафину,[302] в качестве представителя войска Донского. На входной двери в квартиру я прибил большой плакат с моим новым званием и на этом успокоился.
Надлежало приступить к выполнению задач, данных мне генералом Алексеевым.
Одесса
Прежде всего я подумал, конечно, об облегчении работы самого генерала Алексеева. Я сейчас же поехал к генералу Санникову, который был одесским городским головой, и к генералу Тихменеву, жившему барином на даче на Большом Фонтане. Оба немного поколебались, но затем согласились. Этим с генерала Алексеева снимались уже две важные заботы: по снабжению войск и по военным сообщениям. Нужно было еще найти специалиста по финансовым вопросам, но это оказалось чрезвычайно трудным. Все такого рода специалисты в Одессе были сплошь жиды, но и среди немногих русских не было ни одного сколько-нибудь походившего на патриота. Вероятно, финансисты по самой своей природе не склонны к патриотизму. Недаром банкиры меня уверяли, что капитал аполитичен. Я делал предложения двум, казалось, порядочным людям, но они поблагодарили за честь и отказались под благовидными предлогами.
Следующий вопрос состоял в снабжении армии санитарным имуществом и бельем. В этом деле мне очень помог бывший санитарный уполномоченный на Дунае Черногорчевич, который дал мне прекрасную идею и много способствовал в ее выполнении.
В Одессе были огромные склады санитарного имущества, но немцы наложили на них руку, запечатали и поставили часовых к складам, так что подобраться к ним было чрезвычайно трудно. Черногорчевич надоумил меня попытаться вывезти из Румынии тамошние склады и брался устроить это дело за небольшие взятки, на которые румыны очень падки.
Я отправил Черногорчевича в Яссы, где в то время был Кароль[303] и главная румынская квартира. Ему удалось найти ходы к королеве и через ее могущественное посредничество устроить освобождение из-под секвестра измаильских и болградских складов Красного Креста. Я достал у капитана 1-го ранга Хоматьяно, ликвидирующего дела Дунайской транспортной флотилии, мелкосидящий пароход «Чатырдаг» и отправил его в Измаил за грузом. Документы все были написаны на Одессу, куда он был должен доставить груз в главный склад русского Красного Креста. Хотя разрешение на вывоз и было дано, тем не менее Черногорчевичу еще пришлось повозиться с местным румынским начальством, и без взяток дело не обошлось. Иначе чиновники то были в отпуску, то больны, то бумаги не в порядке, словом, обыкновенная история. Тем не менее через неделю все было готово, склады погружены на «Чатырдаг», и он вышел в море и пошел, конечно, не в Одессу, а в Ейск, куда благополучно и прибыл. Таким образом, Добровольческая армия была снабжена на продолжительный срок санитарным материалом.
После моего возвращения в Одессу деятельность нашего бюро по отправке офицеров в Добровольческую армию значительно сократилась. Видимо, число безработных в городах сильно уменьшилось. Офицеров еще было очень много, они были видны повсюду, но это уже были, по-видимому, устроившиеся на службу или имевшие надежный кров и пропитание. Уехавших из чистого патриотизма вообще было очень мало. Взамен людей мне удавалось зато посылать много материала.
Интересно то, что какими-то судьбами слухи о нашем бюро проникли далеко за пределы Одесского района. К нам приезжали небольшие группы офицеров не только из ближних городов, но даже из Киева и Москвы. Последнее объяснялось тем, что большевики очень строго наблюдали за своей границей, ведущей на Дон, а потому едущие в добровольцы предпочитали кружной путь через Могилев, Чернигов и другие города, ведущие на Украйну. Ко мне в бюро стали являться также и сербы, как офицеры, так и солдаты, которых направлял сербский представитель Шайнович, бывший в Одессе генеральным консулом и теперь находившийся под бдительным надзором у немцев. Эти сербы принадлежали, главным образом, к сербским войскам, формировавшимся в Одессе из австрийских пленных во время войны. Когда немцы и австрийцы заняли Украйну, они все разбежались и попрятались по деревням во избежание расстрела за государственную измену. Они просились, главным образом, переправить их в Румынию, но некоторые шли на Дон и поступали в Добровольческую армию.
В середине августа ко мне явился начальник украинского авиационного отделения в Одессе полковник Руднев[304] и предложил со всем своим отделением перелететь в Екатеринодар. Предложение было заманчивое, так как в Добровольческой армии в это время авиации совсем не было.
Однако предприятие представляло большие чисто технические трудности. Прежде всего наши летчики были почти совсем не натренированные на дальние полеты. Немцы, не доверяя украинскому воинству, не позволяли им совсем летать и, хотя в отряде и были опытные летчики, тем не менее перед тем, как совершить большой перелет, им необходимо было как проверить аппараты, так и потренировать самих себя, но этого сделать было невозможно. Кроме того, совершить весь перелет в Екатеринодар без пополнения бензином было невозможно и потому нужна была промежуточная станция где-нибудь посреди пути. Изучая местность по карте, мы остановились на Арабатской косе в ее северной части. Там не должно было быть никаких помех со стороны немцев или щирых украинцев.
Затем, кроме самих аэропланов, которые должны были перелететь своими средствами, нужно было отправить в Екатеринодар довольно значительное имущество отряда, состоящее из запасных частей, инструментов и некоторых материалов, которые там нельзя было достать.
После продолжительного обсуждения всех вопросов, мы все-таки решили идти на риск в надежде, что хотя бы половина аэропланов достигнет цели. Я командировал немедленно офицера к генералу Алексееву с просьбой послать на парусной шхуне двух моряков на Арабатскую косу с бензином и нужными материалами. Алексеев обрадовался и сейчас же согласился. Я не помню фамилий тех офицеров, которые были посланы, но знаю только, что им пришлось просидеть на пустынном песчаном берегу под видом рыбаков около двух недель, и они уже начали голодать, когда прибыли летчики.
Относительно авиационного имущества я сговорился с донским полковником инженером, приехавшим в Одессу для получения инженерного имущества. Ночью все потребные материалы были вывезены из склада и погружены в вагоны, а сверху прикрыты лопатами, проволокой и прочей дребеденью. Все это благополучно попало в Екатеринодар и дошло по назначению.
Наконец настал момент и самого перелета, но тут уже пошли неудачи: вылет был назначен в 8 часов утра, но, как всегда бывает, оказались неисправности и один аэроплан пришлось отставить. Кто-то пустил утку, что к аэродрому приближался немецкий автомобиль. Началась горячка. Два аэроплана сейчас же при взлете зацепились за проволоки телеграфной линии, и летчики тяжело расшиблись. Семь аппаратов вылетели благополучно, но три из них были вынуждены спуститься, не долетев до промежуточной базы. Два из них попались к немцам, и летчики были посажены в тюрьму, а третий, сам полковник Руднев, оставив аэроплан в поле, пробрался на железную дорогу и благополучно прибыл в Екатеринодар. Четыре аэроплана достигли Арабатской косы, но один был в таком состоянии, что его пришлось уничтожить. Три аэроплана, пополнив запасы и отдохнув, отправились в путь, но непосредственно до Екатеринодара долетели только два, а один был принужден опуститься на Таманском полуострове. Впоследствии он был доставлен своим летчиком на подводах и по железной дороге.
В результате из девяти аппаратов и стольких же летчиков исполнили задачу только два аэроплана и пять летчиков. Все предприятие обошлось около 20 тысяч. Разбившиеся летчики были помещены в больницу и благодаря хорошему уходу, за который я щедро платил, довольно скоро поправились. Я остался в сильном подозрении у немцев и украинцев, но никакого документа о моем участии в этом деле найдено не было.
К тому же в это время немцам было уже не до меня. События сгущались, и над ними повисла черная туча. Первой ласточкой был прорыв Солунского фронта,[305] далее начались события в Сирии, и, наконец, главный фронт также начал трещать под повторными ударами союзников. Среди германцев и австрийцев стало заметно сильное беспокойство. Надлежало предвидеть время, когда они будут вынуждены очистить Украйну, чтобы идти на оборону своих собственных земель. О возможности у них революции, подобной нашей, мы тогда еще не думали. Немцы не позволяли украинцам заводить собственного войска, опасаясь измены. Существовали только штабы восьми будущих украинских корпусов, и в Киеве из хлеборобов-собственников только что начала формироваться Сердюкская дивизия, представлявшая нечто вроде гетманской гвардии.
Если бы немцы ушли из Украйны, то местные большевики легко могли бы захватить власть, а потому надлежало создать какие-нибудь местные силы, чтобы можно было им противостоять. Я переговорил с генералом Леонтовичем, председателем Союза офицеров, и он обещал мне свое содействие, но требовал денег, так как без них ничего нельзя было сделать. Украйна в это время еще не знала, какую линию ей принять, почему на нее надеяться было нельзя, а потому единственным выходом являлось обратиться к французскому и английскому посланникам в Румынии, которые были заинтересованы в сохранении порядка на юге России. Я решил ехать в Яссы и выяснить посланникам положение дел на юге России, причем сильно рассчитывал на активную помощь давно со мной знакомого французского морского агента маркиза Беллуа.
Поездка в Румынию
Достав себе заграничный паспорт и румынскую визу, я заказал каюту на пароходе Русско-Дунайского общества, делавшего рейсы по Дунаю. Официальной целью моей поездки была необходимость моих свидетельских показаний в Ясском суде о принадлежности некоторых пароходов и барж на Дунае частному русскому обществу Дунайского пароходства, так как на все плавучие средства, принадлежащие правительству, был наложен румынским правительством секвестр. Меня лично дела этого рода мало интересовали, но это был удобный предлог для поездки.
Пароход уходил ночью, и я явился на него поздно вечером. При входе на пароход мне сказали, что меня ожидает полицейский чиновник, а у входа в мою каюту стояли два украинских жандарма. Чиновник вошел со мной в каюту, и у нас произошел следующий разговор.
– Ваше превосходительство, господин градоначальник по распоряжению германских властей приказал мне произвести у вас обыск и, если найдется что-нибудь, уличающее вас в сношениях с союзниками, доставить вас к градоначальнику. Как прикажете доложить господину градоначальнику?
Признаюсь, я был очень обеспокоен началом его разговора и тем более удивлен окончанием. Я сейчас же спросил его фамилию и, только узнав ее, понял в чем дело. Он был моим агентом в градоначальстве, но я никогда не видел его в лицо, так как все дела подобного рода вел Соловский. Как я уже говорил, в то время положение немцев уже зашаталось, а потому и со стороны градоначальника, генерала Мустафина, этот обыск, вероятно, был лишь пустой формальностью. При таком повороте дела я быстро сообразил, что нужно было делать. Я вынул из чемодана пакет с документами. Там было письмо от генерала Алексеева генералу Щербачеву, письмо от графа Уварова нашему посланнику Поклевскому-Козеллу и письмо от одного румына лидеру русофильской партии Таке-Ионеску. Все письма были компрометирующего характера, и, если бы они попались немцам, мне не миновать бы, по меньшей мере, концентрационного лагеря. Я передал пакет чиновнику, который положил его в свою сумку, и затем сказал, что теперь можно производить обыск. Он сейчас же позвал жандармов, и они на наших глазах перерыли его весь сверху донизу. Конечно, ничего, кроме белья и платья, не нашли, и мы расстались самым мирным образом, причем чиновник немного задержался, и я получил свои письма обратно.
Дальнейшее путешествие прошло без всяких инцидентов. Странно и грустно лишь было видеть Дунай, где несколько месяцев назад я был полномочным распорядителем. Погода стояла прекрасная, повсюду на берегу около домов росли деревья, сплошь покрытые большими золотистыми плодами айвы, которые представляли очень красивое зрелище. При остановках у пристаней румынская полиция не пропускала жителей к пароходам, и русские мужички, конечно, большевистски настроенные, с грустью посматривали издали на пароходы.
В Галаце меня встретил Черногорчевич и быстро уладил все формальности с таможней и полицией, так как у него везде были приятели. Мы сошли на берег и отправились обедать в русскую столовую. Оказывается, в Галаце еще сидело порядочное число русских, не желавших возвращаться восвояси, пока там все не успокоится. Это все была публика из Великороссии, где царил большевизм. Они с жадностью накинулись на меня и стали расспрашивать о Добровольческой армии и ее надеждах на успех, но сами, хотя между ними были и молодые люди, вовсе не выражали желания к ней присоединиться. К сожалению, это было настроение почти всей русской интеллигенции. Кто надеялся на немцев, кто на союзников, но в одном были все солидарны – это в желании загрести жар чужими руками.
Вечером мы выехали с Черногорчевичем по железной дороге и на другой день утром прибыли в Яссы.
Помывшись и переодевшись в гостинице, мы сейчас же отправились к нашему посланнику, занимавшему довольно большое помещение по реквизиции. Я вручил ему все письма и документы и изложил положение дел в Одессе. Он вполне согласился с моими взглядами на положение и обещал полное содействие. Мы решили, что я не буду лично разговаривать с посланниками, так как несомненно, что и за ними, и за мной организован немецкий шпионаж. Наше свидание будет известно, и мне придется по возвращении в Одессу давать в нем отчет немцам. Таким образом Поклевский брал устройство моих дел на себя, и оставалось лишь только ожидать результатов.
После длинного двухчасового разговора я был приглашен завтракать в обществе двух секретарей и Черногорчевича. Должен сказать, что я давно уже так вкусно не ел. Поклевский был лично очень богатый человек и известный гастроном. Несмотря на свое полубеженское положение в Яссах, он сохранил своего известного на всю Европу повара, который и в Яссах при здешней скудости умел поразить любителей хорошо поесть. После завтрака, продолжавшегося более часа и похожего скорее на обед без супа, мы отправились в гостиницу отдыхать как от дороги, так и от завтрака. Все было так вкусно, что я ел как голодающий индус. Передо мной было два или три дня времени, и я решил посвятить их на знакомства и на ознакомление с местной обстановкой.
Яссы, в которых я не был уже более полугода, довольно сильно изменились с психологической стороны. Раньше на всех лицах на улицах было сосредоточенное и пугливое выражение. Теперь же все морщины разгладились, и повсюду было веселье. Все уже знали, что Германия трещит по всем швам, и предвкушали сладкий момент реванша. Король запросто ходил по улицам с адъютантом и повсюду был приветствуем доброжелательной толпой. Королева ездила на автомобиле и, будучи всегда популярной, теперь забрасывалась цветами. Уличные ораторы на всех углах собирали летучие митинги и повествовали прохожим о великом будущем Румынии. Какая разница была между их и нашим положением. Подумать только, что если бы не большевики, то и у нас могло бы быть нечто подобное.
После отдыха мы отправились с Черногорчевичем в суд для дачи моих показаний по делу Дунайской флотилии. Дело было довольно запутанное: румыны наложили секвестр на все казенное имущество, находившееся в Бессарабии. Это было мотивировано конфискацией большевиками румынского золотого запаса, вывезенного в Москву, когда немцы приближались к Бухаресту. Большая часть акций Дунайского пароходства принадлежала русскому министерству финансов, и [оно] фактически было предприятием казенным, а вся администрация назначалась правительством, хотя пароходство управляло и работало на коммерческих основаниях.
Румынское правительство признало Дунайское пароходство казенным и подлежащим секвестру, и тогда немногие акционеры объединились и подали жалобу в румынский суд. Кроме того, в Дунайскую флотилию во время войны были зачислены суда и баржи, принадлежавшие частным лицам и даже иностранным подданным, которые также подали жалобы в суд. Вот по их-то претензиям и нужны были мои показания как главного морского начальника на Дунае. Это мне было сделать нетрудно, а главное, доставляло предмет для легальной поездки в Яссы. Все мои показания были уже приготовлены в письменной форме сведущими людьми, и мне оставалось только подписать их в присутствии румынского чиновника. Это все заняло не более получаса времени.
Вечер я провел у полковника Ковалева, который состоял помощником военного агента в Румынии, и встретился там с маркизом Белуа. Он мне сообщил, что французский посланник очень заинтересован моим приездом, и, вполне понимая опасность для меня личного с ним свидания, предложил устроить на нейтральной почве мое собеседование с доверенным лицом посланника консулом Энно. Я, конечно, согласился, и мы решили, что завтра я и Энно будем приглашены обедать к Ковалеву, после чего нам дадут возможность говорить с глазу на глаз. Кроме того, Белуа меня просил прислать к нему сведущего в политическом положении и вообще в обстановке на юге России морского офицера, которого он мог бы командировать известными ему путями в Средиземное море для информирования французского адмирала о положении. Следовало предвидеть, что Турция в ближайшие дни выйдет из коалиции и союзники займут Константинополь. Я, конечно, обещал это исполнить.
На другой день состоялось свидание с Энно после обеда в русском стиле с поросенком, щами, водкой и прочими атрибутами. Энно был еще совсем молодой человек лет тридцати, не более, неглупый, но с огромным самомнением. Он обладал решительным характером и почему-то считался знатоком России. Вероятно, это знание заключалось в прочтении нескольких переводных книг из русской жизни, да, по правде сказать, России того времени, пожалуй что никто не знал, так как это был пробудившийся зверь, сломавший свою клетку и все крушивший направо и налево. Лучше всех все-таки ее угадали большевики, которые, еще не имея власти, кормили ее посулами и обещаниями, а получив власть, посадили в гораздо более крепкую клетку и так согнули, что никто пикнуть не смел.
Энно меня подробно расспросил о состоянии Добровольческой армии и, в частности, о генералах Деникине и Алексееве. Он очень интересовался их характерами и, узнав, что оба они люди не амбициозные, сказал, что лафайеты во время революций никогда успеха не имеют. Нужен или Робеспьер, или Бонапарт.[306]
Далее он перешел на политических деятелей и подробно расспрашивал обо всех мало-мальски известных лицах. С этой точки зрения я очень мало его мог удовлетворить, так как знал большинство из них только по именам и городским слухам, но тем не менее по опыту Временного правительства мой отзыв, конечно, мог носить только отрицательный характер. В конце разговора он мне сообщил, что посланник желает сам познакомиться с русскими политическими деятелями и предполагает, как только это будет возможно, собрать из них совещание в Яссах. Я на это сказал, что гораздо было бы полезнее и для Франции, и для России войти в непосредственные сношения с Добровольческой армией и положиться вполне на нее. На этом наш разговор и кончился. Он сел играть в покер, в который, как оказалось, играл мастерски, и обыграл своих партнеров, а я с Черногорчевичем и хозяином уселись за крюшон в компании с дамами.
На следующий день я поехал на автомобиле, который откуда-то достал Черногорчевич, к генералу Щербачеву. Щербачев после развала Румынского фронта и заключения соглашения Румынии с немцами[307] жил в качестве частного лица в имении какого-то румынского помещика и снимал у него дом. С ним вместе помещались, кроме семьи, его бывший начальник штаба[308] и два адъютанта. После двухчасовой поездки мы наконец приехали под проливным дождем, и нас сразу пришлось обсушивать и кормить завтраком, после чего я прошел с ним в его кабинет и передал ему письмо от генерала Алексеева. Это было, собственно, не письмо, а меморандум, заключающий в себе политическое кредо Добровольческой армии.
Щербачев прочел его весьма внимательно, долго думал и потом сказал:
– Я не могу считать это полномочием генерала Алексеева представлять перед союзниками интересы Добровольческой армии. Полномочие должно быть написано кратко и ясно и выражать, что я являюсь доверенным лицом генерала Алексеева, а здесь имеются длинные разговоры о политике; это, скорее, программа, а не полномочие.
Я пробовал его уговорить, но безуспешно, и вообще я вынес впечатление, что Щербачев согласен играть только наверняка и не желает идти ни на какой риск. К сожалению, это было лейтмотивом почти всех русских интеллигентов. Мы расстались довольно сухо.
Тем не менее при надвигающихся событиях в Румынии нужно было иметь представительство Добровольческой армии, а я имел в своем распоряжении только молодежь. Я ломал над этим вопросом голову и решился наконец предложить эту миссию самому Поклевскому, хотя этим он ставился в положение представителя политической партии. К моему удивлению, он сразу согласился и даже как будто обрадовался. Я не имел права дать ему полномочия от Алексеева и предложил пока только от себя, но он и на это пошел очень охотно. По сухопутной части он выбрал своим помощником полковника Ковалева, а по морской капитана 2-го ранга Драшусова.[309] Таким образом, все обошлось к обоюдному удовольствию. Тут же в канцелярии посланника было написано письмо, в котором я просил его представлять интересы Добровольческой армии, и тут же я его подписал и вручил ему.
Наконец деньги были получены и я мог возвращаться обратно. Я получил от французского посланника тратты[310] на 750(?) тысяч франков на Париж и от английского тратты на 30 тысяч фунтов, что по курсу того времени составляло в общем около полутора миллионов рублей. На первое время этого должно было хватить.
В обратный путь мы отправились по железной дороге с остановкой в Кишиневе, где мне хотелось навестить своих друзей по Дунаю. Там меня ожидал сюрприз. На вокзале нас встретил прапорщик Гладков, очень милый мальчик, внук книгопродавца и редактора «Русского слова» Сытина.[311] Он объявил, что завтра его свадьба с бывшей на санитарной барже сестрой милосердия Женечкой Кочулковой, и просил меня быть его посаженым отцом. Женечка была нашей общей любимицей, и отказать было нельзя. Меня высадили из вагона и повезли в дом Кочулковых, там поместили в хорошей комнате и три дня поили, кормили и ухаживали.
В Кишиневе я познакомился с местным обществом, по преимуществу с богатыми помещиками. Они все рвали и метали громы на румын, проводящих методически румынизацию Кишинева. По их словам, все население, даже молдаванское, т. е. фактически румынское, спит и видит, как бы снова вернуться к России. Пресловутая сфатул-церия, т. е. нечто вроде бессарабского парламента, представляла сборище подкупленных негодяев. Все считали, что Антанта скоро наведет везде порядок, поставит в России царя, вернет ей Бессарабию, и все пойдет по-хорошему, по-прежнему. Пока это было еще впереди, помещики жили широко по-прежнему. В Английском клубе рекой лилось шампанское, которое каким-то чудом сохранилось в местных складах, и господствовало самое широкое хлебосольство. Меня прямо забросали приглашениями, и я был вынужден от всех отказываться, чтобы никого не обидеть.
Я бывал только на обедах с женихом и невестой, которых чествовали родные. На одном из таких обедов у ротмистра Лубенского гусарского полка[312] по фамилии, кажется, Сапари или что-то похожее на это, меня поразил его кабинет, где вся меблировка была сплошь в кавалерийском духе: стулья были седлами, письменный стол составлен тоже из кавалерийских предметов, все картины изображали или лошадей, или всадников. Я бы не сказал, что все было удобно и красиво, но, во всяком случае, оригинально. Там меня угощали старой водкой, которой было десять лет. Оказывается, в Кишиневе жило еще много лубенцев-гусар, а сам полк был румынизирован и целиком вошел в румынскую армию и остался в своих казармах. Из офицеров перешло к румынам только трое, а остальные жили на свободе, но ходили в форме.
Я указал хозяину, что их долг поступить в Добровольческую армию, но получил уклончивый ответ, что их полк теперь румынский, и они его оплакивали. Вот если бы он был цел, то они всем полком явились бы к генералу Деникину. Как это ни странно, но у наших офицеров существовал вместо русского полковой патриотизм, наподобие губернского у мужиков.
Честь честью справили свадьбу, где я, между прочим, фигурировал в штатском пиджаке, за неимением с собой ничего другого. Нас отпустили наконец восвояси. В Бендерах нас ожидал новый сюрприз. Оказывается, австрийская армия взбунтовалась, и солдаты массами спешили разбежаться по домам. Румыны, которым этот развал был на руку, пропускали их небольшими кучками через границу, обезоруживали и отпускали на все четыре стороны, причем офицеры подвергались всяким издевательствам.
Нас эти известия очень сильно обеспокоили. Во-первых, мы не знали, что делается в Одессе, и боялись, что при столпотворении на железной дороге нам не удастся туда пробраться. Однако наши страхи оказались преувеличенными. Немцы еще сохраняли верность императору и не позволяли производить никаких беспорядков, да и сами австрийцы, по-видимому, были более культурными, чем наша солдатня. Я не видел между ними ни одного пьяного, а, наоборот, все имели сосредоточенный и озабоченный вид. Они не думали о погромах, а спешили пробраться к себе домой.
Через границу мы перебрались совершенно беспрепятственно, дав 20 лей полицейскому чиновнику румыну, который нас проводил с поклонами. В поезде пришлось ехать в теплушке, битком набитой, но, слава Богу, путешествие было недалекое. В конце концов мы благополучно добрались до Одессы.
Снова Одесса
За мое отсутствие в Одессе произошли важные события: австрийская армия как таковая перестала существовать. Командующий войсками в Одессе генерал Бельц[313] застрелился. Солдаты начали кучками разбегаться и возвращаться кто как мог к себе домой. Немецкая армия еще держалась, но было видно, что это продолжится недолго. Городское самоуправление, предвидя анархию в недалеком будущем, обратилось к генералу Леонтовичу с просьбой организовать из Офицерского союза местную охрану порядка и для этой цели выдало ему аванс в двести тысяч. Генерал принял предложение и организовал большой штаб с солидными окладами, но набор желающих поступить в охрану не достиг и двухсот человек. Многие офицеры заявили капитану Соловскому, что они не пойдут на службу к городу, но охотно пойдут, если я начну формировать в Одессе отряд Добровольческой армии. Переговорив лично с некоторыми из них, я решил взять это дело в свои руки. Мои мотивы были следующие: 1) победа союзников в это время уже окончательно определилась; 2) гетман в Одессе не имел никаких сил, кроме многочисленных штабов будущих частей, городской полиции и двух сотен кавалерии, явно склонявшейся на сторону Петлюры и его партии; 3) в случае почти неизбежного развала и ухода немцев Одесса могла быть захвачена местными большевиками.
Так как Леонтович уже начал это дело, то мне казалось неудобным устраивать ему конкуренцию и потому, переговорив с ним, я объявил формируемые части входящими в Добровольческую армию. После этого число поступивших довольно быстро увеличилось до шестисот человек, но затем снова произошла заминка. Для того, чтобы держать в порядке Одессу, шестисот человек, пожалуй, и было достаточно, но нужно было считаться с возможностью нападения извне, а для обороны города необходимо было иметь уже гораздо большие силы, которых достать было неоткуда. Нужно еще принять во внимание, что наиболее храбрые и патриотически настроенные офицеры уже раньше уехали в Добровольческую армию и здесь оставался уже второй сорт или инвалиды.
В особенности трудно было найти начальников. Вначале я обратился к генералу Российскому,[314] о котором слышал хорошие отзывы, но он оказался совершенно нервнобольным человеком, страдающим тиком. Другие мои попытки также не увенчались успехом, и наконец Леонтович нашел какого-то скромного генерала (фамилию его забыл), который отказался от командования при первых же признаках опасности. Вот до какого безлюдья мы дошли, а в Одессе в то время существовало и жило по меньшей мере двести-триста генералов. Чему же удивляться, что большевики захватили власть, когда у нас не было мужчин, а одни бабы.
Та же история у меня произошла с выбором начальника штаба. Я знал, что в Конотопе живет один прекрасный морской офицер – капитан 1-го ранга князь Черкасский,[315] бывший флаг-капитан Балтийского флота, и обратился к нему с предложением, но получил уклончивый ответ, ничем не мотивированный. Впоследствии, когда большевики уже завладели Украйной, он собрал небольшой отряд и пошел с ним на прорыв в Одессу, но был окружен и погиб. Мне пришлось взять полковника Генерального штаба Ильина, который не оказался, к сожалению, на должной высоте, хотя и был очень полезен, как знающий деловую часть работы.
Я прекрасно понимал, что с одними офицерами далеко не уеду и что непременно так или иначе нужно связаться с народом, но путей к этому у меня не было. Можно было, как мне казалось, действовать двояким путем: почти все села вокруг Одессы состояли из немецких колонистов, и я отправил к ним своих агентов, так [как] они были настроены несомненно против большевиков. Вначале эта пропаганда имела успех, но, когда они узнали, что мы опираемся на союзников, немецкий патриотизм перевесил у них антибольшевистские чувства, и они наотрез отказали в своем содействии. Другая попытка моя – воздействовать на рабочих – также потерпела неудачу. Я обратился к одесскому идейному вождю эсеров. Само собой, что на этой платформе не могло состояться соглашения.
Впоследствии, впрочем, я узнал, что их влияние на народные массы было очень невелико и не имело никаких корней. Их основное ядро было очень сплочено, обладало средствами, но ничтожно по количеству. Что касается до народных масс, то, имея большие деньги, их можно было подвинуть куда угодно, но таковых ни у кого не было, а потому наибольший успех имели большевики и различные атаманы типа Махно, которые их звали на грабеж.
Недалеко от тех и других стоял и Петлюра, который как раз в это время поднял восстание против гетмана в Белой Церкви. Его призыв к самостийной демократической Украйне имел успех, и у него довольно быстро собралась внушительная сила. Гетман со своей стороны ничего не мог ему противопоставить.
В это же время французский консул Энно созвал в Яссах совещание русских политических деятелей, которые группами начали прибывать в Одессу. Из наиболее ретивых я помню Гурко, Милюкова[316] и еще несколько человек из крепких правых. Они были очень возбуждены, все время говорили, но было видно, что никакого единодушия у них не было.
Я пробовал на них воздействовать в смысле привлечения на сторону Добровольческой армии, но большинство, видимо, стояло и видело спасение в поддержке французами гетмана. Милюков, только что осекшийся на немцах, уже принес покаяние, был несколько растерян и придумывал способы занять доминирующее положение у союзников. Я был на вокзале, когда они все уезжали в Яссы, но и на вокзале они все продолжали спорить между собой. Мое впечатление было такое, что из этой поездки никакого толку не будет.
Между тем петлюровское движение начало принимать уже грозные формы. Начавшись в Белой Церкви, оно по железнодорожным линиям начало распространяться во все стороны. Выйдя на магистраль Одесса – Киев, оно, главным образом, направилось по направлению к Киеву, но небольшой отряд, постепенно все увеличиваясь, как ком снега, направился и на Одессу. В этом направлении главным начальником был доктор (фамилию забыл), совсем штатский человек, но щирый украинец.
Гетман увидел, что хохлы его бросают, и за спасением обратился к графу Келлеру,[317] который мог привлечь на свою сторону русское офицерство. Действительно, на зов Келлера собралось до двух тысяч русских, и образовали отряд для обороны Киева, но этого было слишком мало, и притом измена ползла из всех углов. Немцы после своей революции заняли нейтральное положение, и с Петлюрой боролись одни русские.
В Одессе вполне надежных было только шестьсот человек, что для города было вполне достаточно для охраны порядка, но очень скоро из Киева посыпались телеграммы с просьбой о помощи и подкреплениях в Киев. Телеграммы все шли к украинскому командиру корпуса, которым был тогда генерал Березовский, такой же украинец, как и я, но человек довольно хитрый. Он располагал двумя пешими и двумя конными сотнями, совершенно ненадежными и не присоединившимися к Петлюре только из боязни моих добровольцев. Березовский понимал, что выслать их против Петлюры – это все равно что усилить его этими сотнями, но не понимал или не хотел понять, что в Одессе они еще опасней, так как скрытый враг всегда опаснее открытого. Словом, Березовский предложил мне послать к Киеву мои части, а украинские оставить в Одессе. Я, конечно, отказался, мотивировав тем, что едва достаточно имею сил для содержания внутреннего порядка в Одессе.
Не знаю, что ответил Березовский киевским властям, но очень скоро его убрали и назначили старого боевого генерала с Георгиевским крестом на шее, фамилию которого позабыл, но помню, что она была похожа на польскую. Я сейчас же поехал к нему представиться, в надежде, что при нем дело пойдет лучше. Первоначально он на меня произвел хорошее впечатление своей решительностью, но через три дня уже совсем упал духом и с отчаянием сообщил мне, что самое большое, что ему обещано со стороны его войск – это строгий нейтралитет. Сражаться же с Петлюрой они отнюдь не желают. В это время как раз приехали из Ясс наши политические деятели в самом радужном настроении и сообщили, что союзники посылают в Одессу шесть корпусов, которые займут всю Украйну, а потом дальнейшие подкрепления пойдут на Москву. Все, конечно, пришли в полный восторг от таких известий и думали, что и большевики, и петлюровцы сразу испугаются и положат оружие, но на самом деле все вышло совсем не так. На самом деле очень скоро явился в Одессу консул Энно, но объявил, что явится действительно одна французская дивизии, а потом, вероятно, другая, а там далее будет видно. Немцы в это время стушевались из Одессы, и их почти совсем не было видно. Говорили, что французское главное командование по поводу германской эвакуации из Украйны заключило какое-то соглашение с Берлином. Авторитет союзников в это время был, впрочем, так велик, что одна возможность их появления наводила страх, а потому в городе был полный порядок.
Вскоре же по приезде Энно выпустил декларацию к населению Украйны, в которой говорил, что французское правительство будет поддерживать власть гетмана как единственную законную и опирающуюся на избрание населения. Перед тем как объявить эту декларацию, Энно показал ее мне и спросил моего мнения. Я ему сказал вполне откровенно, что власть гетмана дискредитирована и не имеет никакой опоры и авторитета в народе, но его не имеет и никакая другая власть. Добровольцев народ почти совсем не знает, но они имеют безусловный авторитет среди офицерства, а в настоящее время это есть единственная благожелательная сила, на которую можно опереться. На этом основании я ему советовал оказать поддержку генералу Деникину.
Однако Энно, напичканный своими ясскими советниками, на это не согласился и выпустил декларацию в составленной им редакции. На петлюровцев декларация не произвела никакого впечатления, и они продолжили свое наступление. Положение гетмана скоро стало критическим. К Одессе их отряды также стали приближаться все более и более. Генерал N, командующий в Одессе, усиленно просил меня преградить им путь, и так как в это время в Одессу пришли несколько французских судов, что было достаточно для внушения страха мятежным элементам населения, то я и согласился.
Но тут сразу же начались курьезы. Хотя я был высшим начальником добровольцев в Одессе, но непосредственное командование лежало на генерале Леонтовиче, имевшем большой штаб и органы снабжения. Ему был подчинен уже чисто строевой начальник – командир бригады. Эту громоздкую и уродливую организацию пришлось сохранить, так как формировать бригаду пришлось, не имея ничего решительно, кроме людей и денег. Всю материальную часть пришлось создавать, не имея ничего, а украинское начальство, пока им не пришлось совсем плохо, было против формирования и во всем отказывало. Как я уже говорил, в то время все буржуазные организации, точно сговорившись помогать большевикам, всячески старались мешать друг другу.
Я передал через генерала Леонтовича командиру бригады приказание выслать две сотни на станцию с приказанием не допускать петлюровских банд к Одессе. Поезд был назначен к отправке в 8 часов вечера, и связь обеспечивалась ежедневными поездами два раза в день. Мы не имели точных сведений о силах Петлюры, но, судя по тому, что все лучшее, несомненно, было направлено на Киев, нельзя было ожидать большого количественного превосходства неприятеля, а тем более качественного. Правда, и мы при нашей бедности не имели ни артиллерии, ни бронепоездов. Все, что у нас было, это винтовки и пулеметы по два на сотню.
В 8 часов вечера я отправился на вокзал, чтобы лично проводить отправляющиеся сотни, и сразу заметил что-то неладное. Лица у всех были смущенные, Леонтовича не было, а командира бригады еле разыскали. Когда он явился, то сразу начал говорить, что отправлять такой маленький отряд так далеко от своей базы – это значит обрекать его на верную гибель, что он будет обойден и взят в плен и т. д. в этом же роде. Я был вначале озадачен, так как генерал Леонтович не находил в этой отправке ничего особенно опасного, а потом взбесился. Я наговорил ему кислых и обидных слов и тут же на вокзале отрешил его от командования. После этого решительного шага дисциплина была восстановлена, и отряд быстро сел в вагоны и отправился в путь. Однако впечатление у меня от начала наших военных операций осталось неприятное и не предвещало ничего доброго.
Я понял, что мало сформировать отряд, а нужно еще сделать из него боевую часть, что в Одессе, где половина состава жила на своих квартирах, сделать было невозможно.
Как только петлюровцы узнали, что против них двинута воинская часть, их продвижение вперед сейчас же прекратилось, и мы дней десять были совершенно спокойны, но в это время Киев попал в руки Петлюры и у них оказались свободные силы в распоряжении.
Между тем французы все не являлись, и начали ходить слухи, что они совсем не придут. Притихшие было беспокойные элементы начали поднимать голову, и в городе начались пока одиночные грабежи и беспорядки. Энно посылал ежедневные телеграммы с просьбами поторопиться с присылкой войск, но в это время у французов и англичан, кажется, действительно были колебания, и они сами не знали, ввязываться ли им в русскую авантюру или нет.
Однажды вечером ко мне приезжает внезапно Леонтович и подает следующую телеграмму: «Атакован превосходящими силами и вынужден к отступлению на станцию Раздольную (следует подпись начальника отряда)». Это был уже удар близкой грозы. Как потом оказалось, никакой атаки в действительности не было, и отряд отступил, получив известие о прибытии петлюровского поезда с гайдамаками на одну из близких к отряду станций. У страха оказались глаза велики. Когда те же сотни втянулись в гражданскую войну, они великолепно сражались с большевиками и петлюровцами, а здесь вся беда была в том, что не было ни одного решительного начальника.
Мы сейчас же с Леонтовичем поехали к Энно, чтобы обсудить положение дел. Он сейчас же пригласил генерала Бискупского,[318] который в это время уже заменил генерала N в командовании украинскими войсками. Кроме Энно на этом совете присутствовал еще капитан французского Генерального штаба Ланжерон в качестве его военного советника и контр-адмирал N, командовавший отрядом из трех находившихся на рейде судов.
Энно поставил совету вопрос: можно ли продержаться в Одессе против петлюровцев в течение недели или двух, пока не подойдут французские войска? Я предоставил высказаться своим сухопутным коллегам. Леонтович сказал, что защищать Одессу можно, но при условии, что внутри гарнизона не будет измены, и прозрачно намекал на украинские части. Бискупский говорил о необходимости единства командования и, по-видимому, не прочь был взять все дело в свои руки, но дело было в том, что ни я, ни Леонтович и никто вообще ему не доверяли и были уверены, что он нас предаст петлюровцам. Так ничем совет и не кончился.
У меня был свой план, который я и решил осуществлять. Убедившись на деле, что мои воины плохие вояки, я решил не рисковать уличной войной, где, прежде всего, требуется ярко выраженная инициатива отдельных начальников. У меня был в распоряжении пароход добровольного флота «Саратов», на котором могло свободно разместиться более тысячи человек. Я и решился, когда петлюровцы подойдут к городу, без боя собрать всех добровольцев на «Саратов» и перейти на нем к Очакову, который изображал из себя в некотором роде маленькую крепость. Там было легко защищаться и не против такого воинства, как петлюровское. В Очакове я мог спокойно ожидать прибытия французов и далее поступать сообразно с обстоятельствами.
Вероятно, так бы все и вышло, если бы на сцену не выступило новое лицо. Лицо это было генерал-майор Гришин-Алмазов.[319] Он прибыл в Одессу незадолго до описываемых событий, и я познакомился с ним у г-жи Регир. Вначале он на меня не произвел никакого впечатления, так как был очень молчалив и держался очень скромно, но впоследствии я изменил о нем мнение. Это был, несомненно, человек неглупый, с большим характером и умевший импонировать массам. Про него говорили, что он типичный авантюрист, но должен сказать, что настоящего его нравственного облика за все время знакомства с ним я так и не узнал. Во всяком случае, среди нашего тогдашнего безлюдья, он, безусловно, выдавался и мог считаться крупной фигурой.
В один прекрасный день он явился ко мне от имени консула Энно и объявил, что они вместе решили оборонять от петлюровцев французским десантом небольшой портовый участок, заключающий два мола, портовую набережную и бульвар с границей по Дерибасовской улице. Меня он просил не уходить в Очаков, а стать у мола и вмешаться в боевые действия только в случае нападения петлюровцев на французский десант. Такой план был для меня совершенной новостью, так как Энно все время говорил, что французы не намерены ввязываться в нашу междоусобную борьбу. Я немедленно согласился и передал в распоряжение Гришина-Алмазова своего начальника штаба полковника Генерального штаба Ильина для составления соображений. В тот же день был свезен с французских судов десант в числе ста сорока человек, и они заняли переулки по обе стороны бульвара, устроив там баррикады, на которых были подняты французские флаги. Участок города и порта, занятый французами, был объявлен французской зоной. На другой день добровольцы перешли на «Саратов», и он подошел к молу во французской зоне. Французские суда заняли позиции, чтобы иметь возможность оказывать содействие своим отрядам артиллерийским огнем.
У Гришина-Алмазова оказалось и небольшое собственное воинство. Это были несколько отдельных формирований, состоявших из самой разношерстной публики, по преимуществу из самых отъявленных авантюристов. Их было человек 70(?), состоявших в разных отрядах, друг от друга независимых. Откуда они получали деньги и на что существовали, совершенно неизвестно. Вероятно, грабеж играл не последнюю роль. Удивляться тут нечему – тогда было такое время. За несколько времени перед описываемыми событиями ко мне также явился один офицер из бывшей Дикой дивизии, рекомендовавшийся поручиком Масловским,[320] и попросился ко мне на службу с 14 татарами, набранными им в Крыму из горцев, не признававших большевиков. Я посмотрел на них, и они произвели на меня впечатление бандитов, но их начальник был так симпатичен, что я не мог отказать и принял их в качестве особой команды разведчиков, положив им жалованье. Когда Гришин-Алмазов получил от Энно звание русского военного губернатора французского участка, то я ему их передал в качестве его личного конвоя, чему он очень обрадовался.
В это же время в Одессу прибыл генерал Эрдели от генерала Деникина с неопределенными полномочиями. Я предложил ему принять главное командование, но он отклонил мое предложение на том основании, что отношение французов к Добровольческой армии не вполне еще определилось. Мне лично, впрочем, показалось, что он просто не хотел впутываться в грязную историю.
Когда петлюровцы вошли в город, то наступил критический момент. Атакуют ли они французов или нет? Если бы они решились это сделать, то французские суда должны были начать обстрел вокзала и тех мест, где они находились.
Все, однако, обошлось благополучно. Гайдамаки прошлись по городу в количестве не более двух рот и затем куда-то исчезли. В городе остались только конные патрули, которые, видимо, избегали приближаться к французским баррикадам.
Так прошло несколько дней. Мы посылали в город за провизией, и некоторые офицеры делали разведку. Все попытки узнать, где их главные силы, были тщетны, что же касается до слухов, то они были самые разнообразные. Число петлюровцев определялось в количестве от 500 до 5000 человек. Командовал ими небезызвестный доктор N, начальником его штаба был полковник Генерального штаба ***.
Консул Энно, капитан Ланжерон и Гришин-Алмазов жили в гостинице «Лондонской», где была главная квартира французов, а я с добровольцами на «Саратове». В случае начала военных действий добровольцы должны были сойти на берег и поступить под команду Гришина-Алмазова.
Я каждый день бывал в «Лондонской» гостинице и там обедал. Она торговала как никогда. Там собиралось множество народа, и сообщались новости. Там же кутили и воины Гришина-Алмазова. Среди них особенно выделялся один офицер по прозванью Белый Дьявол. Он так назывался за свои остриженные по-казачьи, совершенно белые как лен волосы, был очень высокого роста, стройный и с большими серыми глазами. Про него рассказывали разные легенды относительно его храбрости и жестокости, но, по-видимому, и то и другое было преувеличено. Несомненно только то, что и он, и его отряд бешено кутили, не получая жалованья, а следовательно, это была шайка разбойников, пробавлявшаяся грабежом.
В то время вошло в обычай у всех авантюристов формировать свои собственные отряды под разными наименованиями, на что они ухитрялись получать иногда довольно солидные авансы от различных лиц и учреждений. Давали украинцы, петлюровцы, давал и Гришин-Алмазов, когда получил доступ к французскому кошельку. На моей совести был только один Масловский, но и того я скоро уступил Гришину-Алмазову. Большинство из этих господ брали деньги, образовывали себе штабы, платили им жалованье и на этом успокаивались, но были и более предприимчивые, подобно Белому Дьяволу, которые распространяли свои банковские операции на окрестности и выручали недурные суммы. Нашелся, впрочем, один оригинал, к сожалению, забыл его фамилию, который целиком перенес в мой штаб миллион шестьсот тысяч карбованцев, экспроприированных им из казначейства какого-то маленького городка. Эти деньги были для нас очень кстати, так как подкрепили наш уже начинавший ослабевать фонд. Подобные случаи, по-видимому, были очень редки, так как я рассказал единственный, сохранившийся в моей памяти.
Французы в Одессе
Наконец наступил день, на который возлагались такие большие надежды. В Одессу пришли пять больших транспортов и на них бригада французской пехоты под командой генерал-майора N.[321] Транспорты вошли в порт, но высадился только один батальон, который сменил морской десант, охранявший зону французов, а этот последний возвратился на суда. Во всяком случае наша позиция уже окрепла. В тот же день в «Лондонской» гостинице был собран военный совет под председательством французского генерала, в составе двух командиров французских частей, капитана Ланжерона, консула Энно, генерала Гришина-Алмазова, полковника Ильина, командира добровольческой бригады и меня.
На совете полковник Ильин и капитан Ланжерон доложили разработанный ими совместно план действий. Он состоял в следующем: предполагалось занять Одессу русскими силами, находящимися в союзе с Францией. Так как гетман в это время уже пал, а с добровольцами еще соглашения не было заключено, то генерал N объявил, что он не уполномочен выступать на какую-либо партию. Город должен был быть занят русскими, но действующими от имени союзников. Практическая часть плана была проста. На рассвете следующего дня должны были начать действия партизаны Гришина-Алмазова. Они были разделены на шесть или на семь отрядов для занятия вокзала, государственного банка, телеграфа и телефонной станции и еще нескольких пунктов. Каждый отряд должны были сопровождать по два француза с флагами, которым надлежало объявить, что здание занимается от имени Франции, а после их занятия они должны были вернуться к своим частям. Добровольцы составляли резерв, а французы должны были вступить в бой только в крайнем случае. Гришин-Алмазов назначался французским военным губернатором Одессы.
План был принят военным советом без возражений, причем обоими докладчиками высказывалось мнение, что на основании их разведки сопротивления оказано не будет.
В 6 утра 5/18 декабря партизаны вступили в петлюровскую зону одной колонной по Дерибасовской улице, и, по мере следования, отдельные отряды отделялись по своему назначению. Головным следовал отряд Белого Дьявола из 20 человек, которому предстоял самый дальний путь до вокзала, который ему было назначено занять. При занятии всех пунктов все прошло очень гладко и без выстрелов. Десятка два петлюровцев, найденные в некоторых местах, были беспрекословно арестованы и препровождены на «Саратов».
Все уже думали, что на этом дело кончится, и собирались поздравлять друг друга, но на самом деле вышло не так. Оказывается, доктор был взят врасплох. Он сидел со своим штабом на Большом Фонтане и ожидал, что французы к нему явятся для переговоров, но, узнав о положении дел, решил на свой страх и риск объявить войну Антанте. Он выстроил своих украинцев, выехал к ним верхом, сказал зажигательную речь и затем «слабым манием руки на русских двинул он полки».
Главной атаке подвергся вокзал. Белый Дьявол держался два часа и потерял семь человек убитыми и ранеными, после чего отступил. Другие посты удержались на месте, но тоже понесли некоторые потери. Всего было убито 12 человек. В разгар сражения я отправился с «Саратова» в «Лондонскую» гостиницу, чтобы узнать положение дел, и застал полковника Ильина разговаривающим по телефону с начальником штаба петлюровцев и убеждающим последнего в бесполезности борьбы. Это была довольно забавная картинка, когда два начальника штабов противных сторон мирно беседовали друг с другом, находясь в одном и том же городе. Кстати сказать, они были товарищами по выпуску в Академии Генерального штаба. Разговор кончился ничем, но полчаса спустя противник опять позвонил по телефону и в лице того же полковника сообщил, что они не хотят драться с французами, а потому оставляют город и будут ожидать французских уполномоченных для переговоров на станции Раздельной. На этом сражение и кончилось.
Я забыл еще упомянуть, что, когда вокзал был нами оставлен, Гришин-Алмазов приказал сделать по нему несколько выстрелов из полевой пушки, чем навел немалую панику на все население, уже привыкшее к ружейному огню за предыдущие перепалки, но в первый раз слышавшее орудийный. Петлюровцы ответили несколькими выстрелами по «Саратову», но не попали. Французский адмирал тоже не удержался и дал три выстрела из 25-дюймового орудия по Фонтану, за что ему впоследствии в моем присутствии жестоко влетело от его начальника, вице-адмирала командующего в Константинополе, когда тот пришел в Одессу недели две спустя.
Я поздравил Гришина-Алмазова с победой и вернулся на «Саратов».
Теперь надлежало подумать о будущем нашем устройстве. Хозяевами положения становились французы, и нам так или иначе нужно было с ними сообразоваться. Мне прежде всего нужно было урегулировать положение своих добровольцев. В большинстве это были коренные одесситы, связанные с городом различными интересами. Если бы я теперь захотел везти их на Кубань, то за мной вряд ли бы пошла и половина из их состава. Наоборот, с приездом французов в Одессу число добровольцев стало явно увеличиваться. Это явление заставило меня пойти на компромисс с Гришиным-Алмазовым, тем более что он после своих успешных действий сразу приобрел значительный авторитет. Мы с ним уговорились следующим образом: бригада добровольцев остается в его подчинении и на иждивении французов. Я буду его помощником по морской части, но остаюсь по-прежнему самостоятельным начальником центра Добровольческой армии, и он мне обязался помогать во всем, что касалось снабжения, как припасами, так и людьми. Таким образом я мог с пользой для армии продолжать свою работу.
Понемногу организовалось и административное управление. Гришин-Алмазов выбрал себе помощников: по гражданской части его помощником был назначен бывший товарищ министра Пильц,[322] очень дельный и умный человек, градоначальником в Одессе – бывший московский обер-полицмейстер (забыл фамилию).[323]
Кроме того, у Гришина было два негласных советника: по политической части известный деятель Шульгин[324] и по полицейской – генерал Спиридович.[325] Пильц образовал для управления оккупированным французами районом нечто вроде маленького министерства, где участвовали управляющий финансами Демченко, народным просвещением ректор университета, юстиции – председатель судебной палаты, местные представители земледелия, торговли несколько других лиц. В этот же совет был приглашен и я в качестве помощника по морской части.
Одним из первых деяний совета было назначение себе жалованья по тысяче рублей в месяц. Это было по тому времени не особенно много, так как фунт стерлингов стоил 30 рублей, а франк около рубля. Вопрос с деньгами решился очень просто. В Одессе помещалась типография, печатавшая для гетмана кредитные билеты по пятьдесят карбованцев. Демченко ее реквизировал и начал печатать те же бумажки, к которым население уже привыкло и безропотно принимало. Таким образом Гришин-Алмазов получил в руки деньги и с этого времени стал преследовать грабежи и экспроприации. Партизаны были расформированы и в большинстве поступили в добровольцы, а Белый Дьявол куда-то исчез. Мой Масловский со своими татарами сделался начальником личного конвоя у Гришина.
Свое Морское управление я организовал [неразборчиво]: у меня был флаг-капитан капитан 1-го ранга Заев и два флаг-офицера – лейтенант Машуков,[326] впоследствии сделавший блестящую карьеру, и Пашкевич.[327] Потом к ним присоединился еще капитан 2-го ранга Романов на амплуа состоящего для особых поручений. Мы реквизировали два номера в «Петербургской» гостинице, где помещались и канцелярия, и жилая комната. Центр остался в прежнем составе с капитаном Соловским во главе и двумя помощниками на придачу.
Круг нашей деятельности определился не сразу, но постепенно к нам перешло немало дел. Главным образом, мы занимались снабжением Добровольческой армии всякого рода имуществом, которое теперь пошло полным ходом, но, кроме того, мы оказались главными решителями судеб нашего торгового флота. Все пароходные общества представляли нам на утверждение расписания своих рейсов, и мы им выдавали нечто вроде паспортов благонадежности и права свободного плавания, так как и союзники, и добровольцы в Кубанской области не стеснялись захватывать и обращать в свою пользу и суда, и грузы, в особенности, когда грузом было топливо. На этой почве многие лица делали в то время недурные аферы, и с этим злом было трудно бороться. Союзники в то время нуждались в топливе, вследствие больших потерь от подводных лодок. Они, обыкновенно не стесняясь, захватывали пароходы, сажали туда своих комендантов и отправляли куда им было нужно, а когда находился владелец и заявлял претензию, то извинялись и вступали с ним в соглашение, платя хорошие деньги. Бывали, впрочем, такие случаи, что владельцев в Одессе не было и такие суда иногда месяцами эксплуатировались даром.
Кроме этого рода дел, мы занимались также отправкой по морским путям как офицеров, так и гражданских чиновников, почему у нас был тесный контакт с управлением по передвижению войск.
С управлением военного флота у нас были странные и ненормальные отношения. Пока в Одессе сидели немцы и господствовал гетман, здесь был центр украинского морского управления во главе с вице-адмиралом Покровским, которого гетман за особые заслуги произвел в бунчужные, т. е. полные адмиралы, но вообще вопрос вокруг Черноморского флота немцами решен не был, и у Покровского материальных средств почти не было, так как все было сосредоточено под эгидой немцев в Севастополе. Я, в то время будучи лицом нелегальным, избегал сношений с официальными представителями гетмана, а когда это мне было нужно, действовал всегда через их помощников, между которых всегда находились люди, желавшие перестраховать себя на «Великую неделимую Россию» (лозунг добровольцев). Когда немцы сошли на нет, Покровский почувствовал себя очень неловко, но его выручил адмирал Канин.
Адмирал Канин был очень почтенный человек, но небольшого масштаба. На второстепенных должностях он всегда пользовался хорошей репутацией, но, попав в командующие Балтийским флотом, сразу обнаружил вялость и нерешительность. Когда в Севастополе после развала флота и прихода немцев все офицеры оказались безработными, то они образовали союз и председателем его выбрали как старшего адмирала Канина. Союз этот особой деятельности не проявил и влачил, как и повсюду, довольно жалкое существование. Когда появились добровольцы, адмирал Канин занял по отношению к ним нейтральное положение, не становясь определенно ни на их сторону, ни на сторону гетмана, а повиснув как в пространстве. При немцах существовало еще особое крымское правительство, но ни они сами, ни немцы, конечно, не могли и не хотели взять флот на свое иждивение. Когда явились союзники, Канин остался в прежнем положении нейтралитета, но союз сильно поредел, так как большинство его членов перебралось к добровольцам.
Тем не менее союзники признали Канина как хозяина Черноморского флота, а он объявил Покровского своим представителем в Одессе. Фактически, впрочем, Покровский располагал одной канонерской лодкой по имени «Кубанец» и несколькими маленькими казенными пароходами, на зато имел большой штаб, целое портовое управление в Одессе и Николаеве, которым, как всем украинским учреждениям, продолжалось из казначейства выдаваться жалованье. Так как материальные средства флота мне были не нужны, то я просто стал игнорировать флот адмирала Канина. Покровский меня не признавал, а сам он был не нужен. В скором времени обстоятельства, впрочем, переменились, но об них скажем в свое время.
На другой день по занятии Одессы ко мне явились несколько украинских начальников, как, например, начальник минной обороны контр-адмирал Фабрицкий, начальник службы связи (забыл фамилию), и заявили претензию, что мы их не пригласили к совместным действиям против петлюровцев. Один располагал двумястами человек, а другой – сотней. Меня эта претензия чрезвычайно позабавила. Люди сидели смирно, не показывая признака жизни, и выжидали окончания событий, чтобы явиться с претензией к той стороне, которая возьмет верх. Впоследствии, когда все гетманские высшие учреждения приказом Деникина влились в Добровольческую армию, они увеличили нашу бригаду на 3000 человек.
На другой же день после боя состоялись торжественные похороны погибших. Всех жертв с нашей стороны было четырнадцать. Отпевание совершал в соборе митрополит Платон, а на кладбище провожала большая толпа народа. Воинские почести отдавались конным взводом гетманцев, ротой добровольцев, ротой французов и взводом из двух орудий. Вслед за гробом следовали верхом Гришин-Алмазов, французский генерал и их штабы. Не знаю, сколько было убито петлюровцев, так как они увезли трупы в вагоне и похоронили на одной из железнодорожных станций.
После ухода петлюровцев жизнь начала понемногу входить в свое русло. Французы разместили свои войска в казармах, освободившихся после очищения города немцами. Эти последние, по соглашению с французским начальством, разместились по немецким крестьянским селам, которых было довольно много вокруг Одессы. Они держали себя смирно, в городе не показывались и ожидали отправки на родину. Должен сказать в похвалу немцам, что они и в революционном состоянии, управляемые советами, умели себя держать пристойно и не обижали население. За все время междуцарствия я видел только один раз перепалку между немцами и поляками, причем поляки, только что нарядившиеся в свои польские мундиры, задирали немцев.
Деятельность совета при Гришине-Алмазове протекала, главным образом, в изыскании средств для удовлетворения всех потребностей населения Одессы. Деньги были, так как они печатались тут же, но гораздо труднее было с доставкой всего нужного для города. Дрова нужно было доставлять по железной дороге из пункта, лежащего на расстоянии в 300 верст, мяса тоже не хватало, не было угля, керосину, бензину и сахару. Все это нужно было доставать или с враждебной территории, каковой была занятая петлюровцами Украйна, или из нейтральных государств, каковыми являлись Крым, Кубань, Дон и Грузия. Если бы не взятки, то Одесса была бы осуждена на голодную смерть, но с взятками оказалось возможным вывезти и провезти все, что нужно, из складов самых злейших врагов. Вначале заседания совета бывали каждый день, потом два раза в неделю и, наконец, только раз в неделю.
Должен сказать несколько слов об одесском Английском клубе, который имел свое собственное, очень обширное и удобное помещение. Когда я только что начал свою деятельность как начальник центра Добровольческой армии, генерал Леонтович мне усиленно советовал записаться членом в Английский клуб, мотивируя свой совет тем, что я могу там встречаться со всеми влиятельными людьми. Я последовал этому совету, но скоро убедился, что там бывают только бывшие люди.
В прежнее время там действительно собирались как чины высшей администрации, так и крупные помещики, фабриканты, финансисты и прочие большие буржуи. В то время клуб действительно имел и выявлял свое влияние. При немцах в нем царила мерзость запустения, но, когда появились французы, собрался небольшой кружок членов, который решил восстановить былое величие клуба. Был нанят великолепный повар и в председатели совета старшин выбрали бывшего донского атамана генерала графа Граббе, на прекрасный французский язык и такт которого возлагали большие надежды.
В первые же дни по прибытии французов в клубе состоялся большой обед в их честь. Присутствовало до ста человек. Обед был прекрасный, несмотря на обнаруживающуюся скудость в городе, и даже редкое в то время шампанское было в изобилии. Генерал Граббе произнес прочувствованную речь, умоляя союзников спасти Россию, но французский генерал в очень недвусмысленных выражениях ответил, что Россия должна спасти себя сама, а если она этого сделать не захочет, то и союзники ничем ей помочь не смогут.
Я сидел рядом с командиром одного из французских полков и старался убедить его, что французы должны всеми силами поддерживать Добровольческую армию как единственную реальную силу, способную одолеть большевизм. Он глубокомысленно слушал, но, как оказывается, думал об отпуске, в который уезжал через несколько дней. Так весь мой заряд и пропал даром. Обед закончился в несколько разочарованном настроении.
В противовес Английскому клубу, который держал хороший тон, действовала «Лондонская» гостиница, где собирался весь кутящий элемент. Здесь публика была более чем сомнительная: вечные аферисты, которых в Одессе было много, убежавшие из Москвы и Петрограда, бегущие от большевиков буржуи всех сортов и проч. Здесь рассказывали всякие самые невероятные политические и местные новости, тут бывали и скандальчики до рукоприкладства включительно.
Здесь был устроен обед от города, но более легкомысленного настроения. После обеда был артистический дивертисмент с весьма фривольными номерами, так что люди видавшие виды и те краснели.
Таким образом, французы в Одессе не нашли никакого центра, с которым они могли бы столковаться и на который смогли бы опереться. Гетман уже сошел со сцены. Русские шли все врозь, а петлюровцы очень немного разнились от большевиков, отличаясь от них только крайним украинским шовинизмом.
Была еще партия эсеров, о которой я уже говорил, предводимая идейно слепым Кулябкой-Корецким,[328] а практически евреем Каплуном. У меня был агент офицер, которому я приказал фиктивно примкнуть к партии, чтобы иметь все сведения, что там происходит. Перед приходом французов в Одессу Каплун устроил заседание, на котором решался тактический вопрос о том, как держаться относительно союзников. Фактически на совете говорил один Каплун. Он открыто объявил, что им от французов ждать нечего. Он рассказал про аудиенцию Кулябко у консула Энно, где тот совершенно определенно отнесся к социалистическим партиям, а затем сообщил о перевороте в Сибири, где с помощью союзников овладел властью адмирал Колчак. На совете было решено вести пропаганду во французских войсках в революционном духе и ни в какие соглашения с союзниками не вступать. Странные люди эти эсеры, они все время занимались только тем, что пакостили и направо и налево, и неизвестно чего хотели сами.
Я, конечно, сейчас же предупредил Энно о грозящей французам опасности, но он, по-видимому, мало обратил на это внимания, так [как] пропаганда действительно началась и вскоре приняла значительные размеры, давшие печальные результаты.
Французы накануне решили столковаться с Деникиным. Мы узнали, что в Одессу назначается генерал Санников в качестве главноначальствующего с большими правами, как военными, так и гражданскими.
Я оставался его помощником по морской части и начальником центра с подчинением по последней должности генералу Лукомскому как военному министру Вооруженных сил Юга России. Генерал Гришин-Алмазов не получил никакого назначения и вызывался в Екатеринодар. Вскоре Лукомский сам приехал в Одессу для урегулирования положения генерала Санникова с французами, но, по-видимому, это было сделано плохо, так как отношения Санникова с французами быстро испортились.
С увеличением числа французских войск в Одессу прибыл генерал д’Ансельм[329] в качестве командира корпуса и при нем начальник его штаба еврей полковник Фриденберг,[330] оставивший по себе печальную память явным покровительством своим многочисленным соотечественникам и неудачными военными операциями.
При сравнении французов с немцами у одесситов, несомненно, все симпатии перешли на сторону немцев. Войска последних были дисциплинированы и не обижали населения, тогда как у французов господствовала распущенность и часто бывали случаи грабежа и насилий. Немцы производили систематический государственный грабеж, главным образом, съестных припасов, но населению за все уплачивалось деньгами. Они установили постоянный курс марки и кроны, почему население скоро к этим деньгами привыкло, тогда как французы старались всячески повысить курс франка, а рубль и карбованец при них стремительно падали, и дороговизна жизни беспрестанно увеличивалась, что возбуждало явное неудовольствие всех слоев населения.
С включением Одессы в орбиту управления генерала Деникина возникли крупные трения с администрацией Юга России. Сидевшие там господа решили, что все должно идти по старому шаблону, и установили старую централизацию, когда ни телеграф, ни почта почти не действовали, а если и действовали, то через пень – колоду. При таких способах сношений можно было управлять только директивами, и немало труда и времени было потрачено, чтобы убедить молодых и ретивых деникинских министров и их помощников до столоначальников включительно, чтобы они прекратили посылать свои запросы и предписания.
Генерала Санникова почти все ожидали с нетерпением и возлагали на него большие надежды. Он долго жил в Одессе в качестве начальника снабжения Румынского фронта, а при немцах был выбран городским головой, так что одесситы считали его своим человеком.
Я присутствовал на приеме им всех старших начальников, причем он сказал короткую, но содержательную речь, в которой требовал самопожертвования от всех для спасения родины, но, к сожалению, этого-то как раз почти никто не хотел делать. Каждый думал очень много о себе и очень мало о родине. Генерал Санников добросовестно и толково исполнял свои обязанности. Он старался внести всюду порядок, но, к сожалению, не мог вдохнуть душу в разложившееся тело. Да и кто бы мог это сделать на его месте? Пожалуй, даже такие беспринципные люди, как Гришин-Алмазов, но обладающие сильной волей, при существующих обстоятельствах были более на месте. Они умели играть на людских страстях и действовали террором. Успехи большевиков во многом объясняются этими качествами.
Я с генералом Санниковым установил хорошие отношения еще при немцах, и мне с ним было очень легко работать. Он знал все нужды Добровольческой армии и давал мне полезные указания. С его приездом адмирал Покровский также признал мой авторитет, и я мог пользоваться всеми средствами Одесского и Николаевского портов. Я отправлял один пароход за другим, груженные, главным образом, артиллерийскими запасами. Эти последние добывались с острова Березань, где находился огромный их склад, но пристань была разрушена и грузить можно было только в тихую погоду. Мы начали втихомолку, подкупая сторожей, пользоваться складом еще при немцах, а теперь в хорошие дни грузили по 6–7 тысяч полевых снарядов в день. Лейтенант Машуков оказался в этом случае незаменимым помощником. Он умел из ничего построить пристань, уговорить бастующих рабочих и пустить в ход явно саботирующий пароход. Если бы таких людей во всей Добровольческой армии была хоть сотня, то мы в три месяца были бы уже в Москве. Он же дал мне идею построить и укомплектовать офицерами флота бронированные поезда, так как из моряков выходили очень плохие пехотинцы. Три поезда сейчас же начали строиться в железнодорожных мастерских, но, к сожалению, они были готовы только ко времени эвакуации Одессы.
С перевозками воинских чинов мы наладили дело также довольно успешно. Мы договорились с пароходными обществами, что десять процентов каютных мест будет в нашем распоряжении и всем являющимся к нам с бланками от начальника военных сообщений генерала Месснера[331] проставляли на бланк прямо его номер каюты на ближайшем идущем в рейс пароходе. Никаких недоразумений и задержек не было, и, наоборот, мы получали массу благодарностей от едущих за быстрое выполнение их просьбы. Некоторые лица выражали даже удивление, что мы впятером так быстро со всем справляемся. А вся суть была только в том, что мы отказались от старых бюрократических приемов и очень мало писали, а действовали или на словах, или по телефону, мало заботясь об отчетности и всяких входящих и исходящих. Так только и можно было производительно работать при тогдашнем сумбуре.
За это время мне пришлось повидаться и с некоторыми бывшими людьми. Наибольшее сожаление возбудил во мне престарелый генерал Каульбарс.[332] Когда-то царь и бог в Одессе, где он был командующим войсками округа и генерал-губернатором, он явился откуда-то весь оборванный, голодный и в самом жалком виде. Я сейчас же написал генералу Деникину о его положении и, не дожидаясь ответа, зачислил на службу в центр, выдав авансом тысячу рублей. Старику было уже 82 года. Он был кавалером Почетного легиона 1-й степени,[333] и я воспользовался этим, чтобы устроить ему бесплатное путешествие в Париж, где были его родственники.
Далее меня посетил Гучков, еще недавно вместе с Керенским управлявший судьбами России. Он также хлопотал о поездке за границу по политическим делам, как он сам выразился. Он выглядел довольно бодро и, по-видимому, возлагал большие надежды на вмешательство Антанты в русские дела. В длительность большевизма он не верил. Видел я также и Милюкова. Он имел сконфуженный вид и мало говорил вообще.
У Пильца я встретил Воейкова, который ехал за границу из Ялты. Он рассказал, что сейчас же после ухода большевиков осмотрел Ливадийский дворец и нашел его в относительном порядке. Вся прислуга осталась на местах, но, конечно, приобрела развязные манеры. Он сказал им соответствующую речь и предупредил, что по возвращении вместе с государем разберет все их поступки во время большевизма и воздаст каждому по заслугам. Он, по-видимому, не сомневался, что так действительно все и будет, и вообще в то время многие не верили в гибель всей царской семьи.
В это же время проезжала через Одессу за границу графиня Брасова[334] с детьми. Она также ничего не знала об участи своего мужа.
Праздники Рождества Христова прошли в Одессе весело и оживленно, но вскоре после Нового года уже начали появляться тучки. Петлюровцы французов не беспокоили и, наоборот, всячески старались завязать с ними сношения. Это следует объяснить тем, что над ними уже скоплялись грозовые тучи со стороны большевиков. Регулярные силы последних, главным образом, сосредоточивались против Колчака и Деникина, но Троцкий не жалел денег на партизанскую войну, и масса всевозможных большевистских атаманов вроде Григорьева и батьки Махно наводнили Украйну и парализовали все силы петлюровцев, которые состояли из таких же банд, как и большевистские. Французы вначале этим беспокоились мало, считая, что банды не опасны для их регулярных войск, снабженных артиллерией, танками и авиацией, но они не учли разлагающую пропаганду, которая уже пустила глубокие корни среди их войск. Их солдаты и матросы просто не хотели сражаться с большевиками неизвестно за чьи интересы.
Вскоре, однако, глаза у них открылись. Атаман Григорьев взял целиком, предварительно окружив, целый батальон французов с двумя орудиями. Французы мирно стояли в одном местечке и сдались, не сделав даже попытки к сопротивлению. Это был удар грома в ясную погоду. Создалось впечатление, что в один прекрасный день большевики могут незаметно войти в Одессу и перевязать всех французов, да и русских вместе с ними.
Ввиду такого подхода в Одессу явился сам командующий армией в Константинополе генерал Франше д’Эспере.[335] Было решено перед Одессой устроить фронт, куда потребовали и нашу бригаду, которая была уже переименована в дивизию и находилась под командой одного из лучших отличившихся генералов Добровольческой армии, по фамилии, кажется, Тимановского.[336] Оккупационные войска была усилены греками и черномазыми сенегальцами, на которых надеялись, что они не поддадутся на пропаганду.
На время все снова успокоилось, но тут как раз возникли острые разногласия между Деникиным и французами, в результате которых Санников был отозван в Екатеринодар. Он собрался и уехал так быстро, что я не успел даже с ним переговорить. Уже провожая его на пароход, я спросил, какие мне будут инструкции, на что он коротко ответил: «Никаких». С ним вместе уехал и Гришин-Алмазов с неизменным Масловским и его татарами.
На место Санникова генерал д’Ансельм назначил генерала Шварца,[337] известного военного инженера, составившего себе имя быстрым укреплением Ивангорода и Трапезунда во время Великой войны. Какие мотивы заставили его принять это назначение, я не могу понять до сих пор.
Обдумав свое положение, я решил, что с уходом Санникова автоматически вышел в отставку и я в качестве помощника по морской части главноначальствующего и в этом смысле подал рапорт генералу Шварцу, сообщая ему, что я остаюсь начальником центра Добровольческой армии впредь до замены меня другим лицом генералом Деникиным. Пришлось соответственно переделать и все бланки, и печать. Шварц сейчас же пригласил меня и попробовал уговорить, но я заявил, что тесно связан с Добровольческой армией и могу работать только находясь в ее составе. Мы, впрочем, расстались с ним миролюбиво, причем я обещал ему полное содействие. Помощником по морской части был назначен адмирал Хоменко, с которым мы были в приятельских отношениях.
Я запросил генерала Лукомского об инструкциях, соответственно новому положению вещей, но ответа получить не успел, так как события разыгрались раньше, чем мы все думали. Почти все служащие остались на своих местах, и по виду казалось, что ничего особенного не произошло. Дивизия также осталась на позициях и продолжала подчиняться французскому командованию. К этому времени она достигла 8 тысяч, что представляло уже значительную силу.
Мне не удалось ни повидаться, ни снестись с генералом Тимановским, чтобы выяснить его точку зрения на происшедшие перемены, почему я и решил действовать самостоятельно как представитель генерала Лукомского в Одессе. Прежде всего мне, конечно, надлежало подготовить возможность эвакуации на случай, если позиция будет прорвана и французы отступят на свои корабли, но сделать это скрытно, не возбуждая паники и подозрений со стороны французов, было не так просто. Я переговорил с Хоменко, что он думает по этому поводу. Он отвечал, что, по его личному мнению, думать об этом еще рано, но что во всяком случае в Одессе много пароходов как русских, так и иностранных, почему эвакуация не представит затруднений во всякое время.
На всякий случай я все-таки решил принять свои меры. В моем распоряжении в это время были два парохода: один тысяч в 7 тонн, товаропассажирский, по имени «Доланд», который подготовлялся к очередному рейсу в Новороссийск с припасами для добровольцев, и другой, тысячи в полторы тонн, принимавший специально снаряды с острова Березань. Я решил задержать «Доланд» до выяснения положения. Третий пароход, также небольшой, принадлежал компании Регир, моим хорошим знакомым. Он стоял без дела, и я просто попросил у г-жи Регир разрешения взять его в свое распоряжение. Таким образом, у меня было три парохода, и я мог уже до некоторой степени спокойно выжидать дальнейших событий.
Они не заставили себя долго ждать. Настроение в Одессе было нервное, но французы все время успокаивали население, хотя слухи о том, что французы собираются эвакуировать свои войска, ходили уже несколько дней. Один раз я зашел к Регирам, что делал очень часто, и мадам Регир мне сообщила, что они узнали из достоверных источников, что фронт союзников прорван и что атаман Григорьев обещал быть в Одессе через три дня.
Всевозможными слухами Одесса была полна всегда, и потому я не придал особого значения ее словам, но все же решил проехать к генерал-квартирмейстеру штаба Шварца, чтобы узнать, нет ли чего нового. Я застал его в скверном настроении. Он взял с меня слово никому ничего не говорить и сообщил, что французские солдаты совершенно не желают сражаться. Значительная часть войск снова без боя отступила и бросила на произвол судьбы несколько вполне исправных танков. Полковник N (забыл фамилию) сообщил мне о своей уверенности, что на днях состоится эвакуация, и просил меня оставить для него место. Это уже было серьезнее, чем я думал. Вернувшись в штаб, я, конечно, никому ничего не сказал, как и обещал, но вызвал к себе всех трех комендантов пароходов и приказал им иметь запасы всего нужного для перехода в Новороссийск. В тот же вечер я сам переехал жить в штаб с Пироговской улицы, чтобы быть все время в курсе событий.
На другой день все разъяснилось: французы вступили в переговоры с атаманом Григорьевым. Он обещал им их не трогать, а они обязались в двухдневный срок эвакуировать Одессу. Французы предоставили всем желающим эвакуироваться в Константинополь на русских и иностранных кораблях. Я немедленно отправился к начальнику штаба генерала Шварца генералу Мельгунову[338] и заявил ему, что со своими тремя пароходами на другой день вечером ухожу в Новороссийск, причем предложил взять с собой как его, так и весь состав военных управлений. Он несколько сконфузился и сказал, что едет вместе с генералом Шварцем в Константинополь для окончания всех дел с французами, а своим управлениям предоставляет ехать куда они хотят. Тогда я своей рукой написал большой плакат и пришпилил в приемной комнате штаба на Пироговской улице, что пароход «Доланд» уходит в Новороссийск и все военные чины приглашаются на нем следовать.
Через несколько часов ко мне явился полковник Месснер и объявил, что он с 40 человеками военных железнодорожников поедет со мной, и еще последовало заявление человек на сто, так что я думал, что мы будем ехать совершенно просторно. Было объявлено, что французские войска и с ними наша дивизия перейдут в Бессарабию сухим путем. Для французов это было удобно и безопасно, так как румынские войска занимали железнодорожную линию Бендеры – Раздельная, и таким образом их фланговый марш происходил под прикрытием.
Вечер первого дня эвакуации прошел спокойно, но на другой день по влиянием неизвестно откуда пущенных невероятных слухов началась паника. Говорили, что григорьевцы уже проникли в город и ждут только сигнала, чтобы начать резню всех буржуев. С утра мой штаб был осажден просящими разрешения ехать на «Доланде». Я не отказывал и давал разрешительные билеты на все три парохода, но после полудня ко мне спешно прибежали с парохода доложить, что толпа без всяких разрешений штурмом взяла пароход, что там уже больше тысячи человек и народ все прибывает и прибывает. Я спешно поскакал на «Доланд» и, действительно, увидел лезущих со всех концов на пароход людей. По счастью, в это время прибыли железнодорожники полковника Месснера. Я назначил полковника Генерального штаба Ильина сухопутным комендантом парохода, и он быстро принял все нужные меры.
Железнодорожники с винтовками были размещены около сходни и по бортам, а для устрашения на борту были выставлены два пулемета. Порядок сразу восстановился, но начались раздирающие сцены. Женщины плакали и просились на пароход. Меня выручил комендант большого парохода «Калерой Сапарис», о существовании которого я даже не знал. Он явился ко мне на «Доланд» и заявил, что отдает свой пароход в мое распоряжение. Я сейчас же обратился с речью к публике и заявил, что комендант парохода «Сапарис» поведет их к себе на пароход, так что все там спокойно разместятся. Он действительно увел с собой человек триста, и на набережной против нас стало просторно.
Когда я разобрался, почему публика была в такой панике, оказалось, что на некоторых пароходах команда ушла на берег и сказала, что не вернется на пароход. Тогда публика, испугавшись, что останется в Одессе, бросилась на «Доланд», в расчете, что «Доланд» со мной уйдет наверное. Таким образом, многие, рассчитывавшие ехать в Константинополь, попали в Новороссийск.
Однако и на «Доланде» не все прошло гладко. Оказалось, что старший механик отправил еще вчера какую-то важную часть машины для исправления на завод. Работы было на два часа самое большое, но к полудню другого дня часть все еще не была готова. Пришлось на завод отправиться моему флаг-капитану капитану 1-го ранга Заеву в сопровождении пяти человек с винтовками и в своем присутствии сделать нужное исправление. Пароходную команду я приказал на берег не спускать, но несколько человек все-таки ухитрились удрать.
Сделав приблизительный подсчет публики, бывшей на пароходе, я убедился, что всех импровизированных пассажиров было более тысячи человек. При хорошей погоде это, конечно, не так много, но в случае бури могло бы доставить много хлопот. У каждого пассажира были вещи, и все это могло начать перекатываться с борта на борт, сшибая с ног и калеча публику. Чтобы избежать этих неприятностей, я решил вывести «Доланд» на рейд, но так как машина еще не была исправна, то мы обратились к проходившему мимо буксирному пароходу, и он нас вывел из гавани. Теперь можно было быть спокойным и, пока чинилась машина, прибраться немного на пароходе и приготовиться к путешествию. Однако и пребывание на рейде не спасло от новых пассажиров. То и дело подходили шлюпки, за которые платили по тысяче и более рублей, чтобы покинуть набережную.
Рейд тоже оживлялся все более и более: там стояло несколько военных судов, в том числе два судна под Андреевским русским военным флагом, канонерская лодка «Кубанец» и яхта «Лукулл». «Кубанец» была единственная канонерская лодка Украйны, а «Лукулл» была яхтой гетмана. Я был очень рад, что они переменили свой украинский флаг на Андреевский, но удивился, чей может быть на «Кубанце» поднят контр-адмиральский флаг. Мой флаг-офицер Пашкевич спросил по семафору «Кубанец», кто держит на нем флаг, и получил ответ, что контр-адмирал ***.[339] Капитан 1-го ранга был произведен гетманом в контр-адмиралы и мог, конечно, поднимать украинский адмиральский флаг на мачте, но это, по-моему, отнюдь не означало права носить Андреевский адмиральский флаг. Члены моего штаба просили меня сделать сигнал «Кубанцу» спустить контр-адмиральский флаг, но я не считал себя вправе распоряжаться, так как на море хозяином был адмирал Канин, а заместителем его в Одессе адмирал Покровский.
По семафору же мы узнали, что на «Лукулле» находится штаб Покровского, а сам Покровский, как выяснилось позже, объявил, что он останется с народом, что в переводе на русский язык обозначало «с большевиками». Потом, однако, мы узнали, что народ заставил Покровского шесть недель скрываться в камышах в Днепровских устьях, питаясь неизвестно чем и как. Спустя некоторое время контр-адмиральский флаг на «Кубанце» спустили и подняли обыкновенный вымпел. Мне передали, что офицеры «Кубанца» сами попросили украинского адмирала спустить флаг, но я думаю, что тут имели влияние и частные переговоры моих офицеров с ними.
Когда все мои пароходы вышли на рейд, я им передал приказание идти самостоятельно в Новороссийск по мере готовности.
Наша машина была готова к утру 4 апреля, и мы снялись с якоря. Мне очень не хотелось уходить, пока не будет окончательно выяснено положение в Одессе, но тысяча с лишним пассажиров, не имеющих с собой никакой провизии, заставляла торопиться, и в 5 часов 5 апреля мы снялись с якоря и пошли в море. Переход вышел прямо на заказ. Чудная погода стояла все три дня, так что беженцы даже развеселились и, несмотря на скученность и все практические неудобства, устраивали церковные службы и светское хоровое пение.
В Новороссийск мы пришли 8 апреля к вечеру и ошвартовались у мола. Вслед за нами пришел «Калерой Сапарис». Пароход Регира пришел на другой день, а с «Батумом» произошло несчастье. Капитан его, как оказалось, был сильно пьющий человек и со своими помощниками устроил кутеж. Морской комендант также оказался не на высоте положения, и пароход ночью в тумане наскочил на камень у Балаклавы. По счастью, удар был не очень сильный и ему удалось самостоятельно сняться с мели и войти в бухту Балаклавы, но там он должен был сесть на мель основательно, чтобы не затонуть. Впоследствии он был починен и снова начал свои рейсы. Капитан и комендант были преданы суду.
Как потом выяснилось, эвакуация прошла благополучно, и все желавшие выехать из Одессы успели выбраться в Константинополь. Пароходы неисправные и не могущие идти сами французы отбуксировали в Тендровскую бухту, и лейтенант Машуков их впоследствии чинил и отправлял в Новороссийск, за что получил особую благодарность главнокомандующего.
Наша Одесская дивизия проследовала с французами в Бессарабию, а оттуда в Добруджу, откуда уже пароходами прибыла в Новороссийск и вступила в состав Добровольческой армии.
Все чины штаба и управлений Шварца приехали в Константинополь, там все перессорились и рассеялись в разные места. Часть из них поехала к адмиралу Колчаку, а большинство вернулось к Деникину в Новороссийск. Забавнее всего, что эти господа обвинили меня в том, что я их не взял с собой, когда мой плакат висел в штабе в течение двух дней и кто желал, те все воспользовались моими пароходами. Было назначено по этому поводу следствие, и я дал такое показание, поддержанное многими другими лицами, что всем обвинителям пришлось сконфузиться и поспешно стушеваться, а следствие было прекращено.
Так окончился одесский период моей деятельности в Добровольческой армии. Я его разделяю на две резко различающиеся части: первая – конспиративная при немцах и вторая – открытая при французах. Должен сказать, что о первой у меня сохранились гораздо лучшие воспоминания. Правда, мне пришлось работать все время под угрозой ареста и других репрессий, но обстоятельства мне все время помогали, впереди теплилась надежда на спасение родины и самая таинственность и конспиративность придавала работе романтический характер. В это время, безусловно, радостей было больше, чем огорчений. При французах, наоборот, мне ничто не угрожало, но было столько трений и всякой бесцельно сутолоки, что часто приходилось задавать себе вопрос: «Да нужно ли все это?». Везде и повсюду воцарился бюрократизм, совершенно непригодный при существующих обстоятельствах, а самое главное – это то, что люди не вкладывали душу в работу, а выполняли только видимость ее. При таких обстоятельствах невольно закрадывался в душу пессимизм, и настроение совершенно портилось.
Очень многим я обязан своим молодым помощникам, которые своей энергией, веселостью и верой в будущее всегда облегчали мне наиболее трудные моменты в моей деятельности, и я приношу им мою сердечную благодарность. На первый план я должен поставить старшего лейтенанта Машукова и капитана Соловского, а потом капитана 1-го ранга Заева, старшего лейтенанта Пашкевича и капитана 2-го ранга Рамсинова.[340]
Севастопольский период
Новороссийск
С большим трудом мне удалось достать себе помещение в Новороссийске. В городе было много беженцев, спасавшихся от большевиков и прибывших по преимуществу из Ростова и других городов, лежащих на пути Москва – Минеральные Воды. Только с помощью военного губернатора генерала Волкова[341] я раздобыл номер в гостинице «Европа», который числился за администрацией Черноморской губернии.
Я сейчас же дал телеграмму генералу Лукомскому о событиях в Одессе, о которых в Екатеринодаре еще ничего не знали, а на другой день поехал с личным докладом. Поезда между Новороссийском и Екатеринодаром ходили довольно исправно, но вагоны представляли из себя главные рассадники сыпного тифа. Я запасся карболкой и нафталином и сыпал его во время пути куда было нужно и куда не нужно. Вероятно, благодаря этим мерам предосторожности все мои путешествия по железным дорогам в это время обошлись для меня благополучно.
Приехав в Екатеринодар, я прямо отправился к Лукомскому, но он, как оказалось, только что уехал на фронт к генералу Деникину с докладом. Тогда я отправился к адмиралу Герасимову, который изображал из себя нечто вроде морского министра.
Не успел я ему вкратце рассказать о происшествиях в Одессе, как он меня перебил своей просьбой отправиться немедленно в Севастополь и помочь адмиралу Саблину[342] эвакуировать его, так как красные уже подходят и должны были взять город на днях. Герасимов давал мне четыре парохода и 5 миллионов денег для оплаты рабочим. Я не был ему подчинен и мог бы свободно отказаться от этого поручения, тем более что, принимая его без ведома моего непосредственного начальника, генерала Лукомского, я уже превышал свою власть, но в такое время нельзя было соблюдать во всем законность, и я потому согласился. Узнав впоследствии об этом случае, генерал Лукомский обиделся и на Герасимова, и на меня, и нам обоим пришлось с ним иметь неприятную беседу.
Ввиду срочности принятого мною поручения, я в тот же вечер отправился обратно в Новороссийск и на другой день, погрузив на пароход «Мечта», сделанный мною флагманским, деньги из Новороссийского казначейства и сев на него сам с Заевым и Пашкевичем, вышел в море. Остальным трем пароходам я предписал идти в Севастополь по готовности. Капитаном «Мечты» был старший лейтенант Туркул,[343] мой старый знакомый по Одессе и Дунаю, очень храбрый и распорядительный офицер, но не обладавший тактом и сдержанностью. Еще в бытность мою на Дунае у него вышла история с генералом Геруа[344] на почве нарушения дисциплины. По существу, Туркул был прав, но, несомненно, позволил себе недисциплинированный поступок. Мне стоило больших трудов тогда его выгородить.
«Мечта» давала 13 узлов хода, что для коммерческого парохода уже хороший ход, и мы пришли в Севастополь после 40 часов плавания. Я сейчас же отправился к вице-адмиралу Саблину, который жил на берегу в доме главного командира, передал ему деньги и спросил, чем могу быть ему полезен. Саблин, по-видимому, вовсе не был доволен моим прибытием, удивился, что в Екатеринодаре порят горячку, и выразил мнение, что большевики не посмеют напасть на Севастополь, охраняемый достаточными силами союзников. Я ему возразил, что Одесса дала уже пример подобного нападения и что союзники вовсе не желают драться с большевиками и, наверное, вступят с ними в переговоры. На это он ответил, что эвакуировать, кроме людей, нечего, так как все ценное уже увезено немцами в Германию, а военные припасы флота бесполезны для Добровольческой армии. На этом мы и расстались. Будучи научен опытом, я решил остаться и выждать событий, которые должны были наступить скоро. Я переселился со своими помощниками в гостиницу «Киста» и поручил им разведать, что может быть полезным для эвакуации, а пока приказал своим пароходам принять полные запасы угля, так как уголь всегда может понадобиться и никогда не будет лишним.
Будучи совершенно свободным, я отправился навестить своих знакомых. В городе все было тихо. Все надеялись на союзников, у которых было два полка, один французский, а другой из черномазых сенегальцев. Жителей успокаивало главным образом то, что незадолго перед этим французский дредноут «France»[345] уселся на камни перед самым входом в Севастополь, и ясно было, что французы не могут уйти и оставить его большевикам. Работы по его снятию с мели велись энергично, и днем и ночью, но срок окончания их еще не определился. Настроение в командах флота у французов было довольно скверное, и разгульные толпы их на берегу очень напоминали наших товарищей. Надежнее всех были черномазые.[346] На них пропаганда еще не действовала.
Так прошло совершенно спокойно три дня. За это время мы подобрали на наши пароходы, и в частности на «Мечту», несколько автомобилей и порядочное число винтовок из брошенного склада. Мои офицеры мне сообщили, что в штабе Саблина выработан план эвакуации и наши пароходы в него включены. «Мечта» назначалась для перевозки отряда[347] полковника Феодосьева, который имел специальную миссию охранять императрицу Марию Феодоровну и великих князей в Ялте. Так как императрица и великие князья, угрожаемые большевиками в беззащитной Ялте, уже эвакуировались на английские суда, отряд прибыл в Севастополь и со своим имуществом погрузился на «Мечту».
В Крыму создалось следующее положение: когда немцы начали свою революцию и Крым был брошен на произвол судьбы, генерал Деникин послал через Керчь для его защиты генерала Боровского[348] с несколькими сотнями добровольцев. Местными ресурсами отряд был доведен до трехтысячного состава, и генерал Боровский почувствовал себя в силах перейти Перекопский перешеек и занять значительный плацдарм впереди него. Долго этот отряд никто не беспокоил, но одновременно с движением на Одессу началось наступление и на него значительно превосходящими силами. Боровский вынужден был отойти за Перекоп и рассчитывал здесь удержаться, но был обойден перешедшими ночью через Сиваш большевиками и в беспорядке отступил, преследуемый по пятам, по направлению к Керчи. Ему удалось удержаться на другом, так называемом Акманайском перешейке, простреливаемом насквозь с судов флота, и там большевики и добровольцы стояли друг против друга почти два месяца.
Между тем события в Севастополе не заставили себя долго ждать.
Однажды я сидел у знакомых и мирно пил чай, как вдруг прозвучали один за другим три пушечных выстрела, что обозначало тревогу. Я поспешно отправился к себе в гостиницу и нашел там Заева, который мне сообщил, что большевистские разъезды подошли к Севастополю и вступили в перестрелку с французскими сторожевыми постами. Мы сейчас же составили с Заевым и пришедшим скоро Пашкевичем военный совет для решения вопроса, что должно делать дальше. Было решено перебраться на «Мечту», так как никто не мог поручиться, что французские большевики не впустят русских в город, и тогда нас ночью в гостинице могли зарезать как куропаток. Однако переезд на «Мечту» оказался не такой простой вещью, несмотря на то что мы были почти без всякого имущества. Прислуга из гостиницы куда-то скрылась, и нам пришлось самим тащить свои сумки и чемоданы на пристань, а ялики, всегда находившиеся в изобилии у Графской пристани, также исчезли неизвестно куда. Слава богу, докричались до стоявшей неподалеку на якоре яхты «Лукулл», и оттуда за нами прислали шлюпку. Мы перебрались сначала на яхту, а потом уже на «Мечту», вызвавши оттуда шлюпку посредством семафора.
Между тем уже стемнело, и ружейная перестрелка, вначале еле слышная, обратилась уже в настоящий бой. Французская артиллерия с Малахова кургана стреляла очередями, что в тихую прекрасную южную весеннюю ночь выходило очень эффектно. Иногда слышалось также тявканье пулеметов. Казалось, что большевики штурмуют город, но на самом деле французы были в перестрелке только с малочисленным кавалерийским отрядом.
Я долго гулял по мостику и любовался картиной ночного боя, как вдруг с крейсера «Память Меркурия», на котором, как оказалось, был адмирал Саблин, послышался его громкий голос: «На “Мечте”!». Туркул откликнулся, и Саблин в мегафон передал ему приказание сниматься с якоря и идти в Новороссийск. Мне очень не хотелось уходить в такой интересный момент, но переговариваться в рупор – это значило бы нарушать дисциплину. Саблин ответственный начальник в Севастополе, и хотя я был старше его в чине, но юридически был ему подчинен, пока нахожусь в пределах Севастопольского рейда. Нечего делать – пришлось подчиниться. Уходя, мы стукнулись о заградительный бон, так как охранительные огни не были зажжены, но, по счастью, аварии не потерпели.
Переход, как и прежде бывшие, оказался очень удачным. Погода стояла великолепная. Проходя мимо Ялты, мои пассажиры с грустью смотрели на дворцы, которые так недавно были под их охраной, а теперь переходили на разграбление к большевикам. У некоторых на глаза навертывались слезы. Впрочем, не все горевали. Другие нашли себе забаву стрелять из винтовок в копчиков, которые с берега почему-то целой стаей налетели и уселись на нашем пароходе. Пока они вели себя чинно, никто их не трогал, но когда они, видимо, проголодавшись, начали на наших глазах охотиться за маленькими пичужками, также искавшими у нас убежища и отдыха, то наша молодежь сейчас же приравняла их к большевикам и начала войну с ними. Я, впрочем, должен был вмешаться и прекратить это заступничество, так как пули портили такелаж на пароходе и могли рикошетом кого-нибудь задеть и поранить. Мы пришли в Новороссийск рано утром и приступили к выгрузке наших пассажиров.
В Севастополе французы, как и следовало ожидать, заключили договор с большевиками, что они останутся в городе до снятия с мели своего дредноута, а потом передадут город Советам. Уходя, они затопили все русские подводные лодки, а дредноут и несколько исправных миноносцев увели на буксирах в Константинополь.
По приходе в Новороссийск я сейчас же снова поехал в Екатеринодар с докладом к Герасимову и в этот раз пробыл там два дня. Публика там была в довольно тревожном настроении, так как большевики вели сильное наступление с двух сторон. Наиболее угрожаемым пунктом была станция Тихорецкая, куда направлялся главный удар большевиков. Они стремились отрезать Кубань от Дона и для этого сосредоточили две дивизии пехоты и дивизию конницы под начальством своего Мюрата[349] – вахмистра Думенко.[350] Штаб Деникина, впрочем, был совершенно спокоен, так как у Тихорецкой были сосредоточены все наши резервы, а наша конница вдвое превосходила большевистскую не только уменьем, но и численностью. Когда разыгралось наконец сражение, то большевики были разбиты наголову и обратились в беспорядочное бегство.
В Екатеринодаре я повидался с Анной Николаевной Алексеевой, которую после смерти мужа я видел в первый раз. Она не упала духом и была поглощена благотворительной помощью семьям добровольцев и красно-крестовскими делами. Я ей пожертвовал для благотворительного базара часть серебряных вещей, оставшихся у меня после адмирала Веселкина, который их употреблял для подарков румынским властям за различные услуги, когда Румыния еще не выступила совместно с нами. Анна Николаевна слегка подтрунивала над Деникиным и его приближенными, говоря, что они изменились и стали важными людьми.
В Екатеринодаре я встретил и Гришина-Алмазова, собиравшегося ехать к Колчаку, но не кружным путем морем, а через Каспийское море и Уральскую область, чтобы таким образом устроить связь между ним и Деникиным. Он предполагал сделать этот путь на двух грузовых автомобилях, в сопровождении неизменного Масловского и 20 человек татар – своего бывшего конвоя. Когда явилась возможность осуществить этот план, т. е. после очищения от большевиков Терской области, он сделал большую ошибку, отказавшись от английского конвоя парохода, на котором он перевозил свою экспедицию через Каспийское море.
Англичане, в то время подошедшие к Баку с юга, завладели нашей Каспийской флотилией, состоявшей из двух маленьких канонерских лодок «Карс» и «Ардаган» и нескольких казенных пароходов, служивших для военно-транспортных целей в Каспийском море. Пароходы сейчас же были вооружены артиллерией, привезенной на грузовых автомобилях с английской речной флотилии на Тигре и Евфрате, личный состав был взят оттуда же, и англичане через две недели после занятия Баку сделались фактическими владыками Каспийского моря. Большевики попробовали у них оспаривать это владычество и отправили из Астрахани в устье Урала десант под конвоем четырех миноносцев и пяти вооруженных пароходов. Начальник английской флотилии, узнав об этом, сейчас же отправился туда же и атаковал большевистскую флотилию, когда она свезла десант и беспечно стояла на якоре. После получасового боя, причем англичане не понесли никаких потерь, большевистские суда частью затонули, а частью выбросились на берег.[351] Преимущество в силах было на стороне большевиков, но умение сделало все дело.
Рассчитывая, вероятно, что после такого поражения большевики не рискнут высунуть свой нос в море, Гришин-Алмазов отклонил предложенное ему со стороны англичан конвоирование и пошел из Петровска на Урал на грузовом невооруженном пароходе, но большевистский шпион, вероятно, действовал отлично, и он попал прямо в руки миноносца, посланного из Астрахани. Гришин-Алмазов и Масловский оба застрелились, а их команда была взята в плен. Жаль их обоих. При нашем безлюдье оба они выделялись из толпы и могли бы еще принести пользу.
Воспользовавшись случаем, я представил отчет Лукомскому по Одесскому центру и вскоре получил от него благодарность за аккуратное ведение дел.
Признаться следует, что я был почти совершенно ни при чем, так как всегда питал отвращение к канцелярским делам, а потому благодарность всецело принадлежала моему начальнику штаба полковнику Ильину и делопроизводителю полковнику N (забыл фамилию). Кажется, впрочем, что отчет о делах и израсходованных суммах представило очень немного лиц.
Окончив свою работу в Одессе, я фактически остался без дела, а в такое время, когда каждый человек был на счету, всем нужно было работать, чтобы помогать общему делу. Однако у меня явилось привходящее обстоятельство – здоровье моей жены, которой было необходимо сделать операцию. Я решил, что могу посвятить некоторое время своим личным делам, и попросил у генерала Лукомского двухмесячный отпуск. Дело в том, что я узнал о прибытии в Кисловодск бывшего лейб-хирурга Отта,[352] слава которого гремела по всей России. Я решил ехать в Кисловодск и там делать жене операцию. Про Минеральные Воды ходили в то время фантастические слухи: говорили, что большевики там развели невообразимую грязь и что там сыпной тиф косит людей как траву. Говорили также про грабежи и разбои. Принимая все это во внимание, я решил выждать более точных сведений и поехал в Новороссийск до выяснения всех обстоятельств.
Главная жизнь в Новороссийске в то время сосредоточивалась на базе Добровольческой армии. База представляла из себя огромный склад всевозможных запасов, привозимых англичанами на своих пароходах. Нужно сказать правду, что сумбур там царил невероятный: англичане везли не то, что было нужно добровольцам, а то, что не нужно было им самим вследствие окончания войны. Тут было и обмундирование, и боевые запасы, нам не подходившие, и консервы и госпитальные принадлежности, и танки, и Бог знает еще что. Все это складывалось в кучи в огромных зернохранилищах и очень плохо охранялось от всевозможных хищников, ходивших вокруг как волки около стада. Главный начальник базы, полковник князь Эристов, был совершено не на высоте и в скором времени был предан суду. Насколько мне известно, дело снабжения не было упорядочено до самого окончания Гражданской войны. Причина этому ясная. Прежние бюрократические рутинные приемы совершенно не были пригодны для новой обстановки. Тут нужны были энергичные и честные люди – патриоты, а не канцелярские бумаги, отношения и циркуляры, а людей-то как раз и не было.
В Новороссийске я нашел некоторых знакомых. Мой коллега по Одессе Пильц заведовал устройством беженцев и, надо ему отдать справедливость, распоряжался умно и энергично. В короткое время ему удалось частью разместить, а частью отправить в другие места всех не имевших приюта и слонявшихся по городу людей. У меня были небольшие внеучетные суммы, врученные мне после разных благотворительных вечеров в Одессе, и я охотно помог ему в снабжении неимущих небольшими пособиями. Там же я встретил игравшую перед войной некоторую роль графиню Игнатьеву.[353] У нее в Петербурге был духовно-политический салон, имевший большое влияние на назначения по ведомству Святейшего Синода. Все молодые карьеристы из черного и белого духовенства, жаждущие мест епископов и других подобных, считали необходимым бывать у нее. Говорили также о ее близости с Распутиным, но это кажется не совсем справедливо. Графиня теперь жила в одной комнате, бывшей когда-то лавкой, но и в этом падении не отставила своих замашек. Она всячески наседала на епископа Новороссийского Сергия,[354] который, вероятно, по старой памяти, считался с ней и исполнял ее прихоти.
Минеральные Воды
После двухнедельного пребывания в Новороссийске я наконец тронулся в путь. Мне удалось достать отдельное купе, и поездка совершилась с полным комфортом. Конечно, поезда ходили не по определенному и точному расписанию, а примерно вдвое дольше, чем до войны, но тем не менее должен сказать, что железная дорога у добровольцев работала в это время исправнее, чем где-либо в России. В пути не произошло ничего особенно интересного, и мы прибыли в Кисловодск вполне благополучно. К моему удивлению, мы нашли там полный порядок: все было выметено и вычищено. От большевиков осталось только одно печальное воспоминание – это начисто вырубленная тополевая аллея, бывшая украшением и гордостью Кисловодска. Оказывается, товарищам было лень ходить далеко за дровами, и каждый рубил себе дерево, находившееся от него в ближайшем расстоянии.
Я достал себе номер в «Гранд-отеле», и мы отправились с женой обедать. Обед был прекрасный, и цены оказались процентов на 30 ниже, чем в Новороссийске. В особенности дешева была икра, от которой в Одессе мы уже успели отвыкнуть. Фунт икры стоил 40 рублей, когда обед из двух блюд стоил 15.
Я в первый раз был на минеральных водах, что вполне понятно при моей специальности. Мы, моряки, знаем очень хорошо заграничные страны и очень мало свое отечество. Публики было еще очень мало, что объяснялось ходившими о Минеральных Водах слухами. Ведь здесь более полугода была главная квартира большевистского Северного Кавказа. Рассказы об их пребывании здесь были еще совсем свежие. Товарищи жили здесь вполне в свое удовольствие, по-буржуйски, много пьянствовали, ничего не делали и разводили грязь. Один раз нарушил их благодушное настроение генерал Шкуро, явившись совершенно неожиданно со своими казаками, с которыми он скрывался в горах перед Кисловодском.
Захваченные врасплох товарищи побежали кто куда мог, несмотря на то что их было в десять раз больше, чем казаков у Шкуро. Шкуро похозяйничал два дня в Кисловодске, повесил нескольких не успевших удрать большевиков, взял все деньги из казначейства, раздобылся патронами, которых у него совсем не было, и ушел опять в горы, не дожидаясь контратаки большевиков, сосредоточивших против него большие силы. Большевики удовлетворили свою злобу тем, что зверски изрубили саблями несколько десятков неповинных буржуев, в числе коих были генералы Рузский, Радко-Дмитриев и другие известные лица. На Минеральных Водах главенствовали одна еврейка и поляк Андрживский.[355] Оба они были повешены добровольцами, так как были обнаружены в числе скрывавшихся после занятия Минеральных Вод Деникиным. Про еврейку рассказывали, что она была очень красива, элегантно одевалась и занималась специально провокацией. Она знакомилась с богатыми людьми, кутила с ними, а потом сажала в тюрьму и расстреливала. Совсем что-то вроде лермонтовской царицы Тамары.
Попав после долгой и тяжелой службы в первый раз на полную свободу, я почти все мое время проводил в парке, брал ванны из нарзана и пил какую-то тухлую воду из источника, прописанную мне для порядка местным доктором. Раз попал на Минеральные Воды, то надо же было что-нибудь пить. Вначале моего пребывания в Кисловодске было совсем тихо и скромно, но вскоре понаехала публика, откуда-то появились красивые и богатые дамские туалеты, в ресторанах заиграла музыка, и старожилы стали уверять, что становится совсем похоже на мирное доброе старое время. С фронта шли все время хорошие известия, Деникин объявил после взятия Царицына поход на Москву, и настроение поднималось все выше и выше. В магазинах Освага[356] появилась выставленная в окнах карта, где наглядно изображался район, занятый Добровольческой армией, и этот район с каждым днем все расширялся и расширялся. Осваг выставил в окнах также большой плакат, на котором было написано «Что вы сделали сегодня для Добровольческой армии?» Тем не менее никто ничего не делал, а думал только о себе самом.
После недельного пребывания в Кисловодске я перебрался по совету врачей в Ессентуки. Там было гораздо проще и скромнее, так как были и действительно больные. С крыши гостиницы «Орлиное Гнездо», где я поселился, открывался в ясную погоду чудный вид на весь Кавказский хребет. Красовался Эльбрус, но были видны и Казбек и прочие снежные вершины. По вечерам на крыше собиралось целое общество, там пили чай и вино и говорили о войне и политике. Публика состояла из московских и харьковских буржуев, и забавно и грустно было слушать, как они критиковали Деникина и Колчака, которые обязаны были защитить их животы и капиталы, ради сохранения которых они сами не успели и не хотели пожертвовать даже полушкой. Помню, как один помещик каждый день высчитывал, сколько верст еще осталось добровольцам, чтобы дойти до его имения, куда он собирался тогда ехать, чтобы прописать кому следует.
Когда Деникин объявил принудительную мобилизацию офицеров, то на Минеральные Воды сразу поехали различные мнимые больные, которые много пили и свидетельствовались в каких-то комиссиях. В это время почти все были уже развращены революцией, и любое свидетельство за деньги достать было легко. Приезжали на побывку и новоявленные знаменитости. Генерал Шкуро явился с целым поездом, на вагонах которого были нарисованы волчьи головы. Он имел не только своих музыкантов, но даже концертных певцов, которые пели во время его дебошей и кутежей в ресторанах каждую ночь до утра. За стол с ним садилось не менее 20 человек, и он платил не считая. Откуда были эти деньги? Так революция развращала безусловно храбрых и талантливых людей, которые при твердых правилах и выдержке могли бы оказать большие услуги своей родине. После месяца беспросыпного пьянства и всяких дебошей Деникину удалось наконец вызвать его на фронт, но это был уже другой человек. После первого же боя его кавалерийский корпус в панике бежал от Буденного.[357] Правда, и казаки были уже не те, что в начале Гражданской войны. Они думали только о спасении награбленного имущества в своих обозах и драгоценностей, зашитых в своих платьях. С такой ношей трудно ожидать самоотверженных атак. И все же виноваты не они, а их начальники, показывавшие им пример.
Наряду с безрассудным швырянием денег шкуровцами, мне пришлось увидать и противоположные примеры крайней бедности. Я случайно узнал, что в Пятигорске живет вдова доблестного адмирала Эссена, командовавшего Балтийским флотом во время войны, и поехал ее навестить. Мне сказали ее адрес, и когда я ехал на извозчике, отыскивая на грязной улице ее дом, я увидел сгорбленную старую женщину в лохмотьях, идущую по улице. Я остановил извозчика, чтобы ее спросить, и вдруг заметил, что она как-то странно на меня смотрит. Это и была адмиральша фон Эссен. У меня слезы брызнули из глаз. Оказалось, что она была судомойкой в столовой, где ее дочь была прислужницей за столом. Она состарилась на двадцать лет, потеряв на войне почти одновременно мужа, сына и зятя. Вынужденная бежать из Петербурга при захвате его большевиками, она прожила бывшие у ней небольшие деньги и теперь добывала средства к существованию тяжелым трудом. Переговорив с ней, я дал ей чуть не насильно тысячу рублей, так как она отказывалась брать, и сейчас же написал письмо Герасимову об ее ужасном положении. Тот немедленно прислал пять тысяч и обещал ежемесячно давать по тысяче. Когда она вместе с дочерью приехала меня благодарить в Ессентуки, это уже снова была дама, хотя горе и печаль наложили на нее неизгладимые черты.
При мне в Ессентуках состоялся большой круг Терского казачьего войска, на котором, как и на всех подобных учреждениях того времени, выказалась полная наша политическая незрелость. Вместо того, чтобы дружно объединиться вокруг общей цели – борьбы с большевизмом, казаки разбились на группы и занялись мелкими личными счетами и политикой, что приводило к совершенно праздным разговорам и потере времени.
После круга состоялся съезд трех атаманов, Донского, Кубанского и Терского. Тут прошло все гладко и, кажется, больше пировали, чем разговаривали. Я заходил в вагон атамана Богаевского и разговаривал с ним. Богаевский был неглупый человек, но слабохарактерный и легко поддающийся посторонним влияниям. Конечно, ему было очень далеко до своего предшественника Краснова. Тот представлял из себя силу, а Богаевский был простым игралищем в руках партийных дельцов.
В июле я был неожиданно вызван в Таганрог, куда была перенесена Ставка главнокомандующего, и поспешил поехать, так как мне уже надоело толкаться без дела, однако, к моему удивлению, адмирал Герасимов, меня вызвавший, очень извинился за беспокойство и сказал, что это произошло по недоразумению. Потом я узнал, что в Таганроге были недовольны Саблиным, который в это время уже снова командовал в Севастополе, так как Крым был уже оставлен большевиками, и решили назначить меня на его место, но Саблин приехал и успел реабилитироваться. Так как моя жена еще не оправилась от своей болезни, я решил вернуться в Ессентуки, чтобы после ее выздоровления взять любое место, которое мне представится.
В это время Добровольческая армия была в апофеозе своей славы. Войска шли вперед почти без сопротивления. Высчитывали уже время, когда займут Москву, и даже обсуждали церемонию торжественного въезда. Даже многие офицеры, бившие баклуши в тылу, спешили вернуться в свои части, чтобы можно было сказать, что и они пахали. Я недолго прожил в Ессентуках и в начале августа получил телеграмму от своего сослуживца и бывшего флаг-офицера из Таганрога, гласящую, что я на днях буду назначен командующим флотом Черного моря. Я не особенно поверил этой телеграмме, так как мои отношения с Герасимовым были самые безразличные, а Деникин лично меня не знал, однако через несколько дней мой вызов в Таганрог повторился. Я сейчас же поехал и теперь уже на вокзале был встречен чающими движения воды несколькими офицерами с поздравлениям по случаю нового назначения. Я сейчас же поехал к Герасимову, и он мне официально заявил, что я назначаюсь командующим флотом, а Саблин остается главным командиром Севастопольского порта с подчинением мне. Он мне при этом сказал, что со своей стороны настаивал на смене Саблина, о чем писал и адмирал Колчак, но что главнокомандующий придумал эту комбинацию, чтобы не обижать Саблина.
Признаюсь, эта комбинация для данного времени была действительно самая неудачная, так как один из нас двоих был безусловно лишним и, конечно, командующий флотом, так как флота еще не было, а были отдельные испорченные за время революции суда, которые нужно было все отремонтировать и поставить в строй. Во время войны и до нее у нас действительно существовала подобная же организация, но тогда командующий флотом предводил в бою и занимался операциями, тогда как главный командир был начальником тыла. Теперь же операций почти не было.
Однако рассуждать мне не приходилось, а нужно было исполнять то, что приказывают. На другой день я представился генералу Деникину.
Главнокомандующий жил в Таганроге в обстановке, уже более соответствующей его высокому званию, но все же весьма скромно. Он занимал небольшой особняк, просто меблированный, любил гулять пешком, без всякой свиты, и развлекался купанием в море. Аудиенция была непродолжительная: я присутствовал при докладе адмирала Герасимова, по окончании которого генерал Деникин выразил мне надежду, что я приведу флот в порядок. На этом мы и простились. Далее начались переговоры с адмиралом Герасимовым относительно составления штатов штаба. Начальником штаба ко мне был назначен контр-адмирал Бубнов, человек очень талантливый, но склонный к интригам. Впоследствии мне пришлось сильно пожалеть, что я согласился на это назначение, но в то время выбирать было чрезвычайно трудно, так как я почти не знал личного состава Черноморского флота. Флаг-капитаном по оперативной части Герасимов мне подсунул капитана 2-го ранга Родионова,[358] от которого он хотел избавиться сам. Это был человек неглупый, но с огромным самомнением. Остальных офицеров мне предоставили выбрать самому в Севастополе.
В Таганроге я пробыл два дня в различных хлопотах и успел повидать некоторых знакомых: генерал Трухачев, мой сослуживец по Ставке, был дежурным генералом в штабе главнокомандующего и жил с семьей в хорошей и удобной квартире. Генерал Тихменев, также сослуживец по Ставке, был начальником военных сообщений. Генерал Лукомский был председателем совета при главнокомандующем, составленного из общественных деятелей. Мне пришлось даже присутствовать на одном из заседаний совета, когда обсуждался вопрос о распределении мариупольского угля между различными учреждениями и в том числе флотом. Совет состоял из нескольких десятков членов. Первую скрипку в нем играли кадеты Федоров[359] и Астров[360] и, по мнению многих, приносили немало вреда. Этот совет, будучи совещательным органом при главнокомандующем, выполнял функции законодательного учреждения, и ему приписывают бюрократизацию и омертвение живого организма Добровольческой армии, действовавшего прекрасно, пока армия была маленькой и все было основано на доверии.
Как я уже упоминал, телеграфная и почтовая связь во время Гражданской войны действовала очень неисправно, вследствие чего централизация была физически невозможна, а совет, памятуя прежние российские порядки, не хотел считаться с новыми условиями жизни.
Кажется, на другой день моем по приезде в Таганрог я рано утром сидел и пил кофе на террасе гостиницы, как вдруг услышал свое имя с улицы. Оборачиваюсь и вижу какого-то старичка в поношенном штатском платье и довольно жалкого вида.
– Не узнаёте?
– Нет.
– Юрий Данилов.[361]
– Да что вы говорите!
Присмотревшись, я, конечно, узнал его, но как он переменился за два года, что я его не видел. Почти совершенно седая голова и худоба, как у голодающего индуса. Он, конечно, сейчас же подсел ко мне и рассказал свою историю. Он служил у большевиков, участвовал при заключении Брест-Литовского мира, а когда началась гражданская война, то сбежал от них и с большими затруднениями и опасностями пробрался на юг, в армию Деникина. Он подал прошение о приеме на службу и ожидал решения комиссии, которая занималась специально разбором поведения генералов и офицеров, служивших у большевиков.
На эту комиссию было очень много нареканий, и многие считали ее вредной для дела. С своей стороны, думаю, что это чрезвычайно деликатный вопрос. Большевистские шпионы кишели повсюду, и притом среди них были лица всевозможных профессий до царских генералов включительно. И тот и другой лагерь изобиловали провокаторами. Это по преимуществу были азартные игроки, которые ставили на карту свою честь и жизнь и иногда ухитрялись делать это несколько раз, переходя из одного стана в другой. Комиссия должна была браковать сомнительных лиц, но благодаря трудности подобной работы плохо разбиралась в делах и часто браковала хороших людей и весьма вероятно пропускала негодяев.
Хороших работников в администрации Юга России было вообще чрезвычайно мало, а потому, мне кажется, было бы выгоднее брать без строгой и обидной политической проверки, но зато следовало бы иметь хорошую контрразведку и беспощадно карать за провокаторство и измену. К сожалению, у нас контрразведка хромала на обе ноги. Туда брали отъявленных мерзавцев, которые за деньги были готовы служить кому угодно, хотя бы самому сатане. Конечно, были и исключения, о чем я скажу дальше.
Возвратился я в Ессентуки уже с удобствами, в отдельном купе. Мои сборы были недолгие. На другой день я и Бубнов, взяв свои семьи, выехали в Новороссийск. Дорога прошла вполне благополучно, но на одной станции ночью нам пришлось задержаться, так как на соседнем пути пылали шесть вагонов-цистерн с керосином, и пожар был так силен, что опасались везти мимо поезд, чтобы он также не загорелся. По-видимому, это были проделки большевиков, всячески старавшихся пакостить в тылу Добровольческой армии. Картина пожара была очень красивая, но наводила на печальные размышления. Троцкий сыпал деньгами, благо, печатный станок работал без отказа, и его агенты действовали повсюду, а у нас был введен режим строгой экономии и старались урезать каждую копейку, хотя печатные станки действовали и у нас.
В Новороссийске меня встретил командир порта контрадмирал Клыков[362] со списком нужд Новороссийского порта, удовлетворить которые, конечно, не было никакой возможности. Там действовал уже не военный губернатор, а главнокомандующий генерал Добророльский[363] с большими правами. Начальником штаба у него оказался мой старый знакомый по Измаилу полковник Кардашенко, и то, что он мне рассказал про свое начальство, можно было бы охарактеризовать двумя словами: «скверный анекдот». Я лично не был знаком с генералом Добророльским, но слышал, что он занимал высокие места в военной администрации, почему меня чрезвычайно поразил рассказ Кардашенко, но другие мои знакомые и сослуживцы подтвердили мне все им сказанное. Впоследствии в эмиграции генерал Добророльский явно продался большевикам и играл скандальную роль на процессе Конради[364] в Женеве.
Приходится заключить, что при старом режиме многие люди ходили в масках, а когда грянула революция, маски были сброшены, и они показались в своем настоящем неприглядном виде. По счастью, еще находились и люди без масок. В том же Новороссийске помощником начальника базы по морской части был капитан 1-го ранга Хоматьяно. Человек уже 60-ти лет, он с утра и до ночи бегал и работал как вол, стараясь изо всех сил наладить разгрузку пароходов и размещение привозимых грузов для нужд армии, получая при этом ничтожное вознаграждение. Если бы таких людей нашлось в тылу армии хотя бы несколько сотен, поход Деникина на Москву наверное увенчался бы успехом.
Севастополь
На рейде меня ожидал присланный адмиралом Саблиным в мое распоряжение пароход «Цесаревич Георгий». Он был под Андреевским флагом и имел легкую артиллерию. Мне показалось неловко путешествовать одному на таком большом корабле, и я разрешил командиру принять на борт пассажиров, желающих плыть в Севастополь, кроме спекулянтов, делавших в это время прекрасные для их кармана, но по существу темные дела.
Переход был, как и почти всегда в это время года, прекрасный. После двух дней плавания мы около 9 часов утра вошли на Севастопольский рейд и стали на якорь против Графской пристани. Меня встретил Саблин и водворил в дом главного командира. Мне был предоставлен верхний этаж, а в нижнем помещался мой штаб. В прежние времена, т. е. до революции, командующий флотом занимал весь дом, но мне было с излишком довольно и верхнего этажа. В сущности говоря, мне нужны были только две комнаты, служебный кабинет и спальня, а у меня были еще громадный зал, такая же гостиная и столовая, где можно было посадить за стол человек тридцать.
Сверх ожидания большевики очень мало попортили как мебель, так и стены дома. Здесь помещался Совет рабочих, солдатских и матросских депутатов и никто не жил, чем, вероятно, и объясняется относительная сохранность помещений. Должен, впрочем, сказать большевикам еще один комплимент: в прежние времена, еще до Крымской войны, через всю южную бухту между городом и портом был установлен большой понтонный мост, очень удобный для сообщения и сильно сокращавший дорогу для служащих и рабочих, как в порту, так и в госпитале. Когда наш флот снова возродился после Крымской войны, мост не восстановили, и все мелкие служащие в порту или госпитале должны были или тратиться на наем шлюпки, или путешествовать кругом всей бухты, что составляло весьма порядочный конец. Начальство, имевшее свои шлюпки, этих неудобств, конечно, не ощущало. Большевики восстановили этот мост, за что, конечно, рабочие были им очень благодарны.
Теперь перейду к описанию того вида, в котором я застал все учреждения морского ведомства.
Материальный состав
Главные силы флота к началу революции состояли из двух дредноутов: «Императрица Екатерина II» и «Император Александр III». Третий дредноут, «Императрица Мария», в 1916 году, вследствие взрыва погребов, затонул в Северной бухте, затем в перевернутом виде был поднят частной русской компанией при содействии порта и введен в таком виде в док, где и стоял до настоящего времени в ожидании решения, что с ним делать. «Императрица Екатерина» была взорвана и утоплена поблизости Новороссийска по приказанию Совета народных комиссаров из Москвы в 1918 году, когда немцы угрожали Новороссийску.[365] «Император Александр III», переименованный большевиками в «Волю», был уведен союзниками в Константинополь, когда они покинули Севастополь в 1919 году, и стоял там в бухте Измид под охраной английского караула. Пять броненосцев додредноутского типа «Евстафий», «Иоанн Златоуст», «Пантелеймон», «Три святителя», «Ростислав» стояли ошвартовавшись в Южной бухте. Союзники, уходя из Севастополя, чтобы их обезвредить, взорвали в машинах цилиндры высокого давления, что выводило эти корабли из строя минимум на год. Из трех крейсеров «Кагул», «Память Меркурия» и «Прут» последний был передан туркам немцами, как принадлежавший им прежде, «Память Меркурия» стоял в порту с негодными котлами, а «Кагул» был укомплектован Добровольческой армией и находился в относительной исправности. Он был переименован в «Генерала Корнилова». Это было единственное крупное судно в составе Добровольческого флота. Далее, в состав флота можно было зачислить четыре нефтяных и четыре угольных миноносца, но только по производстве основательного ремонта. Подводных лодок вполне исправных было две, и еще три могли быть исправлены. Вот и все, что осталось от боевого флота, погубленного, главным образом, большевиками, а частью нашими союзниками из опасения большевиков.
Личный состав
Личный состав флота в значительной части разбежался после декабрьских убийств офицеров в Севастополе. Убежали почти все энергичные люди, которые не могли согласиться играть жалкую роль, предоставленную им большевиками. Когда Севастополь был занят немцами, офицерство попробовало объединиться вокруг адмирала Канина, но это был профессиональный союз на коммерческом основании, вроде одесского союза генерала Леонтовича, тем не менее многие офицеры получили возможность, правда полуголодного, но все же возможного существования: офицерские артели грузили уголь на пароходы, пилили дрова и т. д. Когда немцы потерпели поражение, адмирал Канин вошел в соглашение с Крымской республикой, и флот был объявлен крымским. Была принята форма времен Керенского, и Канин объявил нейтралитет как по отношению к добровольцам, так и по отношению к украинцам и, кажется, даже к большевикам. Общее настроение было близкое к партии эсеров.
Такое неопределенное положение не могло долго продолжаться. Генерал Деникин, конечно, не признал нейтралитета Канина, и высаженный в Севастополе отряд генерала Боровского ликвидировал без сопротивления новую эсеровскую республику и объявил Крым и флот добровольческими. Адмирал Канин тогда собрал своих приверженцев, захватил пароход, который назывался, кажется, «Иерусалим», и отправился на нем в Константинополь, где основал новое пароходное общество. Генерал Деникин хотел его предать суду, но Канин благоразумно на территорию добровольцев не возвратился и написал дерзкое письмо главнокомандующему, в котором опирался на свое звание члена Государственного совета, а генерала Деникина третировал как выскочку.
В руках добровольцев понемногу началось налаживание флота. Первым добровольческим военным судном была лодка «Тюлень», а за ней последовали и другие суда.
Уход союзников из Севастополя под напором большевиков снова расстроил начавшееся дело. Все суда, которые могли выйти в море, ушли в Новороссийск, но их было ничтожное количество: крейсер «Корнилов», два-три старых миноносца, канонерская лодка и это все. Через два месяца добровольцы вернулись, и работа началась сначала.
Когда я прибыл в Севастополь, офицеров там уже было довольно много: все должности как в учреждениях, так и на судах, были заняты. Много пожилых офицеров не находили себе применения и находились в резерве, т. е. получали минимальное жалованье.
Так же, как и повсюду в России, общее настроение можно было характеризовать следующим образом. Настроение офицерской массы, в особенности среди пожилых офицеров, было пассивно-выжидательным. Они не понимали важности момента борьбы за существование, как за свое собственное, так и Русского государства. Все надеялись, что все образуется без их участия и на их долю останется только пользование плодами чужих усилий. На основании этой психологии работа велась в бюрократическом темпе и выражалась, главным образом, в писании отношений и отписок. Многие считали себя обиженными, потому что не получили соответствующего служебному стажу места, и потому саботировали. Молодежь, конечно, не принадлежала к этой категории, но у нее был другой важный недостаток: революция всех разнуздала, все спешили жить и наслаждаться; может быть, и долгие годы Великой войны, и сопряженные с нею лишения влияли на настроение молодежи, но она потеряла равновесие и дисциплину.
Система комплектования судов в Севастополе была следующая: каждый командир набирал себе команду из всех, кого он желает. Офицеры были кадровые, их было всегда сверх комплекта, а нижние чины состояли и из старых матросов, и из солдат, и из бывших гимназистов и студентов. Старались иметь одну треть состава из интеллигенции, что обеспечивало вполне политическую благонадежность команды. Такой разношерстный состав, конечно, нужно было систематически и долго обучать, а для этого не было времени, так как требования, предъявляемые главным командованием к флоту, как мы увидим, были большие, и следствием этой неподготовленности личного состава были постоянные поломки и аварии.
Конечно, среди офицеров обеих категорий были и блестящие исключения, работавшие вполне сознательно и не за страх, а за совесть, но, к сожалению, таких было не много.
Порт
Для того чтобы воссоздать из полуразрушенного состояния флот, нужен был благоустроенный и хорошо снабженный порт. К сожалению, этого не было. К началу революции Севастопольский порт был, что называется, полная чаша. Он был обильно снабжен всеми материалами и имел обширный кадр квалифицированных и опытных рабочих. С началом революции, конечно, началось расхищение, что касалось, главным образом, одежды, белья, всяких материй и запасов провизии. После того, как главным занятием рабочих стала политика, конечно, и работоспособность порта упала на 75 %. Должен, впрочем, сказать, что севастопольские рабочие представляли наиболее консервативный элемент в Совете рабочих, солдатских и матросских депутатов, и они не раз вступали в конфликт с разнузданной матросской массой. Они были против всяких убийств и насилий, устроенных дважды приезжими из Петербурга агитаторами, и их севастопольские демагоги часто с целью оскорбить называли буржуями.
Главный урон Севастопольскому порту нанесли, впрочем, немцы. Они систематически вывозили все им полезное в Германию. Целые серии поездов, груженных всевозможными запасами, ежедневно направлялись к австрийской границе. Нуждаясь в меди, бронзе и других материалах, немцы снимали с кораблей все медные части, обдирали с каютной мебели кожу, брали скатерти и занавески и т. д. Грабеж был систематический, и все отправлялась «нах фатерланд». После ухода немцев французам уже ничего не оставалось грабить. В противоположность немцам, где грабеж носил государственный характер, тут грабили, что оставалось, отдельные лица. Даже греки успели кое-чем поживиться и утащили императорский гребной катер.
Адмирал Канин преобразовал порт на социалистических началах: во главе был директор, но рабочие работали по коллективному договору и дисциплинарная власть, прием и увольнение зависело от правления профессионального союза. С точки зрения политической в такое тревожное время – это нововведение было, пожалуй, и недурно. Рабочие, будучи сами хозяевами, были довольны порядками, объявили политический нейтралитет как по отношению к большевикам, так и к добровольцам, и их правление интересовалось почти исключительно хозяйственными делами, устройством кооператива, закупкой картошки и т. д. Что касается до продуктивности работы порты, то, как я уже говорил, ее нельзя было оценивать больше, чем в 25 % дореволюционной.
Госпиталь
В Севастополе был госпиталь первого разряда, в котором во время войны лечилось много раненых с фронта, главным образом, из рядов Кавказской армии, которые доставлялись из Трапезунда на санитарных пароходах под флагом Красного Креста. Личный состав врачей был там вполне достаточен, но госпитальное имущество было в самом несчастном состоянии. Медикаментов было мало, а главный недостаток был в белье, как постельном, так и носильном. Больные лежали на грязных матрасах без простынь, в которых кишели вши и откуда разносилась эпидемия сыпного тифа. Между тем белья нельзя было ни купить, ни достать.
Крепость
Севастопольская крепость во время войны была подчинена командующему флотом. Во время революции она также подверглась расхищению и разорению. Личный состав разбежался, и коменданту, назначенному генералом Деникиным, стоило больших трудов, чтобы сформировать нужные части для управления. На батареях было по нескольку человек, стороживших имущество, которое не стоило красть и увозить по причине его бесполезности, как, например, старые пушки, лафеты и проч. Новый комендант генерал Субботин[366] старался устроить что-либо похожее на гарнизон, но выходило слабо. В материальном отношении крепость была так истощена, что когда понадобилось укреплять Перекопский перешеек, в ней не нашлось даже проволочных заграждений и шанцевого инструмента.
После подробного ознакомления с делами передо мной вырисовались следующие задачи:
1) Укомплектовать личным составом все суда, как вступившие, так и готовящиеся вступить в строй.
2) Обучить этот личный состав настолько, чтобы он мог плавать на судах и маневрировать без постоянных аварий.
3) Организовать возможно скорейшее исправление судов.
Все эти задачи в настоящих условиях требовали большого напряжения и представляли много затруднений.
Так как репутация многих офицеров была под сомнением из-за их поведения при большевиках, я решил при укомплектовании судов офицерским составом применить обычай, укоренившийся в гвардейских полках, т. е. офицерам предоставлялось право браковать желающих поступить на корабль кандидатов. Эта мера сразу дала хорошие результаты: появилась сплоченность, товарищество и известная гордость своим кораблем.
Гораздо труднее был вопрос об обучении личного состава.
Я прибыл в Севастополь 23 августа, а 24-го в Морском собрании мне представлялись командиры судов и начальники частей и учреждений порта.
Всем было известно, что мое назначение было вызвано недовольством адмиралом Саблиным, но факт оставления Саблина в должности создавал вредное двоевластие, и нужно было много такта, чтобы устроить наши отношения таким образом, дабы сразу же не произошло конфликтов. В своей вступительной речи я постарался позолотить пилюлю, преподнесенную Саблину, и, кажется, в этом успел, так как и он, и его сторонники отнеслись ко мне весьма корректно. Теперь я сознаю, что сделал ошибку. Мне следовало поставить Герасимову вопрос ребром: или я, или Саблин. Из компромиссных решений редко бывает что-либо путное. В конце концов обстоятельства заставили меня вмешаться в дела, не только входящие в компетенцию Саблина, но и генерала Субботина, и с обоими отношения испортились.
Во время длительной войны все суда износились и требовали капитального ремонта. Революция их доконала окончательно, и вот эти с разболтанными механизмами суда попадают в руки совершенно неопытного личного состава, почему аварии следуют за авариями. Для обучения и приведения всего в порядок нужно было время, а его-то как раз и не было. Генерал Деникин предъявлял к флоту большие требования. Нужно было держать стационера в Константинополе, два миноносца в Одессе для патрулирования берегов, два в Азовском море для той же цели и, наконец, отряд судов для содействия нашим войскам на Кавказском побережье, действующим против грузин, постоянно беспокоивших наши части, оберегавшие Сочи.
Политическая часть у генерала Деникина вообще хромала. Он не шел ни на какие компромиссы и был готов воевать со всеми. Вместо того чтобы, помня главную задачу, – борьбу с большевиками, по возможности установить корректные отношения с петлюровцами, грузинами, черкесами и другими народностями, отложив расправу с ними до более благоприятного времени, он требовал от них полного подчинения во имя Единой и неделимой России, чем только ослаблял себя на главном фронте. Своей заносчивостью он отвратил от себя и французов и лишился их помощи в самое тяжелое время.
Благодаря постоянным требованиям на суда они никогда не успевали произвести должный ремонт и постоянно требовали исправлений.
С моей стороны также была сделана ошибка. Мне следовало вооружить наскоро побольше небольших коммерческих пароходов с грубыми механизмами и ими обслуживать Добровольческую армию, исподволь подготовляя и приводя в порядок миноносцы с их деликатными механизмами. Мне пришло в голову это средство очень скоро, но я встретил препятствие со стороны адмирала Герасимова, именем главнокомандующего требовавшего присылки миноносцев. В конце концов мне все же пришлось прибегнуть к этой мере, но, к сожалению, с большим опозданием.
Что касается до исправления и ремонта, то это был самый большой вопрос. Как я уже говорил, рабочие работали с минимальной полезностью, и портовое начальство смотрело на это сквозь пальцы, будучи довольно уже тем, что они не бунтуют. Между ними и рабочими установились такие приблизительно отношения, какие в некоторых домах бывают между гувернантками и детьми. Гувернантки совместно с детьми надувают родителей, и снаружи кажется, что все идет чинно и гладко.
В первые же дни по моем приезде на этой почве произошел конфликт.
Не помню, по какой причине, небольшая кучка рабочих не захотела работать после обеденного перерыва и потребовала от начальника завода генерала Чарбо роспуска всех рабочих с зачетом рабочего дня. Тот не долго думая согласился и распустил, но мне об этом своевременно донесли, и я немедленно вызвал генерала Чарбо, хорошо намылил ему голову и приказал, чтобы работы шли без перерыва. В назначенное время сирена, созывающая рабочих, загудела, и большая часть из них явилась на работы. Генералу Чарбо я сделал строгий выговор в приказе, но оказалось, что приказ был отпечатан только через четыре дня. Флаг-капитан по распорядительной части доложил мне, что, ввиду массы приказов и циркуляров хозяйственных и административных, канцелярия не справляется и запоздание делается все больше и больше. Это – иллюстрация бюрократического способа работы. Он уже тут одерживает победы.
Чтобы ускорить работы в порту, мною были приняты следующие меры: еженедельно по субботам ко мне собирались командиры судов и портовое начальство. Командиры выкладывали свои жалобы, а порт по ним давал разъяснения, которые тут же обсуждались, и давались нужные распоряжения. Кроме того, я разрешил командирам судов работать на своих судах своею же командой, причем портовые техники должны были оценивать работу и представлять мне о вознаграждении. Это было незаконно, но дало хорошие результаты. Многие суда были исправлены своими средствами почти без помощи порта.
Еженедельные совещания приносили еще ту пользу, что я был в курсе не только работ, но и настроений как на судах, так и в порту. Для того чтобы отвлечь молодежь от кутежей, я разрешил устраивать еженедельно семейные вечера в морском собрании. Морские собрания в главных портах всегда играли важную роль в жизни офицерского состава. Холостые могли иметь там недорогой обед. Прекрасные библиотеки и читальни давали возможность быть в курсе всех новостей политики, науки и литературы. В собрании же было всегда несколько бильярдов, и разрешалась игра в коммерческие игры в карты. Там же происходили танцевальные и литературные вечера, лекции и концерты. Собрания управлялись всегда выборными старшинами, и быть старшиной считалось почетным среди морских офицеров.
При большевиках собрание, конечно, было закрыто, но, по счастью, не подверглось разграблению, так как они еще не удосужились до него добраться. Драгоценная библиотека была объявлена городской, а наиболее ценные книги, где находились уники по части морских путешествий и наук, были комиссарами сложены в сундуки и спрятаны в подвалах.
Адмирал Саблин сейчас же по водворении в Севастополе добровольцев открыл собрание и назначил хозяина, что, конечно, в переживаемое время было более удобно, чем выборные старшины.
Здесь кстати рассказать печальный эпизод, происшедший сейчас же после ухода большевиков из Севастополя. Когда произошла первая эвакуация Севастополя в апреле 1919 года, то в числе многих других в городе остался капитан 2-го ранга Тягин,[367] очень порядочный человек и блестящий офицер. Мне говорили, что он остался будто бы по болезни своей жены. Не знаю, насильно или добровольно, но большевики поставили его во главе морского ведомства в Севастополе, и он управлял очень толково и тактично, не допуская никаких эксцессов. Когда большевики эвакуировались, Тягин остался в Севастополе, и мне передавали, что будто бы адмирал Герасимов приказал ему оставаться на своем месте до прихода добровольческих частей.
Первым прибыл в Севастополь миноносец «Живой», и в ту же ночь Тягин был убит на пороге своей квартиры. Мне рассказывали, что с «Живого» в эту ночь съехала компания подвыпивших офицеров-добровольцев, направилась на квартиру, где жил Тягин, позвонила у подъезда и, когда он вышел на звонок, тут же прикончила его выстрелами из револьверов. Адмирал Саблин назначил следствие, но оно велось нарочно таким образом, чтобы виновных не нашлось.
Первый же вечер в собрании собрал довольно много публики. Танцевали и веселились, как в старые времена, но, конечно, внутри настроение было другое. У всех было много пережитого горя, а у многих и траур по погибшим родным и знакомым.
Следующий военный вопрос был относительно питания: когда я приехал в Севастополь, съестные припасы были еще недороги, но все же процентов на 50 % выше, чем на Кавказе. Судовые команды покупали зелень и мясо на рынке, а хлеб выпекала могучая портовая хлебопекарня: она же снабжала и всех рабочих порта и семьи офицеров, живших в городе. Недостаток стал ощущаться не сразу, а постепенно, по мере вздорожания жизни, которое шло быстрым темпом. Нужно было, чтобы парализовать надвигающееся бедствие голода, собрать большие интендантские запасы муки, картофеля, консервов, чаю и сахару, а средств для этого не отпускалось.
Совет главнокомандующего привел к тому, что армия жила реквизицией на местные средства, и никак не мог согласиться с моими доводами, что флот не может реквизировать, находясь в глубоком тылу, где действовала уже законность, тем более что отпускаемые средства всегда запаздывали сравнительно с повышением цен на продукты. Мне пришлось убеждать правительство Юга России целых два месяца, чтобы они поняли наконец эту простую истину, но мне ассигновали в конце концов все же очень маленькую сумму на приобретение запасов, а главное, что было упущено – это драгоценное время. Когда, наконец, средства были ассигнованы, был образован интендантский комитет, который сделал все, что мог, и несколько облегчил положение. В этом отношении портовые рабочие были в более благоприятном положении. Их кооператив работал все время интенсивно и, имея значительный оборотный капитал, удовлетворял все их нужды.
Следующий вопрос был квартирный: ввиду большого наплыва беженцев из местностей, занятых большевиками, этот вопрос стоял очень остро. Комендант крепости учредил комиссию, в которой был представитель от флота, для отвода квартир. Комиссия, работавшая по бюрократической рутине, руководствовалась законами мирного времени и решила, что офицерам флота, как живущим на кораблях, квартир не полагается, а их семьи должны быть на положении обывателей. Мне пришлось выдержать целую войну с комендантом и жаловаться генералу Лукомскому как главе правительства на такое применение законов, пока наконец мы были объявлены полноправными защитниками государства. Жены и вдовы морских офицеров буквально осаждали меня и, чтобы выйти из этого затруднения, я прибег к следующей мере. На рейде стоял пароход добровольного флота «Херсон» с поломанной машиной, но с большими и удобными каютными помещениями. Я приказал его поставить к так называемой Царской пристани в Южной бухте и открыл там гостиницу для семей моряков, взимая небольшую плату для покрытия расходов по оборудованию и найму прислуги. Новая гостиница быстро приобрела популярность, и все каюты были быстро заполнены.
Семьи моряков, числящихся на службе, были сравнительно не в плохом положении, но очень тяжело было вдовам и дочерям умерших. Выплата пенсий с началом господства большевиков была прекращена, и они буквально бедствовали. Тех, которые были помоложе, старались брать в различные учреждения, но старухам и малолетним приходилось очень туго. Чтобы помочь им, было извлечено из архива Морское благотворительное общество, имевшее устав и печать, т. е. все права юридического лица. Был образован комитет из дам под председательством моей жены и начал действовать. На мой призыв откликнулись пароходные общества, сразу приславшие большие суммы, и в течение месяца капитал общества возрос до 400 тысяч рублей, что в то время составляло не менее тысяч десяти на прежнюю валюту. Это общество оказало много помощи, как в Севастополе, так и в эмиграции, пока средства не иссякли.
Что касается до призрения мальчиков, не достигших еще возраста, позволяющего стать в ряды добровольцев, то в этом деле проявил большую инициативу старший лейтенант Машуков, вскоре произведенный за отличие в капитаны 2-го ранга. В Севастополе еще до войны начал строиться Морской корпус, и некоторые здания были готовы. Машуков убедил как Деникина, так и Герасимова в необходимости обратить внимание на детей, совершенно заброшенных вследствие закрытия школ. Деникин дал средства и согласие на открытие Морского корпуса. Контр-адмирал Ворожейкин[368] был назначен директором, и был набран штат учителей и воспитателей; что же касается до учеников, то в них, конечно, не было недостатка.
Признаюсь, что я не был особенным энтузиастом в этом вопросе. Конечно, цель была сама по себе прекрасная и себя оправдала, так как дала возможность в течение четырех лет воспитывать мальчиков (три года в Бизерте), но, с другой стороны, это было похоже на мирную жизнь в горящем доме.
Машуков вызвал подражателей, и вскоре ко мне явился профессор Московского университета и настоятельно меня убеждал предоставить морские казармы для университета, который предполагал открыть в Крыму. Я его принял весьма нелюбезно, но он заявил мне, что Астров и Федоров ему сочувствуют и что мне придется все равно уступить. Месяца через два ко мне действительно поступило приказание генерала Лукомского уволить всех студентов и гимназистов для продолжения их обучения в университетах и гимназиях. Это было полным разрушением всего, что было сделано в Севастополе. Конечно, я заявил горячий протест и никого не уволил, а вскоре дела Добровольческой армии приняли такой оборот, что об университетах перестали думать, но тем не менее все это показывает, как далеки были наши правители от действительной жизни, под руководством кадет из Государственной думы.
Севастопольский морской корпус был много торжественно открыт. Был, как полагается, молебен, и потом закуска с вином, речами и тостами, а на другой день начались и занятия. Кадет было принято мало – около 300 человек.
Говоря о Севастополе того времени, нельзя обойти молчанием и церковь. В городе в это время скопилось 14 архиереев, бежавших из различных епархий от большевиков, и все они нашли приют у епископа Севастопольского Веньямина.[369] Вот эти архиереи были у меня с визитом, и я также отдавал визит и им. По случаю храмового праздника в Херсонском соборе было торжественное богослужение, на которое был приглашен и я. После молебна следовал обед, на котором председательствовал архиепископ Херсонский Димитрий.[370] Владыки выпили крымского белого вина и разговорились. После официальных тостов последовала дружеская беседа, из которой можно было заключить, что владыкам не очень нравится быть под патриархом и что прежний порядок, когда каждый епископ в своей епархии был сам вроде патриарха, был им более по душе. Как известно, вопрос о патриархе прошел на соборе голосами мирян и белого духовенства, против епископов. Признавая совершившийся факт, владыки теперь старались умалить значение патриарха и в один голос говорили, что патриарх должен быть первым между равными и отнюдь не главою церкви вроде римского папы, что усиленно поддерживалось.
Во время службы собор был полон молящимися, из которых многие пришли пешком за 4 версты от города. В населении вообще под влиянием бедствий революции замечался религиозный подъем. В Севастополе все церкви были переполнены, но больше всего народа привлекал отец Георгий Спасский.[371] Красавец собой и великолепный оратор, он гипнотизировал своих слушателей и еще более того слушательниц. Он считался главным священником флота и бывал изредка у меня с докладом. Он был безусловно обаятельный человек, но, может быть, и большой дипломат.
Жизнь в Севастополе
Мой рабочий день обыкновенно начинался в Севастополе с 8.30 утра. До 9 я принимал всех, кому нужно было меня видеть из лиц, не имевших у меня специального доклада. Каждый день приходило несколько человек, по преимуществу дам, по самым разнообразным делам. Часто бывали также всякие аферисты с заманчивыми предложениями или явно мошенническими, или скрытыми под фиговым листом. Всех этих господ я отсылал к адмиралу Саблину, который председательствовал в комиссии, обсуждавшей эти предложения. Таким образом я гарантировал себя как от возможных нареканий, так и от ошибок вследствие неопытности в коммерческих делах. Однако не мог не вспомнить двух случаев, когда ко мне были подосланы красивые элегантные женщины, явно имитировавшие жену Пентефрия,[372] от которых мне приходилось спасаться под защиту своего адъютанта в другую комнату. Одна дама хлопотала об уступке в аренду коммерческого парохода для предприятия, а другая для покойного места своему мужу. Когда была объявлена принудительная мобилизация, то появились многочисленные дамы, ходатайствующие об освобождении своих сыновей. Среди них были и такие, которые упорно настаивали, чтобы я взял их сыновей в свой штаб.
С 9 часов обычно следовали доклады сторожевой и распорядительной частей, а также начальника штаба, а после обеденного перерыва доклады флагманских специалистов. По окончании докладов я обыкновенно ездил на катере или автомобиле по судам и учреждениям. Из докладов самый неприятный и скучный для меня был доклад главного морского прокурора, председателя комиссии по рассмотрению поведения офицерских чинов при большевиках. Комиссия назначала взыскания за всякую службу у большевиков, хотя бы и на должности сторожа. Я имел право смягчать наказания на две степени, что обыкновенно и делал. В конце концов все сводилось к моральному осуждению, так как содержать обвиненных под арестом все равно не было возможности за неимением места, да и жалко было расходовать людей для того, чтобы сторожить таких арестантов.
Из числа многих десятков лиц, проходивших таким образом через комиссию, помню только двоих, заслуживавших действительного осуждения. Остальные или просто хотели есть, или шли как бараны и делали все, что им приказывали, из чувства страха перед силой. Это порок, присущий всей нашей русской интеллигенции. Были, конечно, среди офицеров и настоящие провокаторы, но они эвакуировались с большевиками вместе. Таков был капитан 2-го ранга Богданов, правая рука большевика Дыбенко,[373] бывший до революции адъютантом главного командира Севастопольского порта. Говорят, что он был непосредственным виновником убийств некоторых офицеров. Таковы были Модест Иванов[374] и адмирал Максимов,[375] игравшие более чем двусмысленную роль во время революции, но психология этих господ еще недостаточно разъяснена.
Во время своих объездов кораблей я старался всячески повлиять на психологию личного состава, знакомясь с его нуждами и настроением.
В первых числах сентября на рейд явился английский дредноут «Мальборо» под флагом контр-адмирала Сеймура,[376] младшего флагмана эскадры Средиземного моря. Он сейчас же явился с визитом ко мне, и у нас произошел довольно интересный разговор. Адмирал Сеймур начал сразу же в повышенном тоне говорить, что добровольцы обижают бедных грузин и занимают грузинские области. До тех пор, пока не соберется европейская конференция и не разрешит спорных вопросов о границах, Англия является покровительницей малых народностей на Кавказе и не потерпит никаких обид и насилий. В частности, от меня он потребовал отозвать отряд моих судов из Туабсе[377] и главным образом стационера в Батуме, которым была канонерская лодка «Кубанец». Конечно, все это были лишь громкие слова, а на самом деле англичане просто хотели избавиться от свидетелей того, как они вывозили из Батума запасы нефти и смазочных материалов, принадлежавшие русской казне.
Я ответил ему, что хотя Грузия и объявила себя самостоятельным государством, но пока еще никем не признана и границы ее не установлены; что кавказское побережье до самого Батума заселено русскими переселенцами, которых грабят грузинские и хазистанские[378] шайки разбойников, не повинующиеся никакому правительству, и что русские суда, патрулирующие побережье, представляют единственную полицейскую силу, поддерживающую порядок и служащую защитой от грабителей. Я сказал, что буду очень рад, если англичане мне помогут в этом деле. Что касается до стационера в Батуме, то я заявил, что он находится в непосредственном подчинении штабу главнокомандующего и от меня не зависит. Это было неверно, но я не имел никаких инструкций по дипломатической части и боялся попасть впросак. Адмирал Сеймур после этого разговора сделался чрезвычайно любезен, выражал свое удовольствие по поводу успехов Добровольческой армии и пригласил меня завтракать, а я его обедать. Расстались мы совершенно в приятельских отношениях.
Через несколько дней после ухода «Мальборо» я получил телеграмму, извещавшую меня о приезде генерала Деникина в Севастополь и дальнейшем следовании в Одессу. Мне было предложено выслать в Керчь пароход «Цесаревич Георгий», а из Севастополя генерал предполагал идти на «Корнилове». Признаюсь, что посещение это было не особенно приятно, так как показывать было абсолютно еще нечего. Сейчас же собрали совещание, в котором приняли участие комендант, начальники штабов, епископ Веньямин, градоначальник и городской голова. Спешно выработали программу, и львиная доля всего досталась Морскому ведомству, так как другие ведомства абсолютно ничего не могли показать. На приготовления был дан всего один день.
В назначенный день при чудной погоде в 7 часов утра прибыл «Цесаревич Георгий» под флагом главнокомандующего. Когда он стал на якорь против Графской пристани, я подошел к трапу на бывшем императорском катере, который каким-то образом не был увезен немцами, и рапортовал о состоянии флота, а также доложил о том, что на пристани ожидают депутации. Генерал со свитой сейчас же съехал на берег. На пристани рапортовал комендант, и началось представление депутаций. Депутаты были от города, от рабочих, от караимов, от дам, во главе которых была моя жена, и еще несколько других, я не помню уже от каких учреждений. Была даже депутация от эсеров, предводимая моим старым знакомцем по Одессе маститым слепым Кулябко-Корецким. Помню, что один из депутатов, не припоминаю, кто именно, выразился неудачно, по-видимому, просто от неумения излагать свои мысли, и генерал Деникин ему довольно резко ответил. Это внесло некоторый диссонанс, но, впрочем, быстро затушевалось.
После приема депутаций все сели на автомобили и отправились в собор Св. Владимира, где епископом Веньямином в сослужении с духовенством был отслужен молебен, после чего на площади в присутствии гарнизона происходило освящение крепостного флага. Епископ Веньямин был большой любитель поговорить, хотя говорил нудно и скучно. В этот раз он также постарался так, что генерал Деникин явно показывал признаки нетерпения. Между прочим, епископ Веньямин мне однажды рассказывал про Распутина, которого он близко знал, интересные вещи. Он считал его падшим ангелом, который до своего падения достиг до высот духовных возможностей и был действительно необыкновенно человеком. Епископ Веньямин говорил, что он случайно присутствовал в то время, когда в Распутине происходила борьба добра со злом, причем вокруг него происходили различные оккультные явления: в мебели раздавался треск, мелькали огоньки, и даже треснула каменная печь. Подобные явления хорошо знакомы людям, бывавшим на спиритических сеансах с известными медиумами.
После Веньямина сказал короткую речь генерал Субботин, подняли крепостной флаг и последовал церемониальный марш, где и я дефилировал на правом фланге морской роты экипажа. Должен сказать, что парад был очень жиденький как по количеству, так и по внешнему виду парадировавших.
После парада генерал Деникин выразил желание поклониться могилам знаменитых адмиралов, погребенных в соборе Св. Владимира. На него произвел очень большое впечатление общий вид нижнего храма с крестообразно положенными черными плитами над гробницами Нахимова, Корнилова, Лазарева и Истомина.[379] Он тут же сказал:
– Честь и слава морякам, так хорошо умеющим чтить память своих больших людей.
Из церкви все поехали на Малахов курган и там смотрели панораму штурма на Севастополь.[380] Эта великолепная панорама сохранилась также в полной неприкосновенности. Далее следовал музей обороны Севастополя, и оттуда мы все пешком прошли в Морское собрание. Генерал Деникин оказался хорошим ходоком и равняться по нему было не так легко. Довольно забавный вид представляли плохо натренированные охранники генерала Субботина, старавшиеся изображать невинных прохожих, но носивших на всей своей фигуре печать своего звания. Генерал Деникин от души смеялся, глядя на их замысловатые маневры.
В Морском собрании был обед человек на 80, на котором присутствовали все старшие чины флота, крепости и представители общественности. После моего первого тоста за главнокомандующего генерал Деникин произнес довольно большую политическую речь о значении и надеждах Добровольческой армии. Было еще несколько речей, но довольно пустого содержания. В общем, обед прошел вполне благопристойно, но подъема никакого не чувствовалось, хотя в то время знамя Добровольческой армии еще держалось высоко и наши войска, заняв Курск, шли все дальше на север, и Москва уже мерещилась вдали. Меню обеда было вполне приличным случаю, хотя, конечно, 1919 год чувствовался и шампанского нигде не могли раздобыть, почему тосты запивались крымским белым вином.
После обеда следовала вторая часть программы: главнокомандующий сел на катер и объехал команды, выстроенные на судах, здороваясь с ними. Он посетил подводную лодку «Тюлень», а другая лодка, так называемая «аг-4»(?), маневрировала и опускалась под воду. Должен сказать, что этот маневр нельзя было оценить больше, чем на 2–, что было и понятно при существующей импровизации команд.
Далее следовало посещение дока, в котором находился перевернутый вверх килем дредноут «Императрица Мария». Генерал Деникин взошел на днище корабля, которое своей громадностью производило импозантное впечатление. Работа по подъему была очень трудная, и наши инженеры, несомненно, проявили талант при ее выполнении. Генерал это понял и горячо благодарил директора и администратора спасательной партии генерала Пономарева, дававшего объяснения. Только после подъема выяснилось, что дредноут перевернулся вследствие неразумного литья воды из всех помп для тушения пожаров, вызванных взрывами. Днище корабля было совершенно целым, так как вся сила взрыва ушла вверх. Если бы своевременно прекратили лить воду в корабль, он бы остался на воде и мог быть легко исправлен. Конечно, виновны были и составители проектов этого типа судов. Морской генеральный штаб настаивал, чтобы остойчивость кораблей была доведена до такого состояния, когда корабль, разбитый артиллерией или подорванный минами, тонул не переворачиваясь и, по возможности, сохранял прямое положение. Немецкие крейсеры «Шарнхорст» и «Гнейзенау» в сражении у Фолклендских островов именно так потонули, стреляя до последнего момента из всех орудий.
Последним пунктом программы на рейде было посещение английского крейсера «Карадок». Этот крейсер был как бы нашим приятелем. Он участвовал во всех боях с большевиками как под Одессой, так и на Акманайских позициях. Его командир часто бывал у меня в доме и был очень веселым и любезным человеком. Он принял генерала Деникина, не ограничиваясь официальными почестями, и сказал выстроенной во фронт команде, что рад случаю, позволившему им всем видеть замечательного человека, о котором говорит весь мир.
Главнокомандующий был даже несколько сконфужен и горячо поблагодарил командира.
Последним номером торжеств был наскоро импровизированный концерт в Морском собрании. В Севастополе нашлось несколько артистов и артисток, убежавших от большевиков, и программа быстро была составлена. Концерт дал возможность видеть генерала вблизи более широкой публике, и зал был переполнен, хотя вход и был по билетам. В антракте был чай, и генерал выразил желание познакомиться с дамами. Я ему представил наиболее интересных морских и сухопутных дам.
По окончании концерта генерал благодарил меня за приятно проведенный день, но выразил порицание, почему я не повез его на завод к рабочим. Конечно, это было бы очень хорошо, но такую ответственность, будучи сам новым человеком в Севастополе, я, конечно, взять на себя не мог, о чем прямо ему и сказал.
Ночью мы перебрались на крейсер «Генерал Корнилов» и снялись с якоря с таким расчетом, чтобы быть в Одессе к 10 часам утра следующего дня. Переход был прекрасен. За ужином генерал Деникин был в отличном расположении духа, много шутил, смеялся и рассказывал, как он, Корнилов, Романовский и другие генералы сидели арестованные Керенским в Быхове. Генерал Корнилов, несмотря на арест, все время писал письма различным деятелям и делал распоряжения, чем приводил в ужас своих сторожей, но тем не менее его престиж был настолько велик, что никто не смел ему препятствовать и, кроме того, никто не был уверен, кто в конце концов одержит верх.
Во время перехода, по ходатайству адмирала Герасимова и моему, генерал Деникин поздравил командира крейсера капитана 1-го ранга Остелецкого контр-адмиралом, что было вполне заслуженным и соответствующим его стажу.
В назначенное время мы подошли к Одессе и были встречены салютом в 19 выстрелов со всех иностранных судов, стоявших на рейде. Этот салют полагался по морскому уставу флагу главнокомандующего, под которым шел генерал Деникин. На пристани ожидали почетные караулы от гарнизона и с иностранных судов, так что встреча была вполне импозантной. В Одессе хозяином был генерал Шиллинг, имевший титул главноначальствующего и командующего группой войск, а я обращался уже в состоявшего в свите главнокомандующего, или, вернее, просто в зрителя без всякой ответственности. Такое положение чрезвычайно приятно.
Пройдя по всем почетным караулам и пропустив их мимо себя церемониальным маршем, главнокомандующий, а за ним и все мы следом отправились на автомобиле в собор, где его приветствовал соответствующей речью митрополит Платон.[381] На улицах было много народу, и впечатление по лицам было радостное. Дамы махали платками, и крики «ура» были довольно громкие. Это было время, когда Добровольческая армия находилась на вершине своих успехов, и, конечно, настроение соответствовало моменту. Не обошлось, впрочем, и без скандала. С генералом приехал его конвой, и когда они высадились на берег, то один из одесских сыщиков признал в одном из офицеров конвоя весьма известного и опасного чекиста-большевика. Он, конечно, был сейчас же арестован и отправлен в тюрьму, где, вероятно, и ликвидирован, но тот случай показывает нашу халатность. Допустить в конвой главнокомандующего офицера без проверки его прошлого – это почти что уже рекорд халатности.
Из собора кортеж проследовал, кажется, на биржу, а потом в городскую думу, где был парадный обед. Одесса отличилась. Обед был такой, что и в довоенное время не стыдно было подать, и шампанское лилось рекой. За обедом было, конечно, несколько тостов, причем, генерал Деникин сказал большую политическую речь. В этой речи он очень недвусмысленно указал, что Россия будет твердо помнить, кто оказал ей услуги во время ее лихолетья и кто уклонился от союзнических обязательств. Все ясно поняли, что камень брошен во французский огород, но французский адмирал, присутствовавший на обеде, по-видимому, ничего не понял, потому что кричал «ура» больше всех.
После обеда официальная часть дня кончилась, и нам было объявлено, что мы можем делать что хотим. Я воспользовался этим и посетил некоторых старых знакомых. Нового, впрочем, я ничего не узнал. Все с нетерпением ожидали занятия Москвы и сильно жаловались на все растущую дороговизну. Шиллингом почти все были недовольны и говорили, что он милый человек, но сибарит и только подписывает бумаги, которые ему подают. Безлюдье сказывалось повсюду и везде.
Вернувшись ночевать на «Корнилов», я узнал неприятную новость: батько Махно со своей бандой переправился на левый берег Днепра и направляется на местечко Гуляй-поле. Так гласила краткая телеграмма из Екатеринослава. В штабе Деникина не придавали этому известию важного значения или делали вид, что не придают, но мне это известие очень не понравилось.
Махно был анархист, полуинтеллигент с уголовным прошлым. Обладающий сильным характером и, по-видимому, вполне способный на роль Пугачева, он оперировал главным образом среди крестьян, но деньги брал и с большевиков. Он грабил только города, на которые делал внезапные налеты, и после захвата добычи уходил в самые глухие места подальше от железных дорог, где его было очень трудно настигнуть. Он пользовался среди крестьян популярностью, так как никогда их не грабил, а потому в продовольственном отношении был всегда обеспечен. Про него рассказывали целые легенды. Гуляй-поле считалось как бы его столицей, там он был маленьким царем и имел много сторонников. Немудрено, что он туда и направился, намереваясь пополнить свои силы и затем предпринять какой-нибудь поход.
На Днепре была маленькая речная флотилия, которая должна была патрулировать и препятствовать переходу банд с одного берега на другой. Как я потом узнал, Махно явился на правый берег Днепра совершенно внезапно и сразу начал переправу на заранее приготовленных и спрятанных в камышах лодках. По тревоге к месту переправы явился вооруженный пароход, но он пришел, когда переправа уже совершилась. Конечно, все это надо отнести к плохой разведке, самому больному месту Добровольческой армии.
Размышляя о возможных последствиях появления Махно поблизости от Крыма, я решил, что мне надо изменить свои предположения и вернуться в Севастополь. Я предполагал из Одессы пойти в Николаев на «Цесаревиче Георгии» и посмотреть, что делается в Николаевском порту, но по здравому рассуждению решил поездку отложить. В погоню за Махно был отправлен резервный батальон из Каховки, но, во-первых, догнать Махно, который всегда путешествовал на подводах, было не так просто, а во-вторых, что из себя мог представлять этот батальон из взятых прямо от сохи ненадежных людей, которые с успехом могли перебить офицеров, а сами присоединиться к тому же Махно.
Между прочим мне рассказывали, как Махно расправился со своим соперником полковником Григорьевым незадолго перед рассказываемыми событиями. Григорьев был кадровый офицер,[382] авантюрист, каких тогда было много. Вначале эсер, потом большевик, он был один из самых крупных партизанов большевистской армии. Он действовал очень удачно и даже угрожал Одессе, когда там были французские регулярные войска. Когда Деникин погнал большевиков на север, на Украйне уже стало тесно. И Махно, и Григорьев оказались в близком соседстве. Григорьев начал подумывать о принесении повинной Деникину и с этой целью отправился к Махно с небольшим конвоем, чтобы уговорить также и того. За обедом, уже сильно подвыпивши, Григорьев выскочил с саблей из дому и обратился к своему конвою. В результате произошла короткая схватка, и Григорьев был убит. Одна часть его отряда разошлась по домам, а другая присоединилась к Махно.
Возвращение в Севастополь
На другое утро при подъеме флага на «Корнилове» я доложил генералу Деникину о моих опасениях и просил разрешить вернуться в Севастополь. Генерал ответил, что, по его мнению, опасности для Крыма нет, но тем не менее разрешил. С тем я и откланялся. В тот же день на «Цесаревиче Георгии» я отправился в Севастополь, а главнокомандующий остался смотреть воинские части.
В Севастополе я застал коменданта в большом беспокойстве. По поступившим сведениям, в большей части неверным, Махно двигался очень быстро чуть не с целой армией. Выходило, что он делал переходы чуть не по 40 верст в сутки. Комендант мог послать на Перекоп не больше роты сомнительной пехоты и бил тревогу. Мы начали уже делать соображения, как оборонять Севастополь, но, впрочем, наши опасения скоро рассеялись. Махно шел по направлению к Таганрогу, вероятно, в надежде захватить врасплох самого главнокомандующего. Он на пути не встретил никакого сопротивления, и ему действительно удалось захватить Бердянск. Достаточные силы для его отражения удалось собрать из разных мест только около Мариуполя. Тут он был разбит и отброшен, но ему удалось уйти, и он начал искусно маневрировать, привлекая на себя наши силы, нужные на фронте. Главное значение этого рейда было в том, что им был подорван престиж Добровольческой армии. Удача всегда вызывает подражателей, и с течением времени весь тыл Добровольческой армии стал под угрозой мелких и неуловимых банд, причинявших массу вреда.
Тем временем жизнь в Севастополе шла своим порядком: из Константинополя стали приходить наши суда, взятые союзниками при первой эвакуации Севастополя: пришел крейсер «Алмаз» – бывшая яхта морского министра, и командиром на ней был назначен капитан 2-го ранга Машуков. Пришли два миноносца, и наконец явился на буксире и дредноут «Воля», бывший «Император Александр III».
Нам, конечно, было приятно, что наш флот увеличивается, но, с другой стороны, суда приходили в ужасном виде и немедленно требовали ремонта и укомплектования, а наш порт не мог справляться и с оставленными в Севастополе судами.
С «Волей», переименованной главнокомандующим в «Генерала Алексеева», вышел скандал на второй же день по его приходе. Я сидел у себя в кабинете, когда ко мне ворвался молодой мичман и доложил захлебывающимся голосом, что «Воля» тонет. Я, конечно, сорвался с места и на автомобиле покатил к месту ее стоянки, по дороге приказав сильному буксиру «Могучий» немедленно идти к «Воле» и на буксире оттащить ее на мелководье. Однако по приезде моем на корабль все оказалось не так страшно. На «Воле» не было еще командира, а был только караул под командой лейтенанта. Этот последний вдруг заметил крен на корабле, пока очень маленький, но ему со страху показалось, что он увеличивается. Он послал ко мне своего помощника доложить, как он говорил, о крене, а не о том, что корабль тонет.
Вскоре по моем прибытии на корабль явился портовый механик, бывший когда-то трюмным механиком на судах этого типа и прекрасно знавший всю трюмную систему. Он немедленно принялся за осмотр и очень скоро обнаружил, в чем дело. Оказалось, что один из корабельных кингстонов, вследствие отсутствия ухода, начал протекать, и вода понемногу скоплялась в одном из отсеков, что и дало крен. Потонуть от этого корабль не мог, так как вода дальше этого отсека пойти не могла. Я не сделал лейтенанту никакого замечания, так как решил, что лучше лишний раз побеспокоить начальника, чем бояться это делать или делать слишком поздно.
Вскоре после моего возвращения в Севастополь началась целая серия посещений порта иностранцами. Первым пришел командующий английскими силами Средиземного моря вице-адмирал де Робек. Мы обменялись визитами, а потом сделали друг другу парадные обеды, причем должен сказать, что у них, конечно, эта часть была поставлена гораздо параднее, чем у нас, хотя мы старались из всех сил не ударить лицом в грязь. На обедах были интересные разговоры. Англичане рассказывали, насколько тяжела была для них подводная война с немцами, и коммодор Джонсон, сидевший рядом со мною, утверждал, что действительно средства против подводных лодок до сих пор еще не изобретено. Он был в течение двух лет представителем комиссии по борьбе с лодками и через его руки прошло не менее тысячи проектов, из коих девятьсот было фантастических. В конце концов наиболее действительными способами борьбы оказались сети, снабженные подрывными патронами, но они приносят действительную пользу только вблизи берегов и притом легко делаются опасными для своих судов, так как штормы их переносят с одного места на другое. Знаменитый слуховой аппарат, дающий возможность слышать приближение подводной лодки и судить о ее направлении и расстоянии, он считает далеко не совершенным. Большие надежды возлагались на гидропланы, но за всю войну был только один случай потопления подводной лодки гидропланом. Сам де Робек оказался очень веселым и дамским кавалером. Обед был с дамами, и он заговорил обеих своих соседок, из коих одна была моя жена, а другая – жена адмирала Погуляева.
После англичан пришел итальянец, а после него француз и американец. Все эти парадные визиты и обеды нам порядочно надоели. Они все приходили несомненно с целью разведки, чтобы лично убедиться в положении вещей и узнать настроение как добровольцев, так и народа. Итальянский адмирал, фамилию которого я уже забыл, очень расспрашивал о наших социалистических партиях, о коммунистах и об отпоре, который им дает общество. Видимо, он сильно беспокоился, чтобы и у них в Италии не повторилось того же, что и у нас, и очень интересовался, как у нас началось Белое движение. В то время о Муссолини еще ничего не было слышно, но коммунисты, видимо, уже давали себя знать. У французского адмирала Ле Бона[383] (Le Bon) на корабле я встретил своего старого приятеля, капитана 2-го ранга Chack, с которым я очень дружил, когда в 1901 и 1902 годах был артиллерийским офицером на постройке линейного корабля «Цесаревич», строившегося в Тулоне. Теперь он был уже известным морским писателем и в то же время флагманским штурманом эскадры Средиземного моря.
Ле Бон отпустил его ко мне на берег, и мы с ним проговорили целый вечер, вспоминая старину и обсуждая текущие политические события. Chack мне рассказал между прочим, что в начале боев под Верденом они сами были на волос от большевизма. Верденская армия была разложена, началась массовая сдача в плен и братанье с немцами. Вновь назначенный командующий армией генерал, а потом маршал Петен[384] спас положение. Он расстрелял по приговорам полевых судов несколько сот человек и сумел восстановить дисциплину. Если бы мы поступили так же, то, вероятно, не сидели бы за границей.
В промежутках между иностранцами к нам являлись еще более неприятные гости. Это были наши пленные, которых привозили на пароходах. Ввиду полной разрухи железнодорожных сообщений на западе России, а также начавшейся уже блокады большевиков, французы и англичане решили всех пленных перевезти на юг России. Лукомский имел неосторожность согласиться, причем было объявлено, что пароходы будут приходить по очереди в Одессу, Севастополь и Новороссийск. На каждом из больших океанских пароходов приходило от 2 до 3 тысяч человек.
Мы ожидали, что к нам они будут приходить раз в недели, и считали, что за это время мы сумеем рассортировать партию, снабдить нужными документами и отправить к родным местам. Так были составлены и расчеты помещений канцелярии и кухонь. На самом деле оказалось, что в одну неделю в Севастополь пришли три парохода, и таким образом там скопилось до 10 тысяч человек. Пришлось спешно погружать пленных на старые суда, стоявшие в гавани, и принимать другие экстренные меры для питания и снабжения. Я телеграфировал Лукомскому, прося прекратить этот беспорядок, но безуспешно, и наконец объявил, что не ссажу ни одного человека, пока не очищу пробку. Действительно, очень скоро пришел снова пароход, но я объявил капитану, что не могу взять ни одного человека, и предложил идти или в Одессу, или в Новороссийск. Капитан ответил, что имеет предписание идти в Севастополь и подаст жалобу, но это не помогло, и когда пленные начали волноваться, то ему все же пришлось уйти в Одессу.
Оказалось, что союзники имели наше расписание, но так как угля в Константинополе было очень мало, а ближайший рейс был севастопольский, то они и решили самостоятельно отправить всех в Севастополь.
Лукомский рассчитывал, что из числа пленных можно будет пополнить Добровольческую армию, и даже были присланы специальные агитаторы, но эти расчеты не оправдались. Большинству пленных было совершенно безразлично, кто большевики, а кто добровольцы. Им хотелось только попасть скорее домой, тем более они прослышали, что там делят землю, и боялись опоздать, как бы их односельчане не захватили лучшие куски, но между ними были и распропагандированные, которые не скрывали своих большевистских вкусов. Одна такая компания, помещенная на старом пароходе, стоявшем у берега, начала даже явную большевистскую агитацию среди команд об устройстве восстания и захвате города в свои руки. Контрразведка своевременно узнала об этом, и этот пароход был поставлен на рейд без сообщения с берегом. На другой же день вся компания зачинщиков была выдана и посажена в тюрьму.
Период упадка Добровольческой армии
Наконец наступило время, когда Добровольческая армия, заняв Орёл и, все двигаясь без сопротивления вперед, встретилась, наконец, с приготовленным ей отпором. Большевики сосредоточили большой кулак и рванули. Резервов у добровольцев не было, и прорыв нечем было заполнить. Она покатилась обратно так же быстро, как и шла вперед. Махно был первой ласточкой поражения, теперь оно обнаружилось совершенно ясно.
Много говорили и писали о причинах поражения добровольцев, но все указываемые причины, как, например, ошибки стратегии и другие, отнюдь нельзя назвать главными. В Гражданской войне столкнулись две силы: одна состояла из кучки патриотов, опиравшихся на прогнившую русскую интеллигенцию, а другая из такой же небольшой кучки фанатиков новой марксистской веры, которая имела солидную поддержку в организованном рабочем классе и желала опереться на весь русский народ. Одни выставили лозунгом Единую и неделимую Россию, а другие – «Грабь награбленное». Конечно, лозунг о Единой и неделимой не мог зажечь сердца тех интеллигентов, которые еще недавно сами приветствовали русскую революцию и для которых слово патриот, по крайней мере, в некоторых кругах, было чуть не бранным словом. Что же касается до народной массы, то ей гораздо симпатичнее было большевистское «грабь награбленное». У большевиков не было знания военного искусства, но им на помощь пришли ренегаты из тех же интеллигентов, движимые различными низменными побуждениями. Но главное, чем обладали большевики и чего совершенно не было у интеллигенции, – это сила характера и воля к победе. В то время как большевики не стеснялись никакими средствами, до кровавого террора включительно, чтобы победить все препятствия, белые вожди пытались управлять прежними гуманными способами, и их никто не боялся. Делавшая чудеса на Кубани кучка патриотов, прозванная сумасшедшими, когда вышла на простор, приняла в себя по мобилизации все развращенные элементы и развратилась сама. Большевики же, наоборот, с железной настойчивостью превращали свои разбойничьи банды в регулярную армию и в конце концов достигли успеха. Создание многочисленной и хорошо управляемой кавалерии Буденного в короткий срок служит явным тому доказательством. В нашей грандиозной войне только подтвердился древний принцип военного искусства – побеждает всегда воля к победе.
Мы видим то же самое во всех великих революциях: и в английской, и во французской. Революция бывает тогда, когда верхний класс народа одряхлел и разложился. В конце концов победа всегда бывает у революционеров, потому что их воля сильней.
Может быть, и возможно было победить большевиков, но для этого нужно было опереться не на интеллигенцию, а на крестьян, объявив лозунг «Вся земля крестьянам в полную собственность», но на это в то время никто не решился.
Когда пришли первые известия о начавшемся отступлении добровольцев, то этому в широких кругах не придавали особенного значения. Считали, что неудача временная, что мы слишком растянули свои силы, что подойдут резервы и мы снова опрокинем большевиков. Жизнь везде текла по-старому, но зловещие признаки нарушали спокойствие везде и всюду. Там и сям в глубоком тылу появились шайки, на содержание которых, как оказалось потом, Троцкий отпустил большие средства. Зашевелилась крамола на Кубани, где близорукие кубанские эсеры и маститые сепаратисты под руководством Быча[385] и K° захотели использовать наши неудачи на фронте для своих узкопартийных целей. Попытка была подавлена генералом Покровским[386] в самом начале, но все же чувствовалось, что не сложившийся и хрупкий организм Вооруженных сил Юга России стал работать с перебоями и давать трещины там и сям. Но официально все было спокойно и бюллетени не возбуждали никакой тревоги, только в магазинах Освага убрали из оконных витрин карты, на которых прежде четко отмечалось движение вперед Добровольческой армии.
В это время в Севастополь прибыл с фронта агитационный поезд, начальником которого оказался мой сослуживец по Одессе капитан Соловский, который нашел себе применение как раз по своим способностям. Он привез мне в подарок куль белой муки и сахару, что в то время уже начинало считаться деликатесом. Соловский мне много рассказывал про фронт, а еще больше про тыл. Безобразное пьянство в главной квартире Май-Маевского,[387] воровство, всевозможные спекуляции и развал в тылу так и пестрели в его рассказах. Он смотрел очень мрачно на будущее и не верил в победу. Про свой поезд он говорил, что они останавливаются в каждом населенном пункте, становятся на запасный путь и затем устраивают свою выставку, состоящую из всевозможных антибольшевистских плакатов. Крестьяне охотно собираются поглазеть, так как за вход денег не берут и к картинкам даются пояснения. Часто приходится вступать в споры с левыми ораторами, и тогда получается нечто вроде митинга под открытым небом. Первое время, как он говорил, его иногда припирали к стенке ловкими изворотами, но он быстро освоился и в последнее время работа шла гладко. К сожалению, они могли обслуживать только железнодорожные линии, а все, что от них в сторону, было уже вне пределов досягаемости. Я посетил его поезд и нашел его устроенным очень рационально, но, к сожалению, эта затея, как и все у нас, была сделана с опозданием. По отзывам многих лиц, так называемый Осваг, т. е. Осведомительное агентство, стоил правительству больших денег, но принес очень мало пользы, вследствие подбора неподходящих лиц.
Я сохранял спокойствие и вел все дела прежним темпом до занятия большевиками Харькова, но, когда это совершилось, решил ехать в Таганрог, чтобы лично убедиться в положении дел и получить инструкцию насчет грозящей катастрофы. Предлогов для поездки у меня было достаточно. Денежные ассигнования, которые я получал с большими задержками, продовольствие, обмундирование, ремонт – все это требовало личных объяснений для ускорения дела. Разрешение было дано. В моем распоряжении была яхта «Колхида», которая могла дойти до самого Таганрога, и я ей и воспользовался. Эта яхта была куплена великим князем Александром Михайловичем[388] для морских путешествий. Года за четыре до войны он ее продал Морскому ведомству, и она находилась постоянно в Константинополе в распоряжении императорского посла. Во время войны применения у ней не было, а когда началась Гражданская, то всякое исправное судно могло понадобиться, а так как она была одним из немногих исправных, то ее и поставили в строй, вооружив 75-дюймовыми орудиями.
Я вышел в море под вице-адмиральским флагом, так как флаг командующего флотом, не имея настоящего флота, мне казалось поднимать неудобным. Со мной было несколько пассажиров и флаг-офицер.
Странное чувство я испытывал, сидя в роскошной каюте великого князя, где все сохранилось в прежнем виде, несмотря на немецкий и большевистский грабеж. Как будто бы я достиг всего того, о чем мечтают все молодые мичмана по выходе в офицеры: должность командующего флотом, которых было всего два в России, была пределом мечтаний всякого офицера. Правда, морской министр был как будто бы еще выше, но это был уже береговой чин, т. е., по морским понятиям, человек второго сорта. Я жил во дворце и имел в распоряжении яхту – роскошь, которую могут себе доставить только американские миллиардеры. И все-таки все это казалось мне каким-то бутафорским и не доставляло удовольствия. Подобное чувство, вероятно, испытывают актеры, играющие на сценах королей, а также, вероятно, испытывали Керенский и Ленин, помещаясь в роскошных палатах царских дворцов.
До Керчи переход был хороший, и яхту почти не качало, но в Керченском проливе затуманило, пошел сильный дождь и в узком извилистом фарватере стало трудно управляться. Пришлось стать на якорь и простоять до утра. Утром снова снялись с якоря и, все время имея сильный противный ветер, только к четырем часам дня добрались до Таганрога. В этот день я успел побывать только у Герасимова и познакомить его с моими делами. Мне нужно было получить 30 миллионов на покупку запасов продовольствия, так как цены росли в геометрической прогрессии, и затем получить на весь флот английское обмундирование. Первый вопрос зависел от Особого совещания при главнокомандующем, а второй от главного управления снабжения. Что касается наиболее интересующего меня вопроса об общем положении дел, то Герасимов смотрел оптимистично. По его мнению, виновником всех неудач был Май-Маевский, который ничего не делал и только пьянствовал без просыпа, но теперь удалось наконец уговорить общими силами всего совещания главнокомандующего его сменить и назначить вместо него генерала Врангеля. Все надеялись, что с новым руководителем большевики будет остановлены и мы снова пойдем вперед.
На другой день утром я представился главнокомандующему и изложил вкратце ему свои дела, по поводу которых приехал. Генерал Деникин был чрезвычайно мрачен, молча меня выслушал и приказал обратиться к соответствующим органам. На том и окончилась аудиенция. Выходя из кабинета в приемную, я увидел Врангеля. Вид у него был слегка взволнованный, но решительный. Я его один раз видел в Ставке, когда он приезжал туда в сентябре 1914 года, будучи только что произведенным в полковники и флигель-адъютанты, а также награжденным Георгиевским крестом за взятие немецкой батареи в Восточной Пруссии. В казачьей форме он казался еще выше ростом и, несомненно, производил сильное впечатление. Я немножко подождал в приемной, разговаривая с дежурным генералом Трухачевым, и слышал из кабинета громкие голоса, как будто спорившие. Генерал Трухачев сказал лишь, что отношения между обоими генералами неважные и что он боится серьезного конфликта. Долго оставаться было неудобно, и я удалился.
С главным начальником снабжения мне удалось сделать дело очень легко и скоро. Я получил все, что было мне нужно, к моему удивлению, в пять минут времени. Эта легкость впоследствии объяснилась. Большие запасы обмундирования были вывезены на север и при поспешном отступлении целиком попали в руки большевиков. Опасаясь того же и с другими складами, начальник снабжения совсем перестал высылать обмундирование на фронт и стал легко удовлетворять тыловые части.
Окрыленный успехом, я отправился к генералу Лукомскому и стал просить денег на продовольствие. Здесь дело пошло уже хуже. С большим трудом мне удалось объяснить генералу необходимость этой меры и получить его согласие на экстренное внесение в сегодняшний совет моей просьбы, так как я не мог долго оставаться в отлучке из Севастополя, но в конце концов он все-таки согласился.
От него я попал в штаб к генерал-квартирмейстеру[389] и застал его весьма сумрачным. На мой прямо поставленный вопрос о положении дел он мне ничего не ответил и рекомендовал обратиться к начальнику штаба генералу Романовскому. Я так и сделал. Начальник штаба меня принял сухо. Я прямо спросил, что мне как командующему флотом необходимо знать общее положение дел и соответственно этому работать в том или другом направлении. Я получил буквально следующий ответ: «Большевистское наступление будет продолжаться еще не более двух недель, затем они будут разбиты и побегут назад». Вначале я был окрылен этим ответом и сразу повеселел. Не знаю до сих пор, искренно ли говорил со мной генерал Романовский или умышленно говорил заведомую неправду, боясь поселить в тылу панику.
Вечером состоялось заседание совещания, на котором разбирался и мой вопрос. Министр финансов, конечно, возражал, но мои доводы, к счастью, одержали верх, и просимая сумма была мне ассигнована. Остаток вечера я очень весело провел в семье генерала Трухачева, а на другое утро получил все нужные мне бумаги по интересующим меня вопросам.
Обратный переход был совершен благополучно при прекрасной погоде.
Тотчас по приезде я командировал в Новороссийск приемную комиссию за обмундированием. Радость по этому случаю была большая. Все так оскудели в одежде, что получить новые башмаки или френч считалось большим счастьем, тем более что купить их было негде. Когда я еще уезжал из Одессы, мне одна сердобольная мамаша вручила ящик с обмундированием для своего сына-добровольца, и этот ящик так и путешествовал со мною и на Минеральные Воды, и в Новороссийск, и, наконец, приехал в Севастополь. По возвращении из Таганрога ко мне явился молодой человек и спросил, цел ли у меня ящик, отправленный ему мамашей. Я ему его вручил, и он тут же просил позволения его вскрыть.
Нужно было видеть его радость, когда он вынул великолепные сапоги. Он меня благодарил так, будто я его облагодетельствовал на всю жизнь.
Когда обмундирование пришло, то оказалось, что некоторых вещей на всех не хватает. Значит, неизбежны обиды и претензии. Я назначил комиссию под председательством контр-адмирала Остелецкого,[390] в которую входили представители всех судов и учреждений. Строевым частям, конечно, давалось преимущество. Комиссия распорядилась так толково, что ко мне не поступило ни одной претензии. Этого я никак не ожидал и по справедливости должен был отдать комиссии благодарность в приказе. Я и мой штаб также участвовали в раскладке, и мне присудили английские башмаки весом не меньше двух кило и непромокаемый плащ. Эти сапоги у меня до сих пор целы и хранятся в виде реликвии.
По продовольственному вопросу был назначен интендант – очень толковый человек, и ему дали несколько помощников по его выбору. Нужно было закупить муки, сахару, чаю, картофелю и круп. Помощники интенданта разъехались в разные стороны и привезли с собой закупленные материалы. К сожалению, 39 миллионов по тогдашней цене денег было очень мало. Чтобы удовлетворить все требования, нужно было по меньшей мере 100.
Тем временем обещанные генералом Романовским две недели прошли, а мы все продолжали отступать и сдали Киев. По-видимому, Романовский, говоря со мной, рассчитывал на успех наших кавалерийских корпусов Шкуро и Мамонтова, но при первом же столкновении с Буденным оба генерала показали тыл. Дело в том, что казаки в это время были по горло перегружены награбленной добычей. Их обозы тянулись на десятки верст, и они только и заботились о том, чтобы благополучно доставить их в свои станицы, не подозревая наивно, что большевики все отберут.[391] При такой психологии, конечно, уже было не до боев.
Крепко раздумав, я решил, что ждать указаний из Таганрога бесполезно и что нужно втихомолку готовиться к самому худшему, т. е. к эвакуации.
Крым благодаря своему географическому положению представляет из себя природную крепость, и, имея сравнительно небольшие силы, можно было в нем задержаться на довольно продолжительное время. Вопрос только был, откуда достать эти силы. В числе вопросов, переданных мною в штаб Вооруженных сил Юга России, было и представление коменданта об укреплении Перекопа, на что он испрашивал кредит в 12 миллионов. Когда я обратился к генералу Субботину и высказал ему мои сомнения в прочности положения Добровольческой армии и необходимости принятия совместных мер к укреплению положения в Крыму, он мне ответил, что только что получил отказ в кредите, и далее сообщил, что ему известны взгляды главнокомандующего на Крым: главнокомандующий считает Крым ловушкой, в которой держаться невозможно, и Субботин думает, что мы от генерала Деникина не получим ни одного солдата.
Эта беседа еще больше меня укрепила в моей решимости быть готовым к самому худшему. Импровизированного войска мы, конечно, создать не могли, а кроме резервного батальона у нас ничего не было. Морские команды, конечно, в счет не шли, так как на судах был и без того огромный некомплект, да и сухопутными вояками моряки были плохими. Нужно было посмотреть, что может сделать флот. Я тщательно изучил карты Каркинитского залива и водного пространства между крымским берегом и материком к востоку от Перекопа. Оказалось, что кое-что сделать можно. Для Каркинитского залива было приказано вооружить 6-дюймовыми пушками два понтона, которые могли бы обстреливать насквозь весь Перекопский перешеек, не будучи сами уязвимы для неприятельских полевых пушек, стреляющих с берега, а в восточный залив было предположено послать десять моторных шлюпок с пулеметами, назначением которых было обстреливать неприятельские воинские части при их попытках форсировать броды, имевшиеся в некоторых местах, по которым можно было обойти Перекопский перешеек. Я надеялся, что какая-либо воинская часть к нам отступит и даст возможность защищаться. Мои надежды оправдались даже в большей мере, чем я ожидал.
Наиважнейшей моей заботой была забота об угле, который мне высылали всегда в обрез из Мариуполя, но нужно было предвидеть, что этот источник снабжения прекратится. Я посылал Герасимову телеграмму за телеграммой, но он отвечал, что весь уголь идет на железные дороги для эвакуации и что он сделать ничего не может.
В Константинополе у нас была так называемая база, которой ведал контр-адмирал Шрамченко. Она образовалась после первой эвакуации Одессы в марте 1919 года. Много пароходов с разным имуществом как частным, так и казенным перебралось тогда из Одессы и Николаева в Константинополь. Всем распоряжался тогда генерал Шварц, признанный французским военным начальством, но он скоро уехал. Я не в курсе того, каким образом и куда направлено было казенное имущество. Кажется, было такое время, когда каждый ловкий и беспринципный человек хватал все, что хотел. В конце концов образовалась база, и контр-адмирал Шрамченко стал во главе. Это назначение было утверждено верховным правителем адмиралом Колчаком.
Вначале база не признавала генерала Деникина и считала себя зависящей непосредственно от верховного правителя, но по мере того, как дела в Сибири ухудшались, а на юге России улучшались, Шрамченко заметил свой промах и наконец явился с повинной головой к генералу Деникину, и это дело уладилось. Из Таганрога он уже приехал ко мне, предложил свои услуги и даже передал мне свыше ста тысяч рублей каких-то неучтенных денег, которые я отдал Морскому благотворительному обществу.
Когда передо мной встал вопрос об угле, я вспомнил о базе и написал Шрамченко письмо, прося организовать правильный подвоз из Константинополя. Он ответил, что это вполне возможно, но на иностранную валюту или на товар. Валюты у меня никакой не было, и мы стали думать, откуда взять товары, которые могли бы пойти на рынке в Константинополе. К сожалению, все ценные вещи были уже давно разворованы, но, наконец, вспомнили про большие запасы стального троса, заготовленные во время Великой войны для плетения сетей против подводных лодок. Шрамченко обещал их продать, и мы погрузили на пароход более двухсот тонн этого ценного материала. К ним прибавилось еще кое-что из старого имущества по электротехнике, динамо-машины, якоря и пр.
Когда пароход пришел в Константинополь, то все компрадоры и торговцы этого рода товарами вступили между собой в стачку и дали безобразно малую цену, за которую продавать было невозможно, и дело затянулось. В конце концов удалось все-таки реализовать сумму, нужную для покупки 5 тысяч тонн угля. Этого, конечно, было очень мало, и пришлось изыскивать другие способы.
Шрамченко написал, что в настоящий момент можно выгодно продать небольшие грузовые пароходы малого тоннажа. Мы имели довольно много таких пароходов, служивших нам тральщиками. Я назначил комиссию под председательством Саблина для выбора непригодных для нас судов и запросил Таганрог о разрешении, но оттуда ответили молчанием. В конце концов Герасимов мне посоветовал – делать все на свой страх и риск. Я так и сделал, но каждое свое решение проводил через комиссию. Это было необходимо во избежание всевозможных инсинуаций и поклепов, которые кишмя кишели вокруг. За пароходами гонялись всякие спекулянты, имевшие даже высокие чины как в морском, так и других ведомствах. Ко мне являлись с самыми бесцеремонными требованиями, подкрепленными ходатайствами из Таганрога от власть имущих лиц, подсылали даже красивых женщин. По счастью, заведенный порядок гарантировал меня от нареканий и мне удалось выйти чистым из всей этой нечистоплотной кутерьмы. В конце концов, когда доставка угля из Мариуполя прекратилась, началась доставка из Константинополя, хотя, конечно, далеко не в том количестве, как это было желательно.
Для скрытной подготовки с эвакуации был избран следующий способ. На рейд был выведен пароход добровольного флота «Херсон», и на него начали понемногу грузить различные запасы, как бы готовясь к дальнему плаванию во Владивосток, для чего «Херсон» действительно одно время подготовлялся. В начале все шло гладко, но потом пошли разговоры.
Однажды ко мне явился комендант со своим начальником штаба генералом Лукьяновым,[392] и этот последний заявил, что, по его сведениям, флот собирается тайком покинуть Севастополь и оставить город и армию на произвол судьбы. Вначале я не мог не рассмеяться, но, когда генерал Лукьянов начал настаивать на своем мнении, я уже вышел из себя и так сильно возвысил голос, что генерал притих. Я откровенно рассказал свои сомнения и предположения и сказал, что буду продолжать подготовку, не делая из этого громкой огласки. Оба генерала со мной не согласились и предложили назначить официальную комиссию под председательством генерала Редигера,[393] бывшего военного министра, который проживал в это время в Севастополе. Я ничего абсолютно не имел против и даже наоборот, был очень рад этому исходу, снимавшему с меня и заботы, и половину ответственности, но выразил сомнение, как это будет принято генералом Деникиным. Они заявили, что берут в этом отношении инициативу на себя. Мне оставалось только их поблагодарить, и инцидент был исчерпан.
С этого дня в одной из комнат штаба начала собираться комиссия, в которой участвовал и мой представитель. Насколько я помню, комиссия работала недолго. Генерал Субботин, кажется, получил нахлобучку из Таганрога, и комиссия была распущена. В это время, впрочем, и положение Крыма несколько изменилось.
Однажды мне доложили, что на пароходе из Одессы приехала вдова бывшего наместника Кавказа графа Воронцова-Дашкова.[394] Я счел нужным поехать к ней на пароход и спросить ее, не могу ли чем-нибудь быть полезен. Оказалось, что она едет в Ялту на лошадях, и лошади уже имеются, так что все уже было сделано.
На пароходе я заметил молодого генерала в белой папахе и казачьей форме. Я спросил, кто это, и мне ответили, что это генерал Слащов. Я уже много слышал о храбрости и талантах Слащова, а потому сейчас же подошел и познакомился с ним. Оказалось, что он приехал проведать свою жену и дочь, которые ехали в Константинополь, но опоздал, так как они уже уехали. Я сейчас же пригласил его к себе завтракать, и он согласился. За завтраком он мне рассказал положение дел.
Главнокомандующий приказал его корпусу перейти на левый берег Днепра и идти к Бердянску, чтобы составить левый фланг группы войск, опирающейся левым флангом на Азовское море, а правым на Дон. Генерал говорил, что этот маневр бесполезен, так как его корпус никоим образом не поспеет вовремя к месту назначения. Мне сейчас же пришла в голову мысль уговорить его взять на себя защиту Крыма, и я ее высказал. Генерал задумался, но затем сказал, что волей или неволей, но придется ему все равно отступить на Крым, так как соединиться с Деникиным он не успеет, а уходить обратно за Днепр не имеет смысла, так как половина его корпуса уже находится на левом берегу. Он просил меня только подкрепить его решение моим ходатайством перед Шиллингом.
Мы решили, что устроим в три часа совещание у коменданта по обороне Крыма и там он примет окончательное решение. Я немедленно телеграфировал коменданту, что приду к нему в 3 часа со своим начальником штаба, и просил его пригласить и своего начальника штаба, и сообщил, что будет совещание по обороне Крыма, на котором будет присутствовать генерал Слащов со своим начальником штаба полковником Дубягой.[395] Он согласился.
В три часа мы все собрались. Я, как старший, взял на себя председательство и просил коменданта доложить о возможности защиты Крыма нашими собственными средствами. Генерал Субботин вынужден был сознаться, что возможности абсолютно нет никакой. Я подтвердил это заявление и просил генерала Слащова принять защиту Крыма на себя с его корпусом. Генерал тут же продиктовал полковнику Дубяге приблизительно следующую телеграмму: «Ознакомившись с положением в Крыму, который не имеет никакой воинской силы для своей защиты и вместе с тем, благодаря своему положению, представляет чрезвычайно важную стратегическую базу, я решил принять на себя его защиту, для чего отдаю следующие распоряжения моему корпусу и т. д.».
Из описания этого важного момента в истории Гражданской войны читающий, конечно, заметит нижеследующее. Я сознательно насиловал волю коменданта генерала Субботина. Генерал Субботин был прекрасный офицер, но он не имел способностей военачальника и был слабоволен, но вместе с тем, будучи старше генерала Слащова, не хотел ему подчиняться. Генерал Слащов с своей стороны насиловал волю генерала Шиллинга, который не хотел отпускать его с правого берега и сделал это только по трижды повторенному приказанию главнокомандующего, вследствие чего и произошло запоздание корпуса с переправой через Днепр. Генерал Слащов поставил генерала Шиллинга перед совершившимся фактом, иначе тот мог бы его отозвать назад. Генералу Деникину также пришлось признать совершившийся факт, но я не знаю, как он его принял.
Приняв решение, генерал Слащов в тот же вечер уехал в экстренном поезде на Перекоп для осмотра позиций, и оттуда посыпался и мне, и Субботину целый дождь телеграмм и распоряжений по обороне. Работа закипела. Проволоки для заграждений у нас было достаточно, но не было кольев. Сейчас же был снаряжен транспорт в Ялту за кольями. С кредитами генерал Слащов приказал не стесняться и брать деньги из казначейства по его письменному приказанию. Порт весь стал работать на оборону, и об эвакуации уже не было разговоров.
Я послал генералу Шиллингу телеграмму с просьбой назначить Слащова начальником обороны Крыма. Это нужно было для того, чтобы генерал Субботин не мог претендовать на старшинство, и этот вопрос разрешился благоприятно. Субботин был назначен начальником тыла. Я, как командующий флотом, был самостоятелен, но генерал Слащов видел с моей стороны столько поддержки, что и не возбуждал вопроса о подчинении.
Через два дня генерал Слащов вернулся и сообщил мне свои выводы. Он решил не укреплять первую линию обороны, т. е. северную часть Перекопского перешейка, а все внимание обратить на южную часть его и бить большевиков маневром, опираясь на сильные укрепления и тяжелую артиллерию южной позиции. Действуя таким образом, он гарантировал себя от обхода по мелководью и не позволял неприятелю развернуть против себя больших сил. Ширина перешейка не превосходила 5–6 верст, и с левого фланга неприятель простреливался морскими пушками с артиллерийских понтонов. Сила корпуса Слащова не превосходила 6 тысяч штыков, но он надеялся усилиться местными средствами.
Какую странную роль может сыграть случай. Если бы мы не встретились случайно на пароходе, то Гражданская война, вероятно, окончилась бы раньше. Головная часть корпуса Слащова, вероятно, присоединилась бы к Деникину, а остатки или были разбиты на пути, или отступили бы в тот же Крым, но были бы не в состоянии сопротивляться по малочисленности и дезорганизованности. Крым, конечно, эвакуировался бы с флотом, а генерал Деникин вынужден был бы окончить борьбу на полгода раньше. Блестящей крымской эпопеи тогда бы не было. Не берусь судить, что было бы лучше, но только констатирую роль господина наших судеб – случая.
В скором времени после прибытия Слащова в Крым к нам начали прибывать в большом количестве всевозможные лица и учреждения. Были между ними и полезные, но большинство было вредных. Это были герои тыла, сеявшие повсюду панику и ни к чему не пригодные. Из полезных нужно наименовать два бронепоезда легкого типа и два тяжелых. Один даже с 8-дюймовыми орудиями. После некоторых исправлений поезда начали обслуживать войска Слащова, отступавшие на Крым, и держали большевистскую кавалерию, их преследующую, в почтительном отдалении. Пришли еще некоторые небольшие части, в том числе конные полицейские стражники из разных губерний, и они составили импровизированную кавалерию, мало, впрочем, пригодную для боя. В Севастополе начало становиться тесно, и пришлую штатскую публику комендант начал отправлять в Ялту. Они не хотели уезжать, боясь быть забытыми при эвакуации, но их уверили, что нечего бояться и что Крым продержится еще долго.
Много явилось целых учреждений, которые не желали расформировываться, а предполагали существовать и получать жалованье, ничего не делая. Слащов приказал расформировать все военные учреждения, не пригодные для обороны, а личный состав отправить в строевые части. Но это было легче сказать, чем сделать. Учреждения испарились, как будто их не было.
Приехал также генерал Май-Маевский с целыми конвоем и несколькими адъютантами. Я недоумевал, что будет делать конвой почтенного генерала, но очень скоро пришла телеграмма, кажется, от дежурного генерала, с требованием расформирования конвоя и возвращения офицеров и нижних чинов в свои части. Не знаю, вернулись ли они, куда им было приказано, но знаю, что один из адъютантов остался в Севастополе и месяц спустя организовал большевистский комитет для устройства восстания и захвата власти в городе. К сожалению, забыл фамилию этого адъютанта.[396] Морская контрразведка узнала об этом заговоре, и девять человек участников, в числе которых три офицера, были арестованы во время заседания, и бумаги их захвачены. Сомнений быть не могло. Оказалось, что адъютант командующего армией давно уже был ярым большевиком, сообщавшим все, что происходило в штабе, во вражеский лагерь. Он пользовался полным доверием Май-Маевского, участвовал во всех кутежах и знал все оперативные планы.
Должен воздать хвалу начальнику морской контрразведки капитану 2-го ранга князю Туманову.[397] Он был безупречно чистым человеком и работал из-за идеи. К сожалению, нельзя сказать того же о большинстве его собратьев по ремеслу. Мне приходилось встречать уже в эмиграции нескольких лиц, причастных к этой важной отрасли военного дела, и почти все были люди сомнительной нравственности. А сколько было еще таких, которые служили большевикам и нарочно, для большего удобства информации, поступали в контрразведку Добровольческой армии. Они, конечно, остались в России и теперь состоят, наверное, в различных чекистских учреждениях.
Вся пойманная компания была, конечно, предана полевому суду и расстреляна.
Я был с ответным визитом у Май-Маевского в гостинице «Кист», где он поселился. Он поразил меня своей невоинственной наружностью, хотя говорят, что был лично очень храбрым человеком. Он приписывал все наши неудачи большевистской кавалерии, организацию которой мы, по его словам, прозевали. Наша кавалерия оказалась и количественно, и качественно хуже большевистской, которая имела прекрасных лошадей и была обмундирована в первоклассную форму нашей старой кавалерии. Были полки, одетые в кирасирскую и гусарскую форму. На мой недоуменный вопрос, как это могло случиться, что их взятая с бору и сосенки кавалерия вдруг оказалась в несколько месяцев обученной лучше нашей, имевшей такой боевой опыт, генерал только развел руками и сказал, что у Троцкого большой организационный талант.
Я лично, впрочем, думаю, что дело тут не в таланте Троцкого, а в том, что наши казаки, составлявшие главную массу кавалерии, не хотели воевать, а спешили домой по станицам, чтобы отвезти туда награбленное добро.
Кроме Май-Маевского в Крым приехали многие политические деятели, как, например, Гучков, князь Долгоруков и другие, фамилии которых не помню. Все они, по моему совету, отправлялись в Ялту, взяв с меня обещание, что при эвакуации я их там не забуду.
Заведующий сбором зерновых хлебов в Таврической губернии обратился ко мне с просьбой вывезти запасы хлеба из Хорл и Скадовска. Я сейчас же послал четыре транспорта, которые вместе взяли около 8 тысяч тонн. Хлеб мог пригодиться и нам при длительной осаде и, кроме того, представлял собой готовую и надежную валюту, но когда Деникину пришлось отступать уже за Кубань, то из Новороссийска начались сначала жалобные, а потом и угрожающие телеграммы с требованием присылки хлеба. Это показывает, насколько был нераспорядителен центр, требующий от Крыма, никогда не обладавшего излишками хлеба, посылки такового на Кубань, которая была житницей для России. Мы пришлось послать два транспорта, т. е. половину имевшихся запасов.
Угля также все время не хватало, несмотря на регулярную поставку из Константинополя. Каждый транспорт ожидался нами с большим нетерпением. Наступала уже зима, хотя и крымская. Чтобы сократить расход, пришлось прибегнуть к примитивным способам отопления судов посредством самодельных каминов. Железная дорога, водокачка и другие учреждения также оказались без угля и требовали его от флота. Все это были последствия близорукой политики Особого совещания при главнокомандующем. Видимо, военные неудачи исключались или скрывалось положение дел. Времени для сосредоточения больших запасов как хлеба, так и топлива, в Крыму и Новороссийске было совершенно достаточно, но никто об этом не подумал, и в результате шли требования к флоту, через месяц после полного отказа, как в деньгах, так и в запасах.
Два неудавшихся заговора против добровольцев заставили коменданта и меня принять особые меры безопасности. Мы разделили город на участки и назначили соответствующую охрану. В Морское собрание были переведены гардемарины Морского корпуса как самый надежный элемент, и установлена постоянная связь с судами. Комендант и я были соединены между собой прямым телефоном во избежание подслушивания. На кораблях все было благополучно, потому что одна треть экипажей состояла из интеллигенции. Эти меры, видимо, подействовали, так как в Севастополе новых заговоров больше не открывалось, но нельзя было сказать того же про весь Крымский район. В горах появились пока еще малочисленные шайки «зеленых». Так назывались шайки, не примыкавшие ни к большевикам, ни к добровольцам. Скорее всего их можно было приравнять к анархистам типа Махно. Вся программа этого последнего была очень короткая: «Когда в наших руках будет вся власть, мы соберем выборных от всех крестьян и установим форму правления, а пока этого еще нет, всем исполнять приказ батьки Махно и больше никого». Таких маленьких Махно в то время на всей территории России было сколько угодно.
Очень серьезный заговор возник в Симферополе, но он был явно инспирирован большевиками и ими на его устройство были отпущены большие деньги.
Однажды комендант заехал ко мне и сообщил, что был у генерала Слащова с очередным докладом в Джанкое, где находился его штаб. Когда на обратном пути его поезд остановился в Симферополе, к нему в вагон вошли три офицера и сообщили, извинившись, что вынуждены его арестовать до тех пор, пока он не даст подписки, что стоит за монархию и готов исполнять все распоряжения монархической организации. Выглянув в окно, комендант убедился, что вагон окружен часовыми. Конечно, комендант, несмотря ни на какие убеждения, подписки не дал, хотя и заявил, что по убеждениям сам монархист, и его через три часа пустили свободно продолжать путь.
Я не помню хорошо, как произошло дело в Симферополе, но там фактически несколько дней была власть полковника Орлова,[398] который объявил себя комендантом от имени монархической организации. Члены организации всем рассказывали, что Деникин погубил русское дело тем, что не выставил девиза «За веру, царя и Отечество» и что они исправляют его ошибку. Они предполагали объявить главнокомандующим герцога Лейхтенбергского, впредь до прибытия государя Михаила Александровича, который, по их сведениям, скоро прибудет. Нашлось много легковерных людей, которые клюнули на эту удочку и поверили провокаторам. Нужно им отдать справедливость, что они не делали бесчинств, хотя все окружение полковника Орлова сплошь состояло из весьма подозрительных людей.
Я не знаю, знал ли лейтенант флота герцог Лейхтенбергский о той роли, которая ему предназначалась в этом деле. Сейчас же после этой истории герцог уехал в Константинополь.
Когда Слащов узнал об этом деле, он предписал полковнику Орлову немедленно к нему явиться. Тот отказался, и тогда Слащов выслал против Симферополя воинскую часть, но Орлов не стал ее дожидаться и со своими приверженцами, в значительной степени поредевшими, ушел в горы к зеленым. Но этим дело не кончилось. Через несколько дней Орлов появился вблизи Ялты со своим отрядом и потребовал сдачи города. Навстречу к нему выехал генерал Покровский, бывший в это время не у дел, и вступил с ним в переговоры. Я послал в его распоряжение яхту «Колхида» на случай, если бы понадобилось вооруженное вмешательство, но все обошлось мирно. Генерал Слащов обещал Орлову полное прощение, если тот со своим отрядом явится на фронт, и тот согласился и действительно пошел к Перекопу, но, не дойдя до него, снова повернул обратно. Тогда уже Слащов выслал против него свою лучшую часть. Орлов был настигнут, отряд его рассеян, а сам он, кажется, был убит своими же сторонниками. Вся история этого дела чрезвычайно темная и непонятная. Несомненно, что главную роль играли большевики, стремившиеся устроить кутерьму в тылу у Слащова, но, кажется, тут участвовали и просто обманутые люди. Это происшествие сильно взволновало население Крыма и, в частности, Севастополя.
Орлов имел сочувствие многих офицеров как флота, так и армии. Один раз в Севастополе собрался даже целый офицерский митинг, на который приехал Слащов и горячо убеждал молодежь не поддаваться большевистской провокации.
Я не помню точно времени, когда большевики подошли к Перекопу и начали военные действия. По-видимому, это было около рождественских праздников. Подошла дивизия с полевой артиллерией, и очень скоро началась первая атака. Слащов поступил по составленному им плану. Вход на перешеек защищался только небольшими заставами, которые быстро отступили в глубину перешейка.
Большевики развернули цепь и двигались, несмотря на продольный огонь тяжелых орудий с барж. Подпустив их довольно близко, Слащов бросил свои главные силы на их левый фланг, опрокинул его и зашел в тыл центру и правому флангу большевиков. В результате боя нам досталось три тысячи пленных и четыре орудия. Оставшиеся в панике бежали, и довольно продолжительное время существовало свободное сообщение между Крымом и Мелитополем. Потери у Слащова были ничтожные. К сожалению, для ведения преследования Слащов не имел кавалерии, иначе он мог бы создать полезную диверсию и для Деникина.
Первая эвакуация началась с Одессы. Как всегда в этих случаях бывает, ничего заранее там не было подготовлено и от населения тщательно скрывали возможность эвакуации, уверяя, что на фронте все обстоит благополучно. Я ожидал эвакуации Одессы, и потому панические телеграммы Шиллинга не застали меня врасплох. Я отправил туда восемь транспортов и три миноносца для охраны.
Положение несколько осложнилось тем, что Одесская гавань замерзла, и миноносцы с их легкими корпусами терпели аварии. По словам очевидцев, эвакуация прошла как нельзя хуже. Не было ни дисциплины, ни порядка, места на судах брались с боем, и общий вопль был против Шиллинга. Конечно, следует принять во внимание, что при всех катастрофах начальники всегда бывают виновными в общественном мнении, но, кажется, в этом случае оно было недалеко от истины.
Шиллинг со своим флотом явился в Севастополь и, так как Крым был в районе его армии, начал делать распоряжения. Мы с ним обменялись визитами. Он говорил, что если бы Деникин не взял от него Слащова, то он отстоял бы Одессу. Прибытие Шиллинга немного усилило оборону Крыма. Прибыл батальон юнкеров – часть, которой Слащов не мог нахвалиться, и около 2000 штыков разных частей, которые еще нужно было переформировать для того, чтобы они годились в бой. Прибыли еще огромные штабы тыловых учреждений, которые Шиллинг продолжал сохранять, назначив им местопребывание в Феодосии. Это было уже безусловно лишнее и вредное перегромождение обороны. Сам Шиллинг предпочитал оставаться в Керчи и оттуда со своим штабом управлять войсками Слащова. В общем, получалась громоздкая и ненужная организация, только мешающая Слащову.
Теперь мы подходим к событиям, которые изменили всю структуру Добровольческой армии и создали крымскую эпопею – последний этап ее двухгодовой тяжелой борьбы. В один прекрасный день на пароходе «Великий князь Александр Михайлович» прибыл в Севастополь генерал Врангель. Как я узнал, у генерала было отнято командование армией, вследствие того, что он обратился к двум другим командующим армиями с приглашением собраться вместе и обсудить положение дел. Я слышал много хорошего о генерале Врангеле как о боевом начальнике, но слышал также, что он честолюбив и не всегда дисциплинирован.
После его приезда к нему на пароходе стало являться много народа, и имя его было на устах у всех. Многие открыто говорили, что он должен быть назначен вместо Шиллинга командующим армией. Ко мне стало также являться много лиц с просьбой повлиять на генерала Деникина в смысле этой перемены. Генерал Шиллинг еще не уехал в это время из Севастополя, и, вероятно, и до него доходили ходившие по городу разговоры на эту тему. Я лично, конечно, сочувствовал такому решению вопроса, видя потрясающую непопулярность генерала Шиллинга как в войсках, так и в населении.
Однажды генерал Врангель прислал мне сказать, что в 3 часа дня он будет у меня вместе с генералом Шиллингом. Они оба так и явились, как было назначено. Я их принял у себя в кабинете, и кроме нас троих при разговоре никого не было. Генерал барон Врангель был очень нервно настроен, а Шиллинг в самом мрачном настроении. Барон Врангель сразу начал критиковать всю политику и стратегию генерала Деникина, который, по его мнению, довел дело до гибели добровольческой идеи и полного торжества большевизма. Он прочел свое письмо генералу Деникину, в котором и формулировал свои обвинения. Далее генерал Врангель сообщал, что, по его мнению, дело еще не безнадежно погублено. Что, взявши базой Крым, в котором армия в 15 000 штыков может долго держаться против впятеро сильнейшего неприятеля при помощи флота, можно выждать благоприятного времени для нового наступления. В конце концов барон Врангель предложил собрать совет старших начальников, избрать нового старшего начальника, независимого от генерала Деникина, и начать дело сначала.
Признаю, что такого предложения я никак не ожидал. Я совершенно откровенно высказал генералу Врангелю мое мнение, что отделение Крыма от генерала Деникина будет знаменовать собою полное моральное разложение армии и, безусловно, погубит все дело.
Далее я сказал, что, насколько мне известно, все войска, находящиеся в Крыму, будут приветствовать его назначение новым начальником обороны, но при условии, что это назначение будет исходить от генерала Деникина. Я заявил, что и генерал Шиллинг, вероятно, присоединится к моему мнению. Генерал Шиллинг, все время молчавший, на это сказал, что он своего мнения сказать не может, так как вопрос слишком сложный и требующий долгого размышления. Мы порешили с бароном Врангелем на том, что он будет думать до завтрашнего дня, а затем скажет, согласен ли он подчиниться генералу Деникину.
На этом мы и расстались. Я не знаю, говорил ли генерал барон Врангель с генералом Шиллингом до разговора со мной, но поведение генерала Шиллинга было очень странным. В таком важном вопросе он хранил сугубое молчание. Не знаю, правда это или нет, но до меня дошли слухи, что генерал Шиллинг послал главнокомандующему телеграмму, что мы оба замышляем переворот.
На другой день генерал Врангель приехал ко мне и заявил, что согласен подчиниться генералу Деникину. Тогда я тут же при нем составил телеграмму и дал ему прочесть. Телеграмма была приблизительно следующего содержания: положение в Крыму смутное и тревожное, требующее, чтобы во главе стоял авторитетный начальник как в глазах армии, так и населения, каковым, по общему мнению, является барон Врангель, почему убедительно ходатайствую о назначении его начальником обороны Крыма.
В тот же день в Севастополь приехал из Новороссийска генерал Лукомский по семейным делам. Узнав об этом, я сейчас же отправился к нему рассказать ему все события и создавшуюся обстановку и просил поддержки моего ходатайства. Мы оба составили новые телеграммы и послали их главнокомандующему. Ответ был получен дня через три. Первая телеграмма гласила о подчинении флота генералу Шиллингу, второй предписывалось мне сдать командование флотом адмиралу Герасимову по его прибытии в Севастополь; третьей – генералам барону Врангелю и Шатилову предписывалось покинуть пределы Крыма и, наконец, в четвертой, пришедшей несколько позже, сообщалось, что генерал Лукомский, барон Врангель, Шатилов, мой начальник штаба контр-адмирал Бубнов и я увольнялись в отставку.
Признаюсь, что вначале мне было больно от такой несправедливости со стороны генерала Деникина, честный и правдивый характер которого я привык уважать, но, размыслив, я пришел к убеждению, что в его положении трудно было думать о справедливости. Почва уходила из-под его ног, он видел вокруг себя повсюду измену и предательство и рубил направо и налево, стараясь силой и террором найти выход из положения. Положение же его было глубоко трагическое: до последней минуты сражались только полки так называемой цветной гвардии – Корниловский, Марковский, Алексеевский и Дроздовский. Все прочие, и главным образом казаки, давно уже бросили сопротивление и разбегались по станицам прятать награбленное имущество. Где же в такой обстановке думать, чтобы напрасно кого-нибудь не обидеть.
Когда приехал Герасимов, я сдал ему должность, а сам переселился к знакомым в качестве частного человека. Как раз в это время последовала вторая атака Перекопа и на этот раз более серьезная, так как к большевикам подошли сильные подкрепления. Большевикам удалось дойти до наших главных позиций и даже отчасти занять их, но подошедшие резервы генерала Слащова выбили их после жестокого штыкового боя, опрокинули всю массу обратно за Перекоп. Большевики оставили на поле сражения массу трупов, но пленных было немного. Слащов тоже понес чувствительные потери.
Во время нашей совместной службы мне приходилось не раз беседовать и наблюдать действия генерала Слащова, но понять точно его психологию и характер я не мог. Несомненно, что он имел ту военную жилку, без которой ни один генерал не может сделаться художником своего дела. Он умел импонировать как офицерам, так и солдатам, быстро схватывал положение дел в бою и умел направить резерв туда, где он действительно был нужен. Сам он был храбр до отчаянности и не задумался один раз атаковать с одним своим штабом неприятельскую заставу числом не меньше роты, на которую нарвался совершенно неожиданно. Вместе с тем он страдал общей болезнью всей нашей интеллигенции – неврастенией, был кокаинистом, т. е. человеком без всяких принципов. Его переход к большевикам после эвакуации ясно подтверждает высказанное мною положение. Мне пришлось во время Гражданской войны работать совместно с двумя человеками этого типа. Это Гришин-Алмазов, трагический погибший в Каспийском море, и Слащов. С обоими я был в хороших отношениях и это вело к пользе дела. Во всяком случае, при нашем общем безлюдье они все же были выдающимися людьми.
После сдачи командования мною овладело тяжелое раздумье: что делать дальше? Будучи уволен в отставку в дисциплинарном порядке, я мог участвовать в борьбе только в качестве простого добровольца, т. е. с винтовкой в руках, но ни мой возраст, ни здоровье больше не давали мне возможности следовать по этому пути. Генерал Врангель предложил мне ехать с ним в Константинополь и там ожидать событий, которые могут повернуться совсем в другую сторону. Я думал три дня и наконец решился. 1 марта старого стиля пароход «Великий князь Александр Михайлович» повез нас в Константинополь. Провожая глазами удалявшиеся русские берега, я даже не ощущал у себя в душе особенного горя. На меня нашло просто какое-то отупение. Я двигался как автомат и сразу сделался старше на десять лет. Это состояние потом постепенно прошло, так как жизнь брала свое и мелкие интересы повседневной жизни, полной забот, понемногу завладели мной.
Да, много было пережито за эти шесть лет с июля 1914 года по март 1920-го. У меня было четыре этапа, которые я мог поименовать так: Ставка, Дунай, Одесса и Севастополь. Везде переживались и хорошие, и тяжелые моменты, но больше было, конечно, тяжелых. Самым лучшим был, пожалуй, период начала образования Одесского центра, когда мне особенно везло и из ничего создавалось что-то большое и радостное, а главное, впереди блистала надежда на возрождение России лучшей, чем она была раньше, и, наоборот, самым тяжелым был последний период севастопольского пребывания, когда все рушилось. Но не следует падать духом. Еще будет жива наша родина и выйдет из испытаний лучше и крепче, чем была.
Было ли ошибкой Белое движение? Да, если во всем свете восторжествует и укрепится коммунизм. Коммунизм и буржуазное мировоззрение не могут уживаться мирно рядом друг с другом. Кто-нибудь из них должен победить и погубить своего противника.
И вот если, как следует ожидать, победит буржуазия, то Белое движение не окажется ошибкой, и пролитая кровь не будет напрасной. Если бы среди русской интеллигенции не нашлось кучки самоотверженных людей, готовых пожертвовать жизнью за благо родины, то Россия, вероятно, перестала бы существовать, а на ее месте появились бы новые этнографические образования, вроде украинцев, белорусов, чуди, жмуди и т. д. Нация, не способная к сопротивлению насильникам, уничтожившим даже ее название и поправшим ее веру, семью и честь, не достойна дальнейшего существования. Ее ожидает судьба ацтеков, инков и других исчезнувших народов. Наоборот, нация, геройски защищавшаяся, всегда воспрянет и после временного упадка снова достигнет прежнего величия. Если бы не было Костюшко,[399] то не было бы и возродившейся Польши. Если бы не было Яна Жижки,[400] то не было бы и Чехословакии, а без Косовской битвы[401] не было бы Сербии. «Без Йены не было бы Седана»[402] – говорит немецкая пословица, и это правда. Пролитая кровь праведников вопиет к небу. Из нее растут семена геройства и патриотизма, которые дадут богатые всходы и приведут к возрождению России. Православная вера, очищенная кровью мучеников, снова засияет путеводной звездой русскому народу, и, наконец, даже русская интеллигенция, прошедшая через горнило тяжелых испытаний, сознает свои грехи, вновь обретет сильную волю своих предков, вернется к религии и морали и снова займет свое место во главе народа, которое она так безрассудно потеряла. Да свершится все это.
Примечания
1
Св. Станислава 3-й степени (06.12.1896), Св. Анны 3-й степени (06.12.1903), Св. Георгия 4-й степени (07.08.1906), Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом (02.04.1907), Св. Владимира 3-й степени (1914), Св. Станислава 1-й степени (1915), Св. Анны 1-й степени (06.12.1915); иностранные награды: Почетного Легиона командорский крест (1914), Бухарский Золотой Звезды 1-й степени (1916), Английский Бани 3-й степени (1916).
(обратно)2
Лемке М. К. 250 дней в царской ставке (25 сент. 1915–2 июля 1916). Пг., 1920; переизд.: Мн., 2003.
(обратно)3
Бубнов А. Д. В царской ставке: Воспоминания адмирала Бубнова. Нью-Йорк, 1955.
(обратно)4
См. настоящее изд., с. 63
(обратно)5
См. настоящее изд., с. 41.
(обратно)6
Город-порт на Дунае, уездный центр Бессарабской губернии.
(обратно)7
Орган оперативного руководства флотом. Создан по итогам работы комиссии под председательством старшего лейтенанта А. В. Колчака, образованной в 1905 г. при Главном морском штабе для анализа причин поражения флота в борьбе с японским флотом и разработки предложений по реорганизации структуры управления. Высочайшим рескриптом 24 апреля 1906 г. на имя морского министра и Именным Высочайшим указом Правительствующему Сенату от 5 июня из состава Главного морского штаба были выведены части стратегическая и организационная по мобилизации флота с преобразованием в самостоятельный Морской генеральный штаб (МГШ). Первым начальником МГШ стал капитан 1-го ранга (с 1907 г. контр-адмирал) Л. А. Брусилов. «Наказом Морскому генеральному штабу» от 5 июня устанавливалась его совместная деятельность с Генеральным штабом военного ведомства.
(обратно)8
Создано в Ставке с началом войны.
(обратно)9
Нелегальные или полулегальные, по обстоятельствам, агитационно-вербовочные подразделения, открывавшиеся командованием Добровольческой армией на территориях, неподконтрольных армии, но находившихся под властью антибольшевистских сил, прежде всего, на территории Украины. См. подроб.: Гагкуев Р. Охота на охотников: Вербовочные центры Добровольческой армии // Родина. 2008. № 3.
(обратно)10
Ливен Александр Александрович (1860–1914), светлейший князь, вице-адмирал (1912). Окончил Берлинский кадетский корпус (1878). Служил в лейб-гвардии Семеновском полку, подпоручик (1884). Переведен во флот мичманом по экзамену (1884). Окончил минный офицерский класс (1887), Николаевскую Морскую академию (1898). Капитан 2-го ранга (1898). Участник Русско-японской войны 1904–1905 гг. Капитан 1-го ранга (1905). В 1908 г. прикомандирован к Морскому генеральному штабу. В том же году назначен командующим 1-й минной дивизией Балтийского флота. Контр-адмирал (1909). С 11.10.1911 и. о. начальника, с 25.03.1912 г. начальник Морского генерального штаба.
(обратно)11
Русин Александр Иванович (1861–1956), адмирал (1916). Окончил Морское училище (1882), Гидрографический отдел Николаевской морской академии (1888). Участник Китайского похода 1900–1901 гг. Морской агент (атташе) в Японии (1899–1904). Начальник Николаевской морской академии (1908–1910) и директор Морского кадетского корпуса (1908–1913). Вице-адмирал (1912). Начальник Главного морского штаба (1913–1914), Морского генерального штаба (1914–1917). Активный сторонник широкого военно-морского строительства, в первую очередь линейного флота. С июня 1915 по март 1917 г. помощник морского министра. 1 июня 1917 г. уволен в отставку. После прихода к власти большевиков в эмиграции. Был председателем Всезарубежного объединения русских морских организаций.
(обратно)12
Можно полагать, что автор имеет в виду так называемую Большую программу реорганизации и перевооружения армии, утвержденную в 1913 г. и предполагавшуюся к завершению в 1917-м.
(обратно)13
Русско-японская война началась без объявления войны, внезапным ударом 27 января 1904 г. японских миноносцев по русским кораблям Первой Тихоокеанской эскадры и Сибирской флотилии, стоявшим на внешнем рейде Порт-Артура. Это обеспечило господство японцев на море. В тот же день были атакованы русские корабли в корейском порту Чемульпо (Инчхон).
(обратно)14
Вероятно, Альтфатер Василий Михайлович (1883–1919). Окончил Морской корпус (1902), Николаевскую морскую академию (1908). Участник обороны Порт-Артура в ходе Русско-японской войны. В годы Первой мировой войны начальник Военно-морского управления при главнокомандующем армиями Северного фронта. Контр-адмирал (октябрь 1917 г.). Перешел на сторону большевиков. Эксперт на мирных переговорах в Брест-Литовске. С февраля 1918 г. помощник начальника Морского генерального штаба. С апреля – член коллегии Народного комиссариата по военным и морским делам, с октября – член Реввоенсовета и командующий морскими силами Республики. Скончался в результате сердечного приступа.
(обратно)15
Гулевич Арсений Анатольевич (1866–1947). Окончил 3-е военное Александровское училище (1885), Николаевскую академию Генерального штаба (1892). Служил по Генеральному штабу. Военный теоретик, преподавал в Николаевской академии. В 1908–1912 гг. командир лейб-гвардии Преображенского полка. С 1912 г. начальник штаба войск гвардии и Петербургского ВО. С началом Первой мировой войны – начальник штабов 6-й, 9-й армий, Северо-Западного фронта. В 1916–1917 гг. командовал корпусом. В годы Гражданской войны – в Финляндии, представлял интересы генерала Н. Н. Юденича, заведовал Красным Крестом. В эмиграции во Франции, участвовал в работе Военно-научных курсов генерала Н. Н. Головина, состоял в руководящих органах ряда военных объединений зарубежья.
(обратно)16
Линейные корабли «Гангут», «Севастополь», «Петропавловск» и «Полтава». Заложены летом 1909 г., спущены на воду в 1911 г., вступили в строй в ноябре-декабре 1914 г. Имели сильное вооружение, сравнительно высокую скорость хода, но относительно слабое бронирование. Образовали 1-ю бригаду линейных кораблей Балтийского флота. Далее в РККФ.
(обратно)17
Морское сражение 14(27)–15(28) мая 1905 г. между русским и японским флотами в ходе Русско-японской войны 1904–1905 гг. Сражение закончилось катастрофическим поражением русской эскадры. Последнее крупное сражение Русско-японской войны, повлиявшее на ее исход. Последнее крупное морское сражение додредноутной эпохи; повлияло на развитие военно-морской мысли во всех ведущих морских державах.
(обратно)18
Макаров Степан Осипович (1848–1904), вице-адмирал (1896), русский военно-морской деятель, полярный исследователь, океанограф, кораблестроитель. Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Совершил два кругосветных плавания. В Русско-японскую войну командующий Тихоокеанским флотом; погиб 31.03 (13.04) 1904 г. на броненосце «Петропавловск» при выходе в море с Порт-Артурского рейда.
(обратно)19
Кладо Николай Лаврентьевич (1862–1918), историк и теоретик русского флота, генерал-майор по адмиралтейству (1913). Окончил Морское училище (1881) и механическое отделение Морской академии (1886). С 1896 г. штатный преподаватель Морской академии. За публичную критику в открытой печати действий флотского начальства при подготовке эскадры Рожественского в 1905 г. уволен в отставку. В 1906 г. вновь принят на службу; преподавал в Морской академии. Полковник (1907). С 1910 г. ординарный, а с 1916 г. – заслуженный профессор Морской академии. С мая по декабрь 1917 г. был начальником Управления военно-морских учебных заведений, в мае 1917 г. выбран начальником академии. Умер от холеры.
(обратно)20
Бирилев Алексей Алексеевич (1844–1916), адмирал (1907). По окончании Морского кадетского корпуса (1864) служил на Балтийском флоте. Контр-адмирал (1894), вице-адмирал (1901). Главный командир флота и портов, начальник морской обороны Балтийского моря и военный губернатор Кронштадта (1904 г., в 1905 г. переименован в командующего Балтийским флотом). В июне 1905 г. недолго занимал должность командующего флотом в Тихом океане. Член Государственного совета (с 1905). После реорганизации высших органов Военно-морского управления и учреждения должности морского министра 29 июня 1905 г. назначен первым российским морским министром. Уволен в отставку в 1907 г.
(обратно)21
Диков Иван Михайлович (1833–1914), русский адмирал (1905), генерал-адъютант (1906), морской министр (1907–1909). Служил на Черноморском флоте. Участник Крымской войны (1853–1856), боевых действий против кавказских горцев (1861–1864), Русско-турецкой войны (1877–1878). Контр-адмирал (1888), вице-адмирал (1894). Член Совета государственной обороны (1906–1909).
(обратно)22
Щеглов – лейтенант, член специальной комиссии, учрежденной при Главном морском штабе под председательством старшего лейтенанта А. В. Колчака для анализа уроков неудачной войны с Японией. Представил морскому министру вице-адмиралу А. А. Бирилеву докладную записку «Значение и работа штаба на основании опыта Русско-японской войны» о необходимости создания в России Морского генерального штаба. Записка была доложена императору Николаю II, рассмотрена на совещании в Морском министерстве. Сформулированные в записке идеи были одобрены и реализованы.
(обратно)23
Герасимов Александр Михайлович (1861–1931), вице-адмирал (1913). Окончил Морское училище (1882), Михайловскую артиллерийскую академию (1892). Во время Русско-японской войны участвовал в обороне Порт-Артура. Контр-адмирал (1911). Комендант морской крепости императора Петра Великого (1913–1917). Начальник Ревельского войскового района и города Ревеля (с 8 августа 1914). Генерал-губернатор Эстляндии и Лифляндии (с 11 августа 1914). Уволен в отставку 23 июня 1917 г. Во время Гражданской войны начальник Морского управления при главнокомандующем Вооруженными силами Юга России генерал-лейтенанте А. И. Деникине. С 1920 г. в эмиграции, был директором Морского корпуса вплоть до его ликвидации в 1925.
(обратно)24
Игнатьев Николай Иванович (1880–1938), капитан 2-го ранга. Окончил Морской кадетский корпус (1899), Артиллерийский офицерский класс. Участник Китайского похода 1900–1901 гг. и Русско-японской войны 1904–1905 гг. Штаб-офицер Морского генерального штаба (1913–1915), в начале 1915 г. возглавлял организационно-тактическую часть. Флагманский артиллерийский офицер штаба командующего флотом Балтийского моря (1915–1916). Капитан 1-го ранга за отличие (1916). После Октябрьской революции пошел на службу к большевикам. Расстрелян по обвинению в шпионаже. Реабилитирован в 1969 г.
(обратно)25
Военный порт императора Петра Великого заложен 29 июня 1912 г.; с 30 апреля 1913 г. – морская крепость императора Петра Великого. Новый порт как маневренная база флота и крепость как центр укрепленного района (Ревель-Поркалаудская позиция для защиты входа в Финский залив) задуманы и созданы как мера защиты Санкт-Петербурга в случае войны от превосходящих Балтийский флот военно-морских сил Германии. До создания крепости на Балтике существовало пять морских крепостей: Выборг, Свеаборг, Усть-Двинск, Кронштадт и Либава.
(обратно)26
Согласно уставу о воинской повинности 1874 г., во флоте устанавливался семилетний срок действительной службы с трехлетним пребыванием в запасе. Затем это соотношение было изменено. На 1913 г. срок действительной службы во флоте составлял 5 лет, с последующим пятилетним пребыванием в запасе.
(обратно)27
Амурская речная флотилия создана приказом по Морскому ведомству от 28 ноября 1908 г. из судов Сибирской флотилии, дислоцированных на Амуре. В 1910 г. вступили в строй 8 башенных канонерских лодок, а также бронекатера («бронированные посыльные суда») – военная новинка. Частичное разоружение флотилии коснулось не только дизелей, но и артиллерии главного калибра (152-мм и 120-мм), также отправленной на Балтику и в Черное море.
(обратно)28
Эссен Николай Оттович фон (1860–1915), адмирал (1914). Окончил Морской корпус (1881 г., с отличием) и Николаевскую морскую академию (1886). Участник Русско-японской войны 1904–1905 гг. После ее окончания занимал различные должности в Морском штабе, находился на преподавательской работе. В 1906–1908 гг. командовал 1-й минной дивизией Балтийского флота. Контр-адмирал (1907), вице-адмирал (1909). В декабре 1909 г. назначен начальником морских сил на Балтике, а в мае 1911 г. – командующим Балтийским флотом.
(обратно)29
Воеводский Степан Аркадьевич (1859–1937), адмирал (1913), морской министр с января 1909 по март 1911 г. Выпускник Морского корпуса и Николаевской морской академии. Его министерство ознаменовано отказом от тех новых начал в строительстве флота и управлении им, которые были приняты после Русско-японской войны. Воеводский, действительно, долго плавал на императорской яхте «Царевна». В эмиграции во Франции, похоронен в Ницце.
(обратно)30
Григорович Иван Константинович (1853–1930), генерал-адъютант, адмирал (1911). Член Государственного совета (1914). Окончил Морское училище (название Морского кадетского корпуса в 1867–1891). Контр-адмирал (1904). Участник Русско-японской войны 1904–1905 гг. Вице-адмирал (1909). Назначен товарищем (заместителем) морского министра, а 19.03.1911 морским министром с присвоением чина адмирала. Много сделал для возрождения флота, укрепления судостроительной промышленности, подготовки личного состава кораблей. 22.03.1917 г. решением Временного правительства снят с поста министра. Осенью 1924 г. выехал на лечение во Францию и в Россию больше не вернулся.
(обратно)31
Николай Николаевич (Младший) (1856–1929), великий князь, сын великого князя Николая Николаевича Старшего, внук Николая I. Генерал от кавалерии (1900), генерал-адъютант (1904). С 20.07.1914 по 23.08.1915 Верховный главнокомандующий всеми сухопутными и морскими силами Российской империи. 23.08.1915 назначен наместником на Кавказе и главнокомандующим Кавказским фронтом. Во время Февральской революции высказался за отречение Николая II. Вновь назначенный Верховным главнокомандующим 02.03.1917 снят с должности распоряжением Временного правительства 11.03.1917 и 31.03.1917 уволен со службы. Октябрьскую революцию и германскую оккупацию пережил в крымском имении своего младшего брата великого князя Петра Николаевича. В конце марта 1919 г. вместе с еще несколькими членами императорской династии вывезен из Крыма на английском дредноуте «Мальборо». Остаток жизни провел в эмиграции (Италия, Франция).
(обратно)32
Янушкевич Николай Николаевич (1868–1918), генерал-лейтенант (1913). Окончил Михайловское артиллерийское училище (1888) и Николаевскую академию Генерального штаба (1896). Генерал-майор (1909). Начальник Николаевской военной академии с 20.01.1913 по 05.03.1914 Начальник Генерального штаба (с 05.03.1914). С началом Первой мировой войны назначен на должность начальника штаба Верховного главнокомандующего. Генерал от инфантерии (22.10.1914). После назначения великого князя Николая Николаевича наместником на Кавказе был его помощником по военным вопросам (1915). С 1916 г. одновременно – главный начальник снабжений Кавказской армии. Уволен со службы 31.03.1917 г. В начале 1918 г. был арестован в Могилеве; по пути в Петроград убит конвоирами.
(обратно)33
Данилов (черный) Юрий (Георгий) Никифорович (1866–1937), генерал-лейтенант (1913). Окончил Михайловское артиллерийское училище (1886) и Николаевскую академию Генерального штаба (1892). Обер-квартирмейстер Главного управления Генерального штаба (1908–1909). Генерал-майор (1909). Генерал-квартирмейстер Главного управления Генерального штаба (1909). С 19.07.1914 генерал-квартирмейстер штаба Верховного главнокомандующего. Генерал от инфантерии (1914). 30.08.1915 назначен командиром 25-го армейского корпуса. С 11.08.1916 и. д. начальника штаба Северного фронта. С 29.04.1917 по 09.09.1917 командующий 5-й армией. В 1918 г. вступил в Красную армию, возглавлял группу военных экспертов при советской делегации на переговорах с Центральными державами в Брест-Литовске. 25.03.1918 вышел в отставку и уехал на Украину, затем перешел в расположение Добровольческой армии. В ВСЮР занимал пост помощника начальника Военного управления. С 1920 г. в эмиграции.
(обратно)34
Данилов (рыжий) Николай Александрович (1867–1934), генерал от инфантерии (1914). Окончил 3-е военное Александровское училище (1886) и Николаевскую академию Генерального штаба (1893). С 1901 г. экстраординарный профессор Николаевской академии Генерального штаба. Участник Русско-японской войны 1904–1905 гг. Ординарный профессор Николаевской академии Генштаба (1904–1912). При мобилизации 19.07.1914 назначен главным начальником снабжений армий Северо-Западного фронта. С 13.06.1916 командовал 10-м армейским корпусом. С 12.07.1917 (с перерывом с 07.08–22.08) командовал 2-й армией Западного фронта. В 1918 г. добровольно вступил в Красную армию; находился на преподавательской работе.
(обратно)35
Пилкин Владимир Константинович (1869–1950), капитан 1-го ранга (1911). Окончил Морской корпус (1890), военно-морской отдел Николаевской морской академии (1908). Участник Русско-японской войны, после ее окончания работал в Главном морском штабе. В 1906–1916 гг. командовал различными кораблями Балтийского флота. В 1916–1917 гг. командир 1-й бригады крейсеров Балтийского флота. Контр-адмирал (1916). В время Гражданской войны участник Белого движения; морской министр правительства Северо-Западной области (с августа по 3 декабря 1919 г.). После поражения белых – в эмиграции во Франции. Автор содержательного дневника, см.: Пилкин В. К. В Белой борьбе на Северо-Западе: Дневник 1918–1920. М., 2005.
(обратно)36
Родзянко Михаил Владимирович (1859–1924), политический деятель, действительный статский советник (1906), гофмейстер высочайшего двора (1899). Лидер партии «Союз» 17 октября (октябристов), председатель 3-й и 4-й Государственных дум. Один из создателей и лидеров Прогрессивного блока. Один из лидеров Февральской революции, с 27 февраля 1917 г. председатель Временного комитета Госдумы. Во время Октябрьского переворота пытался организовать защиту Временного правительства, в дальнейшем выехал на Дон, в рядах Добровольческой армии прошел Первый Кубанский (Ледяной) поход. С 1920 г. в эмиграции.
(обратно)37
Немитц Александр Васильевич (1879–1967), капитан 2-го ранга (1912). Окончил Морской кадетский корпус (1899) и Морскую академию (1912). В 1905 г. отказался командовать расстрелом матросов транспорта «Прут», осужденных за мятеж, защищал на суде матросов – участников Севастопольского восстания 1905 г. С 1907 г. штаб-офицер Морского Генерального штаба. 25.07.1914 г. назначен штаб-офицером ставки Верховного главнокомандующего. 25.05.1915 г. назначен командиром канонерской лодки «Донец». Служа на Черноморском флоте, командовал 5-м дивизионом эскадренных миноносцев (с 18.01.1916), 1-м дивизионом эскадренных миноносцев (с августа 1916), минной дивизией. Капитан 1-го ранга (1916). 20.06.1917 г. был назначен командующим Черноморским флотом, в августе получил чин контр-адмирала. После Октябрьской революции перешел на сторону большевиков. С марта 1919 г. на службе в Красной армии, начальник военно-морской части Одесского военного округа. В августе 1919 г. стал начштаба группы красных войск под командованием И. Якира, прорывавшейся из Одессы на север. В 1920–1921 гг. командующий морскими силами республики. С 1922 г. – на штабной и преподавательской работе. Вице-адмирал (1941). С 1947 г. в отставке.
(обратно)38
Бубнов Александр Дмитриевич (1883–1963), капитан 2-го ранга (1913). Окончил Морской корпус (1903), военно-морской отдел Николаевской морской академии (1913). Во время Русско-японской войны участвовал в Цусимском сражении, был тяжело ранен. Во время Первой мировой войны служил в штабе Верховного главнокомандующего сначала в должности флаг-капитана, а затем начальника Военно-морского управления при Верховном главнокомандующем (12.10–2.12.1917). Капитан 1-го ранга (1916), контр-адмирал (28.07.1917). В 1917 г. и. д. начальника Морского управления ставки Верховного главнокомандующего. Участник Белого движения. С 20 августа 1919 по 8 февраля 1920 г. начальник штаба Черноморского флота. После поражения белых – в эмиграции, преподавал в Королевской военно-морской академии в Дубровнике (Югославия). Автор многих трудов по военно-морской проблематике.
(обратно)39
Вероятно, Апрелев Борис Петрович (1888–1951), старший лейтенант, офицер связи с командованием союзными морскими силами в Средиземном море. После Февральской революции во французском флоте. Участник Белого движения; с 1919 г. морской агент адмирала Колчака в Италии и Югославии. Капитан 2-го ранга (1919). После окончания Гражданской войны в эмиграции.
(обратно)40
Кирилл Владимирович (1876–1938), великий князь, двоюродный брат императора Николая II, капитан 1-го ранга (1910), флигель-адъютант (1896). Окончил Морской кадетский корпус и Николаевскую морскую академию. Участник Русско-японской войны 1904–1905 гг. С началом Первой мировой войны служил в штабе Верховного главнокомандующего, начальник морских батальонов. Контр-адмирал свиты (1915). Командир Гвардейского экипажа и начальник морских батарей в действующей армии (1915). Во время Февральской революции привел Гвардейский экипаж к зданию Государственной думы и объявил о своей поддержке новой власти. В июне 1917 г. уехал в Финляндию. Как ближайший родственник Николая II по мужской линии, в 1922 г. провозгласил себя блюстителем престола, а в 1924 г. – императором.
(обратно)41
Ливен Карл Павлович (1880–1941), светлейший князь, двоюродный брат адмирала св. кн. А. А. Ливена. В 1902 г. окончил Александровский лицей. Офицер с 1904 г. Капитан 2-го ранга, состоял при великом князе Кирилле Владимировиче. Эвакуирован до осени 1920 г. из Севастополя. К лету 1921 г. в Константинополе. В эмиграции во Франции (Париж).
(обратно)42
Станция 3-го класса, начала функционировать в ноябре 1871 г. как станция Московско-Брестской железной дороги. С 1886 г. через станцию прошла также Полесская железная дорога. Станции двух дорог связывала соединительная ветка длиной три км.
(обратно)43
Свечин Александр Андреевич (1878–1938), полковник (1912). Окончил Михайловское артиллерийское училище (1897) и Николаевскую академию Генерального штаба (1903). Участник Русско-японской войны 1904–1905 гг. С началом Первой мировой войны офицер для поручений при начальнике штаба Верховного главнокомандующего (25.07.1914–1915). Командир 6-го Финляндского стрелкового полка (23.07.1915–15.01.1917). Генерал-майор (1916). Начальник штаба 7-й пехотной дивизии (15.01–26.01.1917). Начальник Отдельной Черноморской морской десантной дивизии, находившейся в стадии формирования (26.01–14.05.1917). И. д. начальника штаба 5-й армии (24.05–22.09.1917). За косвенную поддержку Корнилова отстранен от должности. В марте 1918 г. добровольно вступил в Красную армию. В годы Гражданской войны занимал штабные должности, после ее окончания на преподавательской работе в военно-учебных заведениях РККА. В 1931 г. по делу «Весна» приговорен к 5 годам лагерей, освобожден досрочно. Комбриг (1935). Комдив (1936). Арестован в 1937 г. по обвинению в участии в офицерско-монархической организации и военно-фашистском заговоре. Расстрелян. В 1956 г. реабилитирован. Автор трудов по военной истории, тактике и стратегии.
(обратно)44
Жилинский Яков Григорьевич (1853–1918), генерал от кавалерии (1910). Окончил Николаевское кавалерийское училище (1876) и Николаевскую академию Генерального штаба (1883). Начальник Генерального штаба (22.02.1911–04.03.1914). С 04.03.1914 г. командующий войсками Варшавского военного округа и варшавский генерал-губернатор. После объявления мобилизации назначен главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта. После неудач в Восточной Пруссии снят (03.09.1914) с постов главнокомандующего армиями и генерал-губернатора и переведен в распоряжение военного министра. В 1915–1916 гг. представлял русское командование в Союзном совете во Франции. Осенью 1916 отозван в Россию. В сентябре 1917 г. уволен в отставку. Расстрелян большевиками.
(обратно)45
Самсонов Александр Васильевич (1859–1914), генерал от кавалерии (1910). Окончил Николаевское кавалерийское училище (1877) и Николаевскую академию Генерального штаба (1884) Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. и Русско-японской войны 1904–1905 гг. В июле 1914 г. назначен командующим 2-й армией Северо-Западного фронта. Во время боев в Восточной Пруссии в августе 1914 г. его армия потерпела поражение, ее основные силы были окружены в Комусинском лесу. При выходе из окружения застрелился.
(обратно)46
Ренненкампф Павел-Георг Карлович фон (1856–1918), генерал от кавалерии (1910), генерал-адъютант (1912). Окончил Гельсингфоргсское пехотное юнкерское училище (1873) и Николаевскую академию Генерального штаба (1882). Участник Китайского похода 1900–1901 гг. и Русско-японской войны 1904–1905 гг. В 1905 г. активно участвовал в подавлении беспорядков в Восточной Сибири. В начале Первой мировой войны командующий 1-й армией. Многими урапатриотическими деятелями обвинялся в измене, приведшей к катастрофе 2-ю армию Самсонова; обвинения базировались главным образом на немецкой фамилии генерала. В ноябре 1914 г. снят с должности и переведен в распоряжение военного министра. 6 октября 1915 г. уволен от службы. После Февральской революции был арестован, однако Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства не нашла фактов для выдвижения против него обвинения. После Октябрьской революции освобожден и уехал в Таганрог. После захвата города большевиками был арестован ЧК и, после отказа вступить в Красную армию, расстрелян по приказу В. А. Антонова-Овсеенко.
(обратно)47
Бой 17 августа 1914 г. в ходе Восточно-Прусской операции Русской армии между соединениями 1-го корпуса 8-й германской армии генерала Притвица и 3-го и 2-го корпусов 1-й русской армии генерала Ренненкампфа. Бой не имел решительного результата.
(обратно)48
Сражение 20 августа 1914 г. между теми же противниками в Восточной Пруссии, завершившееся победой русских войск. Имело стратегические последствия, так как означало крах германских расчетов на быстрый разгром противников по очереди.
(обратно)49
Гинденбург (фон Бенкендорф унд фон Гинденбург) Пауль Людвиг Ганс Антон фон (1847–1934), германский военный и политический деятель. Участник Австро-прусской 1866 и Франко-прусской 1870–1871 гг. войн. В 1911 г. в чине генерала пехоты вышел в отставку. В августе 1914 г. возвращен на службу и назначен командующим 8-й армией. Нанес в Восточной Пруссии поражение 1-й и 2-й русским армиям, превосходившим его силы более чем в два раза. Эта победа сделала его национальным героем Германии. С 1 октября 1914 г. главнокомандующий на Восточном фронте против России. Прусский генерал-фельдмаршал (02.11.1914). 29.08.1916 г. назначен начальником Генерального штаба. В 1919 г. вновь вышел в отставку. В период Веймарской республики дважды (1925 и 1932) избирался рейхспрезидентом Германии.
(обратно)50
Лонткиевич (Ланткиевич, Леонткиевич) Бранислав – глава сербской военной миссии в России подполковник (с 1916 г. полковник). Выпускник Николаевской академии Генерального штаба (1899). Состоя сербским военным представителем при русской Ставке, внес большой вклад в дело формирования сербских добровольческих частей в России. 10 ноября 1917 г. вместе с другими руководителями военных миссий подписал протест против попыток большевиков заключить перемирие с противником. В 1918 году, в том числе и после заключения Брестского мира, продолжал вербовку добровольцев из военнопленных для участия в мировой войне, что противоречило интересам большевиков. Участвовал он и в секретном совещании военных представителей стран Антанты, проходившем в Киеве 16 января 1918 г., на котором обсуждались перспективы восстановления Восточного фронта и использования сербских и чехословацких войск в России. 18 августа 1918 г. чекисты арестовали сербскую военную миссию при посольстве в Москве во главе с полковником Лонткиевичем и одновременно совершили обыск в петроградском посольстве. Осенью покинул Россию.
(обратно)51
Леонтьев Владимир Георгиевич (1866 —?), генерал-майор (1911). Окончил 1-е военное Павловское училище (1885) и Николаевскую академию Генерального штаба (1891). Генерал-квартирмейстер штаба Варшавского военного округа (1913). В августе 1914 г. генерал-квартирмейстер штаба Северо-Западного фронта. С 17.09.1914 генерал для поручений при командующем 2-й армией. С 25.08.1915 командовал 77-й пехотной дивизией. Генерал-лейтенант (1916). 30.09.1917 снят с должности и назначен в резерв чинов при штабе Киевского военного округа.
(обратно)52
Артамонов Леонид Константинович (1859–1932), генерал от инфантерии (1913). Окончил 2-е военное Константиновское и Михайловское артиллерийское училища (1879), Николаевскую академию Генерального штаба (1888). Участник Ахал-Текинской экспедиции 1879 г., кампаний 1880–1881 гг., Русско-японской войны 1904–1905 гг. 17.03.1911 назначен командиром 1-го армейского корпуса. За крайне неудачное руководство войсками корпуса во время похода в Восточную Пруссию в августе 1914 г. распоряжением командующего 2-й армией генерала Самсонова был 15.08.1914 отстранен от должности. После этого состоял в резерве и только в конце января 1917 г. назначен начальником 18-й Сибирской стрелковой дивизии. В апреле 1917 г. уволен в отставку. После Октябрьской революции остался в Советской России, работал в различных государственных учреждениях.
(обратно)53
Благовещенский Александр Александрович (1854 —?), генерал от инфантерии. Окончил 3-е военное Александровское училище (1872) и Николаевскую академию Генерального штаба (1878). Участник Русско-турецкой войны (1877–1878) и Русско-японской войны 1904–1905 гг. С 01.09.1912 командир 6-го армейского корпуса. После похода в Восточную Пруссию 26.08.1914 снят с должности и в марте 1915 г. уволен в отставку.
(обратно)54
Зальц Антон Георгиевич фон (1843–1916), барон, генерал от инфантерии (1908). Окончил Николаевское училище гвардейских юнкеров. Участник Польской кампании 1863 г., Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 07.02.1912 назначен командующим войсками Казанского ВО, а 19.06.1914 командующим 4-й армии. Сразу же после неудачи его армии в первом же бою с австро-венгерскими войсками (10–12.08.1914 г.) был отстранен от командования, а затем официально освобожден от должности. В дальнейшем занимал должность командующего войсками Казанского ВО (24.09–18.10.1914), коменданта Петропавловской крепости (с 08.11.1914), исполнял должность главного начальника Петроградского ВО (18.11.1914–31.03.1915).
(обратно)55
Плеве Павел Адамович (1850–1916), генерал от кавалерии (1907). Окончил Николаевское кавалерийское училище (1870) и Николаевскую академию Генерального штаба (1877). Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. и Русско-японской войны. С 17.03.1909 командующий войсками Московского ВО. 19.07.1914 назначен командующим 5-й армии, командование которой было создано на базе управления Московского ВО. Руководил русскими войсками в ходе Лодзинской операции в начале ноября 1914 г. 06.12.1915 назначен главнокомандующим армиями Северного фронта вместо генерала Рузского. 10.02.1916 по состоянию здоровья освобожден от командования. 05.02.1916 назначен членом Государственного совета.
(обратно)56
Рузский Николай Владимирович (1854–1918), генерал от инфантерии (1909). Генерал-адъютант (1914). Окончил 2-е военное Константиновское училище (1872) и Николаевскую академию Генерального штаба (1881). Участник Русско-японской войны. С 19.07 по 03.09.1914 командовал 3-й армией. Главнокомандующий армиями Северо-Западного фронта (03.09.1914–17.03.1915). Командующий 6-й армией (30.06–18.08.1915). Главнокомандующий армиями Северного фронта (18.08–06.12.1915 и 01.08.1916–25.04.1917). Во время Февральской революции участвовал в давлении высшего командования на Николая II с целью добиться его отречения от престола. 25.04.1917 уехал лечиться в Кисловодск. В сентябре 1918 г. зверски убит красными в числе большой группы заложников.
(обратно)57
Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926), генерал от кавалерии (1912), генерал-адъютант (1915). Образование получил в Пажеском корпусе (1872). Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Генерал-майор (1901). Генерал-лейтенант (1906). 19.07.1914 назначен командующим Проскуровской группы, преобразованной 28.07.1914 в 8-ю армию. 17.03.1916 назначен главнокомандующим Юго-Западным фронтом. С 21.05 по 19.07.1917 Верховный главнокомандующий. С 1919 г. в Красной армии.
(обратно)58
Миллер Евгений-Людвиг Карлович (1867–1939), генерал-лейтенант (1914). Окончил Николаевское кавалерийское училище (1886) и Николаевскую академию Генерального штаба (1892). Начальник штаба Московского ВО (1912), с 19.07.1914 начальник штаба 5-й армии, управление которой создано на базе командования округа. С 14.01.1915 начальник штаба 12-й, а с 18.01.1915 – вновь 5-й армии. 28.12.1916 назначен командиром 26-го армейского корпуса в составе Особой армии. С 13.01.1919 по 19.02.1920 командовал белыми войсками на севере России. Генерал от кавалерии (1919). В эмиграции один из руководителей Русского общевоинского союза (РОВС); после похищения и убийства чекистами председателя РОВСа генерала Кутепова возглавил эту организацию. 22.09.1937 был похищен чекистами в Париже, тайно вывезен в СССР и расстрелян.
(обратно)59
Александров Леонид Капитонович (1876–1933), полковник (1913). Окончил Московское военное училище (1898) и Николаевскую академию Генерального штаба (1904). Участник Русско-японской войны. Штаб-офицер для делопроизводства и поручений управления генерал-квартирмейстера при Верховном главнокомандующем (25.07.1914–08.05.1916). В 1918 г. добровольно пошел на службу в Красную армию.
(обратно)60
Речь идет о событиях августа 1914 г. 5-я армия Плеве выдержала сражение под Томашовом против превосходящих сил противника, а 3-я русская армия генерала Рузского одержала победу над 3-й австрийской армией генерала Брудермана при Золочеве (сражение на Золотой Липе).
(обратно)61
Местечко в Слонимском уезде Гродненской губернии.
(обратно)62
Местечко издавна принадлежало Сапегам, во дворце с конца XVIII в. располагалась суконная фабрика.
(обратно)63
Так проходит слава мира! (лат.)
(обратно)64
Уездный город Гродненской губернии. Ныне в Польше, центр Подлясского воеводства.
(обратно)65
Орановский Владимир Алоизиевич (1866–1917), генерал-лейтенант (1910). Окончил Пажеский корпус (1884) и Николаевскую академию Генерального штаба (1891). Участник Китайского похода 1900–1901 гг. и Русско-японской войны. Начальник 14-й пехотной дивизии (01.05.1910–23.08.1913). С 23.08.1913 г. начальник штаба Варшавского ВО. Начальник штаба Северо-Западного фронта (19.07.1914–31.01.1915). Генерал от кавалерии (25.10.1914). В дальнейшем командовал корпусами. 26.07.1917 переведен в резерв чинов при штабе Петроградского ВО. С 09.08.1917 состоял в распоряжении главнокомандующего армиями Северного фронта. После подавления выступления генерала Корнилова арестован в Выборге. Убит солдатами.
(обратно)66
Город в Восточной Пруссии, с 1946 г. – Черняховск, районный центр Калининградской области СССР и РФ.
(обратно)67
Милеант Гавриил Георгиевич (1864–1936), генерал-лейтенант (1913). Окончил 1-е военное Павловское и Николаевское инженерное училища (1884), Николаевскую академию Генерального штаба (1894). Участник Русско-японской войны. Генерал-майор (1906). Начальник штаба Виленского ВО (1913). С началом войны возглавил штаб 1-й армии, сформированный на базе штаба. Отстранен по настоянию командующего армией генерала Ренненкампфа. В период с сентября 1914 по конец сентября 1915 г. начальник 4-й пехотной дивизии, затем был назначен начальником Главного военно-технического управления. После Февральской революции отстранен от должности. В апреле 1917 г. назначен командиром 5-го армейского корпуса, в декабре того же года, получив отпуск, уехал на юг России. Состоял в рядах ВСЮР.
(обратно)68
Ширинский-Шихматов Сергей Александрович (1866–1916), князь, капитан 1-го ранга (1912). Участник Русско-японской войны. Адъютант великого князя Кирилла Владимировича (1908–1910). В начале Первой мировой войны – командир 2-го отдельного батальона Гвардейского экипажа (1914–1915), затем штаб-офицер для поручений по строевой части при управлении начальника морских батальонов и речных флотилий в действующей армии, начальник 1-го отряда Транспортной флотилии Черного моря. 12.08.1916 уволен в отставку с производством в контр-адмиралы.
(обратно)69
Город в Литве, с 1842 г. центр Ковенской губернии. Литовское наименование – Каунас. В 1920–1940 гг. – временная столица Литовской республики.
(обратно)70
Полушкин Александр Сергеевич (1877–1963), капитан 1-го ранга. Окончил Морской кадетский корпус (1896), гидрографическое отделение Николаевской морской академии (1904). Участник Русско-японской войны. С начала Первой мировой войны – командир 1-го отдельного батальона Гвардейского экипажа, с начала 1915 г. командир Отдельного батальона Гвардейского экипажа. Участник Белого движения. Служил в армии А. В. Колчака, возглавлял (с июня 1919 г.) Гидрографическое управление Морского министерства. Контр-адмирал. После окончания Гражданской войны в эмиграции в Югославии, затем в США. С 1951 г. – председатель Объединения офицеров Гвардейского экипажа.
(обратно)71
Русская крепость на Висле, в 30 км от Варшавы. Построена на месте шведского укрепленного лагеря XVII в. наполеоновскими инженерами в 1807–1812 гг. в деревне Модлин. Расширена в 1830-х гг., с 1834 г. получила название крепость Новогеоргиевск. В конце XIX в. усилена линией фортов. В ходе Первой мировой войны захвачена германскими войсками 7 (20) августа 1915 г. Многочисленный русский гарнизон был пленен. Крепость оборонялась польским гарнизоном против германских войск в сентябре 1939 г. в ходе Второй мировой войны. Ныне территория крепости находится в черте города Новы-Двур-Мазовецки (Польша).
(обратно)72
Мазуров Георгий Николаевич (1867–1918), капитан 1-го ранга. Окончил Морской корпус (1887). Участник Русско-японской войны 1904–1905 гг. Во время Первой мировой войны командир отдельного батальона 2-го флотского экипажа. Генерал-майор флота (1915). В 1916 г. назначен начальником Морской бригады особого назначения и командовал ею до революции. В 1917 г. вышел в отставку, жил в Петрограде. После убийства Урицкого взят большевистскими властями в заложники и вместе со своим старшим братом Николаем расстрелян (по другим данным, утоплен в барже в Финском заливе, около Кронштадта).
(обратно)73
Русская крепость на Висле, возле города Демблин. Построена в 1832–1847 гг. В 1872–1882 гг. основное пятиугольное укрепление дополнено кольцом из шести фортов по плану Тотлебена. В 1909 г. крепость упразднена как устаревшая. Восстановлена в 1913 г. К началу Первой мировой войны находилась в плохом состоянии. Восстановлена усилиями ее коменданта генерала А. В. Шварца. Опорный пункт русских войск во время Варшавско-Ивангородской операции.
(обратно)74
Шварц Алексей Владимирович фон (1874–1953), генерал-лейтенант (1917). Окончил Николаевское инженерное училище (1895) и Николаевскую инженерную академию (1902). Участник Русско-японской войны. После начала Первой мировой войны получил назначение в распоряжение начальника инженеров крепости Ивангород. С 13.08.1914 исполнял обязанности коменданта Ивангородской крепости, успешно действовал против австро-германских войск. В связи с общим отходом русских войск летом 1915 г. оставил крепость по приказу командования, организовав эвакуацию гарнизона и уничтожение укреплений. Начальник Трапезундского укрепрайона (23.07.1916–1917). После Октябрьской революции вступил в Красную армию. В марте 1918 г. после заключения Брестского мира уехал на Украину. Жил в Киеве, после свержения гетманского режима в конце 1918 г. бежал в Одессу. 21.03.1919 французским командованием назначен военным генерал-губернатором Одессы и командующим русскими войсками в союзной зоне Одессы, против чего безрезультатно возражал Деникин. После оставления французскими войсками Одессы в апреле 1919 г. уехал в Константинополь и далее в Италию, затем перебрался в Аргентину.
(обратно)75
Автор имеет в виду конституцию 1876 г., принятую под влиянием так называемых новых османов, от которой уже в 1878 г. отказался султан Абдул-Хамид II, установив деспотический режим. Идейными наследниками новых османов стали младотурки – сторонники модернизации политического строя и хозяйственной жизни Турции. Обращались к идеям пантюркизма и панисламизма. Организационно возникли как тайное общество курсантов военно-медицинского училища в Стамбуле в 1889 г.; организация приняла наименование «Единение и прогресс». В результате младотурецкого переворота 1908 г. конституция 1876 г. была восстановлена, однако младотурки теряли популярность. Вовлекли Турцию в Первую мировую войну на стороне Центральных держав. М. Талаат-паша (1874–1921) – министр внутренних дел Османской империи (1909–1912, 1913–1917), великий визирь (1917–1918). Один из главных организаторов геноцида армянского населения империи. Бежал в Германию осенью 1918 г., убит в Берлине армянином из мести за геноцид армян 1915 г. Автор мемуаров, опубликованных в 1946 г. И. Энвер-паша (1881–1922) – убежденный германофил, один из организаторов геноцида армян, автор переворота в январе 1913 г., член правящего неофициального триумвирата (Джемаль, Талаат, Энвер). В 1914–1918 гг. – фактический глава турецких вооруженных сил. Бежал в Германию после капитуляции осенью 1918 г. Соперничал с К. Ататюрком, сотрудничал с Лениным, пытался синтезировать большевизм и ислам, выступал и как пантюркист. Перешел на сторону басмачей, убит в бою с красноармейцами в 1922 г.
(обратно)76
Сандерс (Лиман фон Сандерс) Отто (1855–1929), германский генерал, военный советник в Турции во время Первой мировой войны. Мушир (маршал) турецкой армии (1914). Окончил Военную академию (1881). В 1913 г. был направлен во главе группы германских офицеров в Османскую империю для реорганизации ее армии. Прославился обороной Дарданелл от сил Антанты (февраль 1915 – январь 1916). 25.02.1918 занял пост командующего турецко-германскими войсками в Палестине, где осенью потерпел поражение от англичан. После войны в отставке.
(обратно)77
Имеется в виду миссия адмирала Лимпуса, заведовавшего обучением личного состава турецкого флота. После назначения адмирала Сушона (немца) командующим турецким флотом, а «Вебер-паши» (немца) комендантом Дарданелльских укреплений Великобритания отозвала миссию Лимпуса.
(обратно)78
Сражение 5–12 сентября 1914 г. между наступающими германскими и контратакующими англо-французскими войсками в ходе Первой мировой войны. Германские войска были вынуждены отступить, что означало крах германских планов блицкрига и быстрого вывода Франции из войны.
(обратно)79
Сушон Вильгельм Антон (1864–1946), германский адмирал. С 23.10.1913 командовал Средиземноморской эскадрой, состоявшей из линейного крейсера «Гёбен» и легкого крейсера «Бреслау». В августе 1914 г. увел эскадру в Черное море, где она номинально вошла в состав турецкого флота. Руководил боевыми действиями германо-турецкого флота против России на Черном море, пользовался широкими полномочиями. В 1917 г. вернулся в Германию и возглавил 4-ю эскадру линейных кораблей Флота Открытого моря. 30.10.1918 назначен начальником морской базы Балтийского моря. В 1919 г. вышел в отставку.
(обратно)80
Трубридж сэр Эрнест Чарльз Томас (1862–1926), британский контр-адмирал (1911). В 1913 г. был назначен командиром Средиземноморской крейсерской эскадры в составе крейсеров «Дефенс», «Блэк Принс», «Дьюк оф Эдинбург» и «Уорриор». Летом 1914 г. не сумел перехватить немецкую эскадру адмирала Сушона в составе крейсеров «Гёбен» и «Бреслау». Был предан суду и, несмотря на оправдание, получил менее престижное назначение главой военной миссии в Сербии. Принимал участие в Салоникской экспедиции, был назначен адмиралом Дуная. В 1919 г. получил звание адмирала и вошел в Европейскую комиссию по Дунаю.
(обратно)81
Линейный крейсер.
(обратно)82
Введены в строй, соответственно, в июле и октябре 1915 г.
(обратно)83
Сазонов Сергей Дмитриевич (1860–1927), российский дипломат и государственный деятель. Действительный статский советник (1907). Гофмейстер высочайшего двора (1910). Окончил Александровский лицей. С 1883 г. на службе в МИДе. Свояк П. А. Столыпина, чему, по мнению многих современников, был обязан своей успешной карьерой. С 04.09.1910 управляющий МИДом Российской империи; с 08.11.1910 по 07.07.1916 – министр иностранных дел. На этом посту ориентировался на интересы Антанты, поэтому его отставка вызвала недовольство послов Великобритании и Франции, а также думских либералов. С января 1913 г. член Государственного совета. После Октябрьской революции активный участник Белого движения. Член Особого совещания при верховном руководителе Добровольческой армии генерале М. В. Алексееве. В 1918–1920 гг. был членом правительств при генерале Деникине и адмирале Колчаке, их представителем в Париже на мирной конференции. Член Русского политического совещания.
(обратно)84
Розанов Василий Васильевич (1856–1919), русский религиозный философ, литературный критик и публицист.
(обратно)85
Гирс Михаил Николаевич (1856–1932), российский дипломат, действительный статский советник (1895), камергер (1891). Окончил Пажеский корпус. Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., после ее окончания перешел на службу в МИД. В 1911–1914 гг. чрезвычайный и полномочный посол в Османской империи. С 1915 г. посол в Италии. После Октябрьской революции, как старейший из русских дипломатов, находившихся за границей, возглавил Совет бывших послов. Входил в состав Русского политического совещания. Был представителем барона Врангеля при командовании союзников.
(обратно)86
Рагузский (Рогузский) Александр Владиславович (1887–1914), лейтенант (1913), старший минный офицер минного заградителя «Прут». Окончил Морской кадетский корпус. В 1908 г. участвовал в оказании помощи жителям Мессины. В 1911 г. окончил Минный офицерский класс. В 1912 г. назначен минным офицером на заградитель «Прут».
(обратно)87
Трубецкой Владимир Владимирович (1868–1931), князь, капитан 1-го ранга (1913). Окончил Морской корпус (1891), курс военно-морских наук Николаевской морской академии (1904). Участник Русско-японской войны, в ходе которой командовал одной из первых русских подводных лодок – «Сом». С 1912 г. служил на Черноморском флоте. Начальник 1-го дивизиона эскадренных миноносцев. 21.07.1916 назначен командующим Минной бригадой. Контр-адмирал (1916). В 1917 г., после начала матросских бунтов, был отправлен для командования Балтийской морской дивизией, находившейся на Дунае. В эмиграции в Париже.
(обратно)88
Эбергард Андрей Августович (1856–1919), адмирал (1913). Окончил Морской кадетский корпус (1878). Участник Китайского похода 1900–1901 гг. и Русско-японской войны. Контр-адмирал (1907), вице-адмирал (1909). Помощник начальника Морского генерального штаба (1906–1907), начальник Морского генерального штаба (1908–1911). В 1911 г. назначен командующим морскими силами (с 1914 г. – флотом) Черного моря. В 1916 г. снят с этой должности и заменен Колчаком. Член Государственного совета. С 13.12.1917 г. в отставке.
(обратно)89
Кетлинский Казимир Филиппович (1874–1918), капитан 1-го ранга (1914). Окончил Морской кадетский корпус (1895) и Артиллерийский офицерский класс (1902). Участник Русско-японской войны. Капитан 2-го ранга (1910). Во время Первой мировой войны флаг-капитан оперативной части штаба командующего флотом Черного моря (1913–1915). Флаг-капитан по оперативной части штаба командующего флотом Черного моря (1915–1916). 06.09.1916 прибыл в Тулон, где 10 сентября принял командование над крейсером «Аскольд», действовавшим на стороне морских сил Антанты на Средиземном море. В 1917 г. Временным правительством произведен в контр-адмиралы и назначен командовать мурманским укрепленным районом и мурманским отрядом судов. Убит неизвестными в Мурманске в феврале 1918 г.
(обратно)90
Плансон Константин Антонович (1861–1921?), русский вице-адмирал. Выпускник штурманского отдела Технического училища морского ведомства (прапорщик корпуса флотских штурманов в 1882 г.), окончил гидрографическое отделение Николаевской морской академии (мичман в 1888 г.). С 1892 г. – член Императорского Русского географического общества. В 1900 г. зачислен в артиллерийские офицеры 1-го разряда. Флаг-капитан штаба командующего Практическим отрядом побережья Балтийского моря, флаг-офицер оперативного отдела штаба Кронштадтского порта (1904). Командир минного крейсера «Стерегущий» (1905), начальник 2-го дивизиона миноносцев (1907), командир крейсера «Олег» (1908–1911). В 1912–1916 гг. на Черном море: начальник минной дивизии, с 1913 г. начальник штаба командующего морскими силами (с августа 1914 г. – флотом) Черного моря. Вице-адмирал за боевое отличие (30.06.1915). Член Адмиралтейств-совета (1916). В 1920 г. остался в Севастополе после ухода Русской армии. По разным данным: скончался в Петрограде в 1920 или 1921 г. или убит в Севастополе большевиками в 1921-м.
(обратно)91
Фредерикс (Фридрихс) Владимир Борисович (1838–1927), барон, с 1913 г. граф, генерал от кавалерии (1900), генерал-адъютант (1896), член Государственного совета (1905), шталмейстер двора (1891–1893). С 14.07.1897 – командующий императорской Главной квартирой; помощник министра императорского двора и уделов (1893–1897), министр императорского двора и уделов (1897–1917). Входил в ближайшее окружение Николая II, с началом Первой мировой войны сопровождал его во всех поездках. В марте 1917 г. был арестован, но вскоре освобожден. Жил в Петрограде. В 1924 г. с разрешения советского правительства выехал за границу, где и скончался.
(обратно)92
Орлов Владимир Николаевич (1868–1927), князь, генерал-лейтенант (1915). Окончил Пажеский корпус (1889). С 1901 г. помощник начальника, 1906 г. начальник военно-походной канцелярии царя. Долгое время был одним из самых доверенных людей Николая II. Из-за негативного отношения к Распутину был удален от двора. С назначением великого князя Николая Николаевича наместником на Кавказ назначен (25.08 1915) в его распоряжение; с 16.11.1915 занимал пост его помощника по гражданской части. 31.03.1917 уволен в отставку. Эмигрировал во Францию.
(обратно)93
Воейков Владимир Николаевич (1868–1947), генерал-майор царской свиты Его Величества, дворцовый комендант (с 1913). Окончил Пажеский корпус (1887). Служил в лейб-гвардии Кавалергардском полку. Командир лейб-гвардии Гусарского полка (1907–1913). Председатель Олимпийского комитета России (1912). Во время Февральской революции был арестован, содержался под арестом, но был выпущен. Летом 1918 г., под угрозой ареста большевиками, скрывался в психиатрической больнице, симулируя душевное расстройство. В сентябре 1918 г. бежал в Крым, оттуда через Румынию добрался до Финляндии. В конце жизни переехал в Швецию.
(обратно)94
Долгоруков Василий Александрович (1868–1918), князь, генерал-майор свиты Его Величества (1912), гофмаршал высочайшего двора. Окончил Пажеский корпус (1880). Во время войны находился при царе в Ставке. Один из самых близких Николаю II людей, добровольно отправился в ссылку с царской семьей. 30.04.1918 по приезде в Екатеринбург был арестован большевиками и 10 июля расстрелян.
(обратно)95
Нилов Константин Дмитриевич (1856–1919), русский адмирал (25.03.1912), флаг-капитан Его Императорского Величества (1905–1917), генерал-адъютант (1908). Окончил Морское училище (1875). Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. В 1890–1903 гг. адъютант великого князя Алексея Александровича. В 1903–1908 гг. командир Гвардейского экипажа. Одновременно в 1903–1905 гг. входил в ближайшее окружение Николая II, во время войны постоянно находился при нем. Был одним из наиболее приближенных к императору людей и сохранял его благожелательное отношение до конца, несмотря на то, что из-за его крайне отрицательного отношения к Распутину у него испортились отношения с императрицей Александрой Федоровной. После Октябрьской революции был арестован и расстрелян большевиками.
(обратно)96
Дрентельн Александр Александрович (1868–1925), полковник (1910), флигель-адъютант (1903), генерал-майор свиты Его Величества (1915). Штаб-офицер для поручений при Главной императорской квартире 1909–1915 г. В августе – ноябре 1915 г. начальник военно-походной канцелярии Его Величества. Командир лейб-гвардии Преображенского полка (1915–1917).
(обратно)97
Флигель-адъютант – звание офицера царской свиты, штаб– или обер-офицер, состоящий в должности адъютанта при императоре, им самим назначенный.
(обратно)98
Русский линейный корабль додредноутного типа. Строился в 1904–1911 гг., в строю в 1911–1919 гг. Главный калибр – четыре 305-мм орудия. Флагман Черноморского флота.
(обратно)99
По официальным данным – 4 офицера и 29 нижних чинов убито, 1 офицер и 24 нижних чинов ранено.
(обратно)100
Галанин Валерий Иванович (1866–1915), капитан 1-го ранга. Участник Русско-японской войны. 07.12.1911 назначен командиром линейного корабля «Евстафий». Скоропостижно скончался от кровоизлияния в мозг. Посмертно произведен в контр-адмиралы.
(обратно)101
Барон И. А. Черкасов. Следственной комиссией признан виновным в гибели крейсера вместе со старшим офицером Н. В. Кулибиным.
(обратно)102
Шпее Максимилиан фон (1861–1914), граф, вице-адмирал германского флота. С конца 1912 г. командовал Восточно-азиатской крейсерской эскадрой, предназначенной для действий на коммуникациях противника в случае войны.
(обратно)103
Современное написание – Циндао. Китайский город в провинции Шаньдун. С 1897 г. сдан в концессию Германии, стал германской военно-морской базой на Тихом океане и центром экономического влияния Германии в Шаньдуне. В ноябре 1914 г. захвачен Японией. В 1922 г. возвращен Китайской республике, вновь оккупирован Японией в 1938 г., в 1949 г. перешел под контроль КНР. Ныне крупный промышленный центр.
(обратно)104
Мюллер Карл Фридрих Макс фон (1873–1923), корветтен-капитан (капитан 3-го ранга), командир (с 1913) знаменитого германского рейдера – легкого крейсера «Эмден». Прославился как эффективностью своих рейдов, так и рыцарственностью по отношению к противнику. Избегал причинять ущерб нейтралам, стремился избегать жертв среди гражданских лиц. После гибели «Эмдена» – в английском плену на Мальте, затем в Англии. В октябре 1918 г. репатриирован в Германию, награжден высшим военным орденом «Pour le Mérite» и произведен в капитаны цур зее (капитан 1-го ранга).
(обратно)105
Крэдок сэр Кристофер (Кит) Крэдок (1862–1914), британский военно-морской деятель, контр-адмирал (1910). В начале Первой мировой войны принял командование над 4-й эскадрой крейсеров, с которой начал борьбу с германскими крейсерами в Южной Атлантике.
(обратно)106
Баттенберг Людвиг Александр (1854–1921), принц, 1-й маркиз Милфорд-Хейвен, британский военно-морской и государственный деятель, адмирал флота. Натурализовался в Англии в 1868 г. и поступил во флот. В 1912 г. стал 1-м морским лордом (начальником главного морского штаба), после начала Первой мировой войны руководил мобилизацией британского флота. В октябре 1914 г. был вынужден уйти в отставку на волне антигерманской истерии. В 1917 г. отказался от всех немецких титулов и сменил фамилию на Маунтбеттен (перевод на английский фамилии Баттенберг).
(обратно)107
Фишер сэр Джон Арбетнот «Джеки» Фишер (1841–1920), 1-й барон Фишер британский адмирал. Первый морской лорд (1904–1910 и 1914–1915). Оказывал огромное влияние на тактику, стратегию, развитие и материально-техническое оснащение британского флота.
(обратно)108
Морской бой 1 ноября 1914 г. между германской эскадрой адмирала Шпее и английской – адмирала Крэдока вблизи чилийского города Коронель. Англичане потерпели поражение, потеряв два броненосных крейсера.
(обратно)109
Порт Стэнли – главный город и порт британских Фолклендских (Мальвинских) островов в юго-западной части Атлантического океана.
(обратно)110
Стерди (Стэрди) сэр Фредерик Чарльз Довтон (1859–1925), британский вице-адмирал (1913). Прославился победой у Фолклендских островов над эскадрой графа фон Шпее, за которую в 1916 г. был удостоен титула баронета. В Ютландском сражении командовал 4-й эскадрой. Адмирал (1917). Адмирал флота (1921).
(обратно)111
Потери германской эскадры составили свыше 2100 человек, в том числе сам Шпее и двое его сыновей. Англичане потеряли всего 6 человек убитыми.
(обратно)112
Битти Дэвид (1871–1936), британский флотоводец, адмирал флота. Начал службу на флоте в 1884 г. Участвовал в войне в Судане (1897–1899), в подавлении Боксерского восстания в Китае (1900). Контр-адмирал (1910). Во время Первой мировой войны участвовал в Гельголандском сражении (1914), битве при Доггер Банке (1915), в Ютландском сражении. Вице-адмирал (1914). В декабре 1916 г. произведен в адмиралы и назначен командующим Гранд Флитом. В 1919 г. получил графский титул и назначен Первым морским лордом.
(обратно)113
Тирпиц Альфред фон (1849–1930), германский военно-морской деятель, гросс-адмирал (1911), командующий флотом. Автор названного его именем плана создания мощного флота, позволившего бы Германии добиться авторитета на мировой сцене. Реализация плана Тирпица привела к тому, что к началу 1914 г. германский флот был вторым по мощности в мире, уступая лишь британскому. Видя, что превосходство британского флота остается слишком большим, Тирпиц стал сторонником концепции неограниченной подводной войны. После неоднократных попыток убедить кайзера в необходимости снять ограничения на применение подводных лодок Тирпиц подал в отставку, сложив с себя полномочия 15.03.1916.
(обратно)114
Бетман-Гольвег Теобальд фон (1856–1921), германский политический деятель, рейхсканцлер Германской империи (07.07.1909–13.07.1917), министр-президент Пруссии (1909–1917).
(обратно)115
Правильно – U-9.
(обратно)116
Вединген Отто Эдуард (1882–1915), офицер германского подводного флота. В 1910 г. принял командование над одной из первых подводных лодок – U-9. Прославился атакой, в ходе которой потопил три британских крейсера – «Абукир», «Креси» и «Хог», уничтожив при этом 62 офицера и 1397 матросов. За свой подвиг получил из рук кайзера Железный крест. 15 октября 1914 г. потопил британский крейсер «Хоук» (погибли командир корабля, 26 офицеров и 497 матросов), за что был награжден высшим военным орденом Pour le Merite (За заслуги).
(обратно)117
18 марта 1915 г. Это событие – единственная морская победа знаменитого «Дредноута».
(обратно)118
С XVIII столетия, с заселения обширной Новороссии, Одесса являлась административной и культурной столицей края. Беспокойство же начальства могло подпитываться опытом Крымской войны, когда город подвергся нападению британских кораблей.
(обратно)119
Шишкевич Михаил Иванович (1862 —?), генерал-майор (1910). Окончил Михайловское артиллерийское училище (1883), Михайловскую артиллерийскую академию и Николаевскую академию Генерального штаба (1893). С 1913 г. генерал-квартирмейстер Одесского ВО. Генерал-квартирмейстер штаба 7-й армии (19.07–04.11.1914). И.д. начальника штаба 11-й армии (19.04.1915–19.10.1916). Генерал-лейтенант (31.01.1915). Начальник штаба Дунайской армии (19.10.1916 – декабрь 1916). Начальник штаба Румынского фронта (12.12.1916–08.04.1917). Командир 7-го армейского корпуса (08.04–28.04.1917). 28.04.1917 назначен в резерв чинов при штабе Одесского ВО.
(обратно)120
Бон (здесь) – заграждение из плотов, металлических сетей, защищающие вход в гавань или фарватер от неприятельских судов.
(обратно)121
Хоменко Александр Александрович (1867–1939), вице-адмирал (1916). Окончил Морское училище (1887). Участник Русско-японской войны. В 1911–1915 гг. капитан Кронштадтского порта. В августе 1916 г. назначен начальником грузовых перевозок по Черному и Азовскому морям. В 1919–1920 гг. по полномочиям правительства юга России возглавлял Управление российского торгового флота в Париже.
(обратно)122
Веселкин Михаил Михайлович (1871–1918), контр-адмирал свиты его величества (1915). Окончил Александровский лицей (1893). Участвовал в Китайском походе 1900–1901 гг. и Русско-японской войне. Адъютант генерал-адмирала великого князя Алексея Александровича (1907–1908). Флигель-адъютант (1908). Во время Первой мировой войны начальник Экспедиции особого назначения на Дунае (1914–1916), затем комендант Севастопольской крепости (1916–1917). 04.04.1917 зачислен в резерв чинов Морского министерства; 20.08.1917 уволен по болезни. Расстрелян ЧК.
(обратно)123
Петрово-Соловово Борис Михайлович (1861–1925), генерал-майор свиты (1905), флигель-адъютант (1902–1905). Окончил лицей цесаревича Николая в Москве, выдержал офицерский экзамен при 2-м военном Константиновском училище. Командир лейб-гвардии Гусарского его величества полка (1905–1907). Во время Первой мировой войны генерал для поручений при Верховном главнокомандующем (с 25.07.1914). Уволен от службы за болезнью 23.09.1917.
(обратно)124
Новиков Александр Васильевич (1862 – не ранее 1931), генерал-лейтенант (1913). Окончил Михайловское артиллерийское училище (1884) и Николаевскую академию Генерального штаба (1891). С 13.10.1914 г. командир 1-го кавалерийского корпуса. С 31.01.1915 г. состоял в распоряжении Верховного главнокомандующего. Командир 43-го армейского корпуса (25.06.1915–02.04.1917). Отчислен от должности с назначением в резерв чинов при штабе Петроградского ВО (02.04.1917). 28.04.1917 уволен от службы. В 1918 г. добровольно пошел в Красную армию. С 1922 г. в отставке. 29.11.1930 был арестован по делу «Весна», 18.07.1931 приговорен к 10 годам лагерей. Дальнейшая судьба неизвестна.
(обратно)125
Атташе союзных стран.
(обратно)126
С началом войны императорским указом была воспрещена продажа питей, что в обиходе именовалось «сухим законом».
(обратно)127
В это время генерал от кавалерии В. А. Сухомлинов (1848–1926), военный министр в 1909–1915 гг.
(обратно)128
Лечицкий Платон Алексеевич (1856–1921 или 1923), генерал от инфантерии (1913). Окончил Варшавское пехотное юнкерское училище (1880) и Офицерскую стрелковую школу. Участник Китайского похода 1900–1901 гг. и Русско-японской войны. Флигель-адъютант (1904–1905) и генерал-майор с зачислением в свиту Его Величества (1905). С 09.08.1914 командующий 9-й армией. С 18.04.1917 в распоряжении военного министра. С 07.05.1917 в отставке. С 1920 г. в Красной армии. В 1920 г. (по другим данным в 1921) арестован и умер в заключении.
(обратно)129
Иванов Николай Иудович (1851–1919), генерал от артиллерии (1908). Окончил Михайловское артиллерийское училище (1869). Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., Русско-японской войны. Во время Первой мировой войны главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта (19.07.1914–17.03.1916), действиями которого руководил во время Галицийской битвы, Варшавско-Ивангородской операции, боев под Хыровым (1914), при наступлении через Карпаты в Венгрию (1914–1915); отступления из Галиции (1915). В конце 1915 г. предпринял неудачное наступление на Стрыпе и в марте 1916 г. был заменен на посту командующего фронтом Брусиловым. 17.03.1916 назначен членом Государственного совета и состоял при особе императора. С началом Февральской революции Николай II поручил ему усмирить беспорядки в столице. После отречения царя был арестован; по личному распоряжению А. Ф. Керенского освобожден. В октябре 1918 г. принял предложение генерала П. Н. Краснова возглавить Особую Южную армию. Умер от тифа.
(обратно)130
Макензен Август фон (1849–1945), германский военачальник, генерал-фельдмаршал (1915). Участник Франко-прусской войны 1870–1871 гг. В начале Первой мировой войны командовал 17-м корпусом, входившим в состав 8-й армии, участвовал в Восточно-Прусской операции. 02.11.1914 назначен командующим сформированной на Восточном фронте 9-й армией, которой командовал в ходе Варшавско-Ивангородской и Лодзинской операций. 16.04–15.09.1915 – командующий 11-й армией, совершившей Горлицкий прорыв. С октября 1915 г. командующий группой армий, включавшей германские, австро-венгерские и болгарские войска, сосредоточенные против Сербии (20 дивизий). Начав наступление 07.10.1915, группа Макензена к началу декабря оккупировала всю территорию Сербии. В конце 1916 г. возглавил германские, болгарские и турецкие войска, действовавшие против Румынии с южного направления. В результате действий войск Макензена румынская армия была разгромлена, а большая часть Румынии оккупирована. Макензен был назначен командующим оккупационными войсками в Румынии.
(обратно)131
Китченер Горацио Герберт (1850–1916), британский военный деятель, фельдмаршал (1909), 1-й граф Китченер (1914). Участник ряда колониальных войн Великобритании, в том числе Англо-бурской, во время которой ввел систему концентрационных лагерей для мирного населения. С 06.08.1914 военный министр Великобритании. Направляясь с визитом в Россию, погиб у Оркнейских островов 05.06.1916 с крейсером «Хэмпшир», подорвавшимся на немецкой мине.
(обратно)132
44-й (с 1907 г. 17-й) драгунский Нижегородский полк – один из прославленных полков русской армейской кавалерии; существовал с 1701 г., участвовал во многих войнах России. Особенно ярко проявил себя за много лет активного участия в покорении Кавказа.
(обратно)133
Колчак Александр Васильевич (1874–1920), адмирал (1918). Окончил Морской корпус (1894). Полярный исследователь, участник экспедиции барона Э. В. Толя. Участник Русско-японской войны. Капитан 1-го ранга (1913). В начале 1914 г. назначен флаг-капитаном при командующем Балтийским флотом. С 10.04.1915 начальник минной дивизии. Контр-адмирал (10.04.1916). 28.06.1916 произведен в вице-адмиралы и назначен командующим Черноморским флотом. 27.07.1917 направлен в США во главе русской военно-морской миссии. Во время Гражданской войны военный и морской министр Уфимской Директории (04.11.1918). С 18.11.1918 Верховный правитель России и Верховный главнокомандующий. После поражений от красных и серии эсеровско-меньшевистских мятежей в тылу 15.01.1920 был выдан командованием чехословацкого корпуса с санкции французского генерала Жанена Политцентру. Расстрелян по постановлению Иркутского ревкома.
(обратно)134
Губернский город, центр Тифлисской губернии, административный и культурный центр Кавказского наместничества и в целом Кавказского края. Ныне Тбилиси – столица Республики Грузия.
(обратно)135
Джелико Джон Рашуорт (1859–1935), британский адмирал, 1-й граф Джелико (1925). В 1911 г. стал заместителем командующего Флотом метрополии. Второй лорд Адмиралтейства (1912–1914). С началом Первой мировой войны назначен командующим Гранд Флитом. Командовал британским флотом в Ютландском сражении 31.5–01.06.1916 г. Первый морской лорд с 04.12.1916 по 24.12.1917.
(обратно)136
Нерике Александр Карлович фон (1876–1934), полковник, делопроизводитель ГУГШ (с 06.01.1913). Командир 148-го пехотного Каспийского полка (01.11.1915).
(обратно)137
С началом войны многие офицеры немецкого происхождения официально русифицировали свои фамилии; из известных примеров: генерал Ирман – Ирманов, генерал Шильдбах – Литовцев.
(обратно)138
Адлерберг Александр Александрович (1849–1931), генерал от инфантерии (1912). Окончил Пажеский корпус (1869). Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. В 1912 г. вышел в отставку, 05.10.1914 возвращен на службу. Инспектор запасных войск. 28.04.1917 уволен в отставку. Во время Гражданской войны в резерве чинов при штабе главнокомандующего ВСЮР. Инспектор запасных войск ВСЮР. После поражения белых – в эмиграции в Югославии. Участвовал в деятельности РОВСа – возглавлял Загребский район организации.
(обратно)139
Ольховский Петр Дмитриевич (1852–1936), генерал от инфантерии (1910). Окончил 1-е военное Павловское училище (1871) и Николаевскую академию Генерального штаба (1878). Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. С 26.08.1912 помощник главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского ВО великого князя Николая Николаевича. 27.07.1914 назначен главным начальником Петроградского ВО. В октябре 1914 г. командовал Варшавским отрядом. 22.04.1915 переведен в распоряжение Верховного главнокомандующего. 19.06.1915 назначен главным начальником Московского ВО. С 02.09.1915 член Военного совета. После Февральской революции самоустранился от дел, а затем эмигрировал.
(обратно)140
Дрейер Владимир Николаевич (1876–1967), полковник (1911). Окончил Павловское военное училище (1896) и Николаевскую академию Генерального штаба (1903). В 1914 г. начальник штаба 14-й кавалерийской дивизии, затем и. д. начальника штаба 1-го кавалерийского корпуса. И. д. начальника штаба 27-й пехотной дивизии (с ноября 1914). Руководил арьергардом 20-го армейского корпуса при окружении его в Августовских лесах в феврале 1915 г. Выйдя из окружения, продолжил службу на строевых и штабных должностях. Генерал-майор (24.09.1917). В 1918 г. проживал в Москве, сотрудничал с подпольной монархической организацией, затем выехал в Крым. Весной 1919 г. прибыл в Екатеринодар, но в Добровольческую армию не был принят по подозрению в связях в немцами, хотя и был оправдан по суду. Военный корреспондент при войсках ВСЮР. С 1920 г. в эмиграции. Автор книги: Дрейер В. Н. Крестный путь во имя Родины: Двухлетняя война красного севера с белым югом 1918–1920 года. Берлин, 1921.
(обратно)141
Ф. В. Сиверс, командующий 10-й армией Северо-Западного фронта с 23 сентября 1914 г. После поражения армии в феврале 1915 г. отстранен от командования и уволен в отставку 25 апреля 1915 г.
(обратно)142
Бахирев Михаил Коронатович (1868–1919), контр-адмирал (1914). Окончил Морское училище (1888). Участник Китайского похода 1900–1901 гг. и Русско-японской войны. Затем служил в Балтийском флоте. В 1911–1914 гг. командовал крейсером «Рюрик». Командир 1-й бригады крейсеров (1914–1915), 1-й бригады линкоров (1915–1917). Вице-адмирал (06.12.1916). Уволен в отставку (1918). Арестован ЧК по обвинению в подготовке восстания в Петрограде и расстрелян.
(обратно)143
Реприманд (фр. reprimande), устар.: выговор, внушение.
(обратно)144
Имеется в виду Хижинский Павел Николаевич (1880–1938), лейтенант (1912). После революции остался в России. Штурман дальнего плавания, работал старшим картографом в гидрографических экспедициях в звании лейтенанта, в 1930-х работал в Морском музее. В апреле 1935 г. выслан с женой в Казахстан на 5 лет, в июле находился в селе Кийма Есильского района Карагандинской области. 30 апреля 1938 г. арестован, 12 октября приговорен к высшей мере наказания и расстрелян в тот же день.
(обратно)145
Ингеноль Густав Генрих Эрнст Фридрих фон (1857–1933), германский военный деятель, адмирал. Командующий германским Флотом Открытого моря в начале Первой мировой войны. 02.02.1915 снят с этого поста и заменен адмиралом Гуго фон Полем.
(обратно)146
Правильно Карден, сэр Секвил Гамильтон (1857–1930), контрадмирал (1908) британского флота. На службе в Королевских ВМС с 1870 г. 27.08.1914 г. назначен командующим всеми эскадрами в Восточном Средиземноморье. Инициатор попытки прорыва флота союзников через Дарданеллы; командующим британскими и французскими военно-морскими силами в этой операции. В марте 1915 г. из-за болезни был снят с этого поста и заменен адмиралом де Робеком. Адмирал (1917).
(обратно)147
Неточность автора: прорыв адмирал Дакуорт осуществил в феврале 1807 г. в ходе англо-турецкой войны 1807–1809 гг. Прорыв был авантюрой и закончился бесславно. Неуместная дерзость английского адмирала затруднила действия союзной англичанам русской эскадры адмирала Сенявина. В Великобритании акция была воспринята как победа. Характерно, что в 1915 г. союзники приурочили свою операцию к дате прорыва через Дарданеллы Дакуорта.
(обратно)148
Фаррагут Дэвид Глазго (1801–1870) – американский военно-морской деятель, адмирал. Выходец из южных штатов, во время Гражданской войны в США служил на стороне северян. В 1862 г. командовал флотилией, которая в апреле была направлена для взятия Нового Орлеана. Наибольшую известность Фаррагуту принесло победное движение с флотилией вверх по течению Миссисипи с преодолением артиллерийской обороны противника. Умелое маневрирование Фаррагута по реке (Миссисипи) мимо фортов южан привело к сдаче города 28 апреля войскам северян под руководством Бенджамина Батлера. 28 июня флотилия Фаррагута уничтожила батареи противника на позициях под Виксбергом, а в 1863 г. он принимал участие во взятии Порт-Гудзона и снятии блокады с устья Гудзона. В 1866 г. стал первым в США адмиралом флота.
(обратно)149
Робек Джон де (1862–1928), британский флотоводец. Контрадмирал (1911). Накануне Первой мировой войны командовал 9-й крейсерской эскадрой. В марте 1915 г. сменил адмирала Кардена на посту командующего военно-морскими силами в Дарданелльской операции. Командовал союзными силами во время неудачной попытки прорыва 18.03.1915, при которой союзники потеряли 5 кораблей. Адмирал флота (1925). В 1915 г. назначен командующим Средиземноморским флотом. Вице-адмирал (1917). В 1917 г. командующий 2-й боевой эскадрой Гранд флита. Верховный комиссар в Константинополе (1919), оказывал помощь Белому движению на юге России. Командующий Атлантическим флотом (1922). В 1924 г. вышел в отставку.
(обратно)150
Потапов Алексей Степанович (1872 —?), генерал-майор (1912). Окончил военно-училищные курсы Киевского пехотного юнкерского училища и Николаевскую академию Генерального штаба (1899). Участник Китайского похода 1900–1901 гг. и Русско-японской войны. 16.08.1912 уволен от службы по болезни с производством в чин генерал-майора. Во время Первой мировой войны возвращен на службу тем же чином. Известен своим набегом во главе импровизированного отряда на Мемель в марте 1915 г. Командовал кавалерийским отрядом (два казачьих полка) в ходе Свенцянской операции, с которым действовал на правом фланге 10-й армии. Командир бригады 64-й пехотной дивизии (с 18.01.1916). С 14.01.1917 в резерве чинов при штабе Киевского ВО. С 01.03.1917 член Военной комиссии Временного комитета Государственной думы, помощник председателя комиссии А. И. Гучкова; председатель Военной комиссии (с 04.03.1917). В начале апреля 1917 г. оставил должность. 20.06.1917 назначен в резерв чинов при штабе Петроградского ВО.
(обратно)151
Радко-Дмитриев Радко Дмитриевич (1859–1918), генерал от инфантерии (1914). Болгарин по национальности. После начала Первой мировой войны и выступления Болгарии на стороне Германии принял российское подданство; 26.07.1914 принят на русскую службу с чином генерал-лейтенанта и назначен командиром 8-го армейского корпуса. С 03.09.1914 командующий 3-й армией. 07.05.1915 после неудачных для армии боев с противником снят с должности. Командовал 2-м Сибирским (с 03.06.1915) и 7-м Сибирским (с 11.10.1915) армейскими корпусами. Командующий 12-й армией (с 20.03.1916). Отчислен от должности по болезни 20.07.1917. С 01.01.1918 г. в отставке. Уехал на юг России для лечения. В числе большой группы заложников зверски убит большевиками в окрестностях Пятигорска.
(обратно)152
Бобринский Георгий Александрович (1863–1928), граф, генерал-лейтенант (1910), генерал-адъютант (1915). После создания (25.08.1914) генерал-губернаторства на занятой русскими войсками части Восточной Галиции был назначен временно исполняющим обязанности генерал-губернатора, 19.11.1914 утвержден в этой должности императорским указом. После потери Галиции летом 1915 г. в результате наступления австро-германских войск канцелярия генерал-губернаторства была эвакуирована в Киев. 17.03.1916 Галицийское генерал-губернаторство было упразднено, а граф направлен в распоряжение главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. В 1919 г. эмигрировал.
(обратно)153
Евлогий (в миру Василий Семенович Георгиевский) (1868–1946), епископ Русской православной церкви, митрополит (1922). Член 2-й и 3-й Государственных дум (1907–1912). С 14 мая 1914 г. – архиепископ Волынский и Житомирский; после занятия русской армией Галиции управлял в ней церковными делами. С осени 1914 г. руководил массовым обращением униатских приходов в православие, из-за чего либеральная публика обвиняла его в русификаторской политике. В 1917–1918 гг. участник Поместного собора, сторонник восстановления патриаршества. По возвращении на Украину боролся против автокефалистского движения, арестовывался украинскими и польскими властями. В конце августа 1919 г. прибыл в контролируемый ВСЮР Новороссийск, откуда в январе 1920 г. вместе с рядом других российских архиереев отбыл в эмиграцию.
(обратно)154
Кякшт (Кякшто) Лидия Георгиевна (1885–1959) – артистка Мариинского театра (с 1902). В 1908 г. покинула театр и страну.
(обратно)155
Вероятно, имеется в виду Гончаров 2-й Владимир Егорович (1886 – после 1930-х), мичман (1908), ст. лейтенант за отличие (10.04.1916). После революции остался в России.
(обратно)156
Декавилька – разборная узкоколейная железная дорога системы французского инженера А. Декавиля. Активно использовалась в Первую мировую для организации снабжения долговременных укрепрайонов.
(обратно)157
Щербатов Николай Борисович (1868–1943), князь, действительный статский советник (1913), камергер (1909). Окончил Пажеский корпус. В 1915 г. – управляющий Министерством внутренних дел и шеф Отдельного корпуса жандармов, с 5 июня по 26 сентября 1915 г. – министр внутренних дел. В Совете министров выступал за сотрудничество с оппозицией.
(обратно)158
Шипов Дмитрий Николаевич (1851–1920), русский политический деятель, один из лидеров земского движения конца XIX – начала XX века. Министерского поста не занимал, автор ошибается. Окончил Пажеский корпус (1872), юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1877). Активный деятель земского движения, в 1893–1904 гг. председатель Московской губернской земской управы. Один из основателей Партии мирного обновления. В 1919 г. арестован ВЧК по делу «Национального центра» как его предполагаемый руководитель, умер в тюрьме в январе 1920 г.
(обратно)159
Самарин Александр Дмитриевич (1868–1932), государственный и общественный деятель. Действительный статский советник (1908). Камергер высочайшего двора (1906). Егермейстер двора Его Императорского Величества (1910). Московский губернский предводитель дворянства (1908–1915). С 05.07 по 26.09.1915 обер-прокурор Святейшего Синода; отправлен в отставку из-за негативных высказываний о Распутине и разногласий с премьер-министром И. Л. Горемыкиным.
(обратно)160
Поливанов Алексей Андреевич (1855–1920), генерал от инфантерии (1912). Окончил Николаевское инженерное училище (1874), Николаевскую инженерную академию, Николаевскую академию Генерального штаба (1888). Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Начальник Главного штаба (1905–1906). С 01.01.1912 член Государственного совета. С 13.06.1915 управляющий делами Военного министерства. Военный министр и председатель Особого совещания по обороне государства (10.09.1915–15.03.1916). После Февральской революции председатель Особой комиссии по реорганизации армии на демократических началах. С лета 1920 г. в Красной армии. Военный эксперт во время советско-польских мирных переговоров в Риге, во время которых умер от тифа (по другой версии – застрелился, не выдержав позорных условий мира с Польшей).
(обратно)161
Георгий Михайлович (1863–1919), великий князь, внук императора Николая I. Генерал-адъютант (1909), генерал-лейтенант (1909). Во время Первой мировой войны состоял при Ставке Верховного главнокомандующего. Расстрелян большевиками.
(обратно)162
Беренс Михаил Андреевич (1879–1943), капитан 2-го ранга. Окончил Морской кадетский корпус (1898) и Временный штурманский офицерский класс (1904). Участник Китайского похода 1900–1901 гг. и Русско-японской войны. В 1915 г. назначен командиром эсминца «Новик». В 1916–1917 гг. в чине капитана 1-го ранга командовал линкором «Петропавловск». В конце 1917 г. – и. д. начальника штаба минной обороны Балтийского флота. В 1918 г. уволен от службы. Участник Белого движения на востоке страны. С января 1920 г. и. о. командующего морскими силами на Тихом океане. Контр-адмирал (08.07.1920). 28.08.1920 прибыл в Крым в распоряжение барона П. Н. Врангеля. Комендант крепости Керчь (сентябрь 1920), начальник 2-го (Азовского) отряда судов Черноморского флота (октябрь – декабрь 1920). С января 1921 г. командующий Русской эскадрой на военно-морской базе Бизерта (Тунис).
(обратно)163
Федотов Дмитрий Иванович (1889 —?), лейтенант (1914), Окончил Морской кадетский корпус (1910), Минный офицерский класс (1916). Флаг-офицер штаба начальника 5-го дивизиона миноносцев Балтийского моря (1911–1913). Артиллерийский офицер эсминца «Новик» (1913–1917). Старший лейтенант (28.07.1917). Перешел на службу к красным. С 1925 г. в отставке.
(обратно)164
Непенин Адриан Иванович (1871–1917), вице-адмирал (1916). Окончил Морской корпус (1892). Участник Китайского похода 1900–1901 гг. и Русско-японской войны. С 1911 г. начальник службы связи штаба действующего флота Балтийского моря. В 1911–1914 г. начальник службы связи штаба командующего морскими силами Балтийского моря. С 17.07.1914 г. начальник службы связи Балтийского моря. В 1914–1915 гг. одновременно командовал морской обороной Приморского фронта. С 06.09.1916 г. командующий Балтийским флотом. После Февральской революции заявил о своей поддержке Временного правительства. Убит в порту выстрелом в спину человеком в матросской форме.
(обратно)165
Система земляных фортов была создана вокруг Гродно в 1887–1889 гг. Императорским указом 4 августа 1912 г. начато строительство новой крепости в Гродно. Работы велись до лета 1915 г. Ни одно оборонительное сооружение к этому времени не имело степени готовности выше 50 %. В сентябре 1914 г. и феврале 1915 г. служила опорной базой русских войск, на территории крепости формировались новые части. В августе 1915 г., из-за германского наступления, упразднена, разоружена и частично взорвана. Оставлена русскими войсками после скоротечных боев 31 августа – 3 сентября 1915 г.
(обратно)166
Строительство Брестской крепости началось в 1833 г., основные работы проведены в 1836–1842 гг. Состояла из цитадели и трех отдельных укреплений. Модернизирована в 1864–1888 гг. по проекту Э. И. Тотлебена. В 1913 г. начато строительство второго кольца укреплений, но не завершено до начала Первой мировой войны. Готовилась к обороне, однако в ходе стремительного германского наступления 13 (26) августа 1915 г. оставлена и частично взорвана русскими войсками. С конца 1918 г. в составе Польши. Переходила из рук в руки в ходе советско-польской войны. Известна обороной польского гарнизона против немцев в сентябре 1939 г. и советского гарнизона против немцев в июне-июле 1941 г. Ныне мемориальный комплекс. Находится на территории Республики Беларусь.
(обратно)167
Решение о создании Ковенской крепости было принято в 1879 г. Укрепления наращивались и совершенствовались вплоть до 1915 г. Включала цитадель и десять фортов. В ходе Первой мировой войны взята штурмом германской 10-й армией 5 (18) августа 1915 г.
(обратно)168
Даву (д’Аву) Луи-Николя (1770–1823), французский военачальник. Маршал Империи (1804), герцог Ауэрштедтский (1808), принц Экмюльский (1809). Участник похода в Россию.
(обратно)169
Имеется в виду бой частей 7-го пехотного корпуса 2-й русской армии генерал-лейтенанта Раевского против войск корпуса маршала Даву 23 июля 1812 г. под Салтановкой, примерно в 10 км от Могилева.
(обратно)170
Смена командования произошла в августе 1915 г.
(обратно)171
Саблин Николай Павлович (1880–1937), капитан 1-го ранга (1915), флигель-адъютант (1912). Окончил Морской корпус (1898). Участник Китайского похода 1900–1901 гг. и Русско-японской войны. В 1911–1914 гг. старший офицер императорской яхты «Штандарт», с 1916 г. – ее командир. Человек близкий царской семье, пользовался ее особым доверием. В августе 1914 г. был назначен состоять при Николае II во время пребывания императора на театре военных действий. Командир Отдельного батальона Гвардейского экипажа (1915). После Февральской революции уволен в отставку. Во время Гражданской войны состоял в Вооруженных силах Юга России. Эвакуировался из Одессы в 1920 г.
(обратно)172
Пустовойтенко Михаил Саввич (1865–?), генерал-майор (1913). Окончил Одесское пехотное юнкерское училище (1884) и Николаевскую академию Генерального штаба (1894). 19.07.1914 назначен генерал-квартирмейстером штаба армий Юго-Западного фронта, 01.04.1915 переведен на ту же должность в штаб Северо-Западного фронта. 30.08.1915 назначен и. д. генерал-квартирмейстера штаба Верховного главнокомандующего. Ближайший сотрудник генерала М. В. Алексеева в планировании операций. Генерал-лейтенант (1916). В 1918 г. эмигрировал.
(обратно)173
Борисов Вячеслав Евстафьевич (1861–1941), генерал-лейтенант (1915). Окончил 2-е военное Константиновское училище (1882) и Николаевскую академию Генерального штаба (1890). Сослуживец М. В. Алексеева по 64-му Казанскому полку и его соученик по академии Генштаба. Участник Китайской кампании 1900–1901 гг. Генерал-майор (1907). Окружной генерал-квартирмейстер штаба Виленского ВО (1909–1910). С 1910 г. в отставке. Вновь поступил на службу во время Первой мировой войны. Генерал для поручений при начальнике штаба Верховного главнокомандующего (с 24.04.1916) и при Верховном главнокомандующем (с 20.05.1917). С 1918 г. в Красной армии. Уехал в командировку на Украину и в Советскую Россию не вернулся.
(обратно)174
По-видимому, имеются в виду эринии – богини мести в древнегреческой мифологии.
(обратно)175
Базаров Павел Александрович (1871–1948), полковник (1909). Окончил Михайловское артиллерийское училище (1894) и Николаевскую академию Генерального штаба (1900). Участник Русско-японской войны. Во время Первой мировой войны старший адъютант отдела генерал-квартирмейстера штаба 9-й армии (с 4.09.1914), и. д. генерала для поручений при командующем армией (1915), штаб-офицер для делопроизводства и поручений управления генерал-квартирмейстера при Верховном главнокомандующем (с 02.10.1915). Генерал-майор (11.09.1917). Начальник 3-го отдела Управления генерал-квартирмейстера штаба Верховного главнокомандующего (с 27.09.1917). С 1918 г. в Добровольческой армии; в 1918–1919 гг. состоял в резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР. После Гражданской войны в эмиграции.
(обратно)176
Паукер Герман Оттович (1872–1919), инженер, коллежский советник (1914). Окончил Институт инженеров путей сообщения (1897). С 1914 г. начальник Управления по сооружению железных дорог Министерства путей сообщения. В годы Первой мировой войны возглавлял управление путей сообщения в Главном управлении военных сообщений, в этом качестве постоянно находился в Ставке Верховного главнокомандующего. С мая 1916 г. – член Совета министра путей сообщения. Расстрелян в Киеве ЧК.
(обратно)177
Базили Николай Александрович (1883–1963), статский советник, дипломат. Окончил Александровский лицей. На дипломатической службе с 1903 г. Директор Дипломатической канцелярии при Ставке Верховного главнокомандующего (1916–1917). Во время Февральской революции участвовал в составлении акта об отречении Николая II от престола. С апреля 1917 г. – советник российского посольства во Франции. В 1919 г. принимал участие в создании и деятельности Русского политического совещания.
(обратно)178
Ден Дмитрий Владимирович фон (1874–1937), флигель-адъютант, капитан 1-го ранга, офицер для поручений при императорской Главной квартире, помощник начальника военно-походной канцелярии. Во время Гражданской войны – представитель командующего ВСЮР в Италии. Женат на Софье Владимировне Шереметевой (1884–1955), чья мать, графиня Елена Григорьевна Строганова, была дочерью великой княжны Марии Николаевны (дочери Николая I) от ее второго брака с графом Г. А. Строгановым. Отсюда дальнее родство фон Дена (точнее, его жены) с Николаем II.
(обратно)179
Трухачев Петр Львович (1867–1916), вице-адмирал (1916). Окончил Морское училище (1887). Участник Русско-японской войны. Офицер Гвардейского экипажа (с 20.10.1906). Командовал яхтой «Марево» (1909–1910), эсминцем «Войсковой» (1910–1912), крейсером «Олег» (1913–1915), минной дивизией (1915), 1-й бригадой крейсеров Балтийского флота (с 19.12.1915).
(обратно)180
Шишко Павел Оттонович (1881–1967), капитан 2-го ранга (1913). Окончил Морской корпус (1901). Участник Русско-японской войны 1904–1905 гг. Капитан 1-го ранга (1917), командир Ревельского батальона смерти (на защите дамбы между островами Моон и Эзель). Участник Белого движения. Воевал в Северо-Западной армии; командир батальона Печорского полка, в декабре 1919 г. командир Отдельного батальона танков. С 1921 г. в эмиграции в США.
(обратно)181
Имеются в виду итоги Второй Балканской войны 1913 г., в которой Болгария потерпела поражение от недавних союзников по Балканскому союзу, в том числе Сербии, и утратила часть приобретенных в ходе Первой Балканской войны 1912–1913 гг. турецких территорий.
(обратно)182
Савинский Александр Александрович (1868 или 1872–1934), русский дипломат. Действительный статский советник, шталмейстер. Окончил юридический факультет С.-Петербургского университета. На службе в МИДе с 1892 г.: чиновник департамента личных и хозяйственных дел, сверхштатный чиновник (1895), 2-й секретарь (1899), директор канцелярии МИДе (1901–1910). Посланник в Швеции (1912–1913), Болгарии (1913–1915). После революции в эмиграции во Франции.
(обратно)183
Автор неточно именует Юго-Западный фронт.
(обратно)184
Драгомиров Михаил Иванович (1830–1905), генерал-адъютант (1878), генерал от инфантерии (1891). Начальник Николаевской академии Генерального штаба в 1878–1889 гг.
(обратно)185
Имеется в виду Франко-прусская война 1870–1871 гг., в которой Франция потерпела сокрушительное поражение, а Пруссия, завершив объединение германских земель, превратилась в Германскую империю.
(обратно)186
Жанен Морис (1862–1946), дивизионный генерал (1916), французский военный деятель и дипломат. С весны 1916 до конца 1917 г. глава чрезвычайной французской военной миссии при Ставке Верховного главнокомандующего русской армией. С 24.08.1918 командующий войсками Антанты в России. С ноября 1918 г. – начальник французской военной миссии при правительстве адмирала Колчака, главнокомандующий чехословацкими войсками в России. С января 1919 г. – представитель Высшего межсоюзного командования и главнокомандующий союзными войсками в Сибири и на Дальнем Востоке. Был враждебно настроен по отношению к адмиралу Колчаку и Белому движению в целом. В декабре 1919 г. поддержал мятеж против колчаковского правительства в Иркутске. Санкционировал выдачу Колчака эсеровскому Политцентру. В 1920 г. вернулся во Францию.
(обратно)187
Безобразов Владимир Михайлович (1857–1932), генерал от кавалерии (1913), генерал-адъютант (1914). Окончил Пажеский корпус (1877). Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Командир Кавалергардского Ее Величества полка (1900–1904). В 1905 г. зачислен в свиту Его Императорского Величества. С 29.01.1912 командир Гвардейского корпуса, с которым вступил в мировую войну. С 25.08.1915 г. распоряжении Верховного главнокомандующего. Командующий Гвардейским отрядом (с 26.11.1915) и войсками гвардии (с 02.06.1916). Отчислен от должности 14.08.1916. С 11.04.1917 в отставке. После Октябрьской революции эмигрировал.
(обратно)188
Павел Александрович (1860–1919), великий князь, дядя Николая II. Генерал-адъютант (1897). Генерал от кавалерии (1913). Командир Гвардейского корпуса (1898–1902). За заключенный в 1902 г. недозволенный неравнородный брак с разведенной О. В. Пистолькорс (урожденная Карнович) уволен от службы с запрещением приезжать в Россию, над его имуществом установлена опека. После начала войны в 1914 г. вернулся в Россию. 29.06.1915 назначен шефом лейб-гвардии Гродненского гусарского полка. С 27.05.1916 командир 1-го гвардейского корпуса. Инспектор войск гвардии (с 13.09.1916). После Февральской революции уволен со службы. В августе 1918 г. арестован большевиками и расстрелян в Петропавловской крепости.
(обратно)189
Олохов Владимир Аполлонович (1857–1920), генерал-лейтенант (1909). Окончил Михайловское артиллерийское училище (1876) и Николаевскую академию Генерального штаба (1882). Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. В Первую мировую вступил начальником 1-й гвардейской пехотной дивизии (на должности с 30.05.1912). Генерал от инфантерии (1915). Командовал корпусом, армейской группой на Юго-Западном фронте. С 1917 г. в отставке. В 1918 г. поступил на службу в Красную армию.
(обратно)190
Кербер Людвиг Федорович (с 1916 г. – Борисович) (1863–1919), вице-адмирал (1914). Окончил Морское училище (1884), Минный офицерский класс (1894), курс военно-морских наук при Николаевской морской академии (1902). Участник Китайского похода 1900–1901 гг. и Русско-японской войны. В 1913–1915 гг. начальник штаба командующего Балтийского флота, руководил разработкой оперативных планов и подготовкой сил флота, а с началом Первой мировой войны – деятельностью органов управления. В декабре 1915 г. назначен членом Адмиралтейств-Совета, в феврале 1916 г. – председателем Совещания по морским перевозкам. С ноября 1916 г. главноначальствующий города Архангельска, Беломорского водного района и командующий флотилией Северного Ледовитого океана. Снят с должности в марте 1917 г. и в декабре уволен в отставку. Умер в Англии.
(обратно)191
По Реомюру; соотношение с системой Цельсия: 1 градус С = 0,8 градуса R.
(обратно)192
Новицкий Павел Иванович (1857–1917), вице-адмирал (1913). Окончил Морской корпус (1878). 20.07.1914 назначен начальником бригады линейных кораблей Черноморского отряда. С 21.07.1916 главный командир Севастопольского порта. После Февральской революции отстранен от должности. После захвата власти большевиками был арестован и расстрелян на Малаховом кургане в числе большого числа морских офицеров.
(обратно)193
Вырубова Анна Александровна (урожд. Танеева) (1884–1964), фрейлина, ближайшая подруга императрицы Александры Федоровны. В 1907 г. вышла замуж за старшего лейтенанта флота А. В. Вырубова, но в следующем году развелась с ним. Считалась одной из самых горячих почитательниц Распутина. После Февральской революции неоднократно подвергалась арестам и допросам, содержалась в тюрьмах. В декабре 1920 г. нелегально уехала в Финляндию.
(обратно)194
Кауфман-Туркестанский Петр Михайлович фон (1857–1926), обер-гофмейстер, сенатор, член Государственного совета. В 1906–1908 гг. министр народного просвещения. С 1916 г. главноуполномоченный Российского общества Красного Креста при императорской Ставке.
(обратно)195
Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925), генерал от инфантерии (1900), генерал-адъютант (1902). Окончил 1-е военное Павловское училище (1866) и Николаевскую академию Генштаба (1874). Участник кампаний 1867 и 1868 гг. против Бухарского эмирата, кампании 1876 г. против Кокандского ханства, Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., Ахалтекинских экспедиций 1880–1881 гг. Управляющий военным министерством (01.01–01.07.1898), военный министр (01.07.1898–07.02.1904). Во время Русско-японской войны командующий Маньчжурской армией (07.02–13.10.1904), главнокомандующий всеми сухопутными и морскими вооруженными силами, действующими против Японии (13.10.1904–03.03.1905), командующий 1-й Маньчжурской армией (08.03.1905–03.02.1906). Во время Первой мировой войны командир гренадерского корпуса (с 12.09.1915). 06.02.1916 назначен командующим 5-й армией Северного фронта. С 22.07.1916 туркестанский генерал-губернатор, командующий войсками Туркестанского ВО и войсковой наказной атаман Семиреченского казачьего войска; снят с поста после Февральской революции. После Октябрьской революции жил в своем бывшем имении в селе Шешурино Холмского уезда Псковской губернии, работал учителем в организованной им сельской школе.
(обратно)196
Сухомлинов Владимир Александрович (1848–1926), генерал от кавалерии (1906), генерал-адъютант (1912). Военный министр (11.03.1909–13.06.1915). Член Государственного совета (1911). Окончил Николаевское кавалерийское училище и Николаевскую академию Генерального штаба (1874). Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Пользовался неизменным расположением Николая II и императрицы Александры Федоровны. После неудач на фронте в первый год войны, различные круги, от Верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича до либеральной думской оппозиции, стали обвинять Сухомлинова в поражениях и неготовности армии к войне; выдвигались и обвинения в измене и взяточничестве, основания которым давали связи молодой жены Сухомлинова с различными темными дельцами, подозревавшимися в работе на германскую и австрийскую разведки. С целью дискредитации Сухомлинова контрразведкой было сфальсифицировано дело по обвинению в шпионаже в пользу Германии близкого к министру полковника Мясоедова, повешенного после быстрого суда. В таких условиях Николай II был вынужден снять Сухомлинова с поста министра. 08.03.1916 Сухомлинов был уволен из армии, а 29.04.1916 арестован. Попытки замять дело не удались. Уже после Февральской революции Сухомлинов был признан виновным в неподготовленности армии к войне и 20.09.1917 приговорен к бессрочной каторге (замененной тюремным заключением) и лишению всех прав состояния. После Октябрьской революции был 01.05.1918 освобожден по амнистии как достигший 70-летнего возраста и эмигрировал из России.
(обратно)197
Татищев Илья Леонидович (1859–1918), генерал-майор свиты Его Императорского Величества (1905), генерал-адъютант (1916). Окончил Пажеский корпус (1879). Служил в гвардии. Адъютант великого князя Владимира Александровича (1890–1905). Состоял при германском императоре Вильгельме II (1905–1914). С 28.02.1916 состоял при принце А. П. Ольденбургском по званию верховного начальника санитарной и эвакуационной части. Генерал-лейтенант (1916). Числился по гвардейской кавалерии. Уволен от службы 18.04.1917. В 1918 г. сопровождал императорскую семью в Тобольск. Вместе с князем В. А. Долгоруковым расстрелян большевиками в Екатеринбурге.
(обратно)198
Остен-Сакен Николай Дмитриевич (1831–1912), граф, действительный тайный советник (1896), посол в Баварии (1880–1882, 1884–1895) и Германии (1895–1912).
(обратно)199
Кидерлен-Вехтер Альфред фон (1852–1912), немецкий дипломат, государственный деятель. С 1908 г. заместитель статс-секретаря иностранных дел, с 1910 г. статс-секретарь (министр) иностранных дел.
(обратно)200
Свербеев Сергей Николаевич (1857–1922), русский дипломат, тайный советник, камергер. Последний посол Российской империи в Германии (с 1912 г.). После начала Первой мировой войны вместе с другими российскими дипломатами покинул Берлин 21.07.1914 и на поезде через Копенгаген и Стокгольм вернулся в Петроград. После Октябрьской революции – в эмиграции в Германии.
(обратно)201
Минреп – стальной, пеньковый или капроновый трос или цепь для крепления якорной морской мины к якорю и удержания ее на определенном расстоянии от поверхности воды.
(обратно)202
Налетов Михаил Петрович (1869–1938), русский инженер-изобретатель, создатель первого в мире подводного минного заградителя – подводной лодки «Краб». Для оснащения заградителя Налетов разработал специальную мину и систему сбрасывания мин, которая позволяла нести на борту 60 мин, в то время как немецкие лодки при таком водоизмещении могли нести до 18 мин. После Октябрьской революции до 1934 г. работал старшим инженером на Кировском заводе в Ленинграде.
(обратно)203
Нельсон Горацио (1758–1805) – английский флотоводец, вице-адмирал (1801), барон Нильский (1798), виконт (1801). Наиболее известная морская битва – при мысе Трафальгар в 1805 г.; победа над объединенным франко-испанским флотом избавила Великобританию от угрозы вторжения, но стоила Нельсону жизни.
(обратно)204
Путятин Николай Сергеевич (1862–1927), князь, контр-адмирал (1913). Окончил Морской корпус (1882) и курс Военно-морских наук Николаевской морской академии (1897). Участник Первой мировой войны. С 1913 г. начальник учебного отряда Черноморского флота. Во время Гражданской войны – в Вооруженных силах Юга России до эвакуации Крыма. В эмиграции во Франции.
(обратно)205
Черкасов Василий Нилович (1878 – не ранее 1929), капитан 1-го ранга (1915). Окончил Морской корпус (1897) и Артиллерийский офицерский класс (1901). Участник Русско-японской войны. С 1906 по 1912 г. служил в Морском Генеральном штабе. Капитан 2-го ранга (1912). В январе – марте 1916 г. командующий 2-м дивизионом эсминцев Черноморского флота. 22.03.1916 назначен командиром линкора «Чесма» – выкупленным у японцев броненосцем «Полтава». После Октябрьской революции пошел на службу к большевикам, в 1922 г. уволен с флота. Судьба после 1929 г. неизвестна.
(обратно)206
Погуляев Сергей Сергеевич (1875–1941), флаг-офицер при Управлении морского министра, в 1902–1906 гг. – адъютант управляющего Морским министерством, морской агент во Франции (1906–1910), флигель-адъютант (1911). С осени 1913 г. служил на Черном море, командовал крейсером «Кагул». С февраля 1916 г. – начальник 1-й бригады линейных кораблей. В 1916 г. произведен в контр-адмиралы и зачислен в царскую свиту. С октября 1916 г. по апрель 1917 г. начальник штаба Черноморского флота, снят с должности по настоянию военного и морского министра А. И. Гучкова из-за ношения на погонах императорских вензелей. В 1918–1919 гг. на французской службе в чине контр-адмирала с причислением к Морскому Генеральному штабу, с 1919 г. – начальник Управления по делам русских военных и военнопленных за границей. В 1919–1920 гг. осуществлял связь между морским министерством Деникина и Врангеля и союзниками. После окончания Гражданской войны в эмиграции во Франции.
(обратно)207
Вероятно, имеется в виду Мордвинов Константин Владимирович.
(обратно)208
Львов Николай Георгиевич (1869–1918), контр-адмирал (1914). Окончил Морской корпус (1890). Участник Русско-японской войны и обороны Порт-Артура. Кавалер Золотого оружия. Во время Первой мировой войны командовал Транспортной флотилией (1915), 3-м, 7-м отрядами транспортов Черного моря (1916). Произведен в вице-адмиралы морским ведомством Украинской державы. После издевательств зверски убит матросами в Севастополе 23.02.1918.
(обратно)209
Каськов Митрофан Иванович (1867–1917), контр-адмирал (1916). Окончил Морское училище (1887). Командир мореходной канонерской лодки «Донец» (1910–1912); командир линейного корабля «Пантелеймон» (1912–1916). Обеспечивал доставку морем из Мариуполя двух дивизий для поддержки наступающих частей Кавказского фронта. Начальник штаба командующего флотом Черного моря (1916). Зачислен в резерв чинов Черноморского флота (1917). Убит матросами в Севастополе.
(обратно)210
Анастасия (Стана) Николаевна (1868–1935), великая княгиня. Дочь черногорского князя Николы I. Воспитывалась в Смольном институте в Петербурге. В 1889 г. вышла замуж за члена Российского императорского дома, герцога Г. М. Лейхтенбергского (внука императора Николая I); в браке родилось двое детей: Сергей и Елена. В 1906 г. развелась с мужем и вышла за великого князя Николая Николаевича Младшего. После революции вместе с супругом уехала в Крым, откуда в 1919 г. они вместе с несколькими другими членами императорской фамилии были эвакуированы на английском военном корабле в Европу.
(обратно)211
Петр Николаевич (1864–1931), великий князь, внук Николая I, младший брат великого князя Николая Николаевича Младшего. Генерал-майор (1903) с зачислением в свиту Его Величества. Генерал-адъютант (1908). Генерал-инспектор по инженерной части (1904–1909). Генерал-лейтенант (1908). Состоял по гвардейской кавалерии (1909). Из-за слабого здоровья (туберкулез) фактически не служил. С 1919 г. в эмиграции.
(обратно)212
Палицын Федор Федорович (1851–1923), генерал от инфантерии (1907). Окончил 1-е военное Павловское училище (1870) и Николаевскую академию Генерального штаба (1877). Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Начальник Генерального штаба (21.06.1905–13.11.1908). Член Государственного совета (1908). Во время Первой мировой войны состоял при командующем армиями Юго-Западного фронта, с осени 1915 г. заведовал укреплениями на Кавказском фронте. В сентябре 1915 г. назначен представителем русской армии в Военном совете союзных армий в Версале. Снят в мае 1917 г. Уволен от службы 11.10.1917 г. Жил во Франции, затем в Германии.
(обратно)213
Фронтовая наступательная операция Юго-Западного фронта Русской армии под командованием генерала А. А. Брусилова 3 июня – 22 августа 1916 г., в ходе которой было нанесено тяжелое поражение армиям Австро-Венгрии и Германии, заняты Буковина и Восточная Галиция. Другое название – 4-я Галицийская битва.
(обратно)214
Видимо, имеется в виду Ронжин Сергей Александрович (1869–1929), генерал-майор (1912). Окончил Николаевское инженерное училище (1889) и Николаевскую академию Генерального штаба (1897). 19.07.1914 назначен начальником военных сообщений при Верховном главнокомандующем. Генерал-лейтенант (1916). 16.01.1917 переведен в распоряжение военного министра, 20.05.1917 зачислен в резерв чинов при штабе Одесского ВО. Участник Белого движения в составе ВСЮР, с 03.07.1919 в резерве чинов при штабе главнокомандующего ВСЮР. С 1920 г. в эмиграции в Югославии.
(обратно)215
Очевидно, автор пишет о первом Ковельском сражении 15–21 июля 1916 г., в котором участвовали гвардейские корпуса под командованием генерала Безобразова.
(обратно)216
Мекленбург-Стрелицкий Михаил (Карл Михаил Вильгельм Август Александр) Георгиевич (1863–1934), герцог, генерал-лейтенант (1908), генерал-адъютант (1915). Сын герцога Георгия Мекленбург-Стрелицкого и великой княжны Екатерины Михайловны, правнук императора Павла I. Служил в русской армии, сохраняя германское подданство. 25.07.1914 принят с титулом герцога и высочества в русское подданство. С 05.08.1914 в распоряжении командира гвардейского корпуса. С 27.12.1914 инспектор артиллерии гвардейского корпуса. С 29.12.1915 в распоряжении командующего гвардейским отрядом. Будучи родственником свергнутой императорской династии, 31.03.1917 уволен от службы с мундиром и пенсией. В 1917 г. уехал из России.
(обратно)217
Имеется в виду Деметриу Ионеску, обычно называемый Таке-Ионеску (1858–1922), румынский политический и государственный деятель. В 1908 г. основал Консервативную демократическую партию. В политике был сторонником создания мощной коалиции балканских стран с целью отвоевания Румынией Трансильвании, Баната и Буковины, принадлежавших Австро-Венгрии. Сторонник вступления Румынии в Первую мировую войну на стороне Антанты. Министр иностранных дел Румынии в 1912–1913, в 1916–1917 и 1920–1921 гг. Премьер-министр (18.12.1921–19.01.1922).
(обратно)218
Поклевский-Козелл Станислав Альфонсович (1868–1939), российский дипломат, действительный статский советник, камергер. Окончил Александровский лицей (1886). Русский посланник в Бухаресте (1914–1917), был противником вступления Румынии в войну.
(обратно)219
Сорт сыра из овечьего молока, изготавливается в Молдавии и на Кавказе.
(обратно)220
Зайончковский Андрей Медардович (1862–1926), генерал от инфантерии (1916). Окончил Николаевское инженерное училище (1882) и Николаевскую академию Генерального штаба (1888). Участник Русско-японской войны. После ее окончания командир лейб-гвардии Егерского полка (1906–1908), командир 1-й бригады 1-й гвардейской пехотной дивизии (1908–1912). Получил известность как военный теоретик. С 1912 г. начальник 37-й пехотной дивизии, с которой вступил в Первую мировую войну. Командир 30-го (с 27.03.1915) и 47-го (с 12.08.1916) армейских корпусов. В августе – октябре 1916 г. командовал Добруджанской армией. Командир 18-го армейского корпуса (с 22.10.1916). С 02.04.1917 в резерве чинов при штабе Петроградского ВО. 07.05.1917 уволен в отставку. В 1918 г. добровольно пошел на службу к большевикам, в Красной армии был на штабной и преподавательской работе. Сотрудничал с ВЧК – ОГПУ, в частности, в рамках операции «Трест».
(обратно)221
Леонтович Евгений Александрович (1862–1937), генерал-лейтенант (1914). Окончил Елисаветградское кавалерийское училище (1883) и Николаевскую академию Генерального штаба (1890). В 1916 г. командовал 6-м кавалерийским корпусом в Добрудже. В декабре 1917 – январе 1918 г. организовывал добровольческие отряды в Одессе. В первой половине 1918 г. начальник формирований Одесского вербовочного центра Добровольческой армии. Летом 1919 г. в штабе Войск Юго-Западного края. С 1920 г. в эмиграции в Румынии.
(обратно)222
Командовал румынской флотилией на Дунае в 1913 и 1915–1916 гг.
(обратно)223
Паттон (Паттон-Фантон-де-Веррайон) Петр Иванович (1866–1941), контр-адмирал (1915). Окончил Морской корпус (1886) и Морскую академию (1908). Участник Русско-японской войны. С 1914 г. помощник начальника учебного отряда Черноморского флота. Начальник отряда судов обороны Северо-Западной части Черного моря. 13.04.1917 отчислен в резерв Черноморского флота. В 1918 г. председатель Русско-Дунайского пароходства; в 1919 г. эвакуировал его из Одессы. Участник Рейхенгалльского монархического съезда 1921 г.
(обратно)224
Смирнов Михаил Иванович (1880–1940), капитан 1-го ранга (1916). Окончил Морской кадетский корпус (1899), Минный офицерский класс (1904), Военно-морское отделение Николаевской морской академии (1914). В 1910–1916 гг. служил на Балтийском флоте. В 1916 г., по предложению Колчака, с которым был знаком еще с Морского корпуса, перевелся одновременно с ним на Черное море. Флаг-капитан по оперативной части штаба Черноморского флота, позднее начальник штаба командующего Черноморским флотом. Покинул Черноморский флот вместе с Колчаком, в составе его миссии ездил в США. Участник Белого движения. 20.11.1918 произведен в контр-адмиралы и назначен управляющим Морского министерства Омского правительства. С весны 1919 г. командующий Речной боевой флотилией, летом 1919 г. руководил боевыми операциями флотилии на реках Белой и Каме. В эмиграции в Великобритании, помогал семье Колчака.
(обратно)225
Неглижировать – относиться без должного внимания, пренебрегать.
(обратно)226
Китицын Михаил Александрович (1885–1960), капитан 2-го ранга. В 1902 г. поступил в Морской кадетский корпус, по окончании (1905) которого служил на Балтийском флоте. Участвовал в Цусимском сражении. В 1909 г. окончил офицерский класс подводного плавания. В годы Первой мировой войны командовал подводной лодкой «Тюлень» Черноморского флота. Капитан 1-го ранга (с октября 1917 г.). С осени 1918 г. начальник Морского училища во Владивостоке, в 1920 г., командуя отрядом судов, ушел из Владивостока с гардемаринами училища и 500 чинами флота с членами их семейств. 9 ноября 1920 г. на транспорте «Якут» пришел в Севастополь. В марте 1921 г. прибыл с Русской эскадрой в Бизерту (Тунис), где из Владивостокского и Севастопольского морских училищ был создан Морской корпус, в котором он стал начальником строевой части. В 1922 г. уехал в США. В годы Второй мировой войны служил в американских ВМС.
(обратно)227
Шеер Рейнхард (1863–1928), германский контр-адмирал (1910). В январе 1916 г. назначен командующим Флотом Открытого моря. Командовал германским флотом в Ютландском сражении. Хотя ему не удалось победить британцев, он все же смог нанести противнику значительный урон и сберечь от уничтожения свой флот. После окончания Ютландского сражения был встречен на родине, как герой. 5 июня был произведен в полные адмиралы и в тот же день награжден орденом Pour le Merite – высшей военной наградой Пруссии. Вышел в отставку в 1918 г. после Ноябрьской революции в Германии.
(обратно)228
Трафальгарское сражение – морское сражение 21 октября 1805 г. между британскими и франко-испанскими морскими силами у мыса Трафальгар на Атлантическом побережье Испании близ города Кадис. Нельсон атаковал противника почти под прямым углом, разрезав вражеский строй. Лучшая подготовка английских комендоров оправдала значительный риск такого решения, была одержана безусловная победа.
(обратно)229
Битти Дэвид (1871–1936), британский флотоводец, адмирал флота. Начал службу на флоте в 1884 г. Участвовал в войне в Судане (1897–1899), в подавлении Боксерского восстания в Китае (1900). Контр-адмирал (1910). Во время Первой мировой войны участвовал в Гельголандском сражении (1914), битве при Доггер Банке (1915), в Ютландском сражении. Вице-адмирал (1914). В декабре 1916 г. произведен в адмиралы и назначен командующим Гранд Флитом. В 1919 г. получил графский титул и назначен Первым морским лордом.
(обратно)230
Императорская яхта.
(обратно)231
Протопопов Александр Дмитриевич (1866–1918), российский политик, последний министр внутренних дел Российской империи. Депутат 3-й и 4-й Государственных дум, октябрист. Камер-юнкер (1908). Действительный статский советник (1909). 16.09.1916 назначен управляющим Министерством внутренних дел, 20.12.1916 утвержден на посту министра, чем сразу вызвал к себе ненависть вчерашних своих единомышленников – думских либералов. По мнению некоторых современников, его бездействие во время начавшихся в феврале 1917 г. в Петрограде событий стало основной причиной победы Февральской революции. С 1 марта по сентябрь 1917 г. находился в заключении в Петропавловской крепости, затем некоторое время в лечебнице для нервных больных. После захвата власти большевиками переведен в Москву, содержался в Таганской тюрьме. 27.10.1918 расстрелян.
(обратно)232
Распутин (Новых) Григорий Ефимович (по разл. источникам 1864, 1865, 1869 или 1872–1916), фаворит Николая II и Александры Федоровны. Имел репутацию «пророка», «святого старца» и «целителя». Приобрел доверие императорской семьи и, прежде всего, императрицы умением останавливать приступы гемофилии у ее сына, цесаревича Алексея. Оппозиционные политики различных направлений использовали имя Распутина для дискредитации царской семьи, приписывая ему неограниченное влияние на внутреннюю и внешнюю политику страны, на назначения высших сановников, вплоть до министров, а также сексуальную распущенность. 16.12.1916 группа заговорщиков: двоюродный брат Николая II великий князь Дмитрий Павлович, муж племянницы царя князь Ф. Юсупов, депутат Думы В. Пуришкевич, поручик Сухотин и доктор Лазаверт, убили Распутина во дворце Юсуповых. Некоторыми современниками и нынешними историками ставятся под сомнение как степень негативного влияния Распутина, так и «классическая» версия его убийства, к которому, вероятно, была причастна британская разведка.
(обратно)233
Штюрмер Борис Владимирович (1848–1917), российский государственный деятель. Действительный статский советник (1891), обер-камергер двора Его Императорского Величества (1916). С 20 января по 10 ноября 1916 г. был председателем Совета министров Российской империи, министром внутренних дел (03.03.1916–07.07.1916) и министром иностранных дел (07.07.1916–10.11.1916).
(обратно)234
Дмитрий Павлович (1891–1942), великий князь, внук Александра II и двоюродный брат Николая II. Флигель-адъютант (1912), штабс-ротмистр лейб-гвардии Конного полка. В 1914 г. недолго воевал на передовой, награжден орденом Св. Георгия за спасение раненого солдата. Участник убийства Распутина. После обнаружения трупа Распутина, по прямому приказу императрицы Александры Федоровны в нарушение действовавшего законодательства, был арестован, как и его соучастник, князь Юсупов. Освобожден после вмешательства Николая II и отправлен служить в Персию в отряд генерала Баратова. После революции остался за границей.
(обратно)235
Дизраэли Бенджамин, граф Биконсфильд (1804–1881), английский государственный деятель. Премьер-министр Великобритании в 1868 и 1874–1880 гг.
(обратно)236
Герценштейн Михаил Яковлевич (1859–1906), ученый-экономист и политический деятель. Еврей-выкрест. Окончил юридический факультет Новороссийского университета. Видный член партии конституционных демократов (кадетов), его позиция по аграрному вопросу впоследствии легла в основу программы кадетов. В Первой думе был председателем первой (главной) подкомиссии аграрной комиссии и входил в состав комиссий: финансовой, бюджетной и об ассигновании средств на продовольственную помощь населению. Вызвал ненависть правых кругов своей речью в Думе, в которой назвал «иллюминациями» поджоги крестьянами дворянских усадеб. Убит членами Союза русского народа.
(обратно)237
Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882), русский военачальник, генерал от инфантерии (1881), генерал-адъютант (1878). Участник среднеазиатских походов и Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Пользовался широкой популярностью и любовью в армии и различных слоях общества. По политическим взглядам панславист, убежденный сторонник наступательной войны против Германии и Австро-Венгрии. Его публичные антигерманские высказывания вызвали дипломатический скандал. Умер при таинственных обстоятельствах в гостиничном номере известной московской кокотки. Официальная причина смерти сердечный приступ, хотя существовали версии о его отравлении агентами германской разведки или членами тайной монархической организации «Священная дружина», опасавшейся, что генерал может возглавить переворот против императора.
(обратно)238
Гурко (Ромейко-Гурко) Иосиф Владимирович (1928–1901), генерал-фельдмаршал (1894), особенно прославившийся во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
(обратно)239
Радецкий Федор Федорович (1820–1890), русский военачальник, генерал от инфантерии (1877), генерал-адъютант (1878). Участник боевых действий против кавказских горцев 1843–1846 и 1851–1863 гг., Венгерского похода 1849 г., Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., в ходе ее прославился взятием Шипки и пятимесячной обороной Шипкинского перевала, за которую был награжден орденом Св. Георгия 2-й степени.
(обратно)240
Фош Фердинан (1851–1929), французский военачальник и военный теоретик. Маршал Франции (1918). В начале Первой мировой войны командовал 20-м армейским корпусом, с которым принимал участие в Пограничном сражении и в Лотарингской операции. С конца августа командовал армейской группой из нескольких корпусов и дивизий, преобразованной 4 сентября в 9-ю армию. В 1915 г. командовал группой армий «Север». 15.01.1917 был назначен начальником Генерального штаба. 03.04.1918 г. стал Верховным главнокомандующим союзными войсками. 11.11.1918 в своем железнодорожном вагоне подписал с германскими представителями Компьенское перемирие, завершившее Первую мировую войну.
(обратно)241
Генрих Прусский (1862–1929), принц королевского дома Гогенцоллернов, брат германского императора Вильгельма II. Гросс-адмирал (1909). Сторонник развития подводного флота и морской авиации. В августе 1914 г. возглавил германские морские силы на Балтике. В 1918 г. подал в отставку.
(обратно)242
Два морских пролива (Большой и Малый), которые вместе с Зундом соединяют Балтийское море с проливом Каттегат.
(обратно)243
Пролив между восточным берегом полуострова Ютландия и юго-западной частью Скандинавского полуострова. Соединяет Северное море через пролив Скагеррак с Балтийским морем через проливы Эресунн, Малый Бельт и Большой Бельт. Длина около 200 км, ширина от 60 км на севере до 122 км на юге.
(обратно)244
Рени – город в Бессарабской губернии со смешанным, молдавано-русско-украинским населением. В октябре 1915 г. посещен императором Николаем II.
(обратно)245
Яссы – город в Румынии, второй по значимости после Бухареста. В 1916–1918 гг. – место пребывания правительства страны из-за германской оккупации Бухареста.
(обратно)246
Сахаров Владимир Викторович (1853–1920), генерал от кавалерии (1908). Окончил 1-е военное Павловское училище (1871) и Николаевскую академию Генерального штаба (1878). Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., Китайского похода 1900–1901 гг., Русско-японской войны. С 13.12.1913 по 25.10.1915 (с перерывом 22.08.1915–04.09.1915) командир 11-го армейского корпуса в составе 3-й армии. С 25.10.1915 – командующий 11-й армией. С 19.10.1916 – командующий Дунайской армией; после создания на основе Дунайской армии и остатков румынской армии Румынского фронта был 12.12.1916 назначен помощником главнокомандующего армиями Румынского фронта короля Фердинанда I. После Февральской революции 02.04.1917 отстранен от командования. Расстрелян «зелеными» в Крыму.
(обратно)247
14 (27 августа) 1916 г. Румыния вступила в войну на стороне Антанты, но ее войска были к декабрю того же года разгромлены противником. 3 (16) декабря 1916 г. образован Румынский фронт Русской армии в составе 4, 6, 9-й, с сентября 1917 г. – 8-й, а также 1-й и 2-й румынских армий. Главнокомандующий армиями фронта – король Румынии Фердинанд I. Помощники главнокомандующего: 12.12.1916–01.04.1917 – генерал от кавалерии В. В. Сахаров; 11.04.1917–25.03.1918 – генерал-адъютант, генерал от инфантерии Д. Г. Щербачев.
(обратно)248
Бертело Анри Матиас (1861–1931), французский военный деятель, дивизионный генерал (1914). В сентябре 1916 г. направлен во главе военной миссии в Румынию, где реорганизовал потерпевшую тяжелое поражение румынскую армию. С ноября 1918 по май 1919 г. – командующий Дунайской армией. В ноябре 1918 г. подписал с генералом Д. Г. Щербачевым Бухарестское соглашение о предоставлении крупных воинских контингентов союзников в помощь антибольшевистским силам. Главнокомандующий войсками союзников на Балканах и на юге России (по начало марта 1919 г.).
(обратно)249
Румынское название – Брэила. Город в Румынии, в регионе Валахия. Население преимущественно греческое.
(обратно)250
Сулин (Сулина) – небольшой город-порт в восточной части Румынии, располагается на Сулинском гирле в дельте Дуная.
(обратно)251
В списке членов Государственного совета не значится.
(обратно)252
Ермаков Мстислав Петрович (1873–1960), капитан 1-го ранга. Окончил Морское инженерное училище (1895). Службу проходил на Черном море. В Первую мировую войну главный механик Дунайской флотилии. Во время Гражданской войны в ВСЮР и Русской армии. младший флагман, начальник 4-го отряда судов Черноморского флота (с 21.11.1920). Генерал-лейтенант флота (1920). Вместе с флотом покинул Крым в ноябре 1920 г. В 1920–1921 гг. старший морской начальник в Константинополе.
(обратно)253
Невский Александр Алексеевич (1858 —?), генерал-майор (1915). Окончил Киевское пехотное юнкерское училище. Участник Китайского похода 1900–1901 гг. и Русско-японской войны. Командир 48-го пехотного Одесского полка (с 18.05.1913). С 28.12.1915 состоял в резерве чинов при штабе Одесского ВО. На 10.07.1916 в том же чине и должности.
(обратно)254
Цуриков Афанасий Андреевич (1858–1922), генерал от кавалерии (1914). Окончил Николаевское кавалерийское училище (1876) и Николаевскую академию Генерального штаба (1883). Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. и Русско-японской войны. С 12.12.1916 командующий 6-й армией, переброшенной на Румынский фронт и получившей в свое подчинение части расформированной Дунайской армии генерала В. В. Сахарова. Во время выступления генерала Л. Г. Корнилова поддержал Временное правительство. После того как 11.12.1917 войска Центральной Рады при поддержке румынского командования захватили Болград и установили контроль над штабом армии, фактически перестал быть командующим армией. С 12.1917 в отставке. Жил в Одессе, крайне нуждался, зарабатывал на жизнь шитьем сапог. С 1920 г. на службе в Красной армии.
(обратно)255
Вирановский Георгий Николаевич (1867–1920), генерал-майор (1914). Окончил 3-е военное Александровское училище (1887) и Николаевскую академию Генерального штаба (1897). Участник Китайского похода 1900–1901 гг. и Русско-японской войны. С 06.12.1916 и. д. начальника штаба 6-й армии. После Февральской революции назначен командующим 2-м гвардейским корпусом. Генерал-лейтенант (29.04.1917). 09.09.1917 назначен командиром 26-го армейского корпуса. Начальник штаба помощника главнокомандующего армиями Румынского фронта (с 23.10.1917). В Гражданскую войну служил в армии Колчака, в начале 1920 г. главный начальник снабжения 2-й и 3-й армий. Был взят в плен красными и расстрелян (по другой версии – умер от тифа).
(обратно)256
Тульча – город и крепость в Румынии, крупнейший центр Добруджи, расположен у начала Дунайской дельты, ранее – турецкая крепость.
(обратно)257
Симанский Пантелеймон Николаевич (1866–1938), генерал-лейтенант (1917). Окончил 2-е военное Константиновское училище (1885) и Николаевскую академию Генерального штаба (1891), где впоследствии преподавал. Командующий 61-й пехотной дивизией (19.07.1914–07.07.1917). Отчислен от должности с назначением в резерв чинов при штабе Московского ВО (07.07.1917). С апреля по 1 июня 1917 г. командир 47-го армейского корпуса. Участник Белого движения на Северо-Западе. В эмиграции в Польше. Военный писатель. Похоронен в Варшаве.
(обратно)258
Гурко (Ромейко-Гурко) Василий Иосифович (1864–1937), генерал от кавалерии (1916). Сын фельдмаршала И. В. Ромейко-Гурко. Окончил Пажеский корпус (1885) и Николаевскую академию Генерального штаба (1892). Участник Русско-японской войны. Во время Первой мировой войны: начальник 1-й кавалерийской дивизии, с 09.11.1914 командир 6-го армейского корпуса; с 06.12.1915 командующий 5-й армией. С 14.08.1916 командующий Особой армией. 10.11.1916–17.02.1917 г. во время болезни генерала Алексеева исполнял обязанности начальника штаба Верховного главнокомандующего. С 31.03.1917 командующий войсками Западного фронта; 22.05.1917 указом Временного правительства смещен с должности за негативные отзывы о «Декларации прав военнослужащих». 14.09.1917 уволен со службы и в том же месяце выслан из страны. В эмиграции активно участвовал в деятельности РОВС.
(обратно)259
Казанович Борис Ильич (1871–1943), генерал-майор (1916). Окончил военно-училищные курсы при Московском пехотном юнкерском училище (1892) и Николаевскую академию Генерального штаба (1899). Участник Русско-японской войны. Начальник штаба 6-й Сибирской стрелковой дивизии (с 22.03.1916), начальник той же дивизии (с 05.05.1917). В Добровольческой армии с самого начала. Командовал дивизией, корпусом, в мае – июне 1918 г. выполнял секретную миссию в Москве. Генерал-лейтенант (12.11.1918). С ноября 1919 по февраль 1920 г. командующий войсками Закаспийской области. В Русской армии генерала Врангеля состоял в резерве чинов (с мая 1920). Начальник Сводно-Кубанской пешей дивизии, принимавшей участие в десанте генерала Улагая на Кубань. После поражения белых в эмиграции в Югославии.
(обратно)260
Фабрицкий Семен Семенович (1874–1941), российский контрадмирал (1916), флигель-адъютант (1907). Окончил Морской корпус (1894). Служил на императорской яхте «Полярная звезда», был на ней старшим офицером. В 1913 г. произведен в капитаны 1-го ранга и назначен командиром 3-го дивизиона эскадренных миноносцев Балтийского флота. В феврале 1915 г. назначен начальником Отдельной морской бригады, а в октябре 1916 г. – командующим отдельной Балтийской морской дивизией. В начале 1917 г. отдельная Морская дивизия была переброшена на Черноморский флот и заняла оборону в устье Дуная. После Февральской революции зачислен в резерв, а 22.06.1917 уволен от службы. Участник Белого движения. Командовал Донской флотилией в составе Донской армии. С 1920 г. в эмиграции.
(обратно)261
Гучков Александр Иванович (1862–1936), политический деятель, лидер партии октябристов (Союз 17 октября). Депутат Государственных дум 3-го и 4-го созывов. Председатель 3-й Государственной думы в 1910–1911 гг. Один из организаторов атаки на власть в 1915–1917 гг. В первом составе Временного правительства военный министр. В эмиграции во Франции.
(обратно)262
Святловский Анатолий Владимирович (1854 —?), генерал-лейтенант (1909). Окончил 3-е военное Александровское училище. Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., Китайского похода 1900–1901 гг., Русско-японской войны. Инспектор артиллерии 4-го армейского корпуса (26.07.1910–10.05.1916), с 14.06.1915 временно командовал этим корпусом. Инспектор артиллерии 6-й армии (с 10.05.1916). Участник Белого движения на юге России. Состоял в резерве чинов при штабе главнокомандующего ВСЮР (с 19.03.1919).
(обратно)263
Жебрак-Рустанович (Жебрак-Русанович, Жебрак-Русакевич; в официальных документах Жебрак, происхождение двойной фамилии не установлено) Михаил Антонович (1875–1918), полковник (1916). Окончил Виленское военное училище (1898), Участник Русско-японской войны, был тяжело ранен. В 1912 г. окончил Военно-юридическую академию. В том же году был переведен на службу в Морское ведомство; служил в Кронштадтском военно-морском суде. С началом Первой мировой войны добился возвращения в строй. Командир 2-го Балтийского морского полка отдельной морской бригады, которая в октябре 1916 г. была переброшена на Румынский фронт и развернута в Отдельную Балтийскую морскую дивизию. После Октябрьской революции организовал в Измаиле офицерский отряд, с которым в 1918 г. присоединился к полковнику Дроздовскому. С 22.04.1918 командир Офицерского полка отряда Дроздовского. Погиб в бою (по другим сведениям, раненный попал в плен и был зверски замучен красными).
(обратно)264
Гезехус Александр Петрович (1875 —?), капитан 1-го ранга, начальник Дунайской флотилии. Окончил Морской корпус (1896) и Артиллерийский офицерский класс (1901). Участник Русско-японской войны. Затем служил на Черноморском флоте. В 1911–1915 гг. в чине капитана 2-го ранга командовал эсминцем «Звонкий», в октябре 1915 г. был назначен командиром эсминца «Лейтенант Зацаренный». С января 1917 г. командующий отрядом мореходных канонерских лодок. В Гражданскую войну в Черноморском флоте ВСЮР и Русской армии. В дальнейшем в эмиграции.
(обратно)265
Хоматьяно Гавриил Гаврилович (1864–1937). Капитан 1-го ранга. Окончил Морской корпус (1884). Во время Первой мировой войны командовал Дунайской транспортной флотилией. Участник Белого движения. Во ВСЮР и в Русской армии – начальник отряда транспортов Черноморского флота, затем при штабе командующего Черноморским флотом до эвакуации Крыма. В эмиграции в Югославии.
(обратно)266
Кононов Иван Анатольевич (1885–1959), капитан 1-го ранга. Окончил Морской кадетский корпус (1905) и Николаевскую морскую академию (1911). Во время Первой мировой войны офицер штаба Черноморского флота и начальник Военно-морского управления Юго-Западного фронта, участник боевых действий Дунайской флотилии. В Белом движении: с весны 1918 г. помощник командующего Донской армией по морской части, командир Донской флотилии, командир бронепоезда. Контр-адмирал (1918). В марте – мае 1919 г. начальник Морского управления Великого войска Донского, с июня 1919 г. старший флагман Черного моря и командир отдельного корпуса морской тяжелой артиллерии, летом – осенью 1919 г. начальник речных сил Юга России. С 1920 г. в эмиграции.
(обратно)267
Кардашенко Александр Николаевич (1880 —?), полковник. Окончил Чугуевское пехотное юнкерское училище (1902) и Императорскую Николаевскую военную академию (1910). Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Начальник сухопутного отделения штаба начальника речных сил на Дунае (с 27.07.1917). Полковник Генерального штаба (приказ 15.08.1917; старшинство 06.12.1916). Участник Белого движения. С 19.11.1918 начальник штаба 1-й пехотной дивизии. Затем начальник штаба Черноморского военного губернатора. С 24.07.1919 командир Черноморского стрелкового полка.
(обратно)268
Филонов Павел Николаевич (1883–1941), русский художник, поэт, один из лидеров русского авангарда. Осенью 1916 г. мобилизован в армию и направлен на Румынский фронт рядовым 2-го полка Балтийской морской дивизии. Принимал активное участие в революции, занимал должность председателя Исполнительного военно-революционного комитета Придунайского края.
(обратно)269
Щербачев Дмитрий Григорьевич (1857–1932), генерал от инфантерии (1914), генерал-адъютант (1915). Окончил 3-е военное Александровское училище и Николаевскую академию Генерального штаба (1884). Начальник Николаевской академии Генерального штаба (1907–1912). Командовал 9-м армейским корпусом (с 14.12.1912). Командующий 11-й армией (с 05.04.1915), 7-й армией (с 19.10.1915). Помощник командующего армиями Румынского фронта короля Фердинанда (11.04.1917–25.03.1918). 26.11.1918 заключил перемирие с Германией в Фокшанах. Дал согласие на ввод румынских войск в Бессарабию. 18.04.1918 отказался от должности командующего. В ноябре 1918 г. после капитуляции Германии прибыл в Бухарест для переговоров с представителем союзного командования генералом Бертело, от которого добился согласия на помощь Белому движению. 30.12.1918 прибыл в Екатеринодар, где назначен военным представителем русских армий при союзных правительствах и верховном командовании. В мае 1920 г. из-за разногласий с генералом Врангелем относительно совместных действий с Польшей отказался от должности и был заменен генералом Е. К. Миллером.
(обратно)270
Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918), генерал от инфантерии (1917). Окончил Михайловское артиллерийское училище (1892) и Николаевскую академию Генерального штаба (1898). Участник Русско-японской войны. Начальник 48-й пехотной дивизии (с 19.08.1914). 23.04.1915 попал в плен, в июле 1916 г. бежал. Командир 25-го армейского корпуса (с 13.09.1916), командующий войсками Петроградского ВО (с 02.03.1917). 07.03.1917 по приказу Временного правительства арестовал в Царском Селе императрицу Александру Федоровну. Командующий 8-й армией (с 29.04.1917). Главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта (с 10.07.1917), Верховный главнокомандующий (с 18.07.1917). В августе 1917 г. предпринял попытку остановить разложение армии и страны, установив твердую власть. По приказу А. Ф. Керенского 29.08.1917 был снят с должности и 02.09.1917 арестован. 19.11.1917 освобожден и направился на Дон, где под руководством генерала Алексеева формировалась Добровольческая армия. С 25.12.1917 командующий Добровольческой армией. Убит 31.03/13.04.1918 г. разрывом гранаты при штурме Екатеринодара.
(обратно)271
Головин Николай Николаевич (1875–1944), генерал-майор (1915). Окончил Пажеский корпус (1894) и Николаевскую академию Генерального штаба (1900). Экстраординарный (1908–1909) и ординарный (1909–1914) профессор Императорской Николаевской военной академии. С 03.11.1914 и. д. генерал-квартирмейстера штаба 9-й армии, с октября 1915 г. – начальник штаба 7-й армии, с апреля 1917 г. – начальник штаба Группы армий в Румынии на Румынском фронте. Генерал-лейтенант (1917). После большевистского переворота в Красной армии. Выехал в Киев и вступил в армию гетмана П. П. Скоропадского. 24.12.1918 был зачислен в Добровольческую армию. В конце 1918 г. был направлен в Европу для переговоров о представлении союзниками помощи Белому движению. Летом 1919 г. короткое время возглавлял штаб армии адмирала Колчака. В эмиграции во Франции. Организатор Высших военно-научных курсов для переподготовки русских офицеров в зарубежье в соответствии с требованиями современного военного дела. Крупный военный писатель.
(обратно)272
Точнее: Мэрэшешти, город в восточной Румынии. Имеется в виду частный успех во время так называемого Июньского наступления русской армии. В августе – начале сентября 1917 г. под Мэрэшештами развернется ожесточенное сражение между русско-румынскими и австро-германскими войсками, которое окончится стабилизацией фронта.
(обратно)273
Радус-Зенкович Лев Аполлонович (1874–1946), генерал-майор (1916). Окончил Павловское военное училище (1894) и Николаевскую академию Генерального штаба (1900). Участник Русско-японской войны. Начальник штаба 10-й Сибирской стрелковой дивизии на Румынском фронте (16.02.1916–06.01.1917). Генерал-квартирмейстер штаба 6-й армии (с 06.01.1917). И. д. начальника штаба 6-й армии (09.05. –10.09.1917). Начальник 22-й пехотной дивизии (с 10.09.1917). И. д. начальника штаба 6-й армии (с 23.10.1917). Добровольно пошел на службу в Красную армию. (1918). В 1920 г. выехал в семьей из России в Литву и поступил на службу в Литовскую армию. Генерал пехоты (12.03.1921). 29.07.1922 был назначен начальником Высших офицерских курсов. В 1928 г. уволен в запас. После присоединения Литвы к СССР проживал в своем имении. В 1944 г. предпринял неудачную попытку эмигрировать на Запад, вернулся в Каунас и до смерти находился на нелегальном положении.
(обратно)274
Скодра (Scodrea)Василий, коммодор, командовал румынской Дунайской флотилией (дивизией) в 1917–1918 гг., сменен капитан-коммодором Константином Редулеску.
(обратно)275
Автор называет так Добровольческую армию, ведущую начало от «Алексеевской организации»; затем – основа Вооруженных сил на Юге России.
(обратно)276
Скоропадский Павел Петрович (1873–1945), генерал-лейтенант (1916). Окончил Пажеский корпус (1893). Служил в лейб-гвардии Кавалергардском Ее Величества полку. Участник Русско-японской войны. Командир лейб-гвардии Конного полка (с 15.04.1911). Генерал-майор (1912) с зачислением в свиту Его Величества. В Первую мировую войну командовал полком, бригадой, дивизией, корпусом. 06.10.1917 на съезде Вольного казачества в Чигирине провозглашен атаманом – главой военных формирований Центральной Рады. 29.12.1917 подал в отставку. В марте 1918 г. возглавил опирающуюся на офицерство организацию «Украинская народная громада». Руководитель переворота, результатом которого стало упразднение 29.04.1918 Украинской народной республики и провозглашение Украинской державы во главе с гетманом. 14.11.1918 провозгласил федерацию Украинской державы с будущей небольшевистской Россией. В результате начавшегося петлюровского восстания 14.12.1918 вынужден был отречься от власти и выехал в Германию. Возглавлял одну из группировок украинской эмиграции. Смертельно контужен во время бомбардировки англоамериканской авиации.
(обратно)277
Покровский Андрей Георгиевич (1862–1944), контр-адмирал (1912). Окончил Морской корпус (1882) и курс военно-морских наук Николаевской морской академии (1900). Во время Первой мировой войны служил на Черноморском флоте. В 1913–1915 гг. командовал черноморской минной дивизией. В 1916 г. начальник штаба командующего Черноморским флотом. Вице-адмирал (1916). С 28.06.1916 начальник 2-й бригады линейных кораблей. В декабре 1917 г. перешел на службу Центральной Раде. С 27.03.1918 начальник охраны Юго-Западной части Черного моря с временным штабом в Одессе, а с 24.04.1918 главный начальник всех портов Черного и Азовского морей. Возглавлял созданную гетманом комиссию по реформированию морского ведомства. 14.11.1918 назначен морским министром Украинской державы. После свержения гетмана не признал правительство Директории. Арестован большевиками в апреле 1919 г., в декабре 1919 г. бежал. В эмиграции.
(обратно)278
Варанович (Воронович) Михаил Михайлович (?–1918), российский и украинский государственный деятель, действительный статский советник. Окончил Училище правоведения (1890). В 1915–1917 гг. губернатор Бессарабии. После революции был одним из видных деятелей украинского Союза земельных собственников. В апреле 1918 г. поддержал гетмана П. Скоропадского. Занимал пост товарища (заместителя) министра внутренних дел (04.05–14.11.1918) в кабинете Ф. Лизогуба; в этой должности отвечал за организацию полиции. С 14.11.1918 министр исповеданий. Был направлен правительством на Ясское совещание стран Антанты, однако на станции Жмеринка был схвачен петлюровцами и после долгих пыток зверски убит.
(обратно)279
Лизогуб Фёдор Андреевич (1851–1928), русский и украинский общественный, политический и государственный деятель, действительный статский советник (1897). При гетмане Скоропадском председатель Совета министров (04.05–14.11.1918) и министр внутренних дел (до 03.07.1918). После отречения гетмана эмигрировал.
(обратно)280
Петлюра Симон Васильевич (1879–1926), украинский политический и военный деятель. С 15.06.1917 генеральный секретарь по военным делам Центральной Рады. После провозглашения Украинской народной республики ненадолго стал генеральным секретарем военных дел нового правительства. После установления власти гетмана Скоропадского находился в оппозиции к новому режиму. В ноябре 1918 г. участвовал в восстании против гетмана, 14.12.1918 петлюровские формирования заняли Киев. С 13.02.1919 по 10.11.1920 глава Директории Украинской народной республики, главный атаман войска и флота; фактически единоличный диктатор. После установления на Украине советской власти заключил союз с Польшей; петлюровские отряды участвовали вместе с польскими войсками в Советско-польской войне 1920–1921 гг. После окончания войны в эмиграции в Париже. Застрелен С. Шварцбардом, мотивировавшим свой поступок желанием отомстить Петлюре за еврейские погромы в период его правления. Убийца был оправдан французским судом.
(обратно)281
Львов Георгий Евгеньевич (1865–1925), князь, русский общественный и политический деятель, с 2 (15) марта по 8 (21) июля 1917 г. председатель Совета министров и министр внутренних дел в первом и втором составах Временного правительства. Ушел в отставку после Июльского кризиса. С 1918 г. в эмиграции. Возглавлял Русское политическое совещание в Париже (1818–1920). Позднее отошел от политической деятельности.
(обратно)282
Наряду с Одесским, высокую результативность проявил Харьковский центр Добровольческой армии.
(обратно)283
Имеется в виду Ефросинья Прокофьевна Регир.
(обратно)284
Лукомский Александр Сергеевич (1868–1939), генерал-лейтенант (1914). Окончил 1-е военное Павловское училище и Николаевское инженерное училище (1888), Николаевскую академию Генерального штаба (1897). С 29.01.1913 помощник начальника канцелярии Военного министерства, с началом мобилизации и. д. начальника канцелярии (по 02.04.1916). Помощник военного министра (08.08.1915–02.04.1916). Начальник штаба Верховного главнокомандующего (с 02.06.1917). 01.09.1917 арестован за участие в выступлении генерала Корнилова. После освобождения (19.11.1917) бежал на Дон. С 27.10.1919 председатель Особого совещания при главнокомандующем ВСЮР; с 30.12.1919 глава правительства при главнокомандующем ВСЮР. 08.02.1920 приказом генерала Деникина по Генеральному штабу уволен от службы вместе с генералами Врангелем, Шатиловым и адмиралами Ненюковым и Бубновым как сторонник барона Врангеля. В конце марта 1920 г. главнокомандующим Русской армией генералом Врангелем назначен его представителем при союзном командовании в Константинополе, затем в распоряжении главнокомандующего. В эмиграции.
(обратно)285
Официальное название – Временное Всероссийское правительство. Сформировано 23 сентября на Государственном совещании в Уфе, заявляло о себе как о новом составе Временного правительства. Способствовало консолидации антибольшевистских сил на Востоке. В октябре переместилось из Уфы в Омск. Сформированный Директорией Совет министров оказался значительно правее по взглядам, чем Директория. Возникший в результате заговор привел к краху Директории и установлению власти Верховного правителя России адмирала А. В. Колчака (военный и морской министр в Совмине) 18 ноября 1918 г.
(обратно)286
Яшвиль Наталья Григорьевна (урожд. Филипсон) (1861/1862–1939), общественный деятель, живописец. После смерти мужа, князя Николая Владимировича Яшвиля, поселилась в имении Сунки Черкасского уезда Киевской губернии, посвятив себя управлению имением и заботам о детях. В те же годы увлеклась живописью. В годы Первой мировой войны вместе с дочерью стала сестрой милосердия, устроила в своем киевском доме лазарет. В 1915 г. по поручению вдовствующей императрицы Марии Федоровны в составе комиссии Красного Креста обследовала лагеря русских военнопленных в Австро-Венгрии. В 1918 г. сын княгини, Владимир, и зять – Г. М. Родзянко (сын председателя Госдумы) были зверски убиты в Киеве. В Гражданскую войну участвовала в Белом движении. В ноябре 1920 г. эвакуировалась с дочерью из Крыма. Жила в Праге, занималась живописью и иконописью.
(обратно)287
Уваров Игорь Алексеевич (1869–1934), граф, действительный статский советник, камергер. Член Государственного совета (1916). После поражения Белого движения на юге в эмиграции. В 1921–1922 гг. входил в Русский совет при бароне Врангеле.
(обратно)288
Тундутов (Тундутов-Дундуков) Данзан (Данзан Давыдович или Дмитрий Давидович) (1888–1923), калмыцкий князь. Окончил Пажеский корпус (1908), служил в лейб-гвардии Гродненском гусарском полку. Во время Первой мировой войны адъютант великого князя Николая Николаевича. Летом 1918 г., опираясь на помощь донского атамана Краснова, киевских монархических организаций, гетмана Скоропадского и германского командования, сформировал единое казацко-калмыцкое Астраханское войсковое правительство и приступил к формированию монархической Астраханской армии. В январе 1919 г. был лишен атаманского звания и отстранен от дел из-за связей с немцами, что для командования ВСЮР, ориентированного на Антанту, считалось недопустимым. В сентябре 1919 г. предпринял попытку создания из калмыков особого Волжского казачьего войска, но не получил поддержки и был выслан за пределы территории, контролируемой ВСЮР. Эмигрировал в Европу. В ноябре 1922 г. вернулся в Россию, был арестован ГПУ, но быстро освобожден. В 1923 г. был снова арестован, приговорен к смертной казни и расстрелян.
(обратно)289
Раух Георгий Оттонович (1860–1936), генерал от кавалерии (1917). Окончил Пажеский корпус (1881) и Николаевскую академию Генерального штаба (1887). В 1905–1908 гг. состоял в свите Его Величества. Во время Первой мировой войны командовал дивизией, корпусом. После Февральской революции был снят с должности и зачислен в резерв. С ноября 1917 г. в отставке. Летом 1918 г. член антисоветской организации в Петрограде, в июне 1918 г. арестовывался ЧК, но был освобожден и бежал на Украину. При гетмане Скоропадском представитель председателя Совета министров Украины при австро-венгерском командовании, возглавлял гетманскую администрацию в Одессе. После свержения гетмана остался в Одессе представителем ВСЮР. С 1920 г. в эмиграции.
(обратно)290
Березовский Александр Иванович (1867–1940), генерал-лейтенант (29.05.1917). Окончил Михайловское артиллерийское училище (1889) и Николаевскую академию Генерального штаба (1896). Генерал-майор (1914). Командовал полком, бригадой, дивизией. В мае 1917 г. назначен командиром 31-го армейского корпуса. С 09.05.1918 г. в армии Украинской державы. Генеральный значковый. С 08.07.1918 и. д. командира 3-го Одесского корпуса; с 08.11.1918 командир этого корпуса. После начала антигетманского восстания в конце 1918 г. объявил о присоединении кадров корпуса и всего Одесского района к Добровольческой армии. Находился при штабе Крымско-Азовской добровольческой армии генерала Боровского, затем в распоряжении главнокомандующего ВСЮР, выполнял различные ответственные поручения. После 1920 г. в эмиграции.
(обратно)291
Остроградский Михаил Михайлович (1870–1921), капитан 1-го ранга (1912), контр-адмирал (1917). Окончил Морской корпус (1890). Участник Первой мировой войны. С 06.05.1917 комендант Севастопольской крепости и командир Севастопольского гарнизона. 21.05.1918 назначен гетманом Скоропадским представителем Украинской державы в Крыму. Морской министр в правительстве гетмана Скоропадского. Командующий украинским флотом (01.05–29.07.1918).
(обратно)292
Boa constrictor (лат.) – удав.
(обратно)293
Клочковский Вячеслав (Вацлав) Евгеньевич (1873–1930), русский, украинский и польский морской военачальник, контр-адмирал русского флота (1917). Окончил Демидовский лицей в 1898 г., в 1899 г. сдал офицерский экзамен. Окончил офицерский класс подводного плавания (1907). Участник Русско-японской и Первой мировой войн. В 1918 г. в гетманской армии, представитель правительства Скоропадского в Севастополе при германской оккупации. 29.07.1918 назначен командующим Черноморским флотом Украинской державы. Служил в Добровольческой армии. В ноябре 1918 г. назначен Деникиным главным комендантом Севастопольского порта. Командир бригады подводных лодок до эвакуации Крыма. Вернувшись на родину (в Польшу), поступил на службу в польский флот.
(обратно)294
Збруева Евгения Ивановна (1867–1936), оперная певица (контральто). С 1894 г. состояла в труппе Московской императорской оперы, в 1905–1918 гг. выступала на сцене Мариинского театра.
(обратно)295
Имеется в виду супруга генерала М. В. Алексеева.
(обратно)296
Краснов Петр Николаевич (1869–1947), генерал-майор (1914). Окончил 1-е военное Павловское училище (1889). Рано проявил себя как журналист и военный обозреватель. Участник Русско-японской войны. Командир 10-го Донского казачьего полка (с 15.10.1913), с которым вступил в Мировую войну. Во время войны командовал бригадой, дивизией, корпусом. После большевистского переворота в октябре 1917 г. поддержал попытку Керенского захватить Петроград, окончившуюся неудачей. 01.11.1917 был посажен под домашний арест, 06.11.1917 бежал на Дон. 03(16).05.1918 избран атаманом войска Донского. Руководил действиями Донской армии против большевиков. 02(15).02.1919 из-за поражений Донской армии на фронте и разногласий с руководством Добровольческой армии подал в отставку. В эмиграции проживал в Германии. Один из наиболее читаемых писателей русского зарубежья. Сотрудничал с РОВС. В 1941 г. приветствовал нападение Германии на СССР. С 31.03.1944 начальник Главного управления казачьих войск при Верховном командовании сухопутных войск вермахта. После войны выдан англичанами советским властям. Повешен по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР.
(обратно)297
Эльснер Евгений Феликсович (1867–1930), генерал-лейтенант (1915). Окончил Михайловское артиллерийское училище (1888) и Николаевскую академию Генерального штаба (1895). Во время мобилизации 19.07.1914 назначен помощником Главного начальника снабжений Юго-Западного фронта. Главный начальник снабжения армий Юго-Западного фронта (с 23.07.1916). Присоединился к выступлению Корнилова в августе, за что был отчислен от должности и арестован. В декабре 1917 г. бежал на Дон. Один из основателей Добровольческой армии. В январе 1918 г. назначен начальником снабжения Добровольческой армии. Участник Ледяного похода. С июня 1918 по февраль 1919 г. полномочный представитель Добровольческой армии при донском атамане Краснове. После избрания на пост Донского атамана генерала Богаевского (06.02.1919) вернулся в отдел снабжения штаба ВСЮР. В марте 1920 г. эвакуировался в Сербию.
(обратно)298
Богаевский Африкан Петрович (1872–1934), генерал-лейтенант (1918). Окончил Николаевское кавалерийское училище (1892) и Николаевскую академию Генерального штаба (1900). Генерал-майор (1915). С октября 1915 по апрель 1917 г. начальник штаба походного атамана всех казачьих войск великого князя Бориса Владимировича. В декабре 1917 г. прибыл на Дон. Участник 1-го Кубанского (Ледяного) похода Добровольческой армии. С мая 1918 по январь 1919 г. председатель Совета управляющих отделами и управляющего отделом иностранных сношений в Донском правительстве атамана Краснова. После отставки генерала П. Н. Краснова 06.02.1919 избран войсковым атаманом. Оставался донским атаманом до конца жизни. В январе 1920 г. назначен генералом Деникиным председателем Южно-Русского правительства.
(обратно)299
Трухачев Сергей Михайлович (1879–1942), генерал-майор (1918). Окончил Михайловское артиллерийское училище (1899) и Николаевскую академию Генерального штаба (1906). Участник Первой мировой войны. В Добровольческой армии с самого начала. С июля 1918 г. дежурный генерал штаба Добровольческой армии, с января 1919 г. – штаба Главнокомандующего ВСЮР. Находился на той же должности в Русской армии генерала Врангеля. После эвакуации армии генерала Врангеля из Крыма в ноябре 1920 г. помощник начальника отдела личного состава штаба главнокомандующего. После расформирования штаба в 1926 г. переехал во Францию.
(обратно)300
Санников Александр Сергеевич (1866–1931), генерал-лейтенант (1914). Окончил 1-е военное Павловское училище (1885) и Николаевскую академию Генерального штаба (1892). С 18.12.1914 начальник штаба 2-й армии. С 02.02.1915 начальник штаба 9-й армии. Главный начальник снабжений армий Румынского фронта (с 13.04.1917). С 01.04.1918 председатель всех ликвидационных комиссий управлений снабжений армий Румынского фронта. В мае 1918 г. избран одесским городским головой. Вступил в армию Украинской державы гетмана Скоропадского: генеральный значковый Генерального штаба. Уволен по прошению 30.10.1918; не дожидаясь приказа об увольнении, убыл в Добровольческую армию. С 10.10.1918 главный начальник снабжений Добровольческой армии. В январе – феврале 1919 г. главнокомандующий войсками Юго-Западного края (Одесса), затем начальник снабжений ВСЮР. В 1920 г. в распоряжении главнокомандующего.
(обратно)301
Тихменев Николай Михайлович (1872–1954), генерал-майор (1914). Окончил военно-училищный курс Московского пехотного юнкерского училища (1891) и Николаевскую академию Генерального штаба (1897). Участник Русско-японской войны. Во время Первой мировой войны командовал полком, бригадой. 04.05.1915 назначен помощником начальника военных сообщений армий Юго-Западного фронта, а 05.10.1915 – помощником главного начальника военных сообщений. С 08.02.1917 начальник военных сообщений на театре военных действий. Генерал-лейтенант (1917). После выступления генерала Корнилова 10.09.1917 переведен в резерв чинов при штабе Одесского ВО. В 1918 г. вступил в Добровольческую армию. Начальник военных сообщений штаба Добровольческой армии (октябрь – декабрь 1918). В ВСЮР – на той же должности. После Гражданской войны в эмиграции во Франции.
(обратно)302
Мустафин Владимир Андреевич (1867–1933), генерал-майор (1910). Окончил 2-е военное Константиновское училище (1887) и Александровскую военно-юридическую академию (1895). С 18.03.1911 военный судья Виленского военно-окружного суда. Генерал для поручений при главнокомандующем армиями Юго-Западного фронта. В 1918 г. в гетманской армии; градоначальник Одессы и одесский генерал-губернатор. С декабря 1918 г. в отставке. С 13.09.1919 в резерве чинов при штабе главнокомандующего ВСЮР в Ростове; в январе 1920 г. ставропольский генерал-губернатор. В мае 1920 г. эмигрировал.
(обратно)303
Кароль – неточность автора: румынский король Карл (Кароль) I умер в 1914 г. В описываемое время на румынском престоле находился его племянник, Фердинанд I. Последний был настроен в пользу Антанты, в отличие от Кароля, что и способствовало вовлечению Румынии в Великую войну.
(обратно)304
Руднев Евгений Владимирович (1886–1945), капитан (1916). Окончил Николаевское инженерное училище (1907). Участник Первой мировой войны. 16.09.1918 вместе с группой авиаторов совершил перелет Одесса – Екатеринодар, угнав самолеты с аэродрома, находящегося под охраной австрийцев. Воевал в рядах ВСЮР. Полковник (12.02.1920). На октябрь 1920 г. – помощник начальника авиации Русской армии генерала П. Н. Врангеля по технической части. В ноябре 1920 г. эвакуировался из Крыма. В эмиграции во Франции.
(обратно)305
Бои франко-сербских войск против германо-болгарских; начались 15 сентября и знаменовали собой разгром Болгарии и возрождение Сербии. 1 ноября 1918 г. освобожден Белград.
(обратно)306
Лафайет Жильбер (1757–1834), деятель Французской революции, представитель дворянского либерального крыла; Робеспьер Максимиллиан (1758–1794), глава якобинцев, идеолог и практик революционного террора. Энно говорит о том, что в периоды революции лишь военные или революционно-террористические методы способны дать политический успех.
(обратно)307
Румыния подписала перемирие с Центральными державами 26 ноября (9 декабря) 1917 г., а сепаратный мирный договор заключила 24 апреля (7 мая) 1918 г. Перемирие 9 декабря в Фокшанах было заключено русско-румынскими и австро-германскими сторонами.
(обратно)308
В апреле – октябре начальником штаба Румынского фронта была столь известная персона, как генерал Н. Н. Головин. Однако он был отозван в распоряжение министра-председателя А. Ф. Керенского, так что в данном случае речь может идти и о другом человеке.
(обратно)309
Драшусов Николай Евгеньевич (1880–1951), капитан 2-го ранга (1915). Окончил Морской корпус (1901). В начале Первой мировой войны служил на Балтийском флоте, в дальнейшем переведен на Дунайскую флотилию. Командовал отрядом особого назначения в Румынии. В Добровольческой армии и ВСЮР: с октября 1918 г. военно-морской представитель в Румынии, затем при штабе генерала Бертело; начальник отряда судов особого назначения Днепровской военной флотилии (17.09–13.11.1919); командир 8-го дивизиона Днепровской военной флотилии, затем командир Днепровской флотилии. Капитан 1-го ранга. После Гражданской войны в эмиграции в Бельгии.
(обратно)310
Тратта (итал. tratta), или переводной вексель – финансовый документ, который содержит безусловный приказ кредитора (трассанта) заемщику (трассату) об уплате в оговоренный срок определенной суммы денег, обозначенной в векселе, третьему лицу (ремитенту) или предъявителю векселя.
(обратно)311
Сытин Иван Дмитриевич (1851–1934), один из известнейших издателей последней четверти XIX – начала XX в. Выходец из низов, создал огромное издательское, книгопечатное и книготорговое дело. Прославился недорогими массовыми изданиями для народа. «Русское дело» было наиболее дешевой газетой их ежедневных изданий, выходило тиражом в сотни тысяч экземпляров.
(обратно)312
8-й Лубенский гусарский полк, сформирован в 1807 г. В 1917 г. украинизирован, входил в гетманскую армию, армию УНР, перешел во ВСЮР.
(обратно)313
Бельц Эдуард фон (1855–1918), генерал-лейтенант Австро-Венгерской армии. В молодости состоял на русской службе. В 1918 г. командовал австрийскими оккупационными войсками на юге России. С 1 июня 1918 г. был военным губернатором Одессы. Узнав о поражении Австро-Венгрии в войне и ее распаде, покончил с собой 9 ноября 1918 г.
(обратно)314
Российский Евгений Александрович (1865–1933), генерал-майор, участник Русско-японской войны. Во время Первой мировой командовал бригадой и дивизией. Участник Белого движения в составе ВСЮР и Русской армии, галлиполиец. Около полутора лет командовал Константиновским военным училищем. В эмиграции в Болгарии, затем в Югославии.
(обратно)315
Черкасский Михаил Борисович (1882–1919), князь, капитан 1-го ранга (1916), контр-адмирал (1917). Окончил Морской кадетский корпус (1901) и Николаевскую морскую академию (1914). Участник Русско-японской войны. Работал в Морском Генеральном штабе. Флаг-капитан по оперативной части штаба командующего Балтийским флотом (с 11.09.1915), Начальник штаба командующего Балтийским флотом (с 10.03.1917). Относительно гибели князя существуют различные версии. В своей работе, посвященной роду князей Черкасских, сын М. Б. Черкасского, Борис Михайлович, излагает судьбу отца иначе, чем Ненюков: «Весной 1918 года отвез жену к ее матери в г. Полтаву. В октябре 1918 года был мобилизован Скоропадским на борьбу с Петлюрой, расстрелян петлюровцами в январе 1919 года (предположительно)». Историк С. В. Волков в книге «Офицеры флота и морского ведомства» пишет, что князь Черкасский «с нояб. 1918 в русских добровольческих отрядах на Украине, в дек. 1918 помощник командира в Отдельном Полтавском добровольческом батальоне. Взят в плен 27 дек. 1918. Расстрелян большевиками янв. 1919 в Золотоноше Полтавской губ.».
(обратно)316
Милюков Павел Николаевич (1859–1943), русский политический деятель и историк. Один из основателей и лидер Конституционно-демократической партии. В 1907–1917 гг. член 3-й и 4-й Государственных дум, глава кадетской фракции. 01.11.1916 произнес с думской трибуны знаменитую обличительную речь, в которой обвинил императрицу Александру Федоровну и премьер-министра России Б. Штюрмера в подготовке сепаратного мира с Германией; эта во многом популистская речь косвенно ускорила Февральскую революцию. В первом составе Временного правительства (март – май 1917) министр иностранных дел; сторонник продолжения войны до победного конца. В конце 1917 г. уехал на Дон, присоединился к Алексеевской организации, преобразованной в Добровольческую армию. В январе 1918 г. входил в состав Донского гражданского совета. В ноябре 1918 г. выехал в Западную Европу добиваться от союзников поддержки Белого движения.
(обратно)317
Келлер Федор Артурович (1857–1918), граф, флигель-адъютант (1907), генерал от кавалерии (1917). Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. и Первой мировой войны. Отличался личной храбростью и пользовался большой популярностью в войсках. Командир 3-го кавалерийского корпуса (1915–1917). Во время Февральской революции предлагал императору Николаю II помощь для подавления беспорядков. Отказался присягать Временному правительству. Летом 1918 г. отклонил предложение генерала Казановича выехать на Дон и примкнуть к Добровольческой армии. 05.11.1918 назначен гетманом Скоропадским главнокомандующим. Накануне взятия Киева войсками украинской Директории взял на себя руководство обороной города, но, видя невозможность сопротивления, распустил подчиненные ему отряды. Расстрелян петлюровцами после взятия ими Киева.
(обратно)318
Бискупский Василий Викторович (1878–1945), генерал-майор (1916). Окончил Николаевское кавалерийское училище (1897). Участник Русско-японской и Первой мировой войн. 29.04.1918–18.12.1918 в армии гетмана Скоропадского. В ноябре – декабре 1918 г. возглавлял добровольческие части в Одессе. С апреля 1919 г. в эмиграции в Германии. Активно сотрудничал с германскими правыми кругами. После провала так называемого Пивного путча (1921) в его квартире скрывался А. Гитлер. В 1936 г. назначен начальником управления по делам русской эмиграции в Германии. После Второй мировой войны уехал в США.
(обратно)319
Гришин-Алмазов (наст. фамилия Гришин; Алмазов – псевдоним в подполье) Алексей Николаевич (1880–1919), генерал-майор (1918). Окончил Михайловское артиллерийское училище (1902). Участник Русско-японской и Первой мировой войн. После Октябрьской революции по заданию генерала М. В Алексеева организовывал в Сибири работу офицерского подполья, которое весной 1918 г. подняло восстание против большевиков вместе с чехословаками. Командующий войсками Омского военного округа (28.05–12.06.1918). Командующий Западно-Сибирской (с 27.07.1918 – Сибирской) армией (13.06–05.09.1918); одновременно (с 1 июля) управляющий Военным министерством Временного сибирского правительства. Вынужденный уйти в отставку из-за интриг левых и либералов, отправился в расположение Добровольческой армии. Направлен генералом Деникиным на Ясское совещание с союзниками. С 04.12.1918 военный губернатор Одессы и (до 15.01.1919) командующий войсками Добровольческой армии Одесского района. Врид командующего войсками Юго-Западного края (24.02–23.04.1919), погиб.
(обратно)320
Впоследствии ротмистр, возможно, офицер Крымского конного полка. Характеристик у его и его отряда В. В. Шульгиным см.: Шульгин В. В. Французская интервенция на юге России в 1918–1919 годах (отрывочные воспоминания) // Военная быль. № 4 (133). С. 29.
(обратно)321
Во французской армии нет звания «генерал-майор»; ему соответствует звание «бригадный генерал». Надо полагать, что этим генералом был А. Бориус: «Через шесть дней после петлюровцев, 4 (17) декабря, в одесском порту высаживается первый эшелон французских войск – 156-я пехотная дивизия под командованием бригадного генерала Альбера Бориуса». (Ивлев М. Н. Диктатор Одессы: Зигзаги судьбы белого генерала. М., 2013. С. 75.)
(обратно)322
Пильц Александр Иванович (1870–1944), русский государственный деятель. В феврале 1916 г. назначен товарищем министра внутренних дел, но, едва успев занять эту должность, 15(28).03.1916 был назначен иркутским генерал-губернатором. Во время Февральской революции был арестован и под конвоем отправлен из Иркутска в Петро град. В ноябре 1918 – январе 1919 г. участвовал в работе Ясского совещания. В начале 1919 г. помощник генерал-губернатора Одессы Гришина-Алмазова по гражданской части, начальник гражданского управления Одесского района. С марта 1919 г. – главноуполномоченный по устройству беженцев в г. Новороссийске. С 10.07.1919 – помощник начальника Управления внутренних дел Особого совещания при Деникине. При генерале П. Н. Врангеле занимал в Крыму должность исполняющего обязанности начальника гражданского управления.
(обратно)323
Должность обер-полицмейстера в Москве была отменена в 1907 г., и глава городской полиции стал называться градоначальником. Из четырех последних обер-полицмейстеров двое (Трепов и Власовский) умерли до описываемых событий, Юрковский и Козлов были дряхлыми старцами. Видимо, имеется в виду один из градоначальников.
(обратно)324
Шульгин Василий Витальевич (1878–1976), русский политический и общественный деятель. Депутат 2, 3 и 4-й Государственных дум, монархист. В феврале 1917 г. был в числе лиц, принявших отречение Николая II. После захвата власти большевиками один из организаторов и идеологов Белого движения. В ноябре 1917 г. приехал в Новочеркасск и вступил в Алексеевскую организацию. Один из основателей тайной организации «Азбука», занимающейся для руководства ВСЮР сбором и анализом информации о положении дел в России, как в «советской», так и в «белой». Зимой 1918–1919 гг. политический советник «одесского диктатора» Гришина-Алмазова. После поражения Белого движения – в эмиграции, активный участник РОВСа. В 1921–1922 гг. видный член Русского совета, созданного П. Н. Врангелем в качестве российского правительства в изгнании. В декабре 1944 г. захвачен органами Смерш в Югославии, доставлен в Москву и осужден на 25 лет лишения свободы за «антисоветскую деятельность». В 1956 г. освобожден по амнистии, остаток жизни провел в СССР.
(обратно)325
Спиридович Александр Иванович (1873–1952), генерал-майор (1915). В 1899 г. перевелся из армии в Отдельный корпус жандармов. Начальник императорской дворцовой охраны (01.01.1906–15.08.1916). Организовал охрану Николая II в ставке в Могилеве. Ялтинский градоначальник (15.08.1916–1917). Во время Февральской революции прибыл в Петроград, был арестован Временным правительством. В начале октября 1917 г. освобожден из тюрьмы под залог. В 1918 г. в армии Украинской державы гетмана П. П. Скоропадского, в ноябре 1918 г. начальник канцелярии Совета обороны при Военном министерстве. С 1919 г. в эмиграции.
(обратно)326
Машуков Николай Николаевич (1889–1968), старший лейтенант флота (1917). Окончил Морской корпус (1908), штурманский и артиллерийский офицерские классы (1915). Участник Первой мировой войны. С осени 1918 г. в Добровольческой армии. Капитан 2-го ранга (1919). С декабря 1919 г. начальник отряда Черноморского флота. В марте – апреле 1920 г. командир отряда судов Азовского моря, организатор и командир Азовской флотилии. Капитан 1-го ранга (март 1920). Обеспечивал переброску на Кубань Улагаевского десанта. Контр-адмирал (10.08.1920). Начальник штаба Черноморского флота (с 12.10.1920). По оценке генерала Врангеля, проявил исключительную энергию при подготовке эвакуации из Крыма и сумел мобилизовать и использовать все плавучие средства. После поражения Белого движения в эмиграции.
(обратно)327
По-видимому, имеется в виду Пашкевич Владислав Карлович (1883–1930), старший лейтенант (1916). Подпоручик армии (1904), в 1912 г. перевелся на флот. Участник Первой мировой войны. Летом 1919 г. начальник оперативной части Морского управления. Капитан 2-го ранга (28.03.1920).
(обратно)328
Кулябка-Корецкий Николай Григорьевич (1846–1931), публицист и земский статистик, с начала 1870 г. участвовал в революционном движения. В 1875 г. бежал от ареста за границу. В эмиграции был близок к П. Л. Лаврову, являлся одним из редакторов журнала «Вперед».
(обратно)329
д’Ансельм Филипп-Анри-Жозеф (1864–1936), дивизионный генерал (1918) французской армии. Участник Первой мировой войны. С 15.01.1919 – командующий франко-греческими оккупационными войсками на юге России. 02.04.1919 объявил о спешной эвакуации антантовских войск из Одессы в течение двух дней, чем поставил в весьма затруднительное положение сформированные в Одессе русские добровольческие части.
(обратно)330
Фриденберг (Фрейденберг, Фредамбер) Анри (1876–1975), французский офицер, полковник. По происхождению одесский еврей. Во французской армии с 1890-х гг.; выдавал себя за уроженца Эльзаса, чтобы оправдать акцент. Участник Первой мировой войны. В начале 1919 г. начальник штаба генерала д’Ансельма. Имел огромное влияние на дела в оккупированной Антантой Одессе. Проводил политику, направленную против Добровольческой армии. Сформировал в Одессе «областное правительство» – Совет обороны, не признанное ВСЮР. Его обвиняли в том, что он за крупную взятку от ВЧК (в другом варианте – из любви к симпатизировавшей большевикам киноактрисе Вере Холодной) провел 04–07.04.1919 поспешную эвакуацию антантовских войск из Одессы. Сразу же после эвакуации открыл банк в оккупированном Антантой Константинополе. По требованию премьер-министра Франции Ж. Клемансо эвакуация французских войск с юга России стала предметом разбирательства со стороны специально созданной комиссии, которая полностью оправдала действия Фриденберга. В 1921 г. вернулся на военную службу, но был отправлен служить во французские африканские колонии. Во время Второй мировой войны в звании генерала армии командовал 2-й французской армией, потерпел сокрушительное поражение летом 1940 г. и правительством Петэна был уволен в отставку.
(обратно)331
Месснер Александр Яковлевич (1874–1919), генерал-майор (1916). Окончил военно-училищный курс Киевского пехотного юнкерского училища (1894) и Николаевскую академию Генерального штаба (1900). Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Помощник начальника военных сообщений армий Румынского фронта (с 20.12.1916). Начальник военных сообщений армий Западного фронта (с 21.03.1917). С 10.06.1918 в армии Украинской державы. 17.08.1918 назначен заведующим передвижением войск Одесского р-на. После падения гетмана – в Добровольческой армии и ВСЮР. В начале 1919 г. занимался вербовкой офицеров для армии в Одессе. С 15.01.1919 заведующий передвижением войск Одесского р-на. С весны 1919 г. заведующий Новороссийским железнодорожным узлом. Затем в резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР. С 18.08.1919 начальник военных сообщений Добровольческой армии. В декабре того же года скончался в Ростове.
(обратно)332
Каульбарс Александр Васильевич (1844–1929), барон, генерал от кавалерии (1901). Окончил Николаевское училище гвардейских юнкеров (1861) и Николаевскую академию Генерального штаба (1868). Участник подавления Польского восстания 1863 г., Кульджинской экспедиции (1871), Хивинского похода (1873), Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., Русско-японской войны. Помощник командующего войсками Одесского ВО (1901–1904), командующий войсками Одесского ВО (01.01–22.10.1904 и 1905–1909). Совершил ряд научных экспедиций по Китаю. Во время Первой мировой войны являлся заведующим организацией авиационного дела в армиях Северо-Западного фронта, до конца 1915 г. фактически руководил авиацией действующей армии. 23.12.1915 уволен с мундиром и пенсией. После Октябрьской революции уехал на юг России. С 15.10.1918 в Добровольческой армии (в Одесском центре; утвержден 02.02.1919 в резерв армии). С 02.07.1919 в резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР. После 1920 г. в эмиграции.
(обратно)333
У Почетного легиона нет степеней; есть кавалер, офицер, командор и т. д.
(обратно)334
Брасова – Наталья Сергеевна Шереметьевская (1880–1952), по первому мужу Мамонтова, по второму – Вульферт (оба брака закончились разводом по ее инициативе). С 1912 г. морганатическая супруга великого князя Михаила Александровича, брата Николая II. В 1915 г. Наталья и ее сын от великого князя получили от императора титулы графов Брасовых. После революции пыталась добиться освобождения мужа, сама была арестована большевиками, но сумела с дочерью от первого брака и сыном бежать за границу. Умерла в Париже.
(обратно)335
Франше д’Эспере Луи-Феликс-Мари-Франсуа (1856–1942), французский военный деятель, дивизионный генерал (1912). Окончил Сен-Сирскую военную школу (1876) и Академию Генерального штаба. Участник Первой мировой войны. В июне 1918 г. назначен главнокомандующим войсками союзников на Салоникском фронте. Руководил наступлением против болгар, которое вынудило их подписать в сентябре перемирие, ставшее началом крушения блока Центральных держав. После этого был назначен главкомом всеми союзными войсками на Балканах. В марте – апреле 1919 г. командовал французскими оккупационными войсками на юге России. Верховный комиссар Франции на юге России (с марта 1919). В конце марта при подходе к Одессе войск Красной армии спешно эвакуировал свои войска из города. Пытался установить французский контроль над Белым движением на юге России, что встретило резкий отпор со стороны атамана Краснова. С 1920 г. член Высшего военного совета. Маршал Франции (1921).
(обратно)336
Тимановский Николай Степанович (1889–1919), генерал-майор (1918). В войсках – «железный Степаныч». Нижним чином участвовал в Русско-японской войне. Подпоручик (1906). Участник Первой мировой войны, последний чин – полковник. Командир Георгиевского батальона, переданного в феврале 1917 г. генерала Н. И. Иванова для подавления беспорядков в Петрограде, однако до столицы батальон не добрался и вернулся обратно в Могилев. С декабря 1917 г. в Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского (Ледяного) похода. В начале 1919 г. послан генералом Деникиным в Одессу, чтобы возглавить отряд добровольцев, сформированный генералом Гришиным-Алмазовым. С 21.01.1919 начальник Отдельной бригады Русской Добровольческой армии в Одессе (с 27.01.1919 Отдельная Одесская стрелковая бригада); 18.05–13.06.1919 начальник развернутой из бригады 7-й пехотной дивизии. Генерал-лейтенант (с лета 1919). Умер от сыпного тифа.
(обратно)337
Шварц Алексей Владимирович фон (1874–1953), генерал-лейтенант (1917). Окончил Николаевское инженерное училище (1895) и Николаевскую инженерную академию (1902). Участник Русско-японской войны. В начале Первой мировой войны получил назначение в распоряжение начальника инженеров крепости Ивангород. С 13.08.1914 исполнял обязанности коменданта Ивангородской крепости, успешно действовал против австро-германских войск. В связи с общим отходом русских войск летом 1915 г. оставил крепость по приказу командования, организовав эвакуацию гарнизона и уничтожение укреплений. Начальник Трапезундского укрепрайона (23.07.1916–1917). После Октябрьской революции вступил в Красную армию. В марте 1918 г. после заключения Брестского мира уехал на Украину. Жил в Киеве, после свержения гетманского режима в конце 1918 г. бежал в Одессу. 21.03.1919 французским командованием назначен военным генерал-губернатором Одессы и командующим русскими войсками в союзной зоне Одессы, против чего безрезультатно возражал Деникин. После оставления французскими войсками Одессы в апреле 1919 г. уехал в Константинополь и далее в Италию, затем перебрался в Аргентину.
(обратно)338
Мельгунов Михаил Эрастович (1869–1926), генерал-лейтенант (1917). Окончил Михайловское артиллерийское училище (1892) и Николаевскую академию Генерального штаба (1898). Участник Первой мировой войны. Командовал полком, бригадой, дивизией, корпусом. Начальник штаба 8-й армии (с 22.10.1917). Участник Белого движения в рядах ВСЮР. В 1919 г. начальник штаба войск Юго-Западного края и и. д. командующего войсками Юго-Западного края. После 1920 г. в эмиграции.
(обратно)339
Имеется в виду Николай Иванович Черниловский-Сокол (1881–1936). Из дворян Киевской губернии. Окончил Морской корпус в 1901 г. Участник боя «Варяга» в 1904 г. Капитан 1-го ранга. Георгиевский кавалер. В 1918 г. командующий гетманским флотом. Контр-адмирал. Начальник штаба Черноморского флота ВСЮР (декабрь 1918 – март 1919 гг.). Затем в Белом движении на Востоке России. В эмиграции в Китае.
(обратно)340
Не установлен. Возможно, фамилия искажена.
(обратно)341
Волков Евгений Николаевич (1864–1933), генерал-лейтенант (1913). Окончил Николаевское кавалерийское училище (1884). Черноморский вице-губернатор (06.04.1900–17.11.1901) и губернатор (17.11.1901–01.01.1905). 01.01.1905 назначен московским градоначальником (начальник полиции), после убийства великого князя Сергея Александровича перемещен на пост таврического губернатора (18.04.1905–03.01.1906). Управляющий кабинетом Его Императорского Величества (с 13.08.1909). Зачислен в свиту Его Императорского Величества (1910). 25.04.1917 уволен от службы по болезни. Участник Белого движения на юге России в составе ВСЮР. Генерал-губернатор Черноморской области. Вступил в должность в конце января 1919 г., в марте 1919 г. вышел в отставку и уехал из России. В эмиграции во Франции.
(обратно)342
Саблин Михаил Павлович (1869–1920), вице-адмирал (1916), командующий Черноморским флотом. Брат контр-адмирала Н. П. Саблина. Окончил Морской корпус и Минные классы (1890). Участник Китайского похода и Русско-японской войны. Служил в Черноморском флоте. 06.12.1912 назначен командиром линкора «Ростислав». В декабре 1914 г. награжден Георгиевским оружием за участие в боях с немецким линейным крейсером «Гёбен». Начальник (командующий) минной обороны Черного моря (1915–1916). С 21.07.1916 начальник 2-й бригады линейных крейсеров и и. д. начальника дивизии линейных крейсеров Черного моря. Вице-адмирал (1916). С 31.10.1916 состоял по Морскому министерству. Начальник штаба Черноморского флота (1917–1918). Командующий Черноморским флотом с 02.05.1918 (по другим данным 12(25).12.1917) по 04(17).06.1918). В июне 1918 г. получил приказ СНК затопить эскадру. Чтобы спасти корабли, отправился в Москву, где был арестован. Бежал в Великобританию, откуда прибыл на юг России. С начала 1919 г. главный командир судов и портов Черного моря, начальник Военно-морской базы Севастополя. 25.03–20.08.1919 командующий Черноморским флотом ВСЮР. В апреле 1919 г., в связи с уходом французской эскадры из Севастополя, добился от союзников передачи ряда кораблей Черноморского флота главнокомандующему ВСЮР и привел их в Новороссийск. По его настоянию союзники согласились передать уведенные ими в Константинополь лучшие корабли Черноморского флота, в том числе линейный корабль «Александр III». После увольнения адмирала Ненюкова (08.02.1920) был вновь назначен командующим Черноморским флотом, но уже 17 февраля сдал командование адмиралу Герасимову. 19.04.1920 вновь назначен командующим Черноморским флотом и начальником Морского управления Русской армии. В середине 1920 г. тяжело заболел раком печени и был 12.10.1920 заменен адмиралом М. А. Кедровым. Скончался в дни крымской эвакуации, похоронен в Севастополе.
(обратно)343
Туркул Сергей Петрович (1890–1959), лейтенант флота (1916). Окончил Морской корпус (1912). Участник Первой мировой войны. До 1917 г. служил вахтенным начальником на линейном корабле «Пантелеймон». С 1918 г. в рядах Добровольческой армии. В ноябре 1918 г. прибыл из Одессы в Новороссийск. Старший лейтенант (28.03.1920). На 06.05.1919 командир тральщика «Мечта».
(обратно)344
Геруа Борис Владимирович (1876–1942), генерал-майор (1916). Окончил Пажеский корпус (1895) и Николаевскую академию Генерального штаба (1904). Участник Русско-японской войны. Профессор по тактике Николаевской военной академии (01.02.1912–1914). С 02.12.1916 генерал-квартирмейстер Особой армии, с 09.05.1917 и.д. начальника штаба 11-й армии. Арестован 31.08.1917 за участие в выступлении генерала Корнилова, содержался в Быховской тюрьме. В 1918 г. был принят на службу в Красную армию. В конце 1918 г. нелегально перебрался в Финляндию, а оттуда уехал в Англию, где возглавил Особую военную миссию по оказанию материальной помощи белым армиям.
(обратно)345
Неточность автора: в феврале 1919 г. на мель сел линейный корабль «Мирабо».
(обратно)346
В составе французского контингента были сенегальские стрелки.
(обратно)347
После отъезда охраняемых персон в апреле 1919 г. на борту британского линейного корабля «Мальборо» отряд расформирован.
(обратно)348
Боровский Александр Александрович (1877–1939), генерал-майор (1917). Окончил Павловское военное училище (1896) и Николаевскую академию Генерального штаба (1903). Участник Первой мировой войны. В Добровольческой армии с самого начала, в Ледяном походе командовал студенческим батальоном. Генерал-лейтенант (12.11.1918). С 24.12.1918 командир Крымско-Азовского корпуса Добровольческой армии, переименованного 10.01.1919 в Крымско-Азовскую добровольческую армию. После ее расформирования в распоряжении главнокомандующего ВСЮР (с 06.06.1919). С 19.09.1919 в резерве чинов при штабе главнокомандующего ВСЮР. Участник Военного совета, созванного в марте 1920 г. для избрания нового главнокомандующего. В начале апреля 1920 г. вместе с генералами Покровским и Постовским был обвинен в интригах против генерала Врангеля и выслан из Крыма.
(обратно)349
Мюрат Иоахим (Жоашен) (1767–1815), французский полководец, маршал (1804). Имел репутацию одного из лучших в истории кавалерийских генералов.
(обратно)350
Думенко Борис Мокеевич (1888–1920), кавалерийский командир Красной армии во время Гражданской войны. В Первую мировую войну служил в артиллерийских частях, вахмистр (1917). Вернувшись с фронта, в начале 1918 г. сформировал из крестьян конный отряд, с которым вступил в борьбу против казаков за установление на Дону советской власти. Отряд Думенко вошел в состав регулярной Красной армии, сам он стал командиром конного полка (июль 1918), бригады (сентябрь 1918), дивизии (декабрь 1918). 14.09.1919 назначен командиром вновь сформированного Конно-сводного корпуса, с которым в сентябре – декабре 1919 г. одержал ряд побед над кавалерийскими соединениями ВСЮР. Негативно оценивал деятельность Троцкого и его окружения по установлению жесткого контроля комиссаров над командирами; со своей стороны Троцкий и политорганы обвиняли Думенко в препятствовании деятельности комиссаров, в антисемитизме и слабой борьбе с пьянством и мародерством его бойцов. После убийства при невыясненных обстоятельствах присланного в корпус Думенко комиссара, сам Дубенко и шесть его ближайших помощников были арестованы и расстреляны по обвинению в этом убийстве.
(обратно)351
В советской историографии – бой в Тюб-Караганском заливе, у полуострова Мангышлак. Состоялся 21.05.1919.
(обратно)352
Отт Дмитрий Оскарович (1855–1929), российский и советский врач, доктор медицины, действительный статский советник, ведущий акушер-гинеколог своего времени, лейб-акушер (в царствование Николая II). В 1879 г. с отличием и медалью окончил Петербургскую медико-хирургическую академию. Профессор клинического института великой княгини Елены Павловны, в 1893–1918 гг. директор Императорского клинического повивального института. Продолжал работать и при большевиках. Очевидно, автор проявляет деликатность и сознательно обозначает доктора Отта лейб-хирургом, а не лейб-акушером, как в действительности.
(обратно)353
Игнатьева Софья Алексеевна (1851–1944), графиня, церковный и общественный деятель, благотворительница. Урожденная княжна Мещерская, вдова графа А. П. Игнатьева. Открытый ею после смерти мужа политический салон посещали архиереи, церковные, правительственные и общественные деятели консервативного направления. Пользовалась большим влиянием в церковных кругах. С 1919 г. в эмиграции. Ее старший сын – генерал Русской императорской, а затем Красной армии А. А. Игнатьев (автор книги «Пятьдесят лет в строю»).
(обратно)354
Сергий (в миру Стефан Алексеевич Петров) (1864–1935), деятель Русской православной церкви. Епископ Новомиргородский, викарий Херсонской епархии (с 25.01.1907). Епископ Сухумский (с 22.12.1913). На Ставропольском соборе 19–24.05.1919 г., призванном организовать временное высшее церковное управление для районов, контролируемых ВСЮР, было принято решение о выделении из состава Сухумской епархии самостоятельной Черноморской и Новороссийской. Сергий возглавил ее, хотя организовать епархию во время Гражданской войны оказалось невозможно. С 1920 г. в эмиграции. Титул архиепископа Черноморского и Новороссийского он сохранял до конца жизни.
(обратно)355
По-видимому, имеется в виду Андрживский (Анджиевский) Григорий Григорьевич (1897–1919), большевистский партийный и государственный деятель. Член РСДРП(б) с 1917 г. Участник Первой мировой войны, рядовой; после ранения в 1916 г. отправлен в Пятигорск. В 1917 г. председатель Пятигорского совета. В марте 1918 г. первый заместитель Терского областного народного совета, член ЦИК Северо-Кавказской советской республики. Был направлен на подпольную работу в Закавказье, 17.08.1919 г. арестован в Баку англичанами, выдан белогвардейцам и 31 августа повешен в Пятигорске.
(обратно)356
Осведомительное агентство, затем Отдел пропаганды (наименование «Осваг» продолжало бытовать) – агитационно-пропагандистская структура во ВСЮР. При серьезных масштабах деятельности, адекватно противостоять красной агитации и подрывной работе оказалась не в состоянии.
(обратно)357
Буденный Семен Михайлович (1883–1973) – советский военачальник, Маршал Советского Союза (1935), культовая фигура советской пропаганды, политический долгожитель. Из иногородних Донской области, сверхсрочнослужащий Приморского драгунского полка. Участник Русско-японской и Первой мировой войн, неоднократно награжден, вахмистр. В начале 1918 г. создал революционный отряд, влившийся в полк Б. М. Думенко; полк вырос в дивизию, дивизия развернулась в Конный корпус. Буденный стал командиром соединения. С 19.11.1919 командарм Первой конной армии, сыгравшей огромную роль в победе РККА на Юге.
(обратно)358
Родионов Михаил Николаевич (1888–1961), капитан 2-го ранга. Окончил Морской корпус (1907), служил в штабах на Черноморском флоте. Участник Первой мировой войны. В Гражданскую войну начальник оперативной части Морского управления ВСЮР. В 1920 г., после снятия Ненюкова с должности командующего флотом, назначен в Константинопольскую военно-морскую базу, вскоре стал заместителем командира базы и капитаном 1-го ранга. С 1920 г. в эмиграции.
(обратно)359
Федоров Михаил Михайлович (1859–1949), экономист, общественный деятель, в 1906 г. управляющий министерством торговли и промышленности, член конституционно-демократической партии. В 1918 г. один из руководителей Национального центра, выехал по его заданию на Кубань; входил в Особое совещание при главнокомандующем ВСЮР. В эмиграции много занимался организацией образования русского юношества (так называемый «Федоровский комитет»).
(обратно)360
Астров Николай Иванович (1868–1934), политический деятель, один из основателей и лидеров кадетской партии. С марта 1917 г. городской голова Москвы. Во время Гражданской войны один из создателей и руководителей подпольных антибольшевистских организаций Национальный центр и Союз возрождения России, входил в руководство подпольного Национального центра. Летом 1918 г. выехал из Москвы на юг для переговоров о координации действий московского подполья и Добровольческой армии. В 1919 г. член Особого совещания при главкоме ВСЮР, возглавлял управление внутренних дел, политический советник Деникина. С 1920 г. в эмиграции.
(обратно)361
Данилов-черный, с которым автор служил в Ставке в годы Великой войны.
(обратно)362
Клыков Александр Михайлович (1875–1951), контр-адмирал (1919). Окончил Морской кадетский корпус (1894). Участник Первой мировой войны. В Гражданскую войну в Черноморском флоте белых. В январе 1919 г. назначен начальником Новороссийского военного порта, в октябре 1920 г. – старшим морским начальником в Евпатории. С 21.11.1920 младший флагманский начальник 3-го отряда судов Черноморского флота. С 1920 г. в эмиграции.
(обратно)363
Добророльский Сергей Константинович (1867–1930), генерал-лейтенант (1914). Окончил Николаевское инженерное училище (1888) и Николаевскую академию Генерального штаба (1894). Участник Русско-японской и Первой мировой войн. С 21.08.1918 г. в армии Украинской державы; после свержения гетмана Скоропадского участник Белого движения в составе ВСЮР. Командир 4-й пехотной дивизии (май – июнь 1919). Командир 3-го армейского корпуса (июнь 1919). Командующий войсками Таврической губернии (июль – август 1919). Командующий войсками Черноморского побережья ВСЮР (август – октябрь 1919). С марта 1920 г. в эмиграции. В середине 1920-х гг. примкнул к группе офицеров Генштаба – сменовеховцев, выступал за сотрудничество с большевиками. Вернулся в СССР.
(обратно)364
Конради Морис Морисович (Мориц Морицович) (1896–1946, по др. данным 1931, 1944 или 1947), русский офицер. Из семьи осевших в России швейцарцев. В 1914 г. добровольно ушел на фронт, подпоручик, был ранен, награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. Воевал на Румынском фронте. Участник похода отряда Дроздовского из Ясс на Дон. Штабс-капитан (1919), капитан (1920), был личным адъютантом командира Дроздовского полка, полковника А. В. Туркула. Семья Конради пострадала от большевиков: отец умер после избиения в ЧК, дядя расстрелян как заложник, тетя убита бандитами. После поражения Белого движения жил в Швейцарии. 10.05.1923 в Лозанне застрелил советского дипломата В. Воровского в качестве акта возмездия за преступления большевиков и гибель родных. Несмотря на все усилия советского режима добиться его осуждения, был оправдан судом, после чего СССР разорвал дипотношения со Швейцарией.
(обратно)365
Имела революционное название «Свободная Россия»; затоплена 18 июня 1918 г. на рейде Новороссийска.
(обратно)366
Субботин Владимир Федорович (1874–1937), генерал-майор (1915). Окончил Николаевское инженерное училище (1895) и Николаевскую инженерную академию (1900). Участник Китайского похода 1900–1901 и Русско-японской войны. Начальник инженеров 11-й армии (05.05.1916–11.11.1916). Начальник инженеров Дунайской армии (11.11.1916–06.01.1917). Начальник инженеров армий Румынского фронта (06.01.1917–20.09.1917). Участник Белого движения на юге России. Комендант Севастопольской крепости и начальник гарнизона Севастополя (26.02.1919 – февраль 1920), одновременно Севастопольский градоначальник (23.06.1919 – февраль 1920). Подал в отставку после того, как был арестован во время выступления капитана Орлова. В Русской армии генерала Врангеля – начальник инженеров, руководивших работами по укреплению позиций на Перекопе. После 1920 г. в эмиграции.
(обратно)367
Тягин Борис Евстафьевич (1880–1919), капитан 2-го ранга (1914). Окончил Морской корпус (1901) и Николаевскую морскую академию (1913). Участник Русско-японской войны. С 1914 г. артиллерийский офицер для поручений при коменданте Морской крепости императора Петра Великого.
(обратно)368
Ворожейкин Сергей Николаевич (1867–1939), контр-адмирал (1916). Окончил Морской корпус (1886). С 03.08.1914 заведовал строительством Морского корпуса в Севастополе, начальником которого назначен в 1916 г. После роспуска корпуса в конце 1917 г. скрывался в Севастополе. В апреле 1918 г., когда город оккупировали германские войска, перебрался в Одессу, где занял должность начальника штаба западных портов Черного моря, а затем главного командира Одесского порта от правительства гетмана. Оказывал всяческое содействие негласному одесскому центру Добровольческой армии. В начале 1919 г., после поспешной эвакуации сил Антанты из Одессы, прибыл в Севастополь, а перед захватом его в апреле 1919 г. красными – в Новороссийск, где был зачислен в резерв чинов главнокомандующего ВСЮР. После занятия Севастополя войсками Добровольческой армии приказом главнокомандующего ВСЮР назначен в октябре 1919 г. директором восстановленного Морского корпуса, оставался на этой должности до эвакуации Крыма в ноябре 1920 г.
(обратно)369
Веньямин (Вениамин; в миру Иван Афанасьевич Федченков) (1880–1961), деятель Русской православной церкви, епископ Севастопольский (хиротонисан 10/23 февраля 1919 г.). В конце марта – начале апреля 1920 г. принял предложение генерала Врангеля возглавить военное духовенство ВСЮР (с 11.05.1920 – Русской армии) и был назначен епископом армии и флота. Участвовал в обсуждении готовившегося по указанию Врангеля земельного закона, поддерживая позицию главнокомандующего по аграрному вопросу. В ноябре 1920 г. эвакуирован из Крыма. В эмиграции вошел в созданный Врангелем Русский совет (правительство в изгнании). С 1933 г. экзарх Московской патриархии в Америке, архиепископ (с 1938 митрополит) Алеутский и Северо-Американский. В 1945 г. вернулся на родину. В 1947 г. назначен митрополитом Рижским и Латвийским.
(обратно)370
Ошибка автора: архиепископ Димитрий (в миру Михаил Георгиевич Ковальницкий) умер в 1913 г. С 22.02.1918 митрополитом Херсонским и Одесским был Платон.
(обратно)371
Спасский Георгий Александрович (отец Георгий) (1877–1934), митрофорный протоирей (с января 1917 г.). Окончил Литовскую духовную семинарию и Московскую духовную академию. С 1916 г. законоучитель в севастопольском Морском кадетском корпусе. Главный священник Черноморского флота. Участвовал в заседаниях Поместного собора 1917–1918 гг. В Гражданскую войну – помощник епископа армии и флота при генерале Врангеле. В 1920 г. в составе русской эскадры эвакуировался в Бизерту, Тунис. С 1923 г. жил во Франции.
(обратно)372
Пентефрий (библ.) – царедворец фараона, которому был продан св. Иосиф. Жена Пентефрия пыталась соблазнить целомудренного Иосифа.
(обратно)373
Дыбенко Павел Ефимович (1889–1938), революционер, советский политический и военный деятель, командарм 2-го ранга. Балтийский матрос, большевик, в революционном движении с 1907 г. Член РСДРП с 1912 г. Член Гельсингфорского совета, с апреля 1917 г. председатель Центробалта (Центрального комитета Балтийского флота). Во время Октябрьской революции командовал красными отрядами в Гатчине и Красном Селе. До марта 1918 г. – народный комиссар по морским делам. В годы Гражданской войны и далее – на командных должностях в Красной армии. Участник подавления восстания в Кронштадте и в Тамбовской губернии. Командовал корпусами, округами, был начальником снабжений РККА. Член РВС СССР, член ЦИК СССР. Арестован и расстрелян в 1938 г. Реабилитирован в 1956 г.
(обратно)374
Иванов Модест Васильевич (1875–1942), контр-адмирал (21.11.1917). Окончил Морской кадетский корпус (1894) и Гидрографическое отделение Николаевской морской академии (1900). Участник Русско-японской и Первой мировой войн. После Октябрьского переворота пошел на службу к большевикам. По предложению Ленина назначен 04.11.1917 товарищем морского министра с исполнением обязанностей председателя Верховной морской коллегии, 09.11.1917 назначен управляющим Морским министерством. Участвовал в Гражданской войне на стороне красных. Морской инспектор и начальник Морской инспекции ВЧК (март 1921). Начальник Пограничной флотилии ОГПУ (до 01.10.1924). Уволен в отставку (15.12.1924). Умер в блокадном Ленинграде.
(обратно)375
Максимов Андрей Семенович (1866–1951), вице-адмирал (1916). Окончил Морское училище (1887). Участник Китайского похода 1900–1901 гг., Русско-японской и Первой мировой войн. После Февральской революции командующий Балтийским флотом (04.03–02.06.1917), был избран матросами вместо убитого адмирала Непенина. Начальник Морского штаба Верховного главнокомандующего (с 06.09.1917). Второй помощник морского министра (с 18.11.1917). После Октябрьского переворота пошел на службу к большевикам. Старший инспектор Реввоенсовета (1918). С августа 1920 по декабрь 1921 г. командующий Черноморским флотом. С 1927 г. в отставке.
(обратно)376
Сеймур, британский контр-адмирал, младший флагман эскадры Средиземного моря.
(обратно)377
Так у автора.
(обратно)378
То есть абхазские.
(обратно)379
Морской собор в Севастополе – Собор Святого Равноапостольного князя Владимира в Севастополе, место захоронения русских адмиралов и морских офицеров, памятник архитектуры и истории. В обиходе именуется: «Владимирский собор (усыпальница адмиралов)», для отличия от Владимирского собора в Херсонесе. В 1825 г. командующий Черноморским флотом адмирал А. С. Грейг подал прошение императору Александру I установить памятник на развалинах Херсонеса, в котором был крещен князь Владимир. В 1829 г. был объявлен конкурс и утвержден проект архитектора К. А. Тона (1794–1881). В 1842 г., по ходатайству адмирала М. П. Лазарева, было принято решение о строительстве собора в центре города, а не на развалинах Херсонеса. Подготовительные работы начались в 1848 г.; в 1851 г. умер адмирал М. П. Лазарев, командующий Черноморским флотом, в память о заслугах решено было похоронить его в специально сооруженном склепе на месте будущего собора. Собор заложен 15 июля 1854 г., к началу осады Севастополя возведен фундамент. Во время Крымской войны в склепе будущего храма были захоронены адмиралы В. А. Корнилов, В. И. Истомин, П. С. Нахимов, погибшие во время обороны города. Строительство возобновилось в 1862 г., академик А. А. Авдеев переработал проект К. А. Тона. В 1881 г. закончено сооружение нижней церкви, в 1888 г. – верхней.
В 1931 г., при передаче здания Осоавиахиму, склеп был вскрыт, останки адмиралов уничтожены. Собор пострадал во время Великой Отечественной войны. В 1991 г. склеп обследован, в 1992 г. осуществлено символическое перезахоронение останков.
(обратно)380
Панорама Ф. А. Рубо «Оборона Севастополя», выполненная в 1901–1904 гг. и открытая в Севастополе 14.05.1905. Тяжело пострадала от пожара во время обстрела и бомбежки 25 июня 1942 г., отдельные фрагменты спасены и вывезены в Новороссийск на лидере «Ташкент» 27 июня. Воссоздана авторским коллективом советских художников под руководством В. Н. Яковлева (после его смерти – П. П. Соколова-Скаля) и открыта вновь 16 октября 1954 г., к столетию события.
(обратно)381
Платон (в миру Порфирий Федорович Рождественский) (1866–1934), митрополит Херсонский и Одесский (22.02.1918–1920). С 1920 г. в эмиграции, с 1921 г. управляющий Северо-Американской епархией.
(обратно)382
Григорьев (по одной из версий, настоящая фамилия Серветник) Николай (по другим данным, Матвей или Никифор) Александрович (1885–1919), офицер Русской императорской и украинской армий, военный деятель Гражданской войны. Участник Русско-японской и Первой мировой войн, последний чин в русской армии – штабс-капитан. От Центральной Рады получил чин подполковника, от гетмана – чин полковника и должность командира дивизии. Летом 1918 г. восстал против гетмана и начал партизанскую войну против его режима и австро-германских оккупационных войск. В конце января порвал с Директорией, взявшей власть после свержения гетмана, и повел войну против ее формирований, а 18.02.1918 вошел со своим отрядом в состав Красной армии. 06.04.1919 его отряды овладели Одессой. Вскоре порвал с большевиками и поднял против них мятеж, соединившись с рядом других «полевых командиров». Захватывая населенные пункты, банды Григорьева уничтожали русское и еврейское население. К середине мая красные сосредоточили против григорьевцев значительные силы, нанесшие им ряд тяжелых поражений. В июне Григорьев с оставшимся у него отрядом объединился с предводителем повстанцев-анархистов Н. Махно. Прибыв на переговоры с ним, Григорьев был 27.07.1919 убит махновцами.
(обратно)383
Правильно: де Бон. Бон Фердинан-Жан-Жак де (1861–1923), вице-адмирал (1916). В 1915 г. участвовал в Дарданелльской операции, обеспечивая снабжение экспедиционного корпуса, а также его погрузку на суда после провала операции. В 1917 г. назначен начальником Морского Генерального штаба. Член Адмиралтейского совета. С апреля 1919 г. Командующий средиземноморской эскадрой. «Адмирал де Бон, прелестный старик, производил чарующее впечатление. Искренний друг России, он впоследствии, в дни нашего изгнания, остался таковым же» (Врангель П. Н. Записки. Ноябрь 1916 г. – ноябрь 1920 г. Т. 2. Минск, 2003. С. 337).
(обратно)384
Петэн Анри-Филипп-Бенони-Омер-Жозеф (1856–1951), французский военный и государственный деятель, маршал Франции (21.11.1918). Участник Первой мировой войны 1914–1918 гг. Руководил успешной обороной Вердена, за которую получил прозвище «победитель при Вердене», а Николай II наградил его орденом Св. Георгия IV ст. В мае 1916 г. был назначен командующим группой армий «Центр», в апреле 1917 г. начальником Генерального штаба, а 15.05.1917 г. – главнокомандующим французскими армиями. В период между двумя мировыми войнами занимал высокие посты в военном руководстве. После разгрома Франции в 1940 г. возглавил правительство, подписавшее с Германией Компьенское перемирие (22.06.1940) и сотрудничавшее с Третьим рейхом. После поражения Германии Петэн за государственную измену был приговорен к смертной казни, замененной на пожизненное заключение.
(обратно)385
Быч Лука Лаврентьевич (1870–1945), казачий политик и общественный деятель левого направления, первый председатель Кубанского правительства 1917–1918 гг. Уроженец станицы Павловской Кубанской области. Юрист, работал в коммерческом секторе. С 1912 г. городской голова Баку, успешно примирил интересы основных национальных групп, решил проблему водоснабжения. Временным правительством назначен начальником снабжения Кавказской армии. После развала фронта возвратился на Кубань, где был избран Краевой Радой председателем кубанского правительства. Участник Первого Кубанского похода. Претендовал на должность Кубанского атамана. В начале 1919 г. Рада назначила его главой делегации на Парижскую мирную конференцию. В Париже делегация подписала с представителями кавказских горцев проект договора о дружбе. Его антидобровольческая направленность вызвала в ноябре 1919 г. репрессивные действия командования ВСЮР. Из-за разногласий с А. И. Деникиным и падения Кубанской народной республики остался в эмиграции. Проживал в Чехословакии, был ректором Украинской сельскохозяйственной академии.
(обратно)386
Покровский Виктор Леонидович (1889–1922), военный летчик, генерал-лейтенант, участник Первой мировой войны. Участник Белого движения. Командовал 1-й Кубанской дивизией, 1-м Кубанским корпусом, Кавказской армией; отличался жестокостью. Будучи начальником тыла Кавказской армии, осуществил в начале ноября 1919 г. так называемое кубанское действо – арест самостийников – членов Кубанской законодательной рады. Один из них, Кулабухов, был повешен по приговору военно-полевого суда. Убит при аресте болгарской полицией.
(обратно)387
Май-Маевский Владимир Зенонович (1867–1920), генерал-лейтенант (1914). Окончил Николаевское инженерное училище (1888) и Николаевскую академию Генерального штаба (1896). Участник Первой мировой войны. Участник Белого движения. С марта 1918 г. в Добровольческой армии. С 19.11.1918 временно командующий (с 05.01.1919 начальник) 3-й стрелковой (Дроздовской) дивизией. Командир 2-го армейского корпуса (с 12.02.1919). С 22.05.1919 командующий Добровольческой армией; 27.11.1919 снят с поста и уволен в отставку за развал тыла и систематическое пьянство. Умер от разрыва сердца в Севастополе.
(обратно)388
Александр Михайлович (1866–1933), великий князь, внук императора Николая I. Двоюродный дядя и друг детства Николая II, муж его сестры Ксении. Адмирал (1915). Один из создателей русской авиации. После Февральской революции уволен с военной службы. Вместе с семьей и несколькими родственниками проживал в Крыму. 11.12.1918 вместе со старшим сыном вывезен из Ялты на английском военном корабле «Форсайт». Остаток жизни провел в эмиграции.
(обратно)389
Имеется в виду Плющевский-Плющик Юрий Николаевич (1877–1926). Окончил Александровский кадетский корпус (1895), 2-е Константиновское училище (1898), Николаевскую академия Генерального штаба (1905; по 1-му разряду). Участник Русско-японской и Первой мировой войн. С 10.06.1917 и.д. 2-го генерал-квартирмейстера при Верховном главнокомандующем. После выступления генерала Л. Г. Корнилова арестован, вскоре освобожден и зачислен в резерв чинов при штабе Петроградского ВО. Участник Белого движения на Юге России. Участник 1-го Кубанского похода. С 27.11.1918 генерал-квартирмейстер Добровольческой армии; генерал-майор (13 февраля 1919 г.) В январе – ноябре 1919 г. генерал-квартирмейстер штаба главнокомандующего ВСЮР. В эмиграции с 1920 г. в Югославии и Франции.
(обратно)390
Остелецкий Павел Павлович (1880–1946), контр-адмирал (1919). Окончил Морской корпус (1899). Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Во время Гражданской войны в Вооруженных силах Юга России. С 03.05.1919 командир крейсера «Генерал Корнилов». Руководил десантной операцией по овладению Одессой, которую взял 24.08.1919. В 1920 г. начальник 1-го отряда судов Черноморского флота до эвакуации Крыма. Эвакуировался с флотом в Бизерту (Тунис). В эмиграции во Франции.
(обратно)391
Речь идет о 3-м конном и 4-м Донском казачьем корпусах. Автор дает излишне жестокую оценку. Из 3-го корпуса (А. Г. Шкуро) одна из двух дивизий была отправлена на борьбу с повстанцами Махно; 4-й корпус (К. К. Мамонтова) после тяжелого рейда по тылам красных и отстранения комкора на время утратил боеспособность.
(обратно)392
Лукьянов Григорий Лу кич (1878–1920), полковник (1915). Окончил Ставропольское казачье юнкерское училище и Николаевскую академию Генерального штаба (1908). Участник Первой мировой войны. Во время Гражданской войны в Добровольческой армии и ВСЮР. С 22.07.1919 начальник штаба Севастопольской крепости.
(обратно)393
Редигер Александр Федорович (1853–1920), генерал от инфантерии (1907). Окончил Пажеский корпус (1872) и Академию Генерального штаба (1876). Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Военный министр (15.07.1905–11.03.1909). Внес большой вклад в проведение реформ в русской армии после неудачной для России войны с Японией. Член Государственного совета. Известный военный писатель, автор мемуаров. Уволен от службы 25.10.1917 декретом СНК. Осенью 1917 г. уехал на Украину и проживал в с. Черевки и городе Переяславе Полтавской губернии. С конца 1918 г. жил в Севастополе. Умер от кровоизлияния в мозг.
(обратно)394
Воронцов-Дашков Илларион Иванович (1837–1916), граф, государственный и военный деятель. Генерал-адъютант (1875), генерал от кавалерии (1890). Министр императорского двора и уделов (1881–1897). 27.02.1905 назначен наместником Кавказа, главнокомандующим войсками Кавказского военного округа и войсковым наказным атаманом Кавказских казачьих войск. После начала Первой мировой войны назначен (30.08.1914) главнокомандующим Кавказской армией; фактически занимался лишь вопросами тыла, передав командование сначала генералу Мышлаевскому, затем Юденичу. 23.08.1915 освобожден от наместничества и командования армией и назначен «состоять при особе Его Величества».
(обратно)395
Дубяга Георгий Александрович (1884–1954), полковник. Окончил Николаевское инженерное училище (1904) и Николаевскую академию Генерального штаба (1913). Участник Первой мировой войны. В Добровольческой армии с июля 1918 г. Начальник штаба 4-й (Крымской) пехотной дивизии (ноябрь 1918 – июль 1919). Начальник штаба 34-й (Сводной) пехотной дивизии (июль – декабрь 1919). Начальник штаба 2-го Крымского корпуса генерала Слащова (декабрь 1919 – апрель 1920). Командир бригады (апрель – ноябрь 1920). Генерал-майор (май 1920). В ноябре 1920 г. эвакуирован из Крыма.
(обратно)396
Возможно, имеется в виду Павел Васильевич Макаров, прототип капитана Кольцова из т/ф «Адъютант его превосходительства.
(обратно)397
Туманов Язон Константинович (1883–1955), князь, капитан 2-го ранга (1916). Окончил Морской корпус (1904). Участник Русско-японской и Первой мировой войн. В Гражданскую войну в рядах Белого движения. Отдел морской контрразведки всех портов Черного моря возглавил в июне 1919 г. 28.03.1920 был произведен в чин капитана 1-го ранга, а перед эвакуацией назначен на должность коменданта транспорта «Россия», на котором и прибыл в Константинополь. С 1925 г. жил в Парагвае, где служил в военно-морском флоте.
(обратно)398
Орлов имел чин капитана.
(обратно)399
Костюшко Тадеуш (1746–1817), национальный герой Польши, участник Войны за независимость США, организатор восстания в Польше в 1794 г. Отстаивал границы Речи Посполитой 1772 г., из-за чего отказывался от предложений как Александра I, так и Наполеона Бонапарта. Умер в Швейцарии.
(обратно)400
Жижка Ян (ок. 1360–1424), национальный герой чешского народа, выдающийся полководец. Из обедневшей дворянской семьи. Участник Грюнвальдской битвы, многих войн за пределами родных краев. Примкнул к гуситам и стал основателем их новаторской военной тактики. Неоднократно побеждал в битвах с имперскими войсками. Умер от чумы. Стал одним из образов, вдохновлявших чешское военно-политическое возрождение в 1914–1920 гг.
(обратно)401
Косовская битва – сражение 15 июня 1389 г. между турецкой армией Мурада I и объединенной армией Боснийского королевства и сербских владетельных князей. В битве погиб цвет сербского дворянства. Несмотря на неясный итог сражения, оно положило начало зависимости сербских земель от Османской империи. В сербском фольклоре одна из ключевых тем, символ героизма и сопротивления агрессору.
(обратно)402
Сражение под Йеной в 1806 г. знаменовало собой крах Прусского королевства под ударами наполеоновских войск. Поражение послужило усиленной работе национальной военной и общественной мысли, проведению реформ. Битва под Седаном 1 сентября 1870 г. знаменовала собой разгром Франции во Франко-прусской войне 1870–1871 гг. Император Наполеон III попал в плен. В 1871 г. в покоренном Париже была провозглашена Германская империя. Седан – один из символов военной мощи Германии.
(обратно)


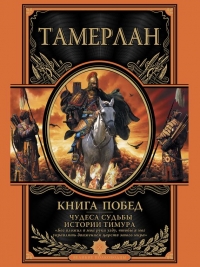
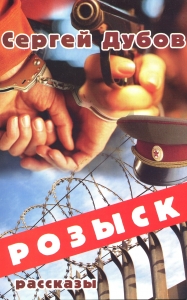



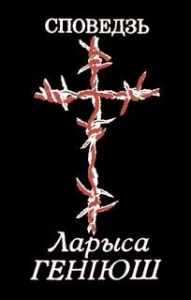
Комментарии к книге «От Мировой до Гражданской войны. Воспоминания. 1914–1920», Дмитрий Всеволодович Ненюков
Всего 0 комментариев