Лазарь Лазарев Живым не верится, что живы…
От автора
Эта книга — не обзор и не монография. Она состоит из статей и заметок, которые писались в разное время — от пятидесятых до нынешней поры. Но все они объединены одной общей темой: речь в них идет о литературе, посвященной Великой Отечественной войне.
У каждого критика есть свой круг литературных интересов. Они определяют проблемы и жизненный материал, на которых сосредоточено его внимание, произведения, которые его привлекают больше всего. Для автора этой книги, всех составивших ее статей и заметок военная литература, события, которые она запечатлела, были таким главным объектом. Этот выбор, это пристрастие возникли не сами собой. Как это нередко бывает, они имеют и свою жизненную, биографическую основу. Для того поколения, к которому автор принадлежит, великая война была фронтовой юностью, нашей судьбой. Я в первые дни войны стал курсантом Высшего военно-морского училища имени Фрунзе в Ленинграде, затем в восемнадцать лет был произведен в лейтенанты морской пехоты, воевал в качестве командира взвода и роты в сорок втором и сорок третьем годах на Сталинградском и Южном фронтах.
Борис Слуцкий писал:
Но пули пели мимо — не попали, Но бомбы облетели стороной, Но без вести товарищи пропали, А я вернулся. Целый и живой.Это лирическое стихотворение — поэт пишет о себе, о своей судьбе. Но, как это свойственно талантливой поэзии, она подразумевает многих. Автор этих строк вернулся с фронта, хотя и не совсем целым, но тоже живым…
Конечно, творчество каждого писателя, о котором я писал, заставляло обращаться к новым граням войны, у каждого из них был свой угол зрения, свой художественный мир, требовавший анализа и осмысления. Но некоторые фундаментальные принципы, которым на протяжении долгих лет следовал автор, оставались неизменными. Именно это позволило предложить собранные вместе статьи и заметки как книгу.
Для настоящего издания все статьи и заметки отредактированы, дополнены, обнаруженные повторы сняты.
Это были боеприпасы… (О публицистике Ильи Эренбурга военных лет)
В мае сорок пятого, в самые первые дни наступившего наконец мира, Илья Эренбург написал стихи о победе. В них много горечи и тревожных предчувствий:
Я ждал ее, как можно ждать любя. Я знал ее, как можно знать себя, Я звал ее в крови, в грязи, в печали. И час настал — закончилась война. Я шел домой. Навстречу шла она. И мы друг друга не узнали.Горечь понятна: дорогой ценой, великой кровью было заплачено за победу. Понятны и его тревожные предчувствия. 14 марта 1945 года, за несколько дней до конца войны, в «Правде» была опубликована статья начальника управления пропаганды и агитации ЦК Г. Александрова «Товарищ Эренбург упрощает», написанная по указанию Сталина. Этому предшествовала вот какая история: начальник Главного управления контрразведки СМЕРШ Абакумов доложил Сталину, что вернувшийся из фронтовой командировки в Восточную Пруссию Эренбург в своих выступлениях «возводит клевету на Красную Армию», обвиняя вторые эшелоны в мародерстве, пьянстве и насилии на территории Германии. Эренбург призывал навести порядок.
Сталин решил выступить по этому поводу с присущим ему фарисейством, приписав призыв к бесчинствам Эренбургу, сделав его козлом отпущения. Эренбурга прекратили печатать, остановили последний, четвертый сборник его статей «Война» (он так и не вышел). Статья Александрова вызвала негодование у фронтовиков.
Видно, Сталину это докладывали, и он дал задний ход — 10 мая «Правда» напечатала статью Эренбурга «Утро мира», он писал в ней, в сущности отвечая на обвинения Г. Александрова: «Всем народам найдется свое место под солнцем. Будет жить и немецкий народ, очистившись от фашистской скверны. Но нет и не будет на земле места фашистам: это наша клятва, клятва победителей. Свободные люди, мы никого не хотим поработить. Не хотим поработить и немцев». А вот еще одно место из статьи, написанной в те хмурые для него дни: «Я еще раз хочу напомнить, что никогда не думал о низкой мести. В самые страшные дни, когда враг топтал нашу землю, я знал, что не опустится наш боец до расправы: „Мы не мечтаем о мести. Ведь никогда советские люди не уподобятся фашистам, не станут пытать детей или мучить раненых. Мы ищем другое: только справедливость способна смягчить нашу боль. Мы хотим уничтожить фашистов: этого требует справедливость… Если немецкий солдат опустит оружие и сдастся в плен, мы его не тронем, он будет жить. Может быть, грядущая Германия его перевоспитает, сделает из тупого убийцы труженика и человека. Пускай об этом думают немецкие педагоги. Мы думаем о другом: о нашей земле, о нашем труде. О наших семьях. Мы научились ненавидеть, потому что мы научились любить“. Когда я писал это, немцы были в Ржеве. Я повторю это и теперь, когда мы в Берлине. Много говорили о ключах страшного города. Мы вошли в него без ключей. А может быть, ключ у каждого бойца в сердце: большая любовь и большая ненависть. Издавна говорят, что победители великодушны. Если можно в чем-то попрекнуть наш народ, то только не в недостатке великодушия. Мы не воюем с безоружными, не мстим неповинным. Но мы помним обо всем, и не остыла и не остынет наша ненависть к палачам Майданека, к вешателям и поджигателям. Скорее отрублю себе руку, чем напишу о прощении злодеев, которые закапывали в землю живых детей, и я знаю, что так думают, так чувствуют все граждане нашей Родины, все честные люди мира».
В приведенных цитатах явная полемика со статьей Александрова и стоящим за ним Сталиным. Дело это было небезопасное. Широко ходил анекдот, приписываемый Радеку: «С товарищем Сталиным трудно дискутировать: ты ему сноску, он тебе ссылку». Наверное, несмешной этот анекдот Эренбург знал, он чувствовал себя оскорбленным и оболганным и все-таки вступил в полемику, объяснял не властям — наверное, это было безнадежно, а своим читателям, что грехи ему приписываются зря.
И еще одно стихотворение, которое Эренбург написал в мае сорок пятого. Оно о себе, он как бы подводит итог прожитым военным годам. Он вспоминает самую трудную пору — сорок первый и сорок второй, когда стрелки истории так опасно качались, свою работу военного журналиста, не знавшую перерывов — четыре года на передовой. Грустные это строки:
Умру — вы вспомните газетный шорох. Проклятый год, который всем нам дорог. А я хочу, чтоб голос мой замолкший Напомнил вам не только гром у Волги, Но и деревьев еле слышный шелест, Зеленую, таинственную прелесть.Он работал все это время на износ, смертельно устал — ведь когда началась война он был немолодым человеком, ему было уже пятьдесят. Ему казалось, что написанное им — свыше полутора тысяч статей — недолговечно, как превращающиеся в труху ломкие газетные страницы. Отсюда в его стихотворении пренебрежительное «газетный шорох». Он был не прав. Но так он думал. В самый разгар войны, в 1943 году, в одной из статей он писал: «Писатели пошли в газету, как всходят на трибуну, — это не их рабочий стол, это не их место. Но и блиндаж не место сталевара или садовника. Война переселяет людей и сердца. В мирное время газета — осведомитель. В дни войны газета — воздух. Люди раскрывают газету, прежде чем раскрыть письмо от близкого друга. Газета теперь письмо, адресованное лично тебе. От того, что стоит в газете, зависит и твоя судьба».
Так понимал он свой долг. Эренбург был блестящим публицистом. Главный его жанр — статья, вернее, эссе. Никто не достигал тут тех высот, которые были доступны ему. Когда был сдан Киев, и об этом очень тяжелом нашем поражении даже не смогло, не решилось сообщить в своих сводках Совинформбюро, Эренбург об этом страшном ударе написал — нашел слова любви и горя: «Я родился в Киеве на Горбатой улице. Ее тогда звали Институтской. Неистребима привязанность человека к тому месту, где он родился. Я прежде редко вспоминал о Киеве. Теперь он перед моими глазами: сады над Днепром, крутые улицы, липы, веселая толпа… Настанет день, и мы узнаем горькую эпопею защитников Киева. Каждый камень будет памятником героям» («25 сентября 1941 года»). У него редко можно встретить описание в чистом виде. Пейзаж, зарисовка сразу же укрупняются, приобретают символический смысл: «Когда в июньское утро первые выстрелы вспугнули жаворонков, они прозвучали как диссонанс. Все вокруг не соответствовало этим звукам: и мирные села, и медленно дозревавшие колосья, и детвора на улицах пограничных городов, и сердце человека, еще продолжавшее мирно биться. Как изменилась наша страна! Стоят яркие осенние дни. Вокруг блиндажей березы как бы истекают кровью. Зловещая пестрота последних листьев сродни войне» («Свет в блиндаже»). Собственные впечатления и наблюдения — а он, сугубо штатский человек, не раз ездил на фронт, преодолевая сопротивление своего газетного начальства, опасавшегося этих командировок и не желавшего выпускать газетный номер без статьи Эренбурга, — входят в художественную ткань его текстов на равных правах с письмами, документами, цитатами из газет, свидетельствами очевидцев, показаниями пленных и т. п. Он пишет: «Я проехал триста километров по земле, отвоеванной у немцев. Зимой снег сострадательно прикрывал раны. Теперь повязка снята. Там, где были дома, крапива, чертополох и, как сорняки, немецкие шлемы, скелеты машин, снаряды» («По дорогам войны»).
Контрастное сопоставление, резкий, подчеркнутый переход от частной, но поражающей воображение детали к обобщению, от безжалостной иронии — к сердечной нежности, от гневной инвективы — к воодушевляющему призыву — вот что отличает стиль Эренбурга. Часто уже сам «монтаж» фактов высекает мысль, подводит читателя к выводу, который цель Эренбурга: «Когда Леонардо да Винчи сидел над чертежами летательной машины, он думал не о фугасных бомбах, но о счастье человечества. Подростком я видел первые петли французского летчика Пегу. Старшие говорили: „Гордись, человек летает; как птица!“ Много лет спустя я увидел „юнкерсы“ над Мадридом, над Парижем, над Москвой…» («Сердце человека»). Внимательный читатель публицистики Эренбурга не может не почувствовать, не догадаться, что автор ее обладает незаурядным поэтическим даром. В его публицистике постоянно проявляется присущий ему мощный лирический напор: «Нелегко вырастить плодовое дерево: много оно требует труда и забот. А чертополох невзыскателен. Гитлер, создавая свою „гитлеровскую молодежь“, потворствовал самым низким инстинктам человека. Он не воспитывал, он натаскивал, науськивал» («О патриотизме»). Или: «Это началось с малого: горел рейхстаг, подожженный фашистами. Это кончается на том же месте пожаром Берлина» («27 апреля 1945 года»). Эренбург дает общий план войны, прислушивается к шагам истории, его внимание сосредоточено на взаимоотношениях народов и государств, столкновении политических доктрин, нравственных принципов. Последнее — нравственные принципы — для него особенно важны, они всегда у него на первом плане…
Статьи Эренбурга не были журналистикой — какие бы заслуженные им самые высокие оценочные определения я не поставил бы перед словом «журналистика» — все это будет неточно. То, что он писал тогда, было неотъемлемой частью великой народной войны против фашизма, он выражал чувства и мысли людей, сражающихся с захватчиками, их веру в победу, был их голосом.
Об этом говорят все работавшие рядом с ним, печатавшиеся в одной с ним газете, коллеги — писатели и журналисты. Алексей Сурков: «Мне посчастливилось на протяжении трех военных лет работать рядом с Эренбургом в дружном, спаянном общим патриотическим порывом коллективе работников центральной военной газеты „Красная звезда“. Этот коллектив включал в себя и Симонова, и Павленко, и писавшего из блокадного Ленинграда Тихонова, и Габриловича, и целую плеяду талантливых военных журналистов. Эренбург был среди нас самым старшим по возрасту, литературному и жизненному опыту. Ему уже тогда перевалило за пятьдесят. Но никто из нас, работавших беззаветно и самозабвенно, кроме разве молодого Симонова, не мог сравниться по неиссякаемой энергии с этим старым „газетным волком“».
А вот свидетельство военной поры — сорок четвертого года — этого «молодого Симонова», которого Сурков поставил вслед за Эренбургом:
«Мне рассказывали люди, заслуживающие полного доверия, что в одном из больших объединенных партизанских отрядов существовал следующий пункт рукописного приказа:
„Газеты после прочтения употреблять на раскурку, за исключением статей Ильи Эренбурга“.
Это поистине самая короткая и самая радостная для писательского сердца рецензия, о которой я когда-либо слышал.
Когда думаешь об Эренбурге, хочется прежде всего сказать о нем просто, что он принят на вооружение нашей армии, и хотя это сравнение, конечно, не мне первому пришло в голову, — хочется повторить его, потому что оно предельно точно. Именно принят на вооружение».
И еще одно место из тех давних воспоминаний Симонова: «Прошлой осенью мне пришлось ездить вместе с Эренбургом на Центральный фронт. По грязным, изрытым воронками фронтовым дорогам, на забрызганном грязью „виллисе“ ехал по прифронтовой полосе немолодой, предельно штатский человек в мешковатом коричневом пальто, в меховой штатской шапке и с сигарой во рту. Он неторопливо ходил по передовым позициям, несколько сутулясь, разговаривая тихим голосом и ни на секунду не стараясь скрывать того обстоятельства, что он глубоко штатский человек. Но этот штатский человек был принят в армии как воин, и, если опросить всех, кто воевал в эти дни на этом фронте — от генерала и до последнего обозника, трусившего по дороге на своей одноколке, — я уверен, что там не нашлось бы ни одного человека, который бы не знал и не читал Эренбурга».
Люди военные, как правило, когда речь идет о сражениях, стараются пользоваться определениями взвешенными и точными, и когда маршал Баграмян пишет: «Перо Эренбурга воистину было действеннее автомата», — это не комплимент, а деловая оценка боевой мощи публицистики Эренбурга. И такого рода отзывов об Эренбурге известных военачальников великое множество — назову маршала Говорова, генералов Батова и Черняховского, адмирала Исакова. Но, быть может, не менее важен тот авторитет, которым пользовались статьи Эренбурга в «низах» армии, у бойцов и офицеров. Виктор Некрасов вспоминал, как слушали его солдаты статьи Эренбурга во время сталинградской битвы. Еще одно свидетельство — Сергея Наровчатова, во время войны он был армейским журналистом: «Его статьи читались сразу же после сводки Информбюро, а то и раньше, поскольку сводку узнавали еще до „Красной звезды“, из дивизионной и армейской печати. Эренбургские статьи, фельетоны, заметки проглатывались залпом». Я уже не говорю о том, с каким волнением они читались в тылу. Знали о них даже дети, школьники. Василий Аксенов рассказывал, что для них, детей военных лет, Эренбург был «неизменным участником войны», «автором грозных, или, как тогда говорили, „разящих“ статей».
О восторженных откликах на статьи Эренбурга выдающихся зарубежных деятелей того времени я не буду говорить — их множество, только упомяну об этом для полноты картины.
И еще одна цитата — не писателя, слава к нему как к одному из самых крупных поэтов второй половины века придет позже. А эти строки принадлежат гвардии майору Борису Слуцкому. В первые дни после конца войны он написал «Заметки о войне». Напечатаны они были только в «перестроечное», бесцензурное время, уже после кончины автора, до этого об их публикации и речи не могло быть, да и сам Слуцкий никогда никому не предлагал их для издания, понимал, что это невозможно. Одна из первых (в сущности первая) глава «Записок» посвящена Эренбургу (Слуцкий еще не был знаком с Эренбургом, позже они познакомятся, их, несмотря на разницу в возрасте, на долгие годы свяжут дружеские отношения). «Идеология воина, фронтовика составляется из нескольких сегментов, четко отграниченных друг от друга, — писал Слуцкий. — Подобно нецементованным кирпичам они держатся вместе только силой тяжести, невозможностью для человека отказаться хотя бы от одного из них… Один из самых тяжелых и остроугольных кирпичей положил Илья Эренбург, газетчик. Его труд может быть сравнен только с трудом коллективов „Правды“ или „Красной звезды“. Он намного выше труда всех остальных наших писателей. Для многих этот кирпич заменил все остальные, всем — мировоззрение, и сколько молодых офицеров назвали бы себя эренбургианцами, знай они закон словообразования… Вред и польза его измеряются большими мерами».
Думаю, что я не ошибусь, если скажу, что Слуцкий, выражаясь современным языком, «озвучил» тогдашнее отношение к Эренбургу армии, во всяком случае ее офицерского корпуса.
В мемуарной книге «Люди, годы, жизнь», вспоминая первые месяцы войны, Эренбург говорил мимоходом, в одном абзаце: «Никогда в жизни я так много не работал, писал по три-четыре статьи в день; сидел в Лаврушинском и стучал на машинке, вечером шел в „Красную звезду“, писал статью в номер, читал немецкие документы, радиоперехваты, редактировал переводы, сочинял подписи под фотографиями… Начали приходить телеграммы из-за границы; различные газеты предлагали мне писать для них: „Дейли геральд“, „Нью-Йорк пост“, „Ла Франс“, шведские газеты, американское агентство Юнайтед Пресс. Приходилось менять не словарь — для красноармейцев и для нейтральных шведов требовались различные доводы».
Понятно, что коллеги, работавшие вместе с Эренбургом в «Красной звезде», знали, во всяком случае слышали, что он пишет и для зарубежных изданий, но часто ли, много ли — даже они не представляли масштаб этой работы. В поздних своих воспоминаниях — они были написаны после кончины Ильи Григорьевича — Симонов писал: «Приходилось мне там же, в редакции, видеть Эренбурга и поздними вечерами, когда давно был сдан в набор его очередной материал для завтрашнего номера „Красной звезды“, а он все еще сидел за машинкой. Это не вызывало удивления ни у меня, ни у моих товарищей по „Красной звезде“. Мы знали, что, кроме статей в „Красную звезду“, в „Правду“, кроме статей, специально написанных для фронтовой печати, на просьбы которой Эренбург считал своим долгом всегда, когда мог это сделать, откликнуться, — мы знали, что кроме всего этого он делает еще одну большую и постоянную работу. Знали, что через Советское информбюро в телеграфные агентства и газеты Америки, Англии и сражающейся Франции направляются корреспонденции Эренбурга, специально написанные для этих агентств и газет.
Но никто из нас тогда не читал этих статей и корреспонденций. Прямо с машинки Эренбурга они шли в Информбюро и оттуда на телеграф. И хотя мы знали, что он пишет эти корреспонденции, но вся та работа, которая постоянно шла у нас на глазах, вся его работа для наших газет казалась нам такой огромной, что как-то невольно забывалось, что он с этой работой успевает делать еще и другую».
Рукописи своих статей Эренбург не сохранял. Он вообще мало заботился о своем архиве — тем более в дни войны не было у него для этого ни времени, ни сил, ни охоты. Когда он писал свои статьи, то думал только о сегодняшнем их воздействии, о том, как они работают на победу. «Они все, — говорил он в те дни о своих статьях, — были написаны о фронте, многие из них написаны на фронте. Напрасно искать в них художественные описания и размышления. Это только боеприпасы».
Ильи Григорьевича уже не было в живых, когда его секретарь военных лет передала вдове писателя несколько очень толстых папок, в которых были материалы Эренбурга, передававшиеся через Информбюро зарубежным органам печати. Любовь Михайловна попросила меня разобраться с этими материалами, которые были сложены без всякого порядка. Там были не только статьи, но и телеграфная переписка писателя с зарубежными газетами и агентствами, несколько описей, отправленных через Информбюро корреспонденций, кстати, они помогли составить представление о том, какого масштаба это была работа. Когда я разобрался, выяснилось, что передо мной большой массив публицистики Эренбурга, неизвестной его русским читателям, он точно заметил в своих мемуарах, что в этих статьях ему приходилось менять не только словарь, но и доводы.
По самым осторожным подсчетам, статей для зарубежных читателей Эренбург написал свыше трехсот. Это оказалась очень интересная книга, добавлявшая новую краску в публицистику Эренбурга военной поры. Правда, с большим трудом книга пробивала себе дорогу к читателям. Подогреваемые давней ненавистью к мемуарам Эренбурга, которые были поперек горла нашему идеологическому начальству, руководители писательского издательства делали все, что могли и умели, а умели они в подобного рода делах очень много, чтобы закрыть ей дорогу в печать. И то, что она под названием «Летопись мужества» все-таки вышла, — прежде всего заслуга Симонова (я счел своим долгом сказать об этом, без его активного участия, принципиальности и настойчивости рукопись Эренбурга не издали бы).
В течение первых трех лет войны Эренбург обычно посылал за границу две-три статьи в неделю, первая была написана 3 июля 1941 года. 150 корреспонденций Эренбурга Совинформбюро отправило в одном лишь 1942 году. В январе 1942 года было послано 11, в феврале — 8, в марте 1943-го — 10, в июне — 9, в июле — 12 и т. д. А. Рубашкин — автор монографии, посвященной публицистике Эренбурга, в качестве примера, свидетельствующего о высоком напряжении, с которым работал Эренбург, ссылается на то, что 21 августа 1942 года одновременно появились две его статьи — в «Правде» и «Красной звезде». Можно расширить этот список, включив в него еще одну статью Эренбурга — в этот же день Совинформбюро отправило еще одну, третью статью Эренбурга — в Лондон для «Марсельезы», в Стокгольм и Бейрут.
Несколько задач ставил перед собой Эренбург, когда работал над этими статьями. Он хотел рассказать зарубежному читателю, который большинство сведений о нашей жизни прежде черпал из откровенно антисоветских или, в лучшем случае, весьма далеких от истины изданий, правду о русской истории, о многовековой культуре нашей страны, о советских людях. Как правило, рассказ этот содержал скрытую или прямую полемику с теми, кто рисовал Советский Союз варварской страной с азиатскими нравами и допотопным укладом жизни, а советских людей — темными, забитыми, лишенными инициативы и чувства собственного достоинства. Да, это была пропаганда, но у Эренбурга она была подчинена высокой гуманистической цели, направлена против фашистской бесчеловечности. После выхода в 1944 году в США сборника Эренбурга «Закал России» — туда вошли статьи первого года войны, — рецензент «Нью-Йорк дейли трибюн» писал: «Эти очерки рисуют величие русского народа и целесообразность поддержания хороших отношений с этим народом более рельефно, чем могли бы сделать тома статистических данных о военных и экономических ресурсах страны… Для многих американцев может быть новостью то, что русский народ заслуживает любви, а между тем таковым он изображен в этой книге».
Статьи Эренбурга не только содержали точную информацию о положении на советско-германском фронте, — это тоже было очень важно, потому что многие органы печати даже союзных стран, не говоря уже о странах нейтральных, таких, например, как Швеция, не всегда точно изображали, а случалось, и превратно истолковывали положение дел на театре военных действий, внушая своим читателям то безосновательный беспросветный пессимизм, то ложные призрачные надежды — в соответствии с узкоэгостичными политическими интересами. Еще важнее, что Эренбург вдохновенно писал о крепости духа и доблести Красной Армии, о стойкости и подвижническом труде тыла, о любви советских людей к свободе, их патриотизме и интернационализме.
Вновь и вновь он возвращался к мысли о том, что советский народ несет главную тяжесть борьбы с фашизмом, что судьба народов Европы решается на советско-германском фронте, что военные усилия наших союзников не соответствуют их возможностям и не идут ни в какое сравнение с теми жертвами, которые приносит на алтарь победы над общим врагом советский народ.
Эренбург без особых дипломатических околичностей говорил о том, что пропаганда за рубежом нередко очень преувеличивает военные достижения союзников, уменьшая наши. Эта проблема и сегодня не утратила своей актуальности, впрочем, нельзя забывать, что мы тут тоже не без грехов. Когда печатались записки Симонова «К биографии Г. К. Жукова» (уже не было в живых ни Жукова, ни Симонова), пуровская цензура из сказанного маршалом вычеркнула слова о помощи, оказанной нам союзниками.
Самое трудное время — не месяц, не полгода, не год, целых три года — мы фактически один на один сражались с армиями фашистской Германии и ее сателлитов, все это время на Восточном фронте были сосредоточены основные силы гитлеровцев (до 70 процентов общего числа дивизий). В статьях Эренбурга 1942 и 1943 годов вопрос о втором фронте занимает центральное место: автор недвусмысленно дает понять зарубежным читателям, что некоторые политические и военные руководители союзнических стран близоруко тормозят высадку армий на побережье Франции, оттягивая таким образом крах гитлеровского режима.
Вопрос этот, однако, был непростым, сегодня это ясно. Англичане боялись повторения катастрофы с их экспедиционным корпусом в Дюнкерке в мае 1940 года. Хорошо они помнили, что когда немецкая авиация ожесточенно бомбила их страну, ТАСС сообщало об этом, с сочувствием, всячески подчеркивая успехи немецких летчиков: «Несмотря на большое количество английских истребителей, германским бомбардировщикам удалось сбросить бомбы на Лондон. Возникшие пожары в лондонских доках, большое пламя в Вулвиче, разрушенные электростанции и другие объекты показывают, что германские бомбардировщики успешно выполнили задание».
Конечно, Эренбург об этом знал, это хорошо помнил. Но он не забывал и о том, что, когда Гитлер напал на Советский Союз, англичане отбросили свои обиды и стали союзником России в образовавшейся антифашистской коалиции. Поэтому призывы Эренбурга быстрее открыть второй фронт были не проявлением национального эгоизма, он считал главной задачей происходивших исторических сражений разгром гитлеровской Германии, уничтожение фашистского строя, поработившего народы, — для этого необходим второй фронт, и как можно скорее.
Он все время бьет в эту точку. Его логика ясна и неколебима. Его полемические удары всегда достигают цели. Нетрудно проследить, как от месяца к месяцу Эренбург все острее ставит вопрос о втором фронте. Весной 1942 года он, взывая к «военной мудрости» и «человеческой морали» союзников, замечал: «О втором фронте говорят у нас повсюду — в блиндажах и в поездах, в городах и в деревнях, женщины и бойцы, командиры и рабочие. Мы не осуждаем, мы не спорим, мы просто хотим понять». Через несколько месяцев, в июле 1942 года, когда гитлеровские войска, сосредоточив все свои силы на Восточном фронте, рвались к Сталинграду и Кавказу, в статьях Эренбурга возникают и осуждение и гнев: «Я прошу английских женщин подумать, как читают русские матери сообщения о переброске немецких дивизий из Франции на Восточный фронт. Чтобы понять это, не нужно быть психологом». А через год, в сентябре 1943 года, после победы в Сталинграде и на Курской дуге, он писал: «Сейчас можно добить немца, это понимают все. Солдаты быстро проглатывают сводку, потом глазами кидаются на полосу с телеграммами из-за границы. Они ждут не речей, а сводок. В эти недели и месяцы определяется не только дата конца войны, но нечто большее: лицо мира после победы. Мы можем прийти к победе с сердцами, полными дружбы, или с сердцами, опустошенными длительными разочарованием. Никакие речи или статьи не могут так повлиять на Красную Армию, да и на всю Россию, как короткая телеграмма о начале крупных операций. Войну мы выиграем, но мы можем ее выиграть в силу боевой дружбы, и мы ее можем выиграть, несмотря на душевную рознь. От этого зависит лицо завтрашнего мира, судьба наших детей».
Да, главный смысл своей работы для зарубежных газет Эренбург видел прежде всего в том, чтобы побудить общественное мнение союзных стран склонить своих правителей к скорейшему открытию второго фронта. После высадки войск союзников во Франции в июне 1944 года Эренбург стал писать для заграницы все меньше и меньше. В немногих статьях, написанных во второй половине 1944 года и в 1945 году, появляются уже новые мотивы: послевоенное устройство, обеспечивающее прочный и длительный мир, непримиримость к фашистской идеологии, к тем, кто сотрудничал с гитлеровцами.
В страшном июле 1942 года, который, как писал после войны Алексей Сурков, «даже нам, пережившим в 1941 году неизлечимую боль отступления от границы до Подмосковья, масштаб разразившейся катастрофы показался ошеломительным», Эренбург написал стихотворение, в котором слились вместе отчаяние и надежда:
Они накинулись. Неистовы, Могильным холодом грозя, Но есть такое слово «выстоять», Когда и выстоять нельзя…Выстоять — этим призывом, этим чувством, этой верой проникнута вся публицистика военных лет Эренбурга. И в исторической памяти народа остались его статьи, которые он сам уничижительно назвал «газетным шорохом». Они помогли нам выстоять, когда и выстоять было нельзя. Выстоять в жестокой кровавой войне и одержать победу над захватчиками. Они действительно были «боеприпасами»…
В тяжкий час земли родной… (О книге заметок и писем Александра Твардовского военных лет «Я в свою ходил атаку…»)
В войну к нам на передний край стихи не добирались. Изредка, от случая к случаю, когда бывало потише, привозили дивизионную газету, еще реже армейскую — все это быстро раздирали на курево.
В сорок втором и сорок третьем запомнились лишь симоновские: «Жди меня» — теперь понимаю, видимо, перепечатка в какой-то из дошедших до нас газет, и «Убей его» («Если дорог тебе твой дом…») — кажется, это было что-то вроде листовки.
«Теркина» я прочитал в сорок четвертом, уже «отвоевавшись». Это была, если память не подводит, воениздатовская книжка. Впечатление произвела очень сильное. Впрочем, слово «отвоевался», которое я употребил, не тогдашнего происхождения. Более позднего. Нет, тогда я еще внутренне не «отвоевался». И не только потому, что не переставал думать о том, как идет жизнь у нас там, на фронте. А главное был уверен — без малейшего отношения к реальности, что еще вернусь на фронт, а это у меня вроде бы затянувшийся «отпуск по ранению».
В топорной публицистике в подобного рода чувстве видели проявление горячего патриотизма. На самом деле это не так, все было сложнее. Патриотизм, ненависть к захватчикам, к фашизму, в разных его проявлениях, преодоление страха, желание в трудных обстоятельствах не ударить в грязь лицом, быть не хуже других — все вместе соединилось, сплавилось, определяло (не знаю, как лучше сказать — состав крови или мироощущение). Без этого не понять нашей жизни на войне, нашего отношения к ней.
Прошу прощения за то, что заметки о книге Александра Твардовского «Я в свою ходил атаку…», в которой обнародованы его заметки и письма военной поры, я начал воспоминаниями о моей войне. Но без них сейчас трудно объяснить, чем так тогда поразил меня «Теркин». Разумеется, поразил не меня одного, я в данном случае выступаю как один из представителей довольно многочисленной группы читателей, сразу же откликнувшихся на книгу про бойца. Кстати, фундамент того литературно-общественного авторитета, которым потом пользовался Твардовский, у многих из нас возник именно в ту пору, когда мы читали «Теркина», «Дом у дороги», «Я убит подо Ржевом» — в войну и сразу после нее.
Через много лет после войны в одном из выступлений Твардовский проницательно заметил, что «всякая действительность до того, как она явится отраженной в образах искусства, она еще как бы не совсем полна и не может с полной силой воздействовать на сознание людей». «Теркин» был этой книгой о нашей жизни на войне, он как бы подтверждал наш нелегкий опыт. Именно эта жизнь, какой бы в действительности она ни была, казалась тогда мне нормальной, единственно правильной и возможной. Что говорить, жизнь на фронте была очень тяжелой, порой на грани возможного — на этот счет у тех, кто там побывал, вряд ли могли возникать какие-то иллюзии. Все там требовало предельного напряжения сил: и леденящий холод, который, случалось, представлял не меньшую опасность, чем пули и осколки, и с харчем далеко не всегда был порядок, часто подголадывали, и выматывающие до изнеможения многокилометровые марши в непогоду, в осеннюю и весеннюю распутицу, и горькие до отчаяния дороги отступлений в сорок первом и сорок втором (Твардовский в дневнике, воспользовавшись злым солдатским определением, назвал их «драп-кроссом»; они потом в «Теркине» отозвались в душераздирающих строках: «Шли худые, шли босые в неизвестные края. Что там, где она, Россия, по какой рубеж своя!»), и траншеи да окопы — сколько было их накопано, и водные преграды, преодолеваемые чаще всего на подручных средствах, нередко под губительным обстрелом. И подстерегавшая на каждом шагу смертельная опасность, и погибающие рядом товарищи, и постоянный недосып.
В «Теркине» и покоряла так хорошо знакомая нам, пережитая нами эта обычная фронтовая жизнь. Не боевые эпизоды, которыми изо дня в день одаривало Совинформбюро, не героические подвиги, которые охотно, но не лучшим образом воспевали доходившие до нас армейские газеты. А именно жизнь на войне, на фронте — какой она была в реальной действительности — суровая, жестокая, но жизнь…
Поэтому «Теркин» с первых публикаций вызвал нараставший читательский успех. Это почувствовал автор — о чем свидетельствуют его дневники, это была для него очень существенная поддержка. Критики и особенно некоторые коллеги по поэтическому цеху встретили «Теркина» не в пример читателям довольно сдержанно. Конечно, здесь свою роль играло не миновавшее и эту среду чувство конкуренции, реакция на завидный читательский успех вещи Твардовского. И все бы ничего, конкуренция — дело обычное, если бы это чувство не сопровождалось у иных «соперников» столь распространенным в советское время стремлением приписать книге Твардовского опасные идеологические изъяны. Отзвуки этих обвинений, чреватых для автора серьезными неприятностями, слышались и после войны — в выступлениях поэтов, доказывавших, что в «Теркине» автор, отклонившись от «генеральной линии» советской литературы, изобразил не советского, а традиционно русского солдата, и в разгромных, заушательских отзывах — «фальшивая проза» — на прозаическую книгу Твардовского «Родина и чужбина». Стоит поэтому сказать, что единственным (хочу это подчеркнуть) писательским откликом на «Теркина» в годы войны было письмо Твардовскому Константина Симонова, увидевшего в книге про бойца замечательное достижение поэзии и даже самокритично признавшего, что он сам ничего в таком роде, о таком герое создать не может, не дано это ему…
Но вот что нельзя забывать, говоря об отражении жизни в художественной литературе, в поэзии. Существуют — и они распространены — превратные представления о связи писателя с действительностью. Все, мол, просто: писатель увидел, услышал, может быть, даже сам что-то пережил. А потом перенес в свое произведение.
Конечно, это не так… Все куда как сложнее. Так просто в качестве лоскутов действительности эти наблюдения, впечатления не могут быть «вшиты» в произведение… Они перед этим усваиваются, осмысляются, иногда переосмысляются, приноравливаются к тому художественному миру, который существует в сознании писателя. Восприятие действительности художником процесс очень сложный — на него влияет и то, что происходит вокруг, так сказать, в окружающем мире, и то, как действительность воздействует на него, как он ее воспринимает, какие чувства у него рождает.
В свое время Твардовский напечатал большую статью «Как был написан „Василий Теркин“», в которой отвечал на наиболее часто высказываемые ему устно и в письмах вопросы читателей (у статьи даже был подзаголовок «Ответ читателям»), поэт как бы приоткрывал дверь своей творческой лаборатории. А книга дневников и писем военной поры «Я в свою ходил атаку…» дает нам возможность или, скажу осторожнее, помогает нам понять, как происходил у Твардовского, создававшего «Теркина» (не зря свои записи называл рабочими тетрадями), этот очень сложный процесс преобразования явлений действительности, собственных впечатлений и настроений в поэзию, мы каким-то поразительным образом — случай нечастый — становимся словно бы свидетелями рождения чуда искусства, претворяющего события жизни, пережитое автором в долговечные художественные ценности. Это происходит на наших глазах, хотя тут есть, конечно, и никогда до конца непостижимый секрет — имя ему талант.
Твардовский вспоминал: «Ни одна из моих работ не давалась мне так трудно поначалу и не шла так легко потом, как „Василий Теркин“». Толчком для начала работы над «Теркиным» была сталинградская битва, ставшая кульминацией великой войны. Сталинград был очень важной не только военной, но и душевной вехой той грозной поры. Гроссман, с которым у Твардовского в войну сложились крепкие дружеские связи (его имя не раз возникает в дневниках и письмах: «Уехал человек, который здесь мне был очень дорог: умный, прочный, умевший сказать вовремя доброе слово», — пишет о нем Твардовский, и Гроссман в свою очередь рассказывал жене: «Здесь, кстати, Твардовский, я у него ночевал две ночи, мне с ним было очень приятно встретиться. Хороший он парень»). Так вот, Гроссман, отправленный в качестве корреспондента «Красной звезды» в Сталинград, где шли невиданно жестокие бои, писал оттуда: «В Сталинграде войны была заключена душа. Его душой была свобода». Эхо сталинградской битвы слышно было очень далеко, за много километров от Волги, где шла приковавшая всеобщее внимание и надежды битва за свободу… Эта битва получила у Твардовского свое замечательное поэтическое выражение в «Теркине» — «смертный бой не ради славы, ради жизни на земле», оно затем служило для множества людей девизом высокой дели кровавой войны. Здесь был тот внутренний импульс, который породил поразительную лирическую энергию, озарившую книгу про бойца и подчинявшую себе ее читателей. «Стал писать нечто лирическое, — делился поэт с женой. — Не знаю, что получится, но пишется в полную охоту. Не думаю, куда это и для чего, не связываю ни с какими намерениями и надеждами. Пишу потому, что пишется, потому что ненавижу всеми силами души фальшь и мерзость газетного сегодняшнего стихотворения, и чувствую, что если до войны я еще был способен что-то подобное фальшивое петь, то сейчас — нет. Не могу, не хочу, не буду. Не верю, что это нужно и полезно». Не отсюда ли в «Теркине» так часто цитировавшиеся строки о правде, без которой не прожить, правде — «как бы ни была горька»?
Язык «Теркина» поразил меня при первом чтении. Я сразу же вспомнил, видно, крепко вбитые в школьные годы слова Пушкина о стихах в «Горе от ума» — «половина должны войти в пословицы». Так оно и произошло, происходило, разрастаясь и разрастаясь вширь, с «Теркиным» — многое вошло в пословицы, стало драгоценными поэтическими формулами великой войны. Язык книги про бойца вобрал в себя ходовую и переосмысленную армейскую лексику, замечательно меткие находки солдатского арго. Но все это у Твардовского проверено и отцежено строгим вкусом, поднято на высокую ступень богатой и выразительной литературной речи. Псевдонародного снижения не было — Твардовский не принимал языка, рассчитанного «не на взрослых грамотных людей, а на некую выдуманную деревенскую массу». Короче говоря, и язык книги про бойца был частью того же общего процесса отбора и художественного претворения автором жизненной действительности.
Цитата, ставшая названием книги, многозначна, включает в себя несколько важных смыслов. Прежде всего она, разумеется, говорит о непосредственном участии автора в войне: как сотруднику армейской газеты Твардовскому приходилось тогда во всю «пахать», не чураясь никакой «черной» редакционной работы. Он потом вспоминал: «Я писал очерки, стихи, фельетоны, лозунги, листовки, песни, статьи, заметки — все». Иногда бывала крайняя необходимость в каких-то заведомо не очень высокого литературного качества материалах — вот и приходилось, что поделаешь, писать и то, что, видимо, никакого внутреннего удовлетворения ему не приносило. С удовольствием, свидетельствует он, писал разве что очерки. Добытый для них во время поездок в действующие части материал был в той или иной степени потом им использован в вышедшей после войны книге «Родина и чужбина». А порой приходилось по приказу редактора заниматься тем, к чему душа уж совсем не лежала, чего по здравому разумению делать не надо было, но приказ есть приказ.
С одним из редакторов Твардовскому совсем не повезло. И это был не одномоментный конфликт — история обычно тоже мало привлекательная, а судя по дневниковым записям, противостояние, ставшее постоянным, отравлявшее жизнь и работу. Что скрывать, далеко не все редакторы армейских газет были более или менее квалифицированными журналистами, настоящими газетчиками. Похоже, что ПУР на эту должность главных редакторов назначал людей, у которых был подходящий стаж военно-политической службы, но многие из них были способны редактировать разве что «боевые листки» (случай Твардовского не единственный). Эти газетные начальники оказавшегося в их подчинении писателя (в войну была учреждена такого рода штатная должность в армейской печати) рассматривали как обременительную нагрузку, нарушающую должный порядок в строю их подчиненных. Не умея и не желая использовать этот, по их представлениям чужеродный армейской среде и армейским порядкам контингент, они старались во что бы то ни стало писателей «поставить на место», чтобы не думали, что они на особом положении и могут писать, как хотят, пусть не умничают и пишут то, что им приказывают начальники.
Эренбург рассказывал, что однажды редактор «Красной звезды» Ортенберг, очень ценивший передовые как один из действенных способов пропаганды полученных начальственных указаний и рекомендаций, поручил ему написать передовицу. Прочитав написанную Эренбургом статью, редактор рассмеялся: какая же это передовая, любой сразу поймет, что она написана Эренбургом. По тогдашним представлениям, передовая предполагала стилевую безликость и приказной тон. Ортенберг был хорошим редактором и умел с толком использовать работающих в газете писателей: больше он Эренбургу передовиц не заказывал.
А Твардовскому не повезло — его редактор газету не умел делать. Мог только командовать, что, судя по всему, делал с большой охотой и часто совсем не к месту… Гроссман даже советовал Твардовскому поменять газету — Твардовский вроде бы даже готов был это сделать, но не вышло.
Многим из сегодняшнего «далека» кажется, что все тогда было ясно, просто, гладко, без сучка и задоринки. Увы, книга «Я в свою ходил атаку…» свидетельствует, что путь Твардовскому преграждали довольно колючие сучья. Вдруг затормозились издания «Теркина», были прекращены передачи по радио Дмитрия Орлова, прекрасно читавшего книгу про бойца — похоже было, что кто-то имеющий власть скомандовал. В «Теркине» был тот уровень суровой правды о войне, который очень настораживал тупых и правоверных деятелей. Вот строки из письма жене (посланного с оказией, что нелишне отметить), кое-что объясняющие: «Сейчас нужен герой-офицер, желательно дворянского, по крайней мере интеллигентного, происхождения, в виде отклонения от нормы (что будет одновременно и допустимой смелостью) — религиозный, свято уважающий традиции военной семьи и т. п. Солдат сейчас не в моде. Он должен занять подобающее ему место. Это все трудно объяснить. Но это все так примерно и еще хуже. И об этом не хочется».
Потом, скорее всего, под напором набиравшего размах и силу читательского успеха эти сучья были сломаны. Но изводили поэта то и дело возникавшие редакторско-цензорские и тупые начальственные перестраховочные замечания. Что говорить, они, разумеется, не улучшали печатавшихся произведений, но отбиваться от них было трудно, часто невозможно. Конечно, это были еще цветочки по сравнению с тем, что ждало Твардовского впереди как автора и главного редактора «Нового мира», но запах у этих цветочков был стойким и явно ядовитым. Если выразить эти редактороско-цензорские манипуляция, с которыми столкнулся Твардовский, на нашем тогдашнем армейском языке, можно сказать, что поэту пришлось проходить «школу молодого бойца». Впрочем, школа эта его многому научила, многое помогла понять. Не она ли подготовила его к стойкому сопротивлению цензуре и начальству во времена «Нового мира»?
Вскоре после Победы, вспоминая работу армейских журналистов, Константин Симонов писал: «Служить в газете военным корреспондентом было самое малое из всего того, что были обязаны делать люди нашего возраста… Работа военных корреспондентов была не самой опасной работой на войне. Не самой опасной и не самой тяжелой. Тот, кто этого не понимал, не был ни настоящим военным корреспондентом, ни настоящим человеком». Твардовский это понимал, чувствовал разницу между теми, кто должен на переднем крае находиться постоянно, со всеми сопутствующими этому кровавыми обстоятельствами, и теми, кто попадал туда ненадолго, командированный редакцией: «Мы живем по обочинам войны, — вот одна из его записей на эту тему. — Мы быстренько подъезжаем к тем ямочкам и окопчикам, в которых сидят воюющие люди, быстренько расспрашиваем их, прислушиваясь к канонаде и невольно пригибая голову, когда свистит мина. А потом, провожаемые незабываемыми взглядами этих людей, убираемся восвояси…» И в другом месте: «Мы хекаем, а люди рубят. Мы взяли на себя функцию, неотрывную от самого процесса делания войны, издавать те возгласы, охи, ахи и т. п., которые являются при том, когда человек воюет». Жестко сказано, но за этим стремление сверять происходящее по шкале реальных ценностей… Это выделение Твардовским «рубящих», «воюющих» как главных людей той тяжелой поры помогает понять, почему для героя книги про бойца он выбрал такую судьбу и такой характер…
И здесь стоит снова напомнить, что книга «Я в свою ходил атаку…» в сущности творческая лаборатория «Теркина» и второй смысл ее названия — поэзия. Она помогает понять, как складывалась — не просто, нелегко — оригинальная свободная композиция книги, какими впечатлениями и соображениями руководствовался автор, на что опирался, что отвергал.
В военной судьбе Константина Симонова и Александра Твардовского было много общего. Оба много писали как фронтовые корреспонденты. Оба стали самыми известными, самыми запомнившимися поэтами военных лет. Я уже говорил о том, как высоко оценил «Теркина» Симонов. Твардовский в свою очередь выделял стихи Симонова. В апреле сорок третьего года он писал о Симонове своему доброму знакомому — литературному критику: «Несколько его стихотворений, быть может, лучшее, что есть в нашей поэзии военного времени», «Я нахожу у него превосходные, по-настоящему волнующие меня стихи о самом главном, и в них он выступает как поэтическая душа нынешней войны».
Здесь нет места для этого, но было бы интересно сопоставить книгу «Я в свою ходил атаку…» и военные дневники Симонова «Разные дни войны». Вот что бросается в глаза. В войну Симонов уходил от поэзии — писал не только очерки, похожие на рассказы, но и рассказы, а потом повесть о Сталинграде «Дни и ночи». В одном из интервью он признавался: «Все главное в моей работе много лет уже связано с прозой… У меня, честно говоря, нет ощущения, что есть поэзия Симонова». Я уверен, что если бы подобного рода вопрос был задан Твардовскому, на месте прозы здесь стояла бы поэзия. Задуманная Твардовским большая прозаическая вещь «Пан Твардовский» откладывалась и откладывалась и так и не была написана. Поэзия была главным делом жизни Твардовского. Это было его истинное призвание, как говорили в былые времена, божий дар, все самое главное, самое важное поглощалось, отдавалось поэзии. «Разные дни войны» — книга прозаика, хотя кое-где в ней Симонов говорит и о стихах. А «Я в свою ходил атаку…» — книга поэта, в ней все пронизано поэзией. Что ни делал, что ни видел Твардовский, так или иначе переводилось на поэзию — эта была органическая особенность его мировосприятия, его мирочувствования.
А теперь несколько слов о составе книги. Составители (дочери Александра Твардовского Валентина Александровна и Ольга Александровна) решились дополнить дневники отца его перепиской с женой Марией Илларионовной (плюс несколько писем старшей дочери Валентине — как тогда говорили, школьнице младшей ступени, и несколько ее писем отцу на фронт).
Я не случайно употребил слово «решились». У меня в памяти сидит большой скандал в конце пятидесятых, вызванный публикацией в томе «Литературного наследства» писем Маяковского Лиле Брик. Публикация эта вызвала гнев Суслова — второго человека в правящей страной партийно-государственной верхушке, курировавшего идеологию и культуру. Его начальственный гнев был энергично поддержан печатью. Даже некоторые литературоведы, из тех, кто чутко прислушивался к указанию властей, стали обвинять «Литературное наследство» в нарушении придуманных ими по этому случаю «законов жанра» и еще каких-то якобы обязательных литературных правил. Может быть, эта давняя история не всплыла бы в моей памяти, если бы ведущая телеканала «Культура», представляя зрителям только что вышедшую книгу «Я в свою ходил атаку…», не выразила бы осуждающего сомнения, можно ли публиковать письма поэта жене. Я понял, что сусловский «пуризм» и порожденные им литературоведческие благоглупости еще до конца не выветрились. На самом деле письма Твардовского жене дополняют дневники, в них много важной информации. И еще я хочу отдельно сказать добрые слова о письмах и воспоминаниях Марии Илларионовны, никогда мне прежде не попадавшихся, — они того заслуживают: высокий литературный уровень, тонкое и точное понимание поэзии. Ответные письма Твардовского и некоторые страницы его дневника свидетельствуют, что поэт был очень внимателен к соображениям и замечаниям Марии Илларионовны. Она была ему настоящим помощником и советчиком. Кстати, когда Твардовский был на фронте, переговоры с редакциями уверенно, твердой рукой вела Мария Илларионовна, защищая его произведения (а тем самым в конечном счете и поэзию) от редакционного своеволия и вкусовщины.
И вот еще что стоит отметить. В книге толковые, дельные комментарии составителей, кроме этого напечатаны списки публикаций Твардовского за каждый год войны — читателю нетрудно составить себе ясное представление о том, что было сделано поэтом в военные годы, как он работал. Хочу упомянуть и об именном указателе — тоже дело нелишнее. Весь этот аппарат — свидетельство культуры издания, которой нынче далеко не всегда обременяют себя издательства, стремящиеся к быстроте и дешевизне, и публикаторы, не выдерживающие их натиска. В книге много хороших фотографий Твардовского военной поры (среди них немало впервые публикуемых, во всяком случае незатрепанных). Напечатаны в книге фотокопии дневников и стихов Твардовского — таким образом и оформление подчеркивает документальную природу книги.
На исходе войны, осенью сорок четвертого, Твардовский сделал такую запись в дневнике: «Утро августовское, зернистое, с осенней свежестью и дымным густым туманом так вдруг напомнило утро где-то под Каневом, на левом берегу Днепра в 1941 г. Кажется, вообще не осталось ни одного памятного ощущения, запаха, чтоб уже не связывалось с войной».
Книга «Я в свою ходил атаку…» — это не только история создания произведения, ставшего классикой русской литературы. Это еще и рассказ о войне, увиденной и пережитой большим поэтом. А ведь он зорко обнаруживал — таким проницательным зрением был наделен — много важного, мимо чего сплошь да рядом проходили мы, простые смертные. И его книга — одно из очень ценных первозданных документальных свидетельств, точно и выразительно запечатлевших грозное военное время.
От звонка до звонка… (О фронтовых дневниках Константина Симонова «Разные дни войны»)
Через три десятилетия после войны Константин Симонов, уже, казалось бы, забросивший поэзию, вдруг написал стихотворение о войне, в котором были такие строки:
Она такой вдавила след И стольких наземь положила, Что двадцать лет и тридцать лет Живым не верится, что живы.Это стихотворение было как крик души, вдруг обнаружившей, что прошлое не ушло, никак не уходит, не отпускает, никогда не отпустит. Симонов был одним из тех, прошедших войну, фронт, людей, у которых пережитое и увиденное тогда, в те казавшиеся бесконечными четыре года — долгая была война, суровая, жестокая пора народной трагедии и народного подвига — осталось в памяти навсегда, до конца дней, сидело как давний, но неоперабельный осколок. В другом стихотворении, посвященном не оставляющей его памяти о войне, Симонов писал: «Срок давности — вся жизнь моя».
Шло время со своими новыми заботами, тревогами, радостями, но становилось все яснее: что бы ты потом ни сделал, чего бы ни достиг, главнее и важнее тех четырех кровавых лет не было. У каждого и у всех вместе. Вот и Илья Эренбург, проживший большую жизнь, так много повидавший на своем веку, имевший возможность сравнивать и разные эпохи и судьбы разных народов, написал в своей последней, итоговой книге: «Как бы ни была страшна и жестока война, она останется в наших воспоминаниях не падением, а взлетом: высоко, очень высоко поднялся наш народ…»
«Живым не верится, что живы» — написал Симонов. А ведь он был человеком, не склонным себя возвеличивать, приписывать себе какие-то из ряда вон выходящие, героические деяния, он даже считал нужным истины ради предупредить своих читателей, что у него была не самая опасная и трудная профессия на войне: «Служить в газете военным корреспондентом было самое малое из всего того, что были обязаны делать люди нашего возраста. Другие, такие же, как мы, просто получали повестки военкомата и шли на фронт рядовыми, сержантами и лейтенантами, в зависимости от того, какая действительная служба или какое военное образование было за плечами. Работа военного корреспондента была не самой опасной работой на войне. Не самой опасной и не самой тяжелой. Тот, кто этого не понимал, не был ни настоящим военным корреспондентом, ни настоящим человеком. А те, кто это понимал, сами, без требований со стороны начальства, стремились сделать свою работу и опасной, и тяжелой…» Это было написано в 1963 году о своих товарищах — военных журналистах, хотя, думаю, что в глубине души он и себя (с полным основанием) причислял к тем журналистам, которые «стремились сделать свою работу и опасной и тяжелой». «Я не был солдатом, был всего-навсего корреспондентом…» А это Симонов говорил в фильме «Шел солдат…», уже на закате жизни, когда подводятся всему, что пережито, итоги. Но при этом нельзя не сказать, что каждый прочитавший «Разные дни войны» без труда вспомнит, сколько раз счастливое стечение обстоятельств спасало жизнь фронтовому корреспонденту Симонову. В эти же дни его коллеги военные журналисты Аркадий Гайдар, Борис Лапин и Захар Хацревин сложили голову в киевском окружении, Юрий Крымов и Джек Алтаузен — в харьковском. Надо ли говорить, что каждая командировка военного корреспондента в действующие части могла быть последней. Симонову повезло, когда он в июле сорок первого оказался внутри наших терпящих горькие поражения, беспорядочно отступающих в Белоруссии войск и чудом под носом немецких танков оттуда выбрался. И в сентябре сорок первого, когда с ротой пехоты ходил в атаку, чтобы выбить высадившихся на Арабатскую стрелку немцев. И в сентябре сорок второго во время командировки в Сталинград, жестоко бомбившийся немецкой авиацией. Вот один из эпизодов этой командировки: «День был настолько тяжелый, что даже не лежала душа что-нибудь записывать, и я, сидя в окопе, только помечал в блокноте палочками каждый немецкий самолет, заходивший на бомбежку в пределах моей видимости. И палочек в блокноте к закату набралось триста девяносто восемь». Впрочем, этот ряд примеров читатели легко могут дополнить другими…
Я не случайно заметки о «Разных днях войны» начинаю с истока, с того, как, в каких обстоятельствах возникли эти дневники. Всю войну, об этом фронтовики потом говорили «от звонка и до звонка», Симонов был корреспондентом центральной военной газеты «Красная звезда». Двадцать четвертого июня сорок первого он отправился в первую командировку в действующую армию — это было начало, — и видел штурм Берлина в сорок пятом и подписание Кейтелем в Карлсхорсте девятого[1] мая безоговорочной капитуляции, — это был финал. За это время Симонов около тридцати раз ездил в короткие и продолжительные командировки на фронт. Четыре книжки своих военных очерков и рассказов, выходивших в те годы, он назвал «От Черного до Баренцева моря» (пятая книжка — «Югославская тетрадь» — результат пребывания писателя осенью 1944 года у партизан Южной Сербии, шестая — «Письма из Чехословакии» — посвящена последним месяцам войны). И в самом деле маршруты его фронтовых командировок были такими, что даже не вмещаются в довольно широкую формулу из его знаменитой «Корреспондентской застольной»: «От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли…»
Должность корреспондента «Красной звезды» открывала писателю очень широкие возможности для наблюдений, к тому же он обладал внимательным и зорким взглядом. Можно было встречаться и беседовать с большим количеством разных людей — от рядового солдата переднего края, которому даже КП батальона казалось тылом, до командующего фронтом, отвечающего за исход крупной операции. К должностным возможностям корреспондента, к популярности постоянно печатавшегося в пользовавшейся большим успехом «Красной звезде» автора надо прибавить и необыкновенного размаха славу поэта, открывавшую перед ними многие двери и вызывавшую к нему повышенный интерес. Когда 14 января 1942 года «Правда» напечатала его стихотворение «Жди меня», он сразу же стал знаменитостью, обладателем одного из самых громких, самых притягательных литературных имен.
Он много ездил по дорогам войны. Кому еще доводилось в течение нескольких недель побывать в самой южной и в самой северной точках огромного, пересекавшего всю европейскую часть страны фронта, а между этими двумя дальними командировками увидеть начало наступления наших войск под Москвой? Симонов беседовал с людьми разных военных профессий: артиллеристами и танкистами, саперами и разведчиками, летчиками и моряками… Он ходил на подводной лодке, минировавшей румынские порты, был в Феодосии, только что освобожденной от немцев нашим десантом. Он высаживался вместе с диверсионным отрядом моряков-разведчиков в тыл к немцам за Полярным кругом, видел, как квартал за кварталом наши части освобождали Тернополь. Ему довелось побывать в осажденной врагом Одессе и на Курской дуге, в частях, прорывавших линию Маннергейма, во время первой встречи советских и американских войск на Эльбе. Он видел первые освобожденные от гитлеровцев деревни и города и лагерь уничтожения Майданек, от которого стыла кровь. Симонов был свидетелем наших позорных поражений летом сорок первого на западном фронте и весной сорок второго под Керчью, ожесточенных боев в Сталинграде и тех сражений, где не сразу удавалось добиться успеха, как весной сорок пятого в Карпатах, и стремительно разворачивающегося в сорок четвертом нашего наступления в Румынии. Кому еще довелось видеть все это? А ведь я называю здесь еще далеко не все… Понятно, что подобный охват событий и людей войны — явление очень редкое, исключительное. Кто еще видел войну в столь широком пространственном, временном и человеческом измерении?
Чтобы в тех обстоятельствах (конечно, возвратившись из фронтовой командировки корреспондент должен был прежде всего — кровь из носа — написать материал для газеты) вести подобного рода записи для себя, надо было обладать редким трудолюбием и ясным сознанием того, что они представляют собой какую-то особую ценность и могут в дальнейшем понадобиться. Вот почему Симонов, используя каждую более или менее свободную минуту, часто через силу, за счет сна и отдыха, диктовал их.
Надо не забыть всего пережитого и увиденного — вот что заставляло его вести их, было главным стимулом. Уже после войны в одном интервью он сам говорил об этом: «Мысли о том, что дневники в первозданном виде можно будет напечатать, — такой мысли у меня не было. Просто хотелось не забыть, сохранить для себя в памяти пережитое. А как я это использую и что с этим будет — я не задумывался над этим. Но было ощущение, что это важно и что я должен это записать». Симонов, разумеется, отдавал себе отчет в том, что дневники содержат многое, что не вошло, не могло войти в его произведения военных лет.
И вот еще то, что делает записи Симонова явлением из ряда вон выходящим. Вести дневники на фронте, особенно в первую половину войны, было строго-настрого запрещено. Это объяснялось требованиями бдительности: а вдруг дневник попадет в руки врага и он им воспользуется? Нет нужды сейчас выяснять, были ли эти соображения обоснованы, но то, что за дневник можно было серьезно поплатиться, нажить себе нешуточные неприятности, это все понимали, и немногие решались переступить через запрет. Симонов, видно, это тоже понимал не хуже других — не зря отдал дневник на хранение главному редактору «Красной звезды», тот берег его в своем служебном сейфе, это место казалось не только надежным, но и безопасным.
В конце войны Симонов, отвечая на вопросы Американского телеграфного агентства, писал: «Что касается писателей, то, по моему мнению, сразу же, как кончится война, им нужно будет привести в порядок свои дневники. Что бы они ни писали во время войны, и как бы их за это не хвалили читатели, все равно на первый же день после окончания войны самым существенным, что они сделали за войну, окажутся именно их дневники». Так Симонов и поступил сразу после войны. Трудно понять, что им еще тогда двигало, кроме того, что он сказал в интервью американскому агентству, хотя это была не случайно сорвавшаяся фраза, а выношенная мысль. Что-то еще, скорее всего, было. Короче говоря, он привел в порядок свои записи за сорок первый год и из их фрагментов составил подборку, которая была опубликована в журнале «Знамя» (1945, № 5–6, 7). Редактор в ту пору этого журнала Всеволод Вишневский был одним из тех немногих писателей, кто отважился в дни войны вести дневник и, наверное, поэтому, его привлекли симоновские записи.
Но поразительное дело — в критике на эту публикацию внимания не обратили. А ведь популярность тогда у Симонова была огромная: каждая написанная им вещь оказывалась на виду, вызывала у читателей острый интерес, широко обсуждалась. А напечатанные в «Знамени» дневники прошли практически незамеченными, несколько беглых упоминаний критиков по ходу их подробного разговора о других его произведениях. Эти дневники вошли в о сборник его рассказов, изданный в 1946 году, так и называвшийся: «Рассказы», в качестве какого-то «приложения» к этим рассказам и больше не перепечатывались. На четверть века дневники легли в ящик письменного стола автора, стали материалом лишь для «внутреннего пользования» (понятно, что Симонов так или иначе обращался к ним, когда писал «Живые и мертвые»), им долго пришлось ждать своего часа. История их появления в свет растянулась на несколько десятилетий, была драматичной, принесла Симонову много серьезных неприятностей…
Тогда же в сорок пятом, готовя дневники к публикации, Симонов счел нужным объяснить читателям, что же в этих дневниках достойно их внимания: видно, твердого убеждения, что это может быть интересно не только ему, автору, у него не было. Он писал в предисловии, что в те самые тяжелые месяцы войны, которые отражены в публикуемых дневниках, военные корреспонденты и писатели, находившиеся в действующей армии, «по зернышку собирали в горсть все то, что говорило нам о надеждах на будущее, о непреложности веры в окончательную победу… Найти факты, подтверждающие нашу веру в победу, было не только нашим гражданским долгом, но и душевной потребностью». Эти «дневники, — продолжал Симонов, — которые не предназначались для печати и поэтому с меньшей публицистичностью и с большей объективностью, чем мои очерки и статьи того времени, рисуют факты, которые я видел», однако в них нет «принципиальных расхождений с тем, что я писал в газетах». Все это бесспорно, и именно поэтому, по правде говоря, не требовало никаких особых доказательств и специальных подтверждений. А если цель публикации, как ее представлял автор, заключалась лишь в подтверждении того, что общеизвестно, то стоило ли вообще этот огород городить? Так могли рассуждать читатели, у них были для этого основания…
В общем не очень ясна была цель публикации самому Симонову. Понятно и отсутствие к ней интереса у читателей. В чем же тут дело? Пусть это не выглядит парадоксом, но в то время мы (я имею в виду ту, тогда основную массу читателей, которые на фронте были солдатами и офицерами переднего края) помнили войну много лучше, а знали хуже, чем сейчас. Помнили лучше — это были даже не воспоминания, мы еще словно бы продолжали жить в войне, и начавшаяся мирная жизнь казалась каким-то странным сном, в который трудно поверить. А наше знание войны сводилось тогда во многом лишь к личному опыту, хотя это был опыт, купленный очень дорогой ценой, и его никак и ничем невозможно возместить. Это был опыт чрезвычайно глубокий, но вместе с тем ограниченный — нам все-таки недоставало широкого, «стереоскопического» видения войны, мы смутно себе представляли и общую ее панораму и как в эту панораму входят наши личные воспоминания, какое место в ней занимают. Немало примеров такого «порока» зрения, столь естественного, такой аберрации запечатлел в «Разных днях войны» Симонов.
Я приведу один — элементарный и потому очень наглядный пример. Командир стрелкового корпуса жалуется на танкистов: «Пока моя пехота не пройдет, никуда они не пройдут. Пока хоть одна мина будет лежать, никуда они не пройдут. А если болванка над головой свистнет, так какой крик на весь свет поднимут! Сколько я не воюю, не помню никогда случая, чтобы танки в бой впереди меня шли. Всегда моя пехота впереди танков идет. Уж как хотите, а так! Точно так». Говорил это человек серьезный, опытный военачальник и не в сорок первом или сорок втором, а в начале сорок пятого, когда за плечами была почти вся война, говорил, совершенно уверенный в справедливости своих упреков. Комментируя этот эпизод, Симонов отмечает и «искренность» генерала, и «забывчивую избирательность» его памяти.
А разве нам самим на солдатском и лейтенантском уровне не приходилось сталкиваться с тем, что человеку бой, в котором он был ранен, представляется более жестоким и кровопролитным, чем был на самом деле? Разве мы не помним случаев, когда та или иная операция, в которой мы участвовали, казалась нам неоправданной или даже бессмысленной, потому что мы не знали, что происходит слева и справа от нас, не знали (а иногда не должны были знать) ее замысла и подлинной цели — часто они становились нам известными или понятными только после войны, через много лет?..
Наше внимание всегда целенаправленно, особенно в чрезвычайных обстоятельствах, под огнем, в минуты смертельной опасности, — мы не только запоминаем далеко не все, мы даже часто не видим всего, что у нас перед глазами, хотя не отдаем себе в этом отчета. Симонов пишет, что, попав через много лет после войны в сербский город Ниш, в котором побывал в первые часы после его освобождения от гитлеровцев, он с удивлением обнаружил там немало замечательных памятников старины, которые тогда, несмотря на острый интерес к истории, совершенно проглядел. Рассказ об этом писатель заключает общим соображением, имеющим самое непосредственное отношение к предмету нашего разговора: «Интересно, как много замечаешь на войне и как много не замечаешь, проходишь мимо, словно его и нет…»
И еще одно обстоятельство — о чем подробно говорил в одном интервью Симонов, стараясь определить то, что отличает его поздние, послевоенные беседы с участниками войны (например, во время работы над фильмом «Шел солдат») от записанных во фронтовых блокнотах. Тогда, в войну, «разговор, — вспоминает Симонов, — обычно бывал локальным, целенаправленным: что сделал конкретно солдат в этом бою — вчера или позавчера? Как все происходило? Чего он добился? В чем его — пусть по мерке разворачивающихся гигантских сражений и маленький — солдатский успех?.. Он, солдат, обычно рассказывал главным образом об этом… Он еще жил этим боем, этот бой заслонял от него многое другое, быть может, не менее важное и интересное. Наверное, иначе и не могло быть…» А сейчас, в нынешних беседах, «солдат вспоминает всю войну — многие бои и многие подвиги, он их внутренне постоянно сопоставляет и сравнивает, в его сознании они взаимосвязаны… Вспоминает все подряд, и, слушая его, вы словно погружаетесь в атмосферу солдатской жизни на войне».
Тогда, в дни войны, наши впечатления еще, в сущности, представляли собой некий калейдоскоп эпизодов, между которыми далеко не всегда ощущались и осознавались внутренние связи. Понадобились годы и накапливавшийся опыт, чтобы все это уложилось в какой-то порядок, стало из набора эпизодов течением жизни.
В первые послевоенные годы мы не знали даже истинной цены своему собственному фронтовому опыту: для этого надо было как-то определить его место в общей панораме войны. А это панорама, это общее представление о войне складывалось постепенно, годами — из множества прочитанных статей в газетах и журналах, книг — художественных и документальных, мемуарных, исторических, из десятков увиденных кинофильмов, из огромного количества ставших нам доступными архивных материалов, статистических данных — большая часть из них была в свое время военной тайной — и т. д. и т. п. И чем больше становился этот багаж, тем яснее мы ощущали пробелы в наших знаниях, тем внимательнее были ко всему новому, лучше его различали, выше ценили, — впрочем, эта обычная диалектика познания.
А тогда, сразу после войны, мы из-за отсутствия четких координат одновременно и переоценивали и недооценивали то, что пережили на фронте, видели своими глазами. С одной стороны, думали мы, кому может быть интересна война во взводном и ротном измерении: ну, пошли в атаку или отбили атаку немцев, окопались, заняли оборону или выдвинулись на исходные рубежи для атаки, ну, привез старшина харч и махорку или застрял по дороге. Кто этого не знает, нам и в голову не приходило, что даже «обычное» на войне было очень разным. Право же на общее внимание, полагали мы, наверное, имеют лишь воспоминания крупного военачальника или человека, пережившего нечто из ряда вон выходящее.
С другой стороны, мы твердо знали, что только там настоящая война, где свистят пули и рвутся мины. А уж это мы знали не хуже, лучше, чем военные журналисты. Ограниченность, узость нашего опыта оборачивалась, таким образом, неосознанной самонадеянностью, от которой мы освобождались по мере того, как перед нами все яснее и яснее вырисовывалась общая картина войны. Это была главная причина, почему мы не заинтересовались, не могли заинтересоваться симоновскими дневниками в сорок пятом году.
Но ведь нечто подобное происходило и с самим Симоновым… Готовить фронтовые дневники к публикации он мог, только составив для себя панораму войны, ее хода, ее провалов и удач, только внутренне составив такую историческую карту, определив масштабы и пропорции происходившего, можно было понять, что же несут в себе нового, неизвестного его фронтовые записи. В сорок пятом он был к этому не готов.
Симонов обратился к своим военным дневникам в пятидесятые годы, в хрущевскую «оттепель». Не нужно это упрощать: процесс пересмотра им старых, глубоко въевшихся представлений, был у него не простым, полным трудных, драматических коллизий. Когда была напечатана повесть Ильи Эренбурга «Оттепель», давшая название начинающемуся в обществе освобождению от тоталитарных представлений, Симонов подверг резкой и в принципе несправедливой критике эту вещь — это привело к разрыву их давних, дружеских еще с военных лет отношений. Поворотным пунктом в судьбе и мировосприятии Симонова стал XX съезд партии, доклад Хрущева о сталинских злодеяниях. Вскоре после съезда он написал стихотворение, которое при жизни не напечатал (видно, оно не выразило в полной мере того, что он переживал). Для нас же оно интересно и важно как знак, как точка принципиального душевного поворота. Он писал, что надо не выстригать, как предлагается властями, имя Сталина, а «выжечь» всю ту ложь, демагогию и страх, что он внедрял: «…Нам на плечи взвалено, на всех нас, без изъятия, „За Родину, за Сталина!“ Разъять на два понятия». Вот тот фундамент, на котором возникли его обновленные представления о войне. И стал он на долгие годы, до конца дней своих одним из главных противников Пуровской официозной лжи и казенщины, и нападки на Симонова, как правило, инициировались этим ведомством, которое стремилось представить дорого стоившую нам победу в самом приятном, радужном, сплошь победоносном виде.
Симонов обратился к своим фронтовым дневникам, работая над первой книгой трилогии «Живые и мертвые» и вместе с Евгением Воробьевым и Василием Ордынским над сценарием документального фильма «Если дорог тебе твой дом…» — и в том и в другом произведении речь шла о трагических событиях сорок первого года, в романе и фильме дневники помогали воссоздать точные, первозданные жизненные впечатления той поры.
Но, кажется, в ходе этой работы Симонов и осознал, что они имеют или могут иметь и вполне самостоятельную ценность как достоверные исторические свидетельства. Впрочем, к этой мысли его могла подталкивать и одна, более давнего, военного времени история. В 1943 году высокое начальство (А. С. Щербаков) заказало Симонову сценарий фильма о Москве сорок первого года. Симонов хотел, чтобы ставил этот фильм Всеволод Пудовкин, и в качестве материала, который можно использовать в картине, дал ему прочитать свои дневники сорок первого года. К его удивлению Пудовкин сказал, что никакого сюжета не надо выстраивать, сочинять для сценария, он будет снимать фильм на основе симоновских дневников. Вместе с Пудовкиным они написали такой на основе дневников сценарий «На старой смоленской дороге», который вызвал полное непонимание в принимающих и утверждающих инстанциях — ничего похожего тогда не делалось в кино. Сценарий «зарубили», но память об этом опыте Симонов сохранил, он тоже наводил на мысль о том, что дневники представляют собой и некую самостоятельную ценность.
Когда Симонову предложили к 20-летию Победы сделать доклад на пленуме правления Московской писательской организации и комиссии по военно-художественной литературе при правлении Союза писателей СССР, он сказал, что посвятит его не художественной литературе, а некоторым коренным проблемам истории Великой Отечественной войны, от верного понимания которых, по его мнению, в немалой степени зависят и движение вперед литературы, и осмысление писателями этого очень трудного материала. Подготовка доклада стала для Симонова важным рубежом постижения истории войны, в том числе глубинных причин наших нежданных и постыдных поражений. Но время для такого выступления, опрокидывавшего многие существовавшие как незыблемые представления, оказалось крайне неблагоприятным. Незадолго до этого был смещен Хрущев, а пришедшие к власти новые правители страны начали проводить тихую, на первых порах скрытую, но неуклонную ресталинизацию. Истории войны это касалось прежде всего и больше всего, если воспользоваться формулой Герцена, ее сразу же стали сводить «на дифирамб и риторику подобострастия». Доклад Симонова вступал в резкий принципиальный конфликт с официозными догмами и пропагандистскими установками. Набранный в трех изданиях он света не увидел, не был напечатан. Когда через двадцать с лишним лет, уже в «перестроечные» времена доклад был опубликован, один из крупных наших историков академик А. Самсонов сказал о нем: «Еще двадцать лет назад К. М. Симонов с присущим ему мужеством и гражданственностью выполнил эту работу, к которой сейчас, по сути только еще приступают историки…» Сам Симонов вспоминал этот доклад в связи с историей публикации своих дневников. Незадолго до смерти на одной из последних встреч с читателями (если быть скрупулезно точным, на предпоследней) в Военно-политической академии имени В. И. Ленина он говорил: «Идея опубликовать эти дневники, собрать их в книгу у меня возникла после того, как я сделал доклад „История войны и долг писателя“ на писательском пленуме. Многое было довольно резко сформулировано. Печатать его не хотели. Ну я решил: ах так, не хотите печатать 25 страниц, хорошо, я сделаю тогда этот доклад об истории войны и долге писателя на полторы тысячи страниц… Я, конечно, шучу, но в общем это был окончательный толчок».
Можно только удивляться, что после печальной истории с докладом Симонов все-таки продолжал готовить к печати дневники сорок первого года, он не мог не понимать, что напечатать их будет очень трудно, а если удастся, то только каким-то чудом. Но, видно, работа эта была ему так душевно необходима, так захватила его, что забросить ее или отложить он не мог. «Сто суток войны» были закончены, приняты Твардовским, который очень высоко оценил это произведение Симонова, были набраны и должны были появиться в трех номерах «Нового мира» в 1966 году. Но чуда не произошло, их постигла та же участь, что и доклад «История войны и долг писателя», — дневники были запрещены цензурой. Процитирую секретную докладную (жанр этот на бытовом, «разговорном» языке можно характеризовать и другим, кажется, более подходящим словом — донос) начальника Главлита в ЦК КПСС:
«При контроле сентябрьского и октябрьского номеров журнала „Новый мир“ было обращено внимание на содержание записок К. Симонова „Сто дней войны“ и комментариев автора к ним, посвященных описанию боевых действий в первые месяцы войны, личных переживаний и сомнений участников событий, связанных с отступлением нашей армии. Война и потери советского народа в ней, причины наших военных неудач и сам факт нападения фашистской Германии на СССР рассматриваются К. Симоновым как следствие репрессий 1937–38 гг., предпринятых Сталиным для утверждения своей личной власти. Основываясь на субъективных впечатлениях, автор пересматривает значение и истинный характер советско-германского пакта 1939 г., считая, что заключение этого договора якобы заставило отказаться от социалистических принципов нашей внешней политики. Говоря о злоупотреблении властью и ответственности Сталина за войну и ее жертвы, К. Симонов в то же время поднимает вопросы об ответственности „общества, когда оно по ходу своей истории вручает слишком обширную власть в руки одного человека“. Произведение снято из номера».
Симонов пытался бороться с цензурой: пробить эту стену, увы, не вышло. Он даже рискнул обратиться «на самый верх», все-таки он был обладателем одного из самых громких и почитаемых имен в нашей литературе, особенно высок был его авторитет военного писателя, но ничего это не дало, он не получил не только поддержки, но даже просто какого-либо ответа на свое обращение.
Человек мужественный и стойкий, обычно не падавший духом от невзгод и ударов судьбы, Симонов эту историю переживал тяжело. В письме своему старому другу Д. Ортенбергу, письме, в котором речь идет о заказанном им Симонову очерке для готовившегося сборника о маршале Жукове, он не скрывает мрачного настроения и горьких мыслей: «Не надо себя тешить иллюзиями. Такого рода работа — а никакую другую мне делать неинтересно, да я просто и не смогу — при нынешнем, подчеркиваю, при нынешнем отношении к истории света не увидит. Поэтому я сигнализировал тебе, что для проходимого через нынешнюю обезумевшую цензуру очерка надо срочно искать другого автора…
Если бы вдруг случилось чудо и цензура наша образумилась, то тогда другое дело — такая вещь, конечно, могла бы быть напечатана. Но надежд на такое изменение нравов у меня что-то мало… Пойми мои чувства человека, у которого лежит полтора года без движения рукопись, которую он считает лучшей из всего, что он написал (речь идет о „Ста сутках войны“ — Л. Л.). Как трудно такому человеку сидеть и писать еще одну вещь, которая, по его весьма основательным предчувствиям, ляжет и тоже будет лежать рядом с предыдущей».
Предчувствие не обмануло Симонова. Написанные им по просьбе Ортенберга «Заметки к биографии Г. К. Жукова» были опубликованы только через двадцать лет, когда не было в живых ни Жукова, ни Симонова. Что касается «Ста суток войны», то в главлитовских реестрах против этого названия стояла такая жирная галка, что его даже упоминать нельзя было — вычеркивали. Это уже был затяжной приступ главлитовского безумия. Потому что многое из «Ста суток» было позднее перенесено в «Разные дни войны». Многое, но, конечно, не все, были вещи, которые оставались по-прежнему все равно «непроходимыми», в царское время в таких случаях писали «по не зависящим от автора причинам»…
После запрета «Ста суток» Симонов все-таки не оставил свои военные дневники, продолжал исподволь готовить их полное издание. Следующая в принципе удавшаяся попытка произошла через семь лет. Ему пришла в голову счастливая мысль, которая в какой-то степени нейтрализовала прежний категорический запрет цензуры. Сначала в «Дружбе народов» (1973, № 1, 2) увидели свет дневники сорок пятого года — «Незадолго до тишины». Цензура должна была быть смягчена — этот победный год войны она всегда предпочитала всем прочим. Впрочем, полной уверенности, что задуманное осуществится, что вслед за дневниками сорок пятого будут опубликованы, как это все-таки случилось, дневники сорок второго — сорок четвертого годов (1974, № 4, 5, 6), а затем сорок первого года (1974, № 11, 12, 1975, № 1), у Симонова не было. Каждая публикация сопровождалась многочисленными цензорскими замечаниями и требованиями, часто, если вещи называть своими именами, перестраховочно идиотического характера. Особенно неистовствовала военная, главпуровская цензура — она была даже более тупой, невежественной и агрессивной, чем главлитовская. Я могу это подтвердить, так как своими глазами видел (Симонов мне их показывал) эти многостраничные указания и требования, которые при этом по фарисейски выдавались за требования редакции, так как цензуре не полагалось напрямую иметь дело с автором.
После рассказа о драматической истории публикации «Разных дней войны», тяжелой борьбы автора с цензурой, нельзя не остановиться на тех сложных творческих проблемах, с которыми Симонов столкнулся, взявшись за книгу, которая жанровых прецедентов не имела. Это теперь выглядит куда как простым и ясным, но в немалой степени именно потому, что путь этот был разведан и опробован Симоновым. Да и сам он далеко не сразу его отыскал, многое прояснилось уже в процессе работы над дневниками. Но размышлять об этом писатель начал еще с середины 50-х годов.
Было бы наивностью считать, что дневниковые записи несут в себе абсолютную истину — это лишь «моментальные» снимки событий, явлений, людей, на более основательное содержание они сами по себе претендовать не могут. Многие взгляды и суждения, выраженные в них, рождены определенным временем, и именно ему принадлежат, с годами, с обретением нового опыта они могли изменяться, трансформироваться, по прошествии времени иногда кажутся странными, могут удивлять даже тех, кому принадлежали, но ничего не поделаешь, так было. «Спустя тридцать лет, — пишет Симонов, комментируя одну из своих дневниковых записей, — не всякий раз до конца влезешь в собственную душу, не всегда поймешь себя тогдашнего… Мне трудно сейчас поверить, что я мог сказать то, что я сказал тогда…» В другом месте он признается: «Так я думаю об этом сейчас, задним числом, хорошо сознавая всю поверхностность некоторых моих исторических сравнений тогда, весной сорок третьего года». В третьем: «Я не был пророком и не знал…»
Это сквозной мотив комментариев, и он возник не случайно. Симонов отдавал себе отчет в том, что перед ним, публикующим свои дневники военного времени, встают одновременно две задачи. Во-первых, он должен быть максимально, безупречно точен в передаче событий, подробностей, атмосферы тех лет, мыслей и и чувств той поры. Круг «прав» и «обязанностей» автора в этом случае не очень широк, но есть среди них такие, которые должны выполняться неукоснительно: это право рассказывать обо всем, что видел и пережил, и обязанность говорить читателям правду, одну правду, и ничего, кроме правды. Это значит, что дневники должны печататься в первозданном виде, никакая поздняя конъюнктурная правка, приспособление их к другим временам недопустимы.
Но как быть с тем, что его нынешнее понимание событий войны не во всем совпадает с их прежними представлениями автора (я это только что показал, цитируя Симонова), — как быть с этим? Как реализовать в такого рода публикациях нынешнее, более зрелое понимание? Вот в чем вторая задача. У литератора, публикующего свои старые записи или дневники, если он хочет быть верен исторической правде, не причесывать их на современный манер, у такого литератора остается один путь: основательного и деликатного комментария. Он должен там, где возникает эта необходимость, найти способ, не вторгаясь в старые записи, не редактируя и не подчищая их, углубить, уточнить или оспорить свои впечатления или суждения военной поры.
Симонов осознал эту важную и требующую на практике разных решений проблему довольно рано и сначала не на собственном опыте, а размышляя о прочитанных рукописях. Вот отрывок из его письма, датированного 57-м годом, в котором он намечает такой путь: «Вообще-то я бы представил себе книжку „Записки фронтового корреспондента“, сделанную уже сейчас, которая бы состояла из двух потоков: первый — что я видел сам, своими глазами, и второй — что мне люди рассказывали о себе и других. Первый поток составили бы дневниковые записи, второй поток должен был бы родиться не столько из напечатанных в свое время корреспонденций (как в той рукописи, отзывом на которую было это письмо. — Л. Л.), сколько из записей разговоров с людьми во фронтовых блокнотах, если таковые сохранились…»
В другом, более позднем — 63-го года — письме уже, в сущности, им намечена структура собственных дневниковых книг (думаю, «Сто суток войны» были уже задуманы), хотя и в нем речь идет тоже о присланной на отзыв рукописи: «У меня родилась мысль (может быть, запоздалая): не сделать ли всю эту книжку как тогдашний дневник с сегодняшними комментариями? Может быть, это следует подчеркнуть и графически — скажем, тогдашние записи набрать корпусом, а нынешние примечания курсивом?.. При такой форме будет и ощущение полной достоверности и будет возможность, сохранив эту достоверность тогдашних обстоятельств, чувств, поступков, мыслей, высказать и то, что вы по этому поводу думаете и чувствуете сейчас…»
Так были сделаны «Сто суток войны», затем эта форма, опробованная и освоенная Симоновым, становится все гибче и свободнее. Увеличивается объем примечаний позднего времени, в них шире используются документы, письма, другие материалы — печатные и архивные. Меняется даже место примечаний: в «Ста сутках войны» они шли в конце как академического типа комментарии, в «Разных днях войны» они уже внутри дневникового текста, там, где для них возникает повод. Разумеется, для читателей удобнее этот вариант. Конечно, удобства читателей — дело не последнее, с этим нельзя не считаться, но суть все-таки не в этом. А в том, что все весомее становилась смысловая нагрузка, которую несут примечания, вырастало их значение, и они вполне обоснованно начинали и внешне претендовать на большее «равноправие» с дневниковыми записями — в самом тексте, а не где-то в конце книги, главы или страницы, на одинаковый, столь же крупный шрифт.
В «Разных днях войны», если быть точным, их уже не назовешь даже примечаниями, — это нечто более серьезное и основательное. Это заметки, которые все вместе образуют то, что можно назвать общей панорамой войны. С этой панорамой, какой она представлялась писателю, всю жизнь свою посвятившему изучению и осмыслению того грозного времени, и соотносятся дневниковые записи. Благодаря такой конструкции, такому монтажу изображение войны и становится в этой книге столь объемным, стереоскопическим.
Приведя запись беседы с гвардии сержантом Канюховым, воевавшим еще в первую мировую войну, и вспоминая тот преувеличенный интерес, который был у военных корреспондентов к старым бывалым солдатам, Симонов обстоятельно, самым тщательным образом проанализирует сложные причины этого явления, природу некоторых ходячих представлений того времени, которым и сам отдал дань, сравнит боеспособность русской армии в первую и советской во вторую мировые войны. Кстати, это помогает нам понять, что было истинным в такого рода образах и мотивах, возникших во многих произведениях военных лет — в том числе и Симонова, — а что было рождено преувеличенным интересом и ходячими представлениями.
Рассказывая о боях местного значения на исходе нашего наступления под Москвой ранней весной 42-го года, боях, которые, как правило, уже успеха почти не приносили, а жертв стоили немалых, размышляя нынче, почему так происходило, Симонов раскроет то, что за этим стояло: не преодоленная еще привычка воевать по старинке, недостаток опыта и мастерства, неумение — с точки зрения оперативного искусства — мыслить широко и дальновидно.
Вспоминая о том потрясении, которое он испытал, прочитав известный приказ № 227: «…Движение жизни представлялось в будущем каким-то прыжком — или перепрыгнуть, или умереть!» (это настроение выплеснулось в двух написанных в те дни его стихотворениях — ставшем сразу же знаменитым «Убей его» («Если дорог тебе твой дом…») и менее известном «Безымённое поле») — Симонов, опираясь на полученное через много лет письмо фронтовика, теперь отметит не только роль этого приказа, в котором с мужественной правдивостью говорилось о нашем «отчаянном положении», но и скажет о том, чего не почувствовал и не понял тогда. Приказ «Не шагу назад!», как его очень часто называли в дни войны, оказался действенным, потому что выражал готовность многих и многих тысяч людей стоять насмерть, защищая Родину: «Если рядовые по состоянию своего духа не хотят или не способны по-настоящему воевать, то никакие самые грозные приказы, никакие крутые меры не заставят их это сделать и не удержат от бегства. Самые талантливые военачальники и опытные командиры будут бессильны что-либо сделать».
Я выбрал наудачу эти примеры — они могли быть иными, потому что возможности для выбора велики — с одной целью, чтобы сделать наглядным тот принцип подачи материала, к которому в результате поисков и проб пришел Симонов. Это сопоставление и сочетание двух точек зрения, между которыми много лет жизни, двух взглядов, у каждого из которых есть свои преимущества. Один — это сами фронтовые записи — взгляд в упор, точно фиксирующий происходящее, во всех деталях и подробностях, которые — отступи чуть дальше — плохо различимы, стираются, размываются. Второй — «съемка» идет уже издалека, когда отчетливо видны стратегические факторы, проступает связь явлений, обнаруживаются причины и следствия, открывается все то, что с близкого расстояния разглядеть невозможно. Это взаимодополняющие и взаимообогащающие друг друга планы действительности. Органическое их соединение и делает «Разные дни войны» книгой уникальной.
Симонов в своих дневниках немало внимания уделял военным проблемам — управления войсками, взаимодействия разных родов войск, работы штабов. Его суждения серьезны, проницательны, он много видит и понимает. Но главное все же не это, перед нами — писательские дневники. Они привлекают все-таки другим.
Они написаны автором, обладающим особой остротой и направленностью зрения. Дневник вел человек и очень наблюдательный, и отличавшийся жадным интересом к новым впечатлениям, стремившийся увидеть побольше. И это интерес сосредоточенный — Симонова больше всего интересуют люди, их поведение на войне, их душевные качества, какими они были в мирное время и как трансформировались в войну, их чувство ответственности — профессиональной и гражданской (он постоянно подчеркивает их неразделимость), нравственные проблемы, которые встают перед ними, житейские заботы, от которых никто не избавлен.
И именно под таким углом зрения видно, что война — это не только храбрость солдат и офицеров, не только атаки и свистящие пули, поле боя, изрытое воронками от мин так, что если бы они разорвались одновременно, ничего живого здесь не осталось бы, не только трупы, зимой занесенные снегом, летом чудовищно раздувшиеся, не только танки, орудия, автомашины, превращенные после боев в фантастических размеров свалки металлолома. Война потребовала крайних усилий всего народа, не миновала никого, проникла во все поры жизни, стала в разных своих проявлениях повседневным бытом людей. И, не представив этого достаточно ясно, не поймешь ни подлинных масштабов того, что происходило тогда, ни величия народного подвига, ни размеров жертв, понесенных страной. Читая дневники Симонова, все это лучше видишь и глубже осознаешь.
Осознаешь, что война — это и адский труд, пот, крайнее напряжение всех физических сил. Осознаешь, что война — тяжелый труд не только на фронте. Как ни скудны на этот счет впечатления Симонова, жизнь и работа которого были связаны с действующей армией, но и ему запомнились подростки, которым делали специальные подставки, потому что они не доставали до станков, и пожилые женщины, занятые непосильной работой, — они-то и составляли тогда (во всяком случае в Москве) основную часть рабочего класса.
Война — это и миллионы вдов и сирот, у которых не осталось ни кола, ни двора. Одна лишь сцена из симоновского дневника: возвращается в свою деревню женщина с детьми — немцы их выселили при отступлении, — муж погиб, женщина кажется старухой. «По тропке, помятой через рожь, идет женщина, с ней пятеро детей. Не только она, но и дети сгибаются под тяжестью узлов. Все нагружены безмерно тяжело, еле идут. Женщина останавливается, снимает с плеч два связанных между собой мешка, и скорее вылезает из-под них, так они велики. Устало отерев лоб, садится на один из мешков. Все дети тоже освобождаются от своей поклажи и садятся рядом с ней. Шестого ребенка я в первую минуту не разглядел: он, грудной, на руках у женщины».
Война — это и бесконечная, до изнеможения, усталость, даже когда тяжелораненые, которых везут по кочкам, по ухабам, спят, не просыпаясь от боли, когда солдат на раскисшей дороге, загроможденной танками, машинами, повозками, «стоит среди всей этой суеты… прислонившись к борту грузовика, и спит. Ревут и гудят машины, задевают плечами проходящие мимо люди, а он стоит и спит!»
И сорок оставшихся в полку, как тогда говорили, «активных штыков» — это тоже война. И офицеры, которым не исполнилось двадцати, а не раз уже раненые, с орденами.
И пробки на дорогах — такие, что, кажется, застреваешь навсегда. И пыль — днем приходится зажигать фары.
И мужество, которое требуется не только для того, чтобы подняться под пулями, но и для того, чтобы написать в донесении начальству ту горькую правду, которую оно не хочет знать.
И беженцы, которых очень скоро стали называть «эвакуированными», — вероятно, не случайно: они не просто убегали от врага, а отправлялись туда, где могли работать для фронта, для победы.
И разлука, и одиночество, ломающие семьи, коверкающие жизнь. И любовь, возникавшая на фронте, — порой она бывала сильнее смерти, но как часто у нее не было никаких надежд на будущее!
И установленный, правда, только к концу войны порядок похорон: офицеров — только в населенных пунктах, старших офицеров — только в городах.
И бьющее через край радушие, с которым встречали нашу армию в Болгарии и не только в Болгарии: «Народ, открывший нам навстречу свои объятия», — рассказывает Симонов. Все это тоже было на войне.
И даже как «пили из большой глиняной баклаги красное сухое деревенское вино и ели жареных голубей… Война такая длинная и разная, что иногда на ней запоминаются и такие маленькие житейские радости».
Да, длинная и разная война запечатлена во фронтовых дневниках Симонова. Разные ее грани и разные этапы. Страшное начало, которого никто представить себе не мог: долгое отступление, огромные потери, наконец, наше контрнаступление, в сущности от стен Москвы; тяжкое, когда, казалось, все держится на ненадежном волоске, лето 42-го года: немцы рвутся к Волге и на Кавказ, неодолимая стойкость, которую знаменовал собой Сталинград, спокойная уверенность, обретенная после сражения на Курской дуге, и нарастающая сила ударов, которая привела нас в Берлин и сделала освободителями Европы.
Как много за эти годы переменилось в армии, какой она стала к концу войны!
Чтобы лучше представить себе эти перемены, сделать осязаемой ту огромную военную и психологическую дистанцию, что отделяет начало от финала, приведу из дневников Симонова два характерных эпизода. Один происходит в июле 41-го года: «В следующей деревне мы встретили части одной из московских ополченческих дивизий, кажется, 6-й. Это были по большей части немолодые люди по сорок-пятьдесят лет. Они шли без обозов, без полковых и дивизионных тылов. Обмундирование — гимнастерки третьего срока, причем часть этих гимнастерок была какая-то синяя, крашеная. Командиры их были тоже немолодые люди, запасники, уже давно не служившие в кадрах. Эти части еще надо было учить, доформировывать, приводить в воинский вид. Потому я был очень удивлен, когда узнал, что эта ополченческая дивизия была буквально через два дня брошена на помощь 100-й и участвовала в боях под Ельней…»
Другой эпизод происходит в марте 45-го года на НП командующего 38-й армией — немцы яростно сопротивляются, наше наступление идет туго.
«Снова телефонный разговор о пехоте:
— Нельзя идти вперед на трупах, надо идти вперед на уме и на огне. Прикройтесь одним батальоном, а остальными силами обходите.
Эти несколько разговоров Москаленко подряд с одним и тем же командиром дивизии кажутся мне очень характерными для нынешнего периода войны. Когда я был в сорок втором году под Сталинградом во время сентябрьского наступления и у Москаленко, и на командных пунктах у других командиров, не помню таких разговоров с нажимом на огонь, на технику.
Сейчас считают, что пехота может по-настоящему успешно продвинуться через укрепленную полосу только тогда, когда противник в основном подавлен артиллерийским огнем. А в те времена зачастую и подавить было нечем, немного постреляв, шли напролом. Теперь для всех разговоров характерна эта забота о пехоте».
Так за эти годы изменилась армия: она стала неизмеримо сильнее, много лучше вооружена, ее командиры и начальники приобрели большой боевой опыт.
Но были перемены и другого, более глубокого характера — в духовной атмосфере, в людях. К ним особенно внимателен Симонов. «Я сам себя не знал до боев, каков я». Эту фразу, сказанную ему в 42-м году человеком не очень молодым, профессиональным военным, Симонов хорошо запомнит. Он видел, как много пережили люди, сколь серьезные нравственные проблемы им приходилось решать, как много важного открылось им даже в собственной душе. Словно бы суммируя все эти накапливавшиеся многочисленные наблюдения от встреч с людьми, с которыми не виделся год-два, Симонов напишет о том ощущении происшедших в них перемен, которое возникло у него в 44-м году: «Жизненный опыт, добытый годами войны, чем-то очень существенно отличается от всякого другого жизненного опыта. Понятие „повзрослеть“ мы обращаем обычно к детству и юности: предполагается, что именно там человек может за год-два настолько перемениться, что о нем говорят „повзрослел“, имея в виду духовную сторону этого понятия. На войне, однако, с ее бесчеловечно-жестоко спрессованным временем, вполне уже зрелые по возрасту люди взрослеют не только за год, но и за месяц, и даже за один бой».
Это относится и к самому автору дневников: и он в эти годы быстро «взрослел». Зрелость опыта сказывается даже на характере дневниковых записей; в более поздних все чаще рядом с описаниями возникают размышления — как прямое отражение накопленного опыта. Чем ближе был конец войны, признается Симонов, тем труднее давалась ему работа на газетную полосу, «хотелось подумать, отложить писание, подождать», и это желание «подумать» реализовалось прежде всего и главным образом в дневниках. И хотя самонаблюдение и самоанализ занимают в дневниках не так много места, значение их не измеряется количеством строк. Роль их очень велика — не случайно, сокращая некоторые «связанные с корреспондентским бытом длинноты», Симонов одновременно довольно широко цитирует в комментариях свои лирические стихи, рассматривая их — и совершенно справедливо — как своеобразный дневник, который сохранил «память сердца».
Пожалуй, ни в одном литературном жанре «образ рассказчика» не занимает такого важного места, как в мемуарах, дневниках, письмах. Здесь прямо отражается то, что с ним было, что он видел, с кем встречался, как в разных ситуациях себя вел. Его самоощущение, его отношение к себе и окружающим, поведение в минуты опасности, реакция на добро и зло — все это накладывает и неизгладимо глубокий отпечаток на общую картину жизни в его записках, формирует по своему образу и подобию впечатления действительности.
И, говоря об этом, надо, наверное, в первую очередь отметить стремление Симонова по возможности хоть как-то пережить то, что выпадает на долю людей, о которых он пишет, примерить на себе их шкуру. Он видел в этом и профессиональный долг, который сформулировал так: «Реже рискуешь — меньше видишь, хуже пишешь», — и нравственный принцип.
Вот как, например, объясняет писатель, почему он принял участие в довольно рискованной операции во вражеском тылу, которую проводила группа моряков-разведчиков: «…Я почувствовал, что мне будет неудобно дальше расспрашивать этих людей, пока я хотя бы один раз не испробую на собственной шкуре то, что переживают они». Но, приняв участие в одной операции разведчиков, Симонов — и это тоже стоит отметить — вовсе не считает, что сравнялся с людьми, для которых высадка в тыл врага — всего лишь одно из очередных заданий. Он не утаит, что ему решиться пойти с разведчиками на вражеский берег было куда легче, чем потом, когда высадка по разным причинам изо дня в день откладывалась, несколько раз заново готовить себя к неведомым опасностям десанта — «на это выдержки не хватало».
Достаточно трезвое отношение автора к себе — а оно всюду чувствуется — привлекательная черта симоновских дневников. Автор не сооружает себе словесного пьедестала, что довольно часто случается в сочинениях таких жанров, не носится с собой как с особой, вокруг которой вертится мироздание, не боится признаться, что ему бывает и тяжко, и страшно, но при этом никак не преувеличивает выпадающих на его долю опасностей и тягот. Попав в сложную ситуацию, оказавшись в трудном положении, он склонен относиться к себе, скорее, с юмором, чем с жалостью.
Но он неизменно серьезен, когда дело идет о выполнении долга, о работе: здесь он не дает себе никаких поблажек. У него нравственный счет к себе такой же, как к другим. Он не терпит бездельников и любителей пускать пыль в глаза, ему претят показное воодушевление и казенный оптимизм, он презирает раболепие и хамство, паразитирующие на воинской дисциплине.
Война не делала из людей ангелов, не превращала в обязательном порядке дурных в хороших — всякое бывало. И преуспевали в армии вовсе не одни хорошие и только те, кто это по-настоящему заслужил. Симонов замечал и тех, «чей секрет успеха перед лицом начальства заключался в умении без паузы, сразу же громким уверенным голосом выразить готовность сделать все, что угодно, даже и не делая этого впоследствии». И тех, кому после лишней рюмки море казалось по колено, и они могли дуриком погубить себя, а главное, своих подчиненных. Он не забудет встретившихся ему на севере начальника политотдела дивизии и начальника особого отдела, которые, околачиваясь все время в штабе, буквально изнывали от безделья, не зная, на что убить время от завтрака до обеда и от обеда до ужина, но строго отчитали комиссара батальона за то, что во время тяжелого марша он занимался «не своим делом» — заботился о том, чтобы люди поели и погрелись, а не писал своевременно им политдонесения. Когда один из военных довольно высокого звания стал ругать, по свойственной мелким людям привычке, человека, под началом которого когда-то служил, заставив военных корреспондентов простоять два часа и слушать его обличительные речи, которые он, конечно, произносил сидя, — писатель оскорбился не за себя: «Если он сознательно хотел этим поставить на свое место корреспондентов — еще так-сяк! Гораздо хуже, если он сделал это просто так, нечаянно — тогда это значит, что он так поступает со всеми». Но чаще встречал Симонов на войне других людей, которые в нечеловечески трудных условиях вели себя с неизменным достоинством, людей, наделенных тем высоким чувством ответственности, которое заставляло их о себе думать в последнюю очередь, а прежде — о деле, о товарищах, о подчиненных. И общий нравственный климат создавался именно ими. А проявлялось это чувство ответственности и в большом, и в малом. Часто в малом было видно даже лучше, осязаемее, зримее, чем в большом, ибо не осложнено предварительными раздумьями и решениями и выражало первое, почти неосознанное движение, повеление души.
Вот в тылу врага высаживаются десантники, катер не может подойти вплотную к берегу: двое моряков из команды «охотника» сами, без приказа, становятся по пояс в ледяную воду, чтобы помочь разведчикам сухими добраться до берега.
Вот офицер, который держится всегда — и в бою тоже — со всеми ровно и спокойно: в присутствии начальства не суетится, не проявляет сверхрвения и в разговорах с подчиненными не повышает голоса, не дает волю раздражению, — это признак того, что он делает все, что может, и уверен, что делает как надо, правильно.
А вот сержант рассказывает Симонову: главная его мысль, что «языка» взять не удалось, не очень ладно получилось. И мимоходом, как о чем-то совершенно не заслуживающим внимания, как о «попутных» подробностях: «Мне поранило лицо, щеки, шею, лопатку. Я отошел, отбиваясь… Пошел вниз, а тут двое ребят раненых, один — в ногу, а другой — в спину… И я свой бинт на них и истратил… А один из них — сил у него не было — винтовку впереди оставил. Ну, я сразу ему винтовку принес, потому что какой же боец без винтовки? Тут, как шел обратно, нес ему винтовку, меня в поясницу миной. Один из них мог еще идти, а второго я взял на плечи…» Помочь товарищу, который ранен тяжелее, — это для него само собой разумеющееся, о себе, о своих ранах он в этот момент не думает, — не заставляет себя не думать, а просто не думает.
Из таких черт и черточек, сливающихся воедино, и возникал общий нравственный климат. «…Любой из нас, — писал Симонов, — предложи ему перенести все эти испытания в одиночку, ответил бы, что это невозможно, и не только ответил бы, но и в действительности не смог бы ни физически, ни психологически всего этого вынести. Однако это выносят у нас сейчас миллионы людей и выносят именно потому, что их миллионы. Чувство огромности и всеобщности испытаний вселяет в души самых разных людей небывалую и неистребимую коллективную силу…»
Дневники Симонова дают нам почувствовать, что эта сила именно коллективная. Уже хотя бы потому, что круг людей, с которыми автор по роду своих занятий сталкивался в годы войны — пусть эти встречи нередко бывали и короткими, — необычайно широк. Это люди разного возраста, разных профессий, занимавшие разное положение в армии, но в каждом из них обнаруживалась какая-то частица этой коллективной силы. И в партизане гражданской войны Куркине, который, несмотря на свои шестьдесят с лишним лет, добровольно пошел на фронт в казачью дивизию и держался на марше и в бою так, что мог служить примером и для молодых. И в девятнадцатилетнем командире танка Ерохине, который после первого боя с «фердинандами» ночью пополз на ничейную полосу, чтобы осмотреть подбитую им вражескую самоходку, — он хотел выяснить, как в завтрашнем бою лучше бить эти немецкие машины. И в корпусном комиссаре Николаеве, который в сорок первом, пренебрегая своей высокой должностью, в критическую минуту повел в атаку пехотинцев (кстати это был тот случай, когда в пехотной атаке участвовал и сам Симонов). Подобного рода примеры можно во множестве отыскать в дневниках Симонова.
Симонов — вероятно, даже не ставя перед собой такой задачи, просто он идет от жизни и выше всего ценит точность, подлинность — то и дело показывает, чего стоит питаемый ущербной литературной инерцией и въевшийся в сознание многих читателей взгляд, согласно которому человек положительный, мужественный воин должен иметь и соответствующий бравый вид. В действительности — и дневники Симонова это лишний раз подтверждают — никакой закономерности, никакой связи здесь нет. Полковник Кутепов, «человек, не желавший отступать в июле сорок первого», стал для Симонова образцом доблести, встреча с ним послужила писателю первотолчком для создания в романе «Живые и мертвые» образа генерала Серпилина. Но меньше всего внешний облик Кутепова соответствовал расхожему эстетическому канону доблестного военачальника. «Это был, — пишет о нем в дневнике Симонов, — высокий и сухой человек с очень некрасивым, милым, усталым лицом, с ласковыми не то серыми, не то голубыми глазами и доброй детской улыбкой». И еще один пример. Офицер связи капитан Арапов, которым в штабе армии восхищались, потому что он «каждый раз долетал, каждый раз находил все, что требовалось, и каждый раз возвращался», тоже имел вид совсем небогатырский — «маленький красноносый человек, утопавший в большом полушубке».
Впрочем, тот же принцип — а это для Симонова, несомненно, был принцип — автор распространяет вообще на описание войны, боевых действий в дневниках. В батальных сценах он нередко вполне целенаправленно разрушает распространенные журналистские и литературные стереотипы. Приведу его описание наступления: «Видны маленькие фигурки саперов, идущих впереди танков с шестами миноискателей. Слева и справа от танков идет пехота, причем, как это всегда бывает во время атаки, издали кажется, что ее совсем немного. Да и не только кажется. Если взять весь громоздкий механизм нынешней войны, то когда, скажем, как сегодня, на участке главного удара переходит в наступление целая армия при поддержке соседей, все-таки реально на самом участке прорыва в первой волне идет не так много пехоты. Несколько сотен, может быть, до тысячи человек… Конечно, уже никому и никогда не увидеть тех атак, которые происходили во время наполеоновских войн. Нынешняя атака не представляет собой ничего похожего на это, хотя и изображается иногда некоторыми нашими писателями в стиле войны 1812 года».
Но вернусь к тем людям, о которых рассказывает Симонов. Ревнители глянца и ретуши, судящие о фронтовой действительности на основании послевоенных цветных фильмов, могут еще, чего доброго, переложить «вину» за столь распространенное в жизни несоответствие «формы» «содержанию» на автора, усмотрев в его дневниковых записях некое «принижение» героической действительности. Если бы статная фигура и хорошая армейская выправка были признаком мужества и благородства, жить стало бы в том числе и на войне легко и просто. Но, увы, на самом деле это не так… И, может быть, потому так много в дневниках Симонова людей высокого строя чувств и доблести, что автор их не торопился отвернуться, когда людям, с которыми его сводила военная судьба, недоставало внешней импозантности. Мужество и благородство по самой природе своей скромны, в глаза не бросаются, и, чтобы разглядеть их, необходим проницательный взгляд…
И еще одна очень важная особенность «Разных дней войны». Всюду, когда Симонову удавалось это выяснить, а он с большим упорством искал сведения о последующей военной и послевоенной судьбе людей, которых встречал на фронте, — он знакомит читателей с обнаруженными добытыми материалами. И тогда даже мимолетные встречи начинают выглядеть частью жизни этого человека. Кроме того, это может служить своеобразной проверкой того, сколь были верны его военные впечатления. Старый «моментальный снимок» как бы становится кадром того большого «фильма», который и есть прожитая человеком жизнь… В этом остром интересе к судьбе человека, хочу это повторить, — одна из особенностей мемуарно-документальной книги Симонова как произведения писателя, художника.
В беспросветно унылую пору, которую нынче чаще всего называют «застойной», Симонов получил грустное и растерянное письмо от одной читательницы, которую обескуражили намеренные искажения в литературе исторической правды. Симонов ответил на это искреннее письмо. И в конце своего ответа, желая ее как-то поддержать и успокоить, написал:
«Я менее пессимистически настроен, чем Вы, в отношении будущего. Думаю, что правду не спрячешь и история останется подлинной историей, несмотря на различные попытки фальсифицировать ее — главным образом — при помощи умолчаний… Хотелось бы добавить: поживем — увидим, но поскольку речь идет об отдаленных временах, то мы уже не увидим. Однако думаю, что будут верить как раз тому, что ближе к истине. Человечество никогда не было лишено здравого смысла. Не лишится его и впредь».
Симонов оказался прав, говоря, что правду не скроешь, что подлинная история, что бы ни делалось для того, чтобы задним числом ее переписать, подчистить, приукрасить, все равно рано или поздно откроется.
Это время пришло раньше (лучше, вероятно, сказать, начало приходить) раньше, чем предполагал Симонов.
Его же книга «Разные дни войны» служила и продолжает служить утверждению подлинной истории Великой Отечественной войны.
«Я был пехотой в поле чистом…» (О поэзии Семена Гудзенко)
Все еще кажется, что совсем недавно это было — война. «Лейтенант в неполных двадцать лет, я ремень затягиваю туже и сую под ватник пистолет…» — вспоминал ту пору Сергей Орлов. «Сороковые, свинцовые, пороховые… Война гуляет по России, а мы такие молодые», — отзывался Давид Самойлов. Константин Ваншенкин о том же: «Безусые стояли мы в строю — двадцать четвертый год и двадцать пятый». У всех без исключения поэтов военного, фронтового поколения — это были самые важные «звездные» годы. «Никогда так ярко уже не будет жизнь моя гореть», — с грустью и гордостью признавалась Юлия Друнина. Пережитое в те «свинцовые» годы для них не просто сумма драматических, много лет не уходящих воспоминаний. От этих, как назовет их в одном стихотворении Ваншенкин, «костров воспоминаний» — немеркнущий, неугасимый свет: «Горят костры, горят, и догореть не могут».
Я говорю здесь о поколении, но правомерно ли вообще это понятие применительно к литературе, к поэзии? Это непраздный вопрос. В искусстве всегда бывают зрелые мастера и начинающие, маститые и пробующие свои силы, появляются новые молодые художники и заканчивают свой путь их старшие коллеги. Неумолимый календарь человеческого бытия определен раз и навсегда. И если исходить из него, понятие поколения в искусстве лишено какого-либо ясного содержания, как и понятие «отцы и дети». Все мы в зависимости от возраста выступаем в той или иной роли.
Литературное поколение — явление особого рода. Оно возникает не по календарю: иной раз проходят десятилетия, на смену одним художникам приходят другие, молодые, а нового литературного поколения нет. Это естественно, потому что рождение литературного поколения непременно связано с событиями, затрагивающими основные, глубинные пласты народной жизни, с испытаниями и потрясениями, накладывающими неизгладимый отпечаток на характер современников, посетивших «сей мир в его минуты роковые». Оно связано с постижением всех этих уроков истории, которое становится насущной духовной потребностью для множества людей. Конечно, все это исторические предпосылки для возникновения литературного поколения, только возможность, которая вовсе не всегда, далеко не во всех случаях реализуется, но предпосылки обязательные, без них нечего ждать нового литературного поколения.
Какие же события национальной истории могут вызвать его к жизни? Таким событием была, например, Отечественная война 1812 года, сопровождавшаяся стремительным взлетом национального и гражданского самосознания. «Наполеон вторгся — говорил декабрист Александр Бестужев, — и тогда-то народ русский ощутил свою силу; тогда-то пробудилось во всех сердцах чувство независимости. Сперва политической, а впоследствии и народной». Таким потрясением была Крымская война, которая, несмотря на героическую севастопольскую оборону, кончилась поражением, показавшим гнилость правящего режима. Последствия этого тяжкого испытания прозорливо угадал Лев Толстой. В его дневнике есть такая запись, сделанная в ноябре 1854 года: «Велика моральная сила русского народа. Много политических истин выйдет наружу и разовьется в нынешние трудные для России минуты. Чувство пылкой любви к отечеству восставшее и вылившееся из несчастий России, оставит надолго следы в ней. Те люди, которые теперь жертвуют жизнью, будут гражданами России и не забудут свои жертвы. Они с большим достоинством и гордостью будут принимать участие в делах общественных, а энтузиазм, возбужденный войной, оставит навсегда в них характер самопожертвования и благородства». В ряду такого масштаба исторических событий, от исхода которых зависела судьба страны, народа, и Великая Отечественная война против фашистского нашествия. Это было очень тяжелое испытание: мы терпели позорные поражения, отдали в руки врага огромные территории, поняли цену довоенной похвальбе властей, что воевать будем на чужой земле малой кровью. Все-таки одолели врага, одержали победу, хотя стоила она бесчисленных жертв. Это время отмечено высочайшим напряжением народных сил, необычайным ростом и зрелостью чувства гражданской ответственности, самоотверженности и человеческого достоинства. Именно это имел в виду Илья Эренбург, когда в предисловии к вышедшему на французском языке сборнику писем фронтовиков заметил: «Если на войне мы очень много потеряли, то мы обрели на войне нового и более высокого человека».
Говоря о воздействии Великой Отечественной войны на литературу, рассматривали главным образом произведения, созданные в дни войны. Но это взгляд узкий, упускающий из вида гораздо более широкий круг серьезных явлений. На долгие годы события и люди войны стали предметом художественного исследования. Больше того, пережитое на фронте разбудило очень многих художников. Кто знает, произошло ли это в других обстоятельствах? Вот та историческая почва, которая вызвала к жизни прозаиков и поэтов фронтового поколения. Так оно возникло. Поэтические автохарактеристики далеко не всегда следует принимать на веру: рассудочная трезвость и бесстрастная объективность — не самые необходимые и, конечно, необязательные качества для лирика. Но все-таки бывают и здесь исключения: иной раз и лирический поэт, не греша против поэзии, точно раскрывает в автохарактеристике пафос своего творчества.
У каждого поэта есть провинция. Она ему ошибки и грехи, все мелкие обиды и провинности прощает за правдивые стихи. И у меня есть тоже неизменная, на карту не внесенная одна, суровая моя и откровенная, далекая провинция — Война…Это строки из стихотворения Гудзенко «Я в гарнизонном клубе за Карпатами…», написанного в 1947 году. Все здесь верно: и то, что поэт продолжает быть верен войне, и то, что он пишет о ней правдивые стихи. Вот автобиография Гудзенко, хранящаяся в Союзе писателей, она написана в 1952 году: «Я, Семен Петрович Гудзенко, родился в Киеве в 1922 году. В Киеве окончил десять классов и переехал в Москву, поступив в ИФЛИ им. Чернышевского. Летом 1941 года добровольно ушел на фронт, был ранен в 1942-м на Смоленщине. С 1943-го стал печататься. В 1944 году вышла первая книга стихов. После войны много ездил по стране». Как ни лаконична автобиография, нельзя не обратить внимания на то, что семь послевоенных лет вместились в одну лишь коротенькую, в сущности «отписочную» фразу. Наверное, это не случайно они, эти годы, не были для него судьбоносными, поэтому и оказались как бы вытесненными за пределы биографии. Подлинной его биографией была война. Он писал: «Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом, чисты». Это — «как пред господом богом», с которым сравнивается комбат, возникло не случайно. Там под пулями и осколками высшей нравственной инстанцией был комбат, твое участие в войне. Автобиография подтверждает то, что было написано в процитированном мною стихотворении «Я в гарнизонном клубе за Карпатами…» Читатель не может не почувствовать в этом стихотворении скрытой внутренней полемики, дело в том, что путь начинавших тогда поэтов и прозаиков фронтового поколения не был устлан розам, правда о войне с большим трудом пробивала себе дорогу в печать. Уже действовало указание: хватит о войне, она была и прошла, другими темами должны заняться поэты. Вскоре после конца войны Илья Эренбург, Павел Антокольский, Константин Симонов составили сборник стихов поэтов фронтового поколения, но сборник этот света не увидел. Не преодолели быстро сооруженную официальную плотину и некоторые стихи Гудзенко — из самых лучших. Мы, тогдашние любители поэзии, их запомнили, потому что, выступая, он часто читал их. Это только что процитированное мною стихотворение, это «Мое поколение» Гудзенко напечатать их не удалось. Они были опубликованы после его смерти. А над еще одним (тоже очень известным) его стихотворением «Перед атакой» погулял редакторско-цензорский карандаш: на место «Будь проклят Сорок первый год / И вмерзшая в снега пехота» вставили: «Ракеты просит небосвод / И вмерзшая в снега пехота». Как говорится, комментарии излишни.
Большая часть стихов Гудзенко рождена войной и посвящена войне. Эти стихи и составили ему имя и место в истории нашей поэзии. Испытанное им там, на фронте, под огнем, стало для него все определившим нравственным и поэтическим критерием. Для него поэтически претворить пережитое — значило не отдалиться от суровой жестокой реальности, а донести ее в «первозданном виде», не сгладив и не остудив колючую и обжигающую правду своей судьбы — солдатской судьбы и народной судьбы — в ту пору и в большом и в малом они были неразделимы. В чем сила и долговечность военных стихов Гудзенко? Конечно, их автор был человеком одаренным. Это условие необходимое, но все-таки недостаточное — талант может и не реализоваться, если питающая его жизненная почва скудна. Гудзенко был переполнен впечатлениями фронтовой жизни, на смертельном рубеже открывшие ему мир и человеческую душу. Судьба родины, культуры, человечества решалась тогда в каждом окопе, где сражались и умирали его однополчане, его ровесники, где под минометным и пулеметным огнем он ходил в атаку. Все, что он написал о войне, это, в сущности, лирический дневник, исповедь «сына трудного века», молодого солдата Великой Отечественной. Гудзенко, как и многие тысячи других юношей, почти мальчиков, что начали «в июне, на заре», «был пехотой в поле чистом, в грязи окопной и в огне». И пишет он в стихах о том, что видели они все и что пришлось пережить и ему: о первой атаке, самой губительной, и смерти друга, о горьких дорогах отступления, о «безмолвных рельсах, позабывших стук колес», о том, как «подомно и даже поквартирно» штурмуют город, о ледяной стуже и пламени пожаров, о том, как разрывается мина «черным веером на снегу». Только тот, кто сам поднимался в атаку под «свинцовым градом» и тащил в распутицу пушки на руках, кто перебегал через улицу в багровой пыли от только что разорвавшихся снарядов и, прижавшись к земле, слушал свист бомбы, мог с такой убедительностью, передавая чувства и мысли «окопника», написать: «Ведь самый страшный час в бою — час ожидания атаки», «мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины», «у нас окопное терпение», «когда идут в атаку писаря, — о мертвых не приходят извещенья», «пять шагов до соседнего дома — все равно что пятнадцать миль». Самое главное о себе, о своей жизни, о войне Гудзенко рассказал в стихах — его стихи пополняют короткую автобиографию. Приведу некоторые из этих стихов, комментируя их, когда в этом возникает потребность.
«Но и в сугробах Подмосковья и в топях белорусских рек был Киев первою любовью, незабываемой вовек». В Киеве прошли детство и школьные годы Гудзенко. Он очень любил этот город, после войны, когда уже стал москвичом, часто ездил туда. В мае 1988 года в Киеве на Тарасовской улице, где до войны жил Гудзенко (не знаю, так ли и теперь называется эта улица, волна переименований, кажется, не ограничилась бывшей столицей СССР) была открыта в память о нем мемориальная доска — я приезжал в связи с этим событием в Киев. «Обветренный прокуренный филолог». В 1939 году Гудзенко поступил в ИФЛИ. Позже в дневнике со свойственным ему ироническим отношением к себе он вспоминал себя тогдашнего: «Провинциал в ковбойке и широких парусиновых брюках. Рукава закатаны выше локтя. Обнажены крепкие загорелые руки. Приехал в Москву из теплого зеленого Киева. Он мечтает быть поэтом беспокойным и бушующим. Таким я был в августе 1939 года в Москве у Киевского вокзала». Стихи Гудзенко начал писать в школьные годы, поэтому и отправился в Москву, в ИФЛИ. Но в ифлийскую поэтическую плеяду, которая уже тогда приобрела некоторую известность и в студенческих, и даже в литературных кругах (все они были слушателями семинара, который в Гослитиздате вел Илья Сельвинский, в журнале «Октябрь» была даже напечатана подборка их (Кульчицкого, Самойлова, Слуцкого) стихов). Гудзенко в эту когорту не попал, видно, по молодости, хотя внутренне был с ифлийскими поэтами связан, конечно, знал их стихи, некоторые отзвуки этих стихов потом отозвались в том, что он писал о войне. Эта связь бросается в глаза. Когда у Гудзенко читаешь:
«Когда на смерть идут — поют, а перед этим можно плакать», сразу же память подсказывает строки Павла Когана:
Нам лечь, где лечь, И там не встать, где лечь. И, задохнувшись «Интернационалом», Упасть лицом на высохшие травы И уж не встать, и не попасть в анналы, И даже близким славы не сыскать.И еще один пример из Гудзенко — стихотворение 1942 года:
Это в битвах рожденный, пропитанный кровью и потом, самый истинный, самый русский гуманизм.Сразу возникают строки из стихотворения сорокового года Николая Майорова:
Нас не забудут потому вовек, Что всей планете делая погоду Мы в плоть одели слово «Человек»!Не случайно одно из самых лучших своих стихотворений «Путь» Гудзенко посвятил ИФЛИ, однополчанам. В своих воспоминаниях Самойлов рассказывал, что когда он в 1944 году после ранения и запасного полка попал в Москву и встретился с Гудзенко, его, все еще судившего о поэтах по довоенным институтским ранжирам, поразило, даже уязвило, что не числившийся в ифлийской когорте Гудзенко «из последних в поколении становился первым». Самойлов считал, что сделал это Эренбург, который «был в ту пору почти что власть». Но, по мнению Самойлова, он, Эренбург, высоко оценив Гудзенко, а позднее Слуцкого, ошибался, «нашел поэтов не по своему вкусу, а точно почуяв вкус времени». Думаю что Самойлов тут сам ошибается: Эренбург был верен своему вкусу, он в годы войны твердил, что правду о ней смогут потом рассказать только те, кто в окопах. «Прожили двадцать лет. Но за год войны мы видели кровь и видели смерть — просто, как видят сны». В первые дни войны Гудзенко добровольцем ушел в армию, служил в Отдельной бригаде особого назначения, воевал под Москвой, участвовал в операциях отрядов лыжников, которые забрасывали в тыл врага. Во время одного из таких рейдов был тяжело ранен. В дневнике записал потом: «Ранен в живот. На минуту теряю сознание. Упал. Больше всего боялся раны в живот. Пусть бы в руку, ногу, плечо. Ходить не могу, Бабарыка перевязал. Рана — аж видно нутро. Везут на санях».
И в конце войны Гудзенко снова отправляется в армию, ведущую бои в Венгрии. Бои там идут тяжелые, их описали потом Григорий Бакланов и Василь Быков. Это ясно видит и Гудзенко, не поддается возникавшему тогда предпобедному угару. Он писал Эренбургу: «Война на нашем участке еще настоящая. Все повторяется. Недавно попал под сильную бомбежку у переправы через Мораву. Лежал долго там и томительно. Умирать в 1945 году очень не хочется». А это дневниковая запись той поры: «Немцы наступают у Эстергома. Чудовищно. Мы в Берлине, а они здесь бесятся. Что это — тупость, конвульсия или стратегия? Где-то на маленьком участке в 10–15 километров повторяется сейчас 41-й год. Это, конечно, сейчас нехарактерно, но и об этом я должен писать — это правда войны. Наша сила в том, что мы не скрываем неудач от себя, да, я должен писать о неудачах в 45-м году…» Правда о войне — для него сливались воедино солдатский долг и поэтическая задача, цель. Он навсегда запомнил трагические уроки проклятого сорок первого — уроки отступлений и бесчисленных жертв. Вот запись в дневнике, сделанная им через несколько лет после победы: «Многие офицеры еще не хотят понимать трагедии первых лет войны и того, что мы плохо готовили народ, мало говорили о тяготах войны, о тяжести боев, о силе нашего противника». И вслед за этим: «Теперь поэты и прозаики только так и должны воспитывать народ» — разумеется, в этот круг обязанных говорить правду он включал и себя, может быть, себя прежде всего. Поэтическое поколение, к которому принадлежал Гудзенко, назвали военным (или фронтовым) — название это закрепилось, вошло в обиход. Все эти поэты свою литературную родословную начинают с войны. И дело даже не только в том, что многие из них первые рифмованные строки сложили в редкие часы затишья на переднем крае или в бессонные ночи в госпитале и впервые увидели свое имя под напечатанными стихами на страницах армейских газет. Главное — в их мироощущении. Война была для них, вчерашних школьников или недоучившихся студентов, крутым и досрочным началом трагического варианта «взрослой» жизни. На фронте они приобрели то суровое знание мира и человеческой души, которое не всегда приходит и после долгой жизни в мирные благополучные времена, в эти свинцовые годы открылся, пробился их талант, возникла потребность поделиться пережитым. Почти все они прошли войну (или большую и самую тяжелую ее часть) солдатами и офицерами переднего края. Как хорошо сказал о них Твардовский, они «видели пот и кровь войны на своей гимнастерке». Это была их обычная повседневная жизнь в постоянном самом близком соседстве со смертью. Конечно, и те, кому довелось служить армейскими журналистами, хлебнули, как говорится, горячего до слез, и некоторых из них не миновали пули и осколки. И все-таки тут есть очень существенное различие, которое нельзя не принимать во внимание. Что бы ни говорили, но увиденное и пережитое — очень разные вещи, по-разному оседающие в человеческой памяти. Увиденное далеко не всегда и далеко не у всех превращается в пережитое, все-таки остается мимоходным, проходящим впечатлением. В документальном фильме Константина Симонова «Шел солдат…» кавалер трех орденов солдатской Славы Хабибула Якин рассказывает: «Днем и ночью живешь на фронте. Надо человеку жить там. Быть в пехоте трудно, действительно трудно. Вот иногда, я вспоминаю, к нам приезжали артисты, и эти артисты приходили, давали концерты, а потом старались уйти скорее от нас. Вот я иногда смотрю кино, выступление артистов, с какой гордостью говорят, что они были на передовой с концертом. Они были, а солдату надо было жить там — там, где они были какой-то час, или полтора, или два». В этом принципиальная разница между поэтами фронтового поколения, в качестве солдат и офицеров живших на войне, и поэтами, бывавшими на передовой в качестве армейских журналистов.
В своей знаменитой мемуарной книге «Люди, годы, жизнь» Эренбург посвятил Гудзенко целую главу. Говоря о двадцатилетнем поэте, Эренбург посчитал нужным напомнить о том, что сам он видел первую мировую войну, пережил Испанию, знает много книг о войне (назвал произведения ставшие классикой). Сказал он и о том, что в начале войны было написано немало хороших стихов, но даже самые удачные носили «несколько литературный характер». В таком высоком контексте рассматривал Эренбург стихи Гудзенко. Они поразили его, знающего, что такое война, прекрасно помнящего, что писали о ней, потому что это была поэтическая исповедь человека который не побывал, а жил на этой войне, был на передовой. Пережитая им война впервые получила поэтическое осмысление. Это был поэт, появление которого Эренбург предчувствовал. Он вспоминал потом: «Я читал стихи Гудзенко всем — Толстому, Сейфуллиной, Петрову, Гроссману, Сурицу, Уманскому, звонил в Клуб писателей, в различные редакции: мне хотелось со всеми поделиться нечаянной радостью». Тогда, в сорок третьем, когда читатели, открывая «Красную звезду» прежде всего смотрели, что там пишет Эренбург, его слово, его оценка много значили. 21 апреля 1943 года в Клубе писателей состоялся вечер, на котором Гудзенко читал свои стихи. Представлял его слушателям Эренбург. Он говорил: «Это поэзия участника войны. Это поэзия не о войне, а с войны». «Что поражает в стихах Гудзенко? — говорил он. — Плотность и конкретность. Здесь нет никакой истерии, никакой духовности, которая почти бесплотна, как пар, которая абстрагируется… Это поэзия всецело на земле. Все ее находки сводятся к опознанию мира гораздо более, чем к изучению каких-то подводных и воздушных течений… Поэтика Гудзенко срастается с его существом… в ней есть своеобразный классицизм. В ней есть то, что есть в музыке Шостаковича, то, что было в свое время названо смесью формализма с натурализмом, что является смесью барокко с реализмом и что является чрезвычайно типичным для нашей современности и ее художественных произведений. Это вы услышите в стихах Гудзенко».
Сейчас, когда перед глазами читателей гораздо больше стихов Гудзенко, чем видел Эренбург в 1943 году, можно оценить проницательную точность его характеристики. Вскоре после этого вечера «Знамя» напечатало стихи Гудзенко, затем его приняли в Союз писателей (стоит, наверное, сказать, что рекомендации ему дали Эренбург, Антокольский, Гроссман — как говорится, не последние люди в нашей литературе).
Дневники Гудзенко свидетельствуют, что еще в предвоенную студенческую пору он много размышлял об истинном и ложном в литературе, в поэзии. Иногда это общее (ифлийского студенчества) мнение. Вот эти записи: «Мы не любили Лебедева-Кумача, ходульных „О“ о великой стране, — мы были и остались правыми».
И еще: «Лебедев-Кумач, 1941 г. „За нее мы кровь прольем с охотой“. Какая суконная мертвая строка о крови свободных гордых людей. Так писать — лучше промолчать». Так вспоминалось на фронте казенное бодрячество и безудержное ликование вездесущего в предвоенные годы Лебедева-Кумача (он захлебывался от восторга, главный эпитет в его песнях «веселый» — «мы можем петь и смеяться, как дети», «Живем мы весело сегодня — а завтра будем веселей»). Вот вывод, который Гудзенко сформулировал для себя и которому следовал: «Ни одной ходульной строки. Это закон». Та же заповедь, тот же «закон» в строках неоконченного стихотворения: «Ты вспомни все: бои и дали. И кровью книгу напиши». В предвоенные студенческие годы в ИФЛИ Гудзенко писал: «Наши вкусы. Все мы безоговорочно любили Маяковского, Хлебникова, Пастернака, Багрицкого, Тихонова, Блока. Толька очень искреннее всех читал и понимал Хлебникова и Заболоцкого. Мне ближе всего был Багрицкий (к этому надо добавить очень часто упоминаемого им Тихонова. — Л. Л.)». Но заканчивается эта запись так: «Теперь стихи остались где-то позади в тумане». На фронте «университеты» человеческого бытия проходят в самом быстром темпе и по самой обширной программе, включающей для тех, кто жил литературой, и сферу поэтики. В студенческие годы романтическая стихия Багрицкого и Тихонова была очень важным ориентиром, на который следовало равняться, но теперь, когда он хлебнул реальной войны, она утратила для него свое «педагогическое» значение. Совсем не исчезла, но стала в поэтическом мире Гудзенко, если можно так в этом случае выразиться, чем-то вроде «подводного течения». На первом, смыслообразующем и определившем многое в поэтике, оказалось другое — то, о чем говорил Эренбург: плотность и конкретность в передаче пережитого под огнем. Об этом позднее писал и Павел Антокольский: «В его задачу входило одно: уберечь непосредственную достоверность пережитого. В этом была особая принципиальность поэта, его требовательность».
Я познакомился с Гудзенко в сорок пятом, вскоре после победы. Это было удивительное время в истории нашей поэзии. Что-то похожее происходило потом, в «оттепельную» пору, когда кумирами читателей становились Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Роберт Рождественский. Поэты тогда выступали в Политехническом, в недавно выстроенных Лужниках, у памятника Маяковского: Начал выходить ежегодный «День поэзии». Масштабы поэтических мероприятий и количество публики были гораздо большими, но интерес к молодым поэтам, возвращавшимся после войны из армии (многие еще носит гимнастерки и шинели) был не менее пылким. Утверждаю это, не опасаясь обвинений в преувеличении. Выступаю в роли добросовестного свидетеля. Впрочем, это хорошо запомнил не только я. Вернувшийся из армии, где он начал писать стихи, Константин Ваншенкин, попав на поэтические вечера, обнаружил, что, помимо Твардовского, Исаковского, Суркова и Симонова существует еще одна военная поэзия, это она гремит на вечерах, встречая бурное одобрение слушателей, есть у нее свои лидеры — у них нет еще книг, но они уже известны. Да, шли тогда один за другим их вечера в переполненных аудиториях — на филологическом факультете в Московском университете, в студенческом общежитии на Стромынке, в Литинституте на Тверском бульваре, в разных клубах — в каких, теперь уже не вспомню. На многих я был. Ряд заявлявших о себе поэтов день ото дня пополнялся — их становилось все больше: Александр Межиров, Виктор Урин, Юлия Друнина, Марк Максимов, Сергей Орлов, позднее появились Евгений Винокуров, Константин Ваншенкин, Константин Левин, Григорий Поженян, Юрий Левитанский, увы, наверно, я назвал не всех.
Верховодил этой довольно быстро разраставшейся поэтической ватагой Гудзенко. Он был, как сказали бы нынче, ее неформальным лидером. Об этом потом многие вспоминали. Павел Антокольский: «Как бескорыстно выводил он в свет других молодых, которые были моложе всего на полчаса! Когда на его горизонте появлялись еще никому неведомые, ни разу не печатавшиеся новички, он сразу становился их активным пропагандистом, приносил их стихи в редакции, трубил им славу. Чем была вызвана эта отзывчивость? Прежде всего чувством плеча, которым держится очень многое во всей нашей общественности. Кроме того, хозяйским отношением к общелитературному делу. И, наконец, за этим у него стояло живое чувство поколения, одно из самых властных и организующих у молодого поэта. Он принес его из армии. Семен Гудзенко навсегда запомнил свой солдатский долг по отношению к великому множеству подобных ему молодых: и тех, которые погибли, и тех, которые остались в живых». Яков Хелемский: «Его „лидерство“ среди молодых выражалось прежде всего в заботе о товарищах. Он „проталкивал“ чьи-то рукописи, он выискивал молодых армейских, еще неизвестных поэтов. Он составил из рукописей этих поэтов сборник для Воениздата. Если не ошибаюсь, в сборнике впервые печатались Евгений Винокуров и Константин Ваншенкин». Василий Субботин: «Думаю, не для меня одного так необходимо было появление поэта Гудзенко. Для меня он так и остался первым в поколении».
Можно было бы привести еще немало подобного рода воспоминаний, в которых добрыми словами вспоминают Гудзенко. Был он человеком отзывчивым, чутким и очень деятельным — помогал многим, вступающим в литературу, — это часто дело трудное, а в ту пору совсем нелегкое. Но, поставив на этом точку, хочу сказать, что появившиеся стихи Гудзенко о войне стали затем важным ориентиром для всей поэзии, рожденной на фронте и посвященной пережитому на войне. Они сыграли роль в поэзии, похожую на то влияние, которое позднее оказала повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» на «лейтенантскую» прозу.
Переклички этих поэтов с Гудзенко бросаются в глаза. И прежде всего это возникшее в их стихах указание на войну как на главный источник познания мира и поэтического переживания.
Александр Межиров:
И кружит лист последний У детства на краю И я, двадцатилетний, Под пулями стою.Юлия Друнина:
Я пришла из школы В блиндажи сырые. От Прекрасной Дамы — В «мать» и «перемать».Сергей Орлов:
Пускай в сторонку удалится критик: Поэтика здесь вовсе ни причем. Я, может быть, какой-нибудь эпитет — И тот нашел в воронке под огнем.Григорий Поженян:
Мы отошли, точнее: сдали. Как странно было б знать тогда, Что будут нам ковать медали За отданные города.И вот еще о чем нужно сказать. Я писал о том, что в своих стихах Гудзенко, как в эстафете, продолжал многие темы ифлийских поэтов, погибших на фронте. В свою очередь его стихи и следовавших за ним поэтов фронтового поколения пробудили общественный и литературный интерес к поэзии сложивших на войне голову молодых поэтов. Об этом продолжении эстафеты написал Лев Озеров: «В моих собеседованиях со студентами литературного института в 50-е, 60-е, 70-е годы я непременно ссылался на поэтическое братство поэтов, пришедших с войны и напомнивших и возвысивших имена поэтов, с войны не вернувшихся. Этот живой пример оказался убедительным. С годами его уникальность вырастала в своем значении. Судьба поэзии связывалась с судьбой отечества в час тяжелейших испытаний. Я напоминал и продолжаю напоминать строки Гудзенко:
Быть под началом у старшин Хотя бы треть пути, Потом могу я с тех вершин В поэзию сойти.Незачем гадать, как сложилась бы судьба Луконина, Гудзенко, Межирова, если б не было войны. Тщетные гадания! Но ясно одно — война сплотила их, сделала на минуту гениальными всех троих и всех пришедших с ними. Война вписала их во время, в эпоху и дала линию отсчета».
Все в литературной судьбе Гудзенко складывалось самым превосходным образом. У него было хотя и быстро возникшее прочное литературное имя, больше того, даже видное место в литературном, поэтическом мире.
Но когда окончилась война, вскоре после того, как умолк орудийный грохот, многое в литературной жизни стало меняться. Она после постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» стала резко мрачнеть. Это новое время потребовало новых песен. За пределами этого нового времени оказалась и недавно окончившаяся война, которой продолжали жить Гудзенко и его молодые товарищи по поэзии. Она еще не становилась для них прошлым, отрезанным от сегодняшних дней. Нет, прямого запрета вроде бы не было, но не рекомендовали этим заниматься: мол, война — уже прошлое, к нынешним делам отношения не имеющее. И редакторы, издатели, как было тогда принято, стали это указание деятельно проводить в жизнь. Заставив заниматься материалом не выношенным, не пережитым, ломали судьбы, толкали на бесплодный путь.
Эту драму пережил и Гудзенко. Был он человеком живым, неугомонным, любознательным, в поисках новых впечатлений и тем стал много ездить в необжитые поэзией края и привозил из командировок стихи — то о курских рабочих, то о далекой Туве — крае оленеводов и охотников, то о том, что «все в Карпатах меняется к лучшему». Затем он надолго отправился в Туркестанский военный округ, в пустыню («в песках — как в доменной печи»), где шли учения, засядет за поэму «Дальний гарнизон». Ему казалось, что армейская жизнь вернет его к пережитому на войне. Ничего из этого не вышло. Оказалось, что это совсем иная, чем была у него на фронте, среда: «Фронтовиков среди солдат уже нет. Есть немного сержантов и старшин сверхсрочной службы, которые нюхали порох…» Да и сам он там оказался в ином, чем на фронте, качестве. В дневнике честно признается в этом: «Мне на НП трудно, так как я не вижу человека, бегущего в атаку, а вижу в стереотрубу черные точки. Мне думается, что генерал, поднявшийся на НП и не побывавший в окопах, не поносивший солдатскую шинель, в конце концов потерпит поражение, ибо он жертвует солдатами, изматывая их и не ценя. И еще потому, что не представляет себе на практике, что такое бежать в пыли за танком, что такое идти в атаку. Вот об этом и думал». В конечном итоге главная мысль-чувство поэмы свелось к давно затоптанному общему месту: тяжело в учении — легко в бою. И эта поэма и другие «командировочные» стихи никакой радости автору не приносили. Эренбург в мемуарной книге вспоминал, что как-то в ту пору Гудзенко сказал ему с горечью: «Я научился писать, а пишу хуже». На войне лирический герой Гудзенко жил, был ее участником, действующим лицом разворачивающихся событий, во многих стихах мирного времени он вольно или невольно оказывался в позиции созерцательной по отношению к окружающей действительности; не пережитое, не радость и боль сердца, а беглые и нередко поверхностные впечатления становились поводом для поэтического излияния, Он искал связь между прошлым и настоящим, в его стихах то и дело появлялись бывшие солдаты, которые с войны «вернулись с уваженьем к невоенному труду». Очень быстро это стало у Гудзенко и его поэтических ровесников набившим оскомину, заезженным стереотипом. И сейчас ясно, что лучшими из созданных тогда Гудзенко оказались стихи, в которых лирический герой словно бы упивается радостью наконец наступившего мирного бытия («Добрый дождь», «Пейзаж», «На базаре»).
Не откажу себе в удовольствии процитировать несколько строк из «Пейзажа»:
Я люблю суету по утрам. Я люблю, чтоб трам-тарарам — Из предместий влетали, трубя, Кони, камень холодный дробя. В каждой бричке полно овощей и других самых разных вещей. Вон индюк, выставляя кадык, ходит между оранжевых тыкв. А у тыквы коричневый бок, Как макитру, обжег ее бог.Гудзенко очень любил жизнь, радовался всем ее проявлениям (примечательное признание есть в его дневнике: «До войны мне нравились люди из „Хулио Хуренито“, „Кола Брюньона“, „Дон Кихота“, „Гаргантюа и Пантагрюэля“, „Похождений Швейка“ — это здоровые, веселые, честные люди. Тогда мне нравились люди из книг, а за девять месяцев я увидел живых собратьев этих классических, честных, здоровых весельчаков». Да и сам Гудзенко по природе своей был из этого племени. И, быть может, именно поэтому так остро переживал трагедии войны — они были для него неутихающей болью. Но заставляли и по-настоящему ценить жизнь, радость бытия.
Последние стихи Гудзенко написал после тяжелой операции, стараясь выкарабкаться из лап подступающей смерти. Дни его были сочтены. Эти стихи входят в ряд самых сильных, самых совершенных его творений. Как и на фронте, под огнем, поэт оказался снова в положении, в котором «выбор небольшой: жизнь или смерть». Впрочем, кажется, здесь вряд ли годится это сравнительное «как» — пережитое на фронте резко приблизилось к нему, словно бы ожило. Вот откуда эти строки: «Жизнь мою спасали много суток в белом, как десантники, врачи», «Как без вести пропавших ждут…» После нескольких лет безрадостного стихосочинительства он, возвратясь к пережитому и выстраданному на фронте под огнем как к главному событию своей судьбы, ее звездному часу, снова стал поэтом в подлинном смысле этого высокого определения — таким, каким явился к читателям в сорок третьем.
Есть глубокая внутренняя связь между последними стихами Гудзенко и теми, в которых рассказывал о жизни на войне он — окопник. Не выбросил из памяти, что
Было всякое… Бросали врукопашную Пыльные потрепанные роты. Забывали молодость вчерашнюю Под огнем мортиры криворотой. Рыли после каждого сражения Ямины просторные. Простые. Отводили нас на пополнение В хутора сожженные, пустые.Как и все солдаты, Гудзенко мечтал в войну о мире, о солнце, о счастье, которые принесет победа. Но он хотел во что бы то ни стало сберечь для будущего то, что в жестоких испытаниях войны, в минуты смертельной опасности проявлялось в людях: самоотверженность, душевную щедрость, дружбу, верность долгу. В кровавом сорок втором он думал о том, как надо будет жить в мирное время:
Я сына верно дружить научу, — и пусть не придется ему воевать. Он будет с другом плечо к плечу, как мы, по земле шагать. Он будет знать: последний сухарь делится на двоих.Издавна, кажется, с античной поры, существует поверье, что поэты обладают даром провидения. Случается, что в стихах они могут угадать, предсказать свою судьбу. Похоже, что это подтверждают и наши времена и поэты нашего времени.
«Сердце рвется к выстрелу», — написал в молодости Маяковский. «В зеленый вечер под окном на рукаве своем повешусь» — это Есенину мерещилась его судьба. Все у них так и случилось.
Мы не от старости умрем — От старых ран умрем, —написал Гудзенко, вернувшись с войны, в одном из первых послевоенных стихотворений. И еще одно его стихотворение, написанное тогда же:
Человек городской заколочен доской. Мать роняет первый ком, засыпают песком.Странным может показаться это стихотворение: ведь недавно кончилась война, и смерть уже не поджидала всех, как было на фронте, каждый день, каждый час. Конечно, как всякое лирическое стихотворение, оно и о себе. И то, и другое стихотворение родило общее предчувствие. Строки оказались пророческими: Гудзенко умер в феврале 1953 года, ему было всего тридцать лет. Это было очень тяжелое мрачное время: по воле Сталина вовсю в очередной раз раскручивался маховик злодеяний, шли аресты, еще туже завертывали гайки. Во время последней встречи с Эренбургом Гудзенко сказал ему печально: «Многое не так получилось…»
Для всех, кто знал Гудзенко, кто ценил его стихи, эта смерть была тяжелым ударом. Горе это отозвалось в стихах его товарищей по войне и поэзии. Написал стихотворение Юрий Левитанский — они в начале войны в Отдельной бригаде особого назначения были с Гудзенко пулеметным расчетом (Гудзенко первым номером, Левитанский вторым). Потом встретились, когда шли бои в Венгрии — Левитанский служил там в армейской газете «Родина зовет». Отталкиваясь от написанного Гудзенко стихотворения «Наш полк квартирует в деревне…», посвященного боям за Будапешт, в котором есть фраза «Письмо опоздало», Левитанский написал:
Опоздало письмо. Опоздало письмо. Опоздало. Ты его не получишь, Не вскроешь И мне не напишешь. Одеяло откинул. К стене повернулся устало. И упала рука. И не видишь. Не слышишь. Не дышишь.Два стихотворения написал Александр Межиров. Одно из них, видно, было так важно для него, что перепечатывалось потом во всех его сборниках:
Полумужчины, полудети. На фронт ушедшие из школ… Да мы и не жили на свете. — Наш возраст в силу не вошел. Лишь первую о жизни фразу Успели занести в тетрадь, — С войны вернулись мы и сразу Заторопились умирать.В одном из стихотворений Гудзенко сорок пятого года, вскоре после победы, есть строки о том, что вернувшиеся с войны напишут такое, что «отцами-солдатами будут гордиться сыны». Это обещание тоже оказалось провидением, воплотившимся в жизнь.
Обычно о талантливом человеке, жизнь которого оборвалась рано, с горечью говорят: сколько бы он мог еще сделать! Но о Семене Гудзенко нельзя не сказать и другое: как много он успел, какой яркий след оставил в нашей поэзии. Стихи его прошли не знающую снисхождения проверку временем, выдержали этот самый строгий экзамен. Рожденные войной и посвященные великой войне, они сохранили живую силу, неугасший жар правды и человечности…
Ангел справедливости всегда опаздывает… (О Викторе Некрасове — его судьбе и книгах)
Сначала о его судьбе…
«Вурдалак Иосиф Сталин наградил его премией. Сумасброд Никита Хрущев выгнал из партии. Брежнев выдворил из СССР. Чем либеральнее был вождь, тем Некрасову больше доставалось».
Это написал Сергей Довлатов — известный насмешник, безошибочно находивший повод для веселья даже тогда, когда он не лежал на поверхности, прятался во внешне вполне благопристойных, солидных явлениях. Но он бы никогда не стал резвиться, говоря о Некрасове, — любил его книги, находился под обаянием его личности. Но в данном случае примером ему служил сам Некрасов — Довлатов не скрывает этого. Свой пассаж он заканчивает так, указывая на этот источник своего насмешливого тона: «Виктор Платонович часто и с юмором об этом рассказывает».
Это верно. Да, когда речь шла о перипетиях его собственной непростой судьбы, Некрасов говорил об этом иронически. Но когда дело касалось вещей общих, затрагивающих не только его — многих людей, он был серьезен.
Еще одна цитата.
Заканчивая свою статью «Об „окопной правде“ и прочем», напечатанную в парижской «Русской мысли» за несколько месяцев до его кончины (кажется, это была вообще последняя написанная им статья), Некрасов цитирует Василя Быкова: «От умения жить достойно очень многое зависит в наше сложное тревожное время. В конечном счете именно наукой жить достойно определяется сохранение жизни на Земле. Жить по совести нелегко. Но человек может быть человеком, и род человеческий может выжить только при условии, что совесть людская окажется на высоте…»
После этого Некрасов пишет: «Как хорошо сказано… Да, жить по совести нелегко… А если к тому же запрещено? А может быть, даже и наказывается? С каким трудом пробивалась та самая то пацифистская, то ремарковская „окопная правда“ про Великую Отечественную войну. А про эту — и не великую, и не отечественную, а позорную — кто и когда расскажет? (Некрасов имеет в виду войну в Афганистане. — Л. Л.) В ней-то теперь и окопов как таковых нет, а есть вертолеты, и непонятно, кто враг и кого от кого защищаешь… И защищаешь ли… Может, просто убиваешь. И сам гибнешь. Неизвестно, за какую „правду“. А может быть, просто за Зло».
Заканчивается статья Некрасова полными горечи и печали словами: «Бог ты мой, как трудно быть русским писателем. Как трудно жить по совести…»
Не себя он тогда имел в виду — собратьев по перу в Советском Союзе, которым затыкали рот, которых преследовали за правду. Но мне кажется и о себе он тоже думал, и о своей судьбе писателя, который старался жить и писать по совести, и как ему за это доставалось…
Более подробный разговор о жизненном и творческом пути Некрасова еще впереди.
Но сначала — это логично — все-таки о его дописательской биографии. Он сам рассказывает ее на склоне дней в Париже, где жил на положении эмигранта:
«Родился 17 июня 1911 года в городе Киеве (Россия). Отец — Платон Федосеевич Некрасов — банковский служащий (1878–1917). Мать — Зинаида Николаевна Некрасова (до брака Мотовилова) — врач (1879–1970).
Детство провел в Лозанне (мать окончила медицинский факультет Лозаннского университета) и в Париже (мать работала в военном госпитале). В 1915 году вернулись в Россию и обосновались в Киеве.
После окончания школы учился в железнодорожно-строительной профшколе, в Киевском строительном институте (окончил архитектурный факультет в 1936 г.) и в театральной студии при киевском Театре русской драмы (окончил в 1937 г.).
До начала войны некоторое время работал архитектором, потом актером и театральным художником в театрах Киева, Владивостока, Кирова (бывш. Вятка) и Ростова-на-Дону.
С августа 1941 года — в армии. Воевал в Сталинграде, на Украине, в Польше. После второго ранения в 1944 г. демобилизовался в звании капитана. Награды — медаль „За отвагу“ и орден Красной Звезды.
С 1945 по 1947 г. работал журналистом в киевской газете „Советское искусство“».
Во время отпуска по ранению и в первые послепобедные месяцы Некрасов написал свою первую книгу. Эту (вернее, такую) книгу о войне ждали — прежде всего фронтовики, надеявшиеся, что пережитое ими будет закреплено, увековечено в правдивом повествовании. В литературной среде самые проницательные знатоки давно предрекали появление литературы участников войны, книг не о войне, а изнутри войны. В июле сорок третьего года — позади остались два самых тяжелых и кровавых года войны, но очень далеко было до ее конца, сколько еще братских могил будет вырыто на этом пути — Илья Эренбург писал: «Замечательные книги о войне напишут не соглядатаи, а участники, у которых теперь подчас нет возможности написать письмо родным… Зародыш классического романа уже живет в голове фронтовика, который теперь думает куда меньше о литературных формах, нежели о характере вражеской обороны».
Пророческие слова Эренбурга имеют самое непосредственное отношение к первой книге Некрасова. Это был рассказ изнутри войны о боях за Сталинград и в Сталинграде, боях, в которых ее автор, офицер-сапер, участвовал с самого начала, с бесславного летнего отступления на восток после харьковской катастрофы (мы называли это тогда со свойственной тому грозному времени прямотой и злой горечью «драпом»), до победного конца, до капитуляции разгромленной, оказавшейся в безвыходном положении армии Паулюса. Рукопись повести он, никому не известный в литературном мире, отправил в редакцию журнала «Знамя».
«На краю земли» — так называлась его повесть. Это было точное название, передающее тяжелое чувство людей, которым пришлось сражаться с завоевывающим наши земли врагом уже на берегу Волги, в приволжских степях, в невообразимой окраинной дали, действительно на краю земли. Полк, в котором служит главный герой произведения лейтенант Керженцев, сапер, в мирной жизни архитектор (от его имени ведется повествование), разбит наступающими немцами, те, кто уцелел и не попал в плен, в беспорядке отступают на восток: «И полка нет, и взвода, и Ширяева, и Максимова. А есть только натертая пятка. Насквозь пропотевшая гимнастерка в белых разводах, „ТТ“ на боку и немцы в самой глубине России, прущие лавиной на Дон. И вереницы машин. И тяжело, как жернов, работающие мысли». И еще через несколько страниц: «За Доном опять степи, безрадостные тоскливые степи. Сегодня, как вчера, завтра, как сегодня. Солнце и пыль — больше ничего. Одуряющая разжижающая мозги жара».
То были общие гнетущие мысли, общее горькое и отчаянное, но накапливающее энергию сопротивления чувство: здесь предел, дальше отступать некуда, невозможно.
Затем название повести менялось дважды: при публикации в «Знамени» напугала (по тем временам не без оснований его мрачность, можно ли так — «На краю света» — о великой, кончившейся все-таки нашей победой битве? — решили назвать «Сталинград». В книжном издании автор изменил, уточнил название — «В окопах Сталинграда». Под этим названием повесть и прославилась…
Вообще у нее была удивительная, полная неожиданных поворотов судьба. Но, как говорится, родилась она в сорочке. Первая ее часть была опубликована в «Знамени» № 8–9 за 1946 год. Окончание — в октябрьской книжке журнала, которая открывалась известным зубодробительным постановлением ЦК ВКП(б) от 14 августа 1956 года «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“», уничтожавшем Анну Ахматову и Михаила Зощенко, наводившем жесткий порядок в литературе и духовной жизни, кончавших с относительной вольницей военных лет. Представь автор в редакцию рукопись на два-три месяца позже, замешкайся журнал с ее публикацией — она пошла с колес, можно не сомневаться, нацеленный постановлением ЦК на резкое повышение идеологической бдительности Главлит ни за что не пропустил бы ее в печать.
Приведенное этим постановлением в состояние повышенной боевой активности на поприще истребления всяческой крамолы руководство Союза писателей вычеркнуло выдвинутую редакцией «Знамени» на соискание Сталинской премии повесть Некрасова и даже провело два совещания, готовя разгром в печати порочного произведения. Вот что, судя по сохранившемуся протоколу, говорил возглавлявший заседание Александр Фадеев: «Автор не может, естественно, удовлетворить тем требованиям, которые предъявляют к нему читатели романа „Сталинград“… Автор хочет показать моральную стойкость обыкновенного простого советского человека в Отечественной войне и причины этой стойкости. Но зрение этого автора, выражение этой мысли очень ограниченное, потому что он смотрит глазами довольно узкой части интеллигенции, получившей эстетское испытание».
Здесь, наверное, стоит сказать несколько слов о Всеволоде Вишневском, который возглавлял тогда «Знамя». Его собственные произведения — он писал в приподнято романтическом с примесью патетики стиле — не без оснований забыты. Но как у редактора журнала у него есть серьезные заслуги. Он напечатал несколько вещей, которые были совсем не по тогдашней идеологической и литературной погоде. Но книги эти и сегодня сохранили свою живую силу, оказались долговечными. Можно понять, почему он печатал «Звезду» — в этой повести Эммануила Казакевича есть хоть и отдаленная близость с его собственными литературным устремлениями и вкусом. Но увидевшие свет в «Знамени» «Спутники» Веры Пановой и сталинградская повесть Некрасова были чуждой для него стилистики, а он их печатал. Что касается Некрасова, то Вишневский, конечно, понимал, что повесть эта будет находиться в зоне критического обстрела. Об этом свидетельствует его письмо Некрасову — похоже, что оно писалось после не внушавшего оптимизма обсуждения повести руководством Союза писателя — Вишневский знал уже, что аплодисментов не будет, но твердо стоял на своем, был уверен, что поступил правильно. Он писал Некрасову: «Это в данное время наиболее ценная и наиболее точная вещь о событиях в Сталинграде. Мы, конечно, могли бы при нашем умении и искусстве здорово Вас выстирать, пропустить через синьку, подкрахмалить и отутюжить. К этому склоняются все наши критические „недоросли“. А я решил оставить вещь такой, какой она вышла из-под пера окопника». И в своих воспоминаниях о Вишневском Некрасов написал, что он был «в редакторской деятельности более чем смелый. Мной он „увлекся“, и здесь его прямота и смелость, небоязнь „инстанций“ очень мне помогли — „Сталинград“ вышел в том виде, как мы хотели».
Уже первая фраза повести: «Приказ об отступлении приходит совершенно неожиданно» не могла не привести неистовых ревнителей идейной стерильности в ярость: Сталинград — замечательная наша победа, знаменовавшая коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, только политический недоросль или злобный клеветник мог начать повествование об этом великом событии с изображения нашего отступления. Короче говоря, повесть была обречена.
И вдруг по непостижимому, так и оставшемуся невыясненным, капризному повелению Сталина, поставившему идеологическое и литературное начальство в тупик (как известно, Сталину вопросов не задавали, а он своими соображениями делился лишь по собственной охоте), повесть Некрасова была удостоена Сталинской премии — что и спасло ее от запланированного неминуемого разгрома.
Книга Некрасова представляла собой рассказ не наблюдателя — пусть и даже очень глазастого, — в часы затишья ненадолго попавшего по редакционной или какой-то другой служебной надобности на передний край, а человека, познавшего все опасности и тяготы, обрушивающиеся на «окопника», на своей шкуре и изобразившего их без прикрас и смягчений. Это была книга изнутри войны, появление которой предсказывал Эренбург. До нее суровый, дорогой ценой оплаченный опыт солдат и офицеров с «передка», к которым и принадлежал автор, не находил правдивого отражения ни в книгах, ни в кинофильмах. В подавляющем большинстве произведений той поры «окопники» были в лучшем случае безликой «массовкой», им полагалось дружно бежать в атаку, кричать «За Родину, за Сталина! Ура!», а крупным планом изображались «орлы», «чудо-богатыри» которым все было нипочем, и в огне они не горели, и в воде не тонули, неуязвимые для пуль и мин, они били захватчиков как мух.
Некрасовские герои совершенно на них не похожи — вот несколько почти наугад выбранные их портреты: «Лицо у него совсем розовое, с золотистым пушком на щеке. И глаза совсем детские — веселые, голубые, чуть-чуть раскосые, с длинными, как у девушки, ресницами. С таким лицом еще голубей гонять и с соседскими мальчишками драться»; «Один долговязый, сутулый, с короткой по колени шинели. Его фамилия Фарбер. По-видимому, из интеллигентов — „видите ли“, „собственно говоря“, „я склонен думать“»; «Стягивает через голову тельняшку. На груди его мускулистой и загорелой — синий орел с женщиной в когтях. Под левым соском — сердце, проткнутое кинжалом, на плече — череп и кости».
Тот образ войны, который тогда всеми видами искусства и пропаганды вбивался в головы людей, ничего общего не имел с тем, что видели и пережили фронтовики. Потому что такой войны, как в этих книгах и фильмах, просто не было. Повесть «В окопах Сталинграда» словно бы возвращала «окопникам» недавнее незажившее, незаживающее прошлое, девальвированное, перечеркнутое официально признанной и сверхобильно тиражируемой муляжной литературой.
Оценить опубликованную книгу, особенно по прошествии некоторого времени после ее выхода в свет, когда уже более или менее сложилось читательское мнение о ней, конечно, гораздо проще, чем определить достоинства рукописи. Строгая взыскательность литературных оценок и характеристик Александра Твардовского широко известна: он скидок никому не делал — в том числе и молодым, начинающим. Но вот что он писал в так называемой внутренней рецензии, прочитав рукопись поступившей из «самотека» повести Некрасова: «Первое очевидное достоинство книги — то, что лишенная внешне сюжетных, фабульных приманок, она заставляет прочесть себя одним духом. Большая достоверность свидетельства о тяжелых и величественных днях борьбы накануне „великого перелома“, простота и отчетливость повествования, драгоценнейшие детали окопного быта и т. п. — все это качества, предваряющие несомненный успех у читателя. Это правдивый рассказ о великой победе, складывавшейся из тысяч маленьких неприметных приобретений боевого опыта и морально-этического превосходства наших воинов задолго до того, как она, победа, прозвучала на весь мир. И рассказ этот — литературно полноценный, своеобычный, художнически убедительный…»
Здесь Твардовский проницательно, хотя и в общей форме (задача внутренней рецензии оценочно прагматическая — он рекомендовал повесть опубликовать) определены важнейшие достоинства содержания и поэтики повести «В окопах Сталинграда», ее принципиального значения особенности, которые, когда позднее были подхвачены и продолжены «лейтенантской прозой», рассматривались официозной критикой — в самом снисходительном варианте — как серьезные идейно-эстетические слабости, а чаще как опасные, вредоносные, подлежащие беспощадному искоренению пороки. Это тогда апологетами благословляемой ПУРом эстетики и «правильной», по уставам и наставлениям, генеральской войны были пущены в ход для устрашения редакторов и издателей идеологические ярлыки: «окопная правда», «дегероизация», «ремаркизм», «абстрактный гуманизм».
В «Севастопольских рассказах» (любимом произведении Некрасова) Толстой, подведя читателей к дверям лазарета, говорит им: вы тут «увидите войну не в правильном красивом и блестящем строю, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами. А увидите войну в настоящем ее выражении — в крови, страданиях, в смерти».
Конечно, в войну, которая изображается в повести «В окопах Сталинграда», в которой пришлось участвовать ее автору и ее героям, ничего этого не было и в помине, не могло быть — ни правильного строя, ни бравурной музыки, ни гарцующих генералов, но отвергнутое, опровергнутое еще Толстым представление о войне как о загодя придуманном и хорошо отрепетированном высшими руководителями армии и государства историческом спектакле оставалось незыблемым (отсюда, например, десять ударов в 1944 году, выдававшиеся за гениальное полководческое прозрение Сталина, обеспечившее важнейшие победы). Такого рода представления о войне, возведенные в ранг непререкаемой исторической истины, стали фундаментом расцветшего пышным цветом официозного парадного искусства. И не только в литературе и кино, но и в гигантских безвкусных памятниках — в том числе в Сталинграде. Об известной сталинградской панораме, якобы воссоздающей штурм нашими войсками засевших на Мамаевом кургане немцев, Некрасов, воевавший тогда там, сказал, что никакого штурма не было — немцы сами оставили эту высоту, которую не могли защищать.
В своей повести Некрасов рассказывает о том, что было в действительности, что видел его герой, что пережил (ему он передал свой собственный фронтовой опыт).
И когда летом 1942 года после сокрушительного удара немцев, воспользовавшихся грубыми ошибками советского командования, отступал в разбитых частях на восток, к Сталинграду.
И когда немецкая авиация, господствовавшая тогда в небе, обрушилась на город, превратив его в огромный пылающий костер. Вот как рассказывается об этом в повести Некрасова: «Город горит. Даже не город, а весь берег на всем охватываемом глазом расстоянии. Трудно даже сказать — пожар ли это. Это что-то большее. Так, вероятно, горит тайга — неделями, месяцами, на десятки, на сотни километров. Багровое клубящееся небо. Черный, точно выпиленный лобзиком, силуэт города. Черное и красное. Другого нет».
И когда на улицах города, вернее, в его развалинах, почти у самого берега — каких-нибудь двести простреливаемых метров, разыгрались невиданного ожесточения бои — за переходящий из рук в руки дом, лучше, точнее сказать, то, что от него осталось, какой-то полузасыпанный подвал, кусок разбитой стены.
Все это воссоздается в повести в несочиненных, точных, неповторимых, зорко увиденных и запомнившихся подробностях — психологических, бытовых, батальных.
Деление это, разумеется, условное, детали сливаются, прорастают друг в друга. «Есть детали, — замечает в повести Некрасов, и тут ключ к его образной системе, поэтике, — которые запоминаются на всю жизнь, и не только запоминаются. Маленькие, как будто незначительные, они впиваются как-то в тебя, начинают прорастать. Вырастают во что-то большое, значительное, вбирают в себя всю сущность происходящего…»
Когда-то Сергей Эйзенштейн посвятил свою лекцию студентам ВГИКа разбору одного из эпизодов повести Некрасова — интересно уже и то, что он выбрал для разбора первую вещь тогда в общем молодого, дебютировавшего писателя. Замечательный режиссер, обладавший острым аналитическим зрением, убедительно раскрывал, как при абсолютной естественности, неподстроенности весома, многозначительна и многозначна в исповедуемой и практически реализуемой автором «В окопах Сталинграда» эстетике каждая подробность. Стоит, скажем, обратить внимание на ряд таких, казалось бы, невыразительных деталей, как цифры, которые время от времени без малейшего нажима, как бы мимоходом всплывают в разговорах персонажей. «Активных штыков двадцать семь» — это в батальоне, и не после самых жестоких боев. А вот уже в самом Сталинграде: «В той дивизии человек сто, не больше. Две недели на том берегу дерутся». Детали эти, открывающие масштаб потерь, необычайно существенны для понимания не только того, что делается вокруг героев, фронтовой обстановки, но и их душевного состояния.
Я уже не говорю о таких, например, подробностях. «Я помню одного убитого бойца. Он лежал на спине, раскинув руки, и к губе его прилип окурок. Маленький, еще дымившийся окурок». Или: «Я кидаю коробок. Он не долетает шага на два. Фу ты, черт! Сидящий в воронке протягивает руку. Нет, не дотянулся. Мы оба не сводим с коробка глаз. Маленький. Чернобокий. Он лежит на снегу и точно смеется над нами. Потом появляется винтовка. Медленно, осторожно высовывается из воронки. Движется по снегу, тычется в коробок. Вся эта операция тянется целую вечность. Коробок скользит, отодвигается, никак не хочет за мушку цепляться. У хозяина винтовки от напряжения даже рот раскрывается. В конце концов он все-таки зацепляет его. Голова и винтовка исчезают. Над воронкой появляется легкий дымок». Или еще такая деталь: «Иногда сбрасывают по четыре небольшие аккуратненькие бомбочки. По две из-под каждого крыла. Или длинные, похожие на сигару, ящики с трещотками, противопехотными минами. Гранаты рассыпаются. А футляр еще долго кувыркается в воздухе, а потом мы стираем в нем белье — две половинки, совсем, как корыто».
Андрей Платонов, сразу же откликнувшийся на повесть молодого автора (еще до того, как она стала лауреатской) высоко оценивающей ее рецензией, отмечал, что автор придает описанию войны, всему движению чувств и действий человека пребывающего в огне боя, необыкновенно ощутительную, живую, непосредственную конкретность; читатель все время живет в том потоке событий, в который вовлек его автор. Из всех этих ненамеренных, невыпяченных, непедалированных подробностей как бы сама собой складывается, выявляется не лежащая на поверхности, не обнаженная для дидактической наглядности главная мысль, главная идея повести, пронизывающая всю ее от начала до конца. Она в том, что нечеловечески тяжкая битва «на краю земли» за лежавший в руинах и пепле город на Волге, битва, ставшая в конечном итоге долгожданным переломом в ходе Великой Отечественной войны, была выиграна самоотверженностью, готовностью к самопожертвованию, патриотическим воодушевлением множества самых обыкновенных, на языке тех лет, «рядовых защитников» Сталинграда. Корень победы в том, что Пушкин когда-то в связи с войной 1812 года назвал «остервенением народа», а Толстой в «Войне и мире» — «дубиной народной войны».
В последней главе повести, но не в ее финале, это было бы для Некрасова слишком жирной точкой (вкус и чувство меры у него безупречны), автор словно подводит итог своим разлитым в повести наблюдениям и размышлениям. Дивизия, в который служит Керженцев, добивает в центре города окруженных немцев. Длинной вереницей плетутся к Волге пленные. В блиндаже у саперов и разведчиков отмечают возвращение Керженцева из госпиталя. Конечно, выпивают. Неожиданно возникает разговор об одержанной победе.
«Чумак поворачивается на живот и подпирает голову руками.
— А почему инженер? Почему? Объясни мне вот.
— Что „почему“?
— Почему все так вышло? А? Помнишь, как долбали нас в сентябре? И все-таки не вышло. Почему? Почему не спихнули нас в Волгу?
У меня кружится голова, после госпиталя я все-таки слаб.
— Лисагор, объясни ему почему. А я немножко того, прогуляюсь…
…Чумак спрашивает, почему. Не кто-нибудь, а именно Чумак. Это мне больше всего нравится. Может быть, еще Ширяев, Фарбер спросят меня — почему? Или тот старичок-пулеметчик, который три дня пролежал у своего пулемета, отрезанный от всех, и стрелял до тех пор, пока не кончились патроны? А потом с пулеметом на берег приполз. И даже пустые коробки из-под патронов приволок. „Зачем добро бросать — пригодится“. Я не помню даже его фамилии. Помню только лицо его бородатое, с глазами-щелочками и пилоткой поперек головы. Может, он тоже спросит у меня — почему? Или тот пацан-сибирячок, который все время смолку жевал. Если б жив остался, тоже, вероятно, спросил бы — почему? Лисагор рассказал мне, как он погиб. Я его всего несколько дней знал, его прислали незадолго до моего ранения. Веселый, смышленый такой, прибауточник. С двумя противотанковыми гранатами он подбежал к подбитому танку и обе в амбразуру бросил.
Эх, Чумак, Чумак. Матросская твоя душа, Ну и глупые же вопросы ты задаешь…»
Можно ли яснее, конкретнее выразить идею народной войны, воздать должное тем, кому мы обязаны дорого стоившей победой и в сталинградской битве, и во всей, казалось, бесконечной войне? Точно заметил Андрей Платонов в уже упоминавшейся мною рецензии: «В самом изображении наших воинов автор сумел раскрыть тайну нашей победы».
Есть такая распространенная формула — «главная книга», довольно часто встречающаяся в современных критических статьях и писательских интервью. Строго говоря, она не является литературоведческим научным определением. Главной книгой критики обычно называют самое значительное, самое зрелое, чаще всего это последнее, итоговое творение писателя. Писатели же обычно имеют в виду книгу, над которой они работают и которая им представляется гораздо важнее всего, что ими написано до этого.
С Некрасовым история уникальная: главной его книгой оказалось первое произведение. Он после нее написал много хороших вещей, широко читавшихся, пользовавшихся успехом. И все-таки в памяти читателей он был, оставался, остается автором повести «В окопах Сталинграда».
Читательский успех ее не поддается описанию: общий тираж многочисленных переизданий — несколько миллионов экземпляров, переводы — на тридцать шесть языков. Очень высок был достигнутый автором уровень жизненной и художественной правды. Это сразу же отметили многие писатели старшего поколения, бывшие в войну корреспондентами армейских газет, «Красной звезды», у них были свои впечатления от поездок по заданию редакций на фронт. Я уже назвал Всеволода Вишневского, Александра Твардовского, Андрея Платонова. К ним надо добавить Василия Гроссмана, который к тому же все время сталинградской эпопеи был на этом фронте. Илья Эренбург, которому тоже приходилось бывать на фронте, вспоминая в своей знаменитой мемуарной книге «прекрасные повествования» о трагических годах войны, на первое место поставил книгу Некрасова. К тому же, что тоже очень важно, они, строгие ценители, отдавали себе отчет в литературных достоинствах повести Некрасова. Даниил Гранин говорит о ее «безупречной правде».
Повесть «В окопах Сталинграда» оказала очевидное очень сильное и благотворное влияние на литературный процесс. Когда на рубеже 50-х и 60-х годов столь заметно заявила о себе литература фронтового поколения или, как ее еще называли, «лейтенантская проза» (хотя среди ее авторов были и солдаты), выяснилось, что у истоков этого мощного литературного направления находится повесть Некрасова. В XIX веке было сказано: «Все мы вышли из гоголевской шинели». Столь же высокой формулой: «Все мы вышли из некрасовских „окопов“» писатели фронтового поколения определили роль повести Некрасова в их творческой судьбе, он был всеми ими признанным лидером. Это засвидетельствовали Григорий Бакланов и Василь Быков, Булат Окуджава и Вячеслав Кондратьев, Даниил Гранин и Елена Ржевская, Владимир Богомолов и Алесь Адамович. Борис Слуцкий писал тогда: «Повесть В. Некрасова обогнала свою литературную эпоху, во многом предваряя наше время».
«В окопах Сталинграда» не утратили за прошедшие шесть десятилетий живой силы, завораживающей эстетической привлекательности. А срок ведь немалый, за это время потускнели, канули в Лету многие, очень многие книги.
Но, что поделаешь, исходивший от «главной книги» Виктора Некрасова свет был так ярок, что, видимо, помешал, как следует рассмотреть и оценить по достоинству его последующее творчество, оно оказалось словно бы отодвинуто в тень. Перечитывая сегодня его произведения, написанные после «Окопов», ясно видишь их кровное содержательное и эстетическое родство с самой знаменитой вещью Некрасова и те новые открытия в художественном исследовании действительности и духовного мира современников, которые они в себе заключали. Скажем, его рассказы о войне «Судак» (1958) и «Вторая ночь» (1960) без всяких оговорок могут быть поставлены рядом с «Окопами» — сегодня это не вызывает никаких сомнений.
Надо иметь в виду, что были и серьезные привходящие обстоятельства, во многом определившие нескладно сложившуюся судьбу написанных после «Окопов» повестей «В родном городе» (1954) и «Кира Георгиевна» (1961). Дело в том, что «охранная грамота» Сталинской премии, которая в свое время прикрыла «В окопах Сталинграда» от нависавшей опасности уничтожающей официозной критики, на эти вещи уже не распространялась. Вершители литературных судеб расправлялись с этими произведениями с пылом, подогреваемым еще тем, что в свое время им не удалось разгромить «В окопах Сталинграда», они словно бы брали реванш за то, что вынуждены были тогда промолчать. В инспирированных руководителями идеологических служб разносных статьях утверждалось, что Некрасов очерняет нашу действительность, что его повести о послевоенной жизни — скучные плоские книги о задворках великой замечательной эпохи, о неинтересной буднично-серой жизни, герои их жалки и духовно примитивны. Это была целенаправленная игра на «понижение», причем игра в одни ворота — тем, кто был готов, кто хотел бы оспорить эти облыжные обвинения, эти явно искажающие содержание, обесценивающие художественные достоинства некрасовских повестей характеристики, таким критикам путь на газетные и журнальные страницы был очень непрост, а большей частью и вовсе наглухо закрыт.
С той поры идеологические надзиратели в покое Некрасова не оставляли. Официозная критика встречала в штыки не только его художественные произведения. Доставалось ему и за эссеистские заметки по вопросам искусства: за посвященные кино, но распространяющиеся и на другие искусства «Слова „великие“ и простые» (1959), — он выступил против напыщенной героической риторики, котурнов, велеречивой патетики; за размышления об архитектуре «О прошлом, настоящем и чуть-чуть о будущем» (1960) — он критиковал безвкусную монументальность и убогое однообразие тогдашнего советского градостроительства. Его эстетические взгляды квалифицировались как идейно порочные, а потому подлежащие решительному искоренению. А на самом деле — и это вскоре выяснилось — речь уже шла не только о писательском кредо, но и о жизненной позиции Некрасова, которую власти не намерены были терпеть.
Повесть «В родном городе» подверглась столь свирепым нападкам блюстителей идеологической стерильности и приверженцев эстетики «потемкинских деревень», потому что она была одним из первых произведений, несших в себе уже пробивавшиеся «оттепельные» веяния.
Говорят, что одна ласточка весны не делает. Но что ждет эту первую ласточку, рассчитывавшую на весеннее тепло, а столкнувшуюся с еще не отступившими морозами? «В родном городе» было такой обреченной на нелегкую судьбу первой ласточкой. Некрасов в своей повести рассказывал о трудном переходе от войны к миру, о разрухе, руинах и пепелищах, о разоренных душах, о возвращении фронтовиков — изувеченных, искалеченных, у которых не было ни кола, ни двора. Все это таило в себе тяжелые драмы, которые при жизни Сталина искусство вынуждено было обходить, во всяком случае до Некрасова никто не рискнул заняться ими.
В мае сорок пятого — еще гремели последние залпы на полях сражений — Сталин заявил, что «наша социалистическая экономика укрепляется и растет, а хозяйство освобожденных областей, разграбленное и разрушенное немецкими захватчиками, успешно и быстро возрождается». И в соответствии с этой основополагающей непререкаемой установкой художники должны были в розовом свете изображать окружающую их действительность. Хотя на самом деле, если что возрождалось очень активно и целеустремленно, то государственное самодовольство и самохвальство, которое привело нас к катастрофе в начале войны.
И герой повести «В родном городе» капитан Митясов, уволенный после тяжелого ранения из армии, вернувшийся в предпобедные дни, как и ее автор, в Киев, увидел безрадостную мрачную картину: «Возле шестиэтажного углового дома Николай остановился. Закурил. Дом был сожжен. Сквозь пустую витрину молочного магазина — еще вывеска сохранилась — видны были груды обгорелого кирпича… Соседний с угловым, двадцать четвертый номер, тоже был сожжен… Некоторое время Николай стоял перед домом и, задрав голову, смотрел на пятый этаж. Маленький тополь, росший из трещины балкона, за эти три года так вырос, что стал уже вровень с перилами. Сквозь окна было видно небо и изогнутые железные балки».
Тягостное впечатление героя от первой встречи с родным городом, с улицей, на которой он жил, потом будет подтверждено множеством точных и выразительных подробностей — бытовых и психологических. Мы узнаем и что тогда ели и пили, едва перебиваясь с хлеба на воду, и где ютились в разрушенном городе, и во что, в какие обноски, были одеты, и что тяготило, лишало душевного равновесия, и к чему стремились, о чем мечтали. Как и в «Окопах», Некрасов изображает повседневное течение будничной жизни — очень нелегкой — простых людей.
Переход Митясова и некоторых других персонажей повести — фронтовиков к мирной жизни (изображаемый в витринно-муляжной литературе в сияюще-радужном свете), был, как и в реальной жизни, столкновением с непробиваемым бюрократическим бездушием: «Везде были очереди, и надо было кого-то дожидаться, или не хватало какой-то справки, или надо было ее заверить у нотариуса, а там тоже была очередь, или опять надо было кого-то дожидаться, одним словом, Николай столкнулся с той жизнью, тяжелой, непонятной ему и часто раздражающей жизнью тылового города, о которой он в армии как-то даже не задумывался». А за этим бытовым планом встает в повести другой — можно сказать, судьбоносный, о котором через много лет написал горькие строки Борис Слуцкий:
Когда мы вернулись с войны, Я понял, что мы не нужны. Совсем не такие нужны.Это один из двух главных смысловых узлов повести, авторское название которой «Из огня…» (читатель вместо многоточия сразу же мысленно восстанавливал вторую часть поговорки «да в полымя») точно раскрывало ее содержание (страхуя себя и автора, для этого, надо признать, были серьезные основания, редакция предложила безопасный вариант). Второй смысловой узел повести связан с нараставшим после войны партийно-бюрократическим произволом, который больнее всего ударил по людям, оказавшимся на захваченной немцами территории. Они натерпелись в оккупации бесчисленных бед и постоянного страха, но, как это ни дико, ни горько, освобождение принесло им новые лишения, новый страх и унижения. Теперь все они на государственном уровне подозреваются в предательстве, в поголовном сотрудничестве с врагом и подвергаются всяческой дискриминации. При тоталитарном режиме в стране они, без вины виноватые, объявлены людьми второго, если не третьего сорта. Чем не преминули воспользоваться карьеристы, получившие государственные преимущества «чистой» анкеты.
Декан факультета, на котором учится Митясов, выживает под этим предлогом («Не проторчал он три года в оккупации? Как миленький просидел. И черт его знает, чем еще там занимался. Книжечки продавал! Знаем мы эти книжечки») превосходного специалиста, старого, любимого студентами профессора, заменяя его бездарным преподавателем, но своим человеком. Когда за профессора заступился студент-фронтовик, которому пришлось побывать в страшном фашистском плену, декан и его обвинил в предательстве: «Липа все. Сплошная липа. Три четверти из них добровольно сдавались». И тут Митясов не выдержал, отвесил мерзавцу пощечину.
В сущности эту пощечину автор адресовал властям. Свою вину за то, что полстраны было отдано врагу, они решили переложить на тех несчастных, которые оказались на оккупированной территории или попали в плен. В этом была подоплека, иезуитская суть анкетного вопроса: «Были ли вы или ваши родственники в плену или на оккупированной территории?» От ответа на этот вопрос зависела судьба человека: возьмут или не возьмут на эту работу, можно ли поступить в этот институт, или с таким «пятном» двери туда для него закрыты, пустят или не пустят в зарубежную командировку и т. д. и т. п.
Возникает персональное дело Митясова, ему грозит исключение из партии и института, факультет бурлит. Здесь автор обрывает повествование. Чем может кончиться дело Митясова, читателю предоставлена возможность судить самому — в зависимости от его жизненного опыта.
Но вот еще на что, наверное, стоит обратить внимание. Бывают же такие поразительные совпадения: Некрасов персональным делом Митясова словно бы напророчил себе самому будущие нешуточные неприятности, и даже не одно у него было персональное дело, и хорошо известно, как и чем они кончались…
Появившаяся затем маленькая повесть «Кира Георгиевна» — тоже о возвращении. Но не о возвращении с фронта, как в предыдущей повести, а из лагеря и ссылки, куда один из его героев этой книги Вадим Петрович, тогда молодой поэт, угодил почти двадцать лет назад. Эта кровавая мясорубка тюрем и лагерей была одним из самых страшных преступлений советского строя, трагедией, исковеркавшей жизнь миллионов людей. Некрасов занялся этой закрытой, долгие годы запретной темой еще до того, как был напечатан «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына (книга эта потрясла Некрасова), сочинены Александром Галичем знаменитые «Облака». Однако «Кира Георгиевна» не принадлежит к «лагерной литературе» (как ее позднее, после появления повести Солженицына, стали называть), лагерное прошлое героя остается за кадром. Некрасов сосредоточен на духовных последствиях воцарившегося в стране тоталитарно-лагерного режима, который был губителен и за пределами огражденного колючей проволокой пространства.
Некрасов — и в этом одна из существенных особенностей его дарования — писал лишь о том, что знал досконально (он даже говорил, что сочинительство ему не дается, он не «профессионал»), что так или иначе было пережито им. Позже в одной из уже эмигрантского периода вещей, объясняя, почему не писал и не пишет о тюремной и лагерной России, он со свойственной ему прямотой и щепетильностью заметил: «…Не мне, не испробовавшему тюремной похлебки, а по-русски баланды, не мне, после Шаламова и Солженицына, рассказывать об этих не случившихся, но возможных днях. Поэтому и пропуск». Но среди друзей и близких знакомых Некрасова было немало тех, кто вернулся из лагерного небытия, их послелагерные драмы разыгрывались на его глазах.
Арест сломал судьбу Вадима Петровича, но сам он не сломался, пожалуй, даже утвердился в своих представлениях о главных жизненных ценностях. А у его юной жены — она главная героиня повести, ее именем она названа, — судьба как будто бы сложилась вполне благополучно: арест разлучил Вадима с Кирой, но из лагеря он написал, чтобы она не осложняла себе жизнь, развелась с ним, что она и сделала. Все потом вроде бы устроилось в жизни Киры Георгиевны неплохо: она старалась жить легко, комфортно, не обременяя трудными вопросами свою совесть. Но обернулась тяга к беззаботной жизни душевной опустошенностью, утратой нравственных ориентиров, а в искусстве (она скульптор, в молодости подавала надежды) компромиссами, готовностью делать то, что велят, то, что котируется. В общем, она терпит крах и в жизни и в искусстве. Нет, Некрасов не казнит Киру Георгиевну, он следует принципу, в свое время сформулированному Достоевским: «При полном реализме найти человека в человеке». Он не щадит свою героиню, с «полным реализмом» изображен ее простодушный эгоизм, ее бездумные сделки с совестью, но она для него не монстр, он видит в ней и несчастного человека, жертву пагубных социальных обстоятельств, изображенных тоже с «полным реализмом»; в Кире Георгиевне много привлекательного, даже в ее легкомыслии есть какое-то обаяние. Суровый же приговор Некрасов выносит конформизму, нравственным недугам части нашей интеллигенции (в этой повести художественной интеллигенции), главная причина которых в разлагающей общество нехватке воздуха свободы.
Стоит напомнить и о том, что повести «В родном городе» и «Кира Георгиевна» и выбором героев, и нравственной проблематикой намечали путь для появившейся позднее «городской» прозе, ярким достижением которой стали «московские» повести Юрия Трифонова. Все это — и герои Некрасова, и больные проблемы, поднятые в его повестях, и стремление «при полном реализме найти в человеке человека» (на языке охранительной критики «абстрактный гуманизм») — квалифицировалось в авторитетной партийной печати (так ее величали) как злонамеренное искажение светлой картины нашей замечательной действительности, как подрыв идеологического фундамента советского искусства.
Конечно, эти постоянные критические нападки осложняли и омрачали жизнь писателя: печататься становилось все труднее, главлитовские аргусы читали его вещи через лупу, ревностно выискивая в них крамолу. Он был под подозрением. Я был связан с Некрасовым многолетними дружескими отношениями, написал о нем воспоминания, они напечатаны, и я не буду их повторять здесь. Приведу лишь две, в свое время рассказанные им мне истории — они проливают свет на отношение к нему властей. Некрасова вызвали в Москву к заведующему отделом культуры ЦК Поликарпову — он должен был решить, включить ли Некрасова в писательскую делегацию, отправлявшуюся за рубеж, — на более низких ступенях начальственной лестницы мнения разошлись. Некрасов приехал в Москву вскоре после того, как у Василия Гроссмана, которого он любил и уважал, был обыск и изъяли рукопись его романа «Жизнь и судьба». Естественно, он тут же отправился к Гроссману. Когда на следующий день он явился к Поликарпову, тот — видимо за Гроссманом «присматривали» и кому следует докладывали, — сразу же с угрозой: «Не успели приехать в Москву и побежали выражать сочувствие Гроссману!» Некрасов ему в ответ: «Неужели вам могло прийти в голову, что я способен отвернуться от друга, у которого неприятности?», и Поликарпов вроде бы отстал. Мы оба тогда недооценили эту историю, считая, что она относится главным образом к Гроссману.
В перестроечные времена, когда стали открывать архивы и печатать «секретные» материалы, выяснилось, что это не так — следили не только за Гроссманом. Готовили «материал» и на Некрасова…
Вот докладная в ЦК председателя комитета Госбезопасности Шелепина — оказывается, квартира Гроссмана «прослушивалась». Документ настолько выразителен, что стоит не пожалеть места для большой цитаты:
«Докладываю, что 19 августа с. г. член КПСС писатель Некрасов В. П. посетил на квартире Гроссмана В. С., автора антисоветского романа „Жизнь и судьба“, и интересовался его жизнью.
Гроссман подробно рассказал Некрасову об изъятии романа сотрудниками КГБ и в ходе беседы допустил целый ряд антисоветских выпадов. Некрасов, в свою очередь, сочувствовал Гроссману, называл его смелым и великим человеком, который „…решил написать правду, а мы все время пишем какую-то жалкую полуправду…“ „…Вы первый раз в жизни нашей страны захотели сказать полную правду, и я горжусь своей дружбой с вами…“
Следует отметить, что Некрасов, находясь в пьяном состоянии, вел себя развязно. Допускал недостойные коммуниста выпады против партии и Советского государства, брал под сомнение политику ЦК КПСС, заявлял, что из всех членов партии якобы только он один честный и правдивый человек.
Известно также, что Некрасов в писательской среде характеризуется как человек, фрондирующий своими неореалистическими взглядами, рассматривающий социалистический реализм как тормоз в развитии советской культуры. Он толкует, например, о том, что рано или поздно мы должны будем „идти на поклон“ к современной культуре Запада, так как в противном случае, по его мнению, советская культура скатится к примитиву.
Учитывая изложенное, полагаем целесообразным поручить Отделу культуры ЦК КПСС вызвать Некрасова и провести с ним предупредительную беседу по фактам недостойного коммуниста поведения.
Желательно также временно воздержаться от посылки Некрасова в капиталистические государства, не препятствуя, однако, его поездкам в страны народной демократии».
Теперь понятно, что такого рода «докладными» КГБ и информациями, полученными в «писательской среде», готовились выступления Хрущева в 1963 году, который сначала на встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства, а затем на пленуме ЦК КПСС в свойственной ему разнузданной манере набросился на путевые очерки «По обе стороны океана» Некрасова, незадолго до этого напечатанные в «Новом мире». Некрасов, — с яростным негодованием обличал автора Хрущев, — атаковал «идейную ясность произведений литературы и искусства», он «провозглашает совершенно неприемлемый для нашего искусства принцип», «настолько погряз в своих идейных заблуждениях, так переродился, что не признает того, что требует партия» и т. д. в том же духе. Разумеется, после такого выступления первого лица партии и государства были незамедлительно приняты соответствующие карательно-воспитательные «оргмеры»: Некрасова перестали печатать, выводили на чистую воду и клеймили позором на партийных и писательских собраниях, завели персональное дело, которое закончилось строгим выговором.
Правда, после смещения Хрущева писателя как пострадавшего от «волюнтариста», который на какое-то время стал главным объектом партийно-государственных проработочных кампаний, на что были брошены все силы партийного аппарата, оставили в покое. Более того, его постарались даже «привлечь»… Он рассказывал мне эту историю со всеми подробностями. Его неожиданно пригласил Шелест, тогдашний член Политбюро, первый секретарь ЦК КПУ. Шелест обласкал опального писателя, посочувствовал ему (Некрасов с удовольствием воспроизвел его фразу: «Да, нелегко в наше время быть писателем»), сказал, что восхищался, с каким мужеством и достоинством Некрасов встретил хамскую, всех возмутившую критику Хрущева, и предложил ему выступить на республиканском партийном активе, посвященном разоблачению невыносимого «волюнтаризма» Хрущева. Некрасов выступить согласился, но заметил при этом, что оценивает Хрущева как политического деятеля в общем положительно. «Как ты понимаешь, — смеясь, закончил свой рассказ Некрасов, — на актив после этого они забыли меня пригласить».
Вряд ли учиненный Хрущевым разнос Некрасова был проявлением его вспыльчивости и вздорности (скорее всего, он вообще не читал Некрасова, просто, как это было заведено, карательные и идеологические службы подсунули ему докладную-донос с соответственно подобранными и отпрепарированными цитатами). Это было одно из показательных мероприятий, демонстрировавших, что власти не намерены терпеть «оттепельного» свободомыслия в литературе и искусстве, — Хрущев в сущности лишь озвучивал казарменные требования идеологов режима, высшей партийно-государственной номенклатуры, для которой Некрасов был опасным противником — ни приручить, ни запугать его не удавалось.
В январе 1965 года — всего два с половиной месяца прошло после свержения Хрущева — цензура задержала статью Твардовского «По случаю юбилея», посвященную 40-летию «Нового мира». Дело дошло до Суслова. Серый кардинал партийного ареопага в числе других обязательных требований велел снять то место в статье, где всего-навсего говорилось, что «широтою и непринужденностью изложения располагают к себе путевые заметки Некрасова „По обе стороны океана“». Суслов заявил Твардовскому, что критика очерков Некрасова была справедливой (вся эта история запечатлена в недавно опубликованных «Рабочих тетрадях» Твардовского).
Вскоре начался новый тур преследований Некрасова. За то, что подписал коллективное письмо в связи с процессом украинского литератора Черновола. За то, что выступил на стихийном митинге в день 25-летия расстрела евреев в Бабьем Яре — при разборе нового персонального дела это выступление квалифицировалось как организация «сионистского сборища». Припомнили Некрасову тогда и давнюю, 1960 года, статью в «Литературной газете» «Почему это не сделано…», в которой впервые говорилось о том, что память о страшной трагедии в Бабьем Яре всячески стремятся свести на нет. Он писал тогда: «Сейчас в Архитектурном управлении города Киева мне сообщили, что Бабий Яр предполагается „залить“ (вот откуда вода!), иными словами, засыпать, сравнять, а на его месте сделать сад, соорудить стадион… Возможно ли это? Кому это могло прийти в голову — засыпать овраг глубиною в 30 метров и на месте величайшей трагедии резвиться и играть в футбол? Нет, этого допустить нельзя!»
Разбором персонального дела Некрасова занимались те, кто хотел Бабий Яр «залить, засыпать, сравнять», и закончилось оно, как и следовало ожидать, вторым строгим выговором. А через некоторое время за все те же «грехи», поскольку не покаялся, ошибок не признавал, стоял на своем (в решении было сказано: «позволил себе иметь собственное мнение, не совпадающее с линией партии»), Некрасова исключили из партии, а вслед за этим из Союза писателей. Были остановлены запланированные и подготовленные издания, прекращено производство кинофильма, снимавшегося по его сценарию, сняты критические статьи, посвященные его творчеству.
Мало этого, им занялись во всю развернувшиеся при Брежневе и Андропове ретивые сотрудники КГБ, стали его, как принято у них выражаться, «разрабатывать»: слежка, какие-то типы приставали на улице, а вдруг удастся спровоцировать драку и судить за хулиганство, прослушивающийся телефон, перлюстрация почты. 17 января 1974 года, — вспоминал Некрасов, — «девять человек, предъявив соответствующий на это ордер со всеми подписями, в течение 42 часов (с перерывами, правда, на ночь) произвели в моей квартире обыск». Интересно, что так тщательно искали эти пинкертоны, что надеялись обнаружить в рукописях, письмах и книгах известного писателя? Шифрованную переписку с ЦРУ, списки подпольной антисоветской организации, написанную им листовку, зовущую к топору? Смешно и горько.
Конечно, это была наглая оскорбительная акция устрашения. За ней последовала недельная серия многочасовых допросов в КГБ, во время которых писателю недвусмысленно дали понять, что если он не «исправится» или не уедет на Запад, ему придется отправиться в «места не столь отдаленные» и заниматься отнюдь не писательским трудом.
Так Некрасова вытолкнули в эмиграцию, а затем в 1979 году лишили советского гражданства — после того, как в одной из радиопередач он иронически отозвался о «Малой земле» Брежнева. Но еще до этого циркуляром Главлита было запрещено упоминать в печати фамилию Некрасова и название его произведений даже в библиографических справочниках — словно не существовало такого писателя, словно не читала вся страна «В окопах Сталинграда». Целое поколение читателей не имело доступа к его книгам.
И даже после кончины Некрасова (3 сентября 1987 года) цековские вершители судеб продолжали его преследовать, видимо, считая, что их приговор не имеет срока давности и ни при каких обстоятельствах не может быть отменен. А ведь это было уже в первые «перестроечные» горбачевские годы. По указанию Егора Лигачева, тогда второго человека в партии, в «Литературной газете» был снят некролог, автором которого был фронтовик, самый крупный белорусский писатель Василь Быков. Наверное, здесь уместно заметить, что, что когда Некрасов в 1942 году был среди тех, кто в Сталинграде отстаивал Мамаев курган, Лигачев работал технологом на заводе в Новосибирске, хотя был, как говорится, призывного возраста — далеко это было от фронта и, видимо, поэтому никакого уважения к людям воевавшим у него тогда не возникло. А напечатанный, несмотря на запрет начальства, в «Московских новостях» короткий некролог, в сущности, просто сообщение о смерти Некрасова, как рассказывает в своей мемуарной книге «Омут памяти» А. Н. Яковлев, был расценен тем же Лигачевым на заседании Политбюро как антисоветская выходка.
Так было — хочу об этом напомнить тем, кто не знает или позабыл…
Василь Быков вскоре после того, как был бдительно «зарублен» его некролог о Некрасове в «Литературке», писал в своих воспоминания о нем:
«Наверное, ангел справедливости всегда опаздывает.
Снова и в который раз мы оказываемся перед тем малорадостным фактом, когда истинное признание пророка происходит за пределами его земной жизни, когда по отношению к нему приходится употреблять глагол был вместо есть. Хотя, что касается Виктора Некрасова, это утверждение справедливо лишь отчасти: все-таки, не в пример многим другим, он изведал при жизни и читательскую признательность, и писательскую славу, и даже эфемерное, изменчивое и кратковременное одобрение властей. Но все же, все же, все же… Как было бы хорошо, если бы не было того, что, к сожалению, было, если бы наша литература развивалась так, как ей полагалось бы развиваться в условиях цивилизованного, истинно демократического общества на основе единственно возможной для нее ценности — масштаба личности и таланта. Увы! Талант, как это у нас повелось с некоторых (впрочем, весьма давних) пор, — не гарант признания, чаще причина и повод для поношения, побивания камнями».
Да, плохая доля досталась Некрасову и его книгам. То, что он написал в годы эмиграции до отечественных читателей, любивших его, знавших цену его таланту, не доходило. Лишь изредка сквозь вой «глушилок» удавалось услышать какое-то из его выступлений на «Свободе». И для отечественной критики его произведения, конечно, были закрыты, не могли быть освоены, осмыслены. Поэтому, наверное, до сих пор нет критического очерка, рассматривающего весь его (включая и эмигрантский период) творческий путь.
Но и вдали от родины Некрасов работал много и плодотворно. На чужбине была написана (точнее, закончена, начал ее Некрасов еще на родине) очерковая книга «Записки зеваки» (1975), за ней последовали путевые записки «Взгляд и нечто» (1977), «По обе стороны стены…» (1977), «Из дальних странствий возвратясь…» (1979–1981), книга «Саперлипопет, или Если б да кабы, да во рту росли грибы» (1983), «Маленькая печальная повесть» (1986).
Увы, даже когда рухнула власть КПСС и наконец было снято табу с имени и книг Некрасова, издавали их в России не слишком щедро — серьезную литературу тогда уже сильно теснила «развлекаловка»; не все, что было им написано в эмиграции, было представлено отечественным читателям. Вообще так, к сожалению, случилось, что Некрасов остался единственным крупным писателем нашего времени, у которого не было не только собрания сочинений, но даже двухтомника — его литературное наследство не собрано, не приведено в должный порядок. Лишенный его в более или менее полном виде, отечественный читатель очень обделен — он не прочитал того, что непременно ему следовало бы прочитать, и что он прочитал бы с большой пользой и удовольствием.
Путевые записки в творчестве Некрасова занимают большое место. Кроме только что перечисленных, еще до эмиграции были написаны «Первое знакомство» (1958), «По обе стороны океана» (1962), «Месяц во Франции» (1965), сильно пощипанные цензурой «За двадцать тысяч километров» (1965) (эта книга без цензурных купюр и цензурной правки под названием «О вулканах, отшельниках и прочем» была потом напечатана за рубежом в «Гранях»).
Так в силу разных обстоятельств сложилось, что эти книги почему-то нередко воспринимались как нечто второстепенное, подсобное, случайное у Некрасова. Что совершенно не соответствует их подлинной ценности. Странная аберрация: сегодня видно, что это проза высокого художественного уровня. «Мне очень нравится его теперешняя проза», — писал Сергей Довлатов о путевых очерках Некрасова, называя их «легкомысленными». — Мне кажется, эти легкомысленные записки более органичны для Некрасова, неотделимы от его бесконечно привлекательной личности. Да, этот жанр путевых записок позволял как нельзя лучше проявиться личности Некрасова, его, так сказать, натуре и его художественному дару. Он был страстным любителем путешествий, человеком легким на подъем, готовым в любую минуту отправиться за новыми впечатлениями за тридевять земель, хоть на край света.
Но знаток архитектуры, театра, искусства (напомню, что он окончил архитектурный факультет и театральную студию, до войны работал в архитектурных мастерских, затем актером и театральным художником), во время своих путешествий Некрасов, как это ни удивительно, больше всего интересовался не музеями и достопримечательностями разных стран, а их жителями, простыми людьми, которые обычно остаются за пределами внимания туристов и авторов зарубежных очерков, их судьбами, заботами, привычками, повседневным образом жизни. Его привлекали самые разные люди: солдаты, стоящие в почетном карауле в Париже у могилы неизвестного солдата, два ночных сторожа во Флоренции, с которыми почему-то завязался спор о всемирном футбольном чемпионате, школьники из Чикаго, ехавшие со своим учителем на экскурсию, сумбурный разговор с ними завершился «Подмосковными вечерами» и какой-то американской молодежной песней.
Он пользовался любой возможностью, любым поводом, чтобы разговорить случайно подвернувшихся собеседников, был полон доброжелательного внимания к ним, был готов их терпеливо выслушивать, старался понять их соображения и резоны, но не подлаживался, не поддакивал, легко ввязывался в споры, спорил горячо, но беззлобно. Эта естественность, непринужденность, этот искренний интерес располагал к нему людей даже во время мимолетных встреч. Куда бы ни заносила Некрасова судьба, с какими людьми ни сталкивала, он с поразительной быстротой обрастал не только добрыми знакомыми, но и приятелями и друзьями — в этом нетрудно убедиться, прочитав его путевые очерки. «До Петропавловска лета час или полтора, не больше, но за этот короткий промежуток времени мы умудрились с летчиками окончательно сдружиться», — рассказывал Некрасов в книге «За двадцать тысяч километров», и хотя видел он этих летчиков — вернее, летел с ними — лишь второй раз, тут нет ни малейшею преувеличения. И некоторые из этих случайно возникших человеческих связей потом сохранялись долгие годы.
Путевые записки — не совсем точное жанровое определение этих книг Некрасова, может быть, лучше их называть мемуарной, автобиографической прозой — автор не только рассказывает об увиденном в далеких, новых для него краях, о поразивших его нравах, обычаях, жизнеустройстве, но и делится воспоминаниями о событиях своей жизни, размышлениями о пережитом, сопоставляет, сравнивает времена и страны, повествование строится на свободном эссеистском принципе. Так что это и лирическая проза, в которой решающую роль играет образ автора, — какой запас жизненных впечатлений он, главный герой повествования, накопил, представляют ли серьезный интерес эти впечатления, каков он как личность.
В 1962 году на вопрос анкеты: «Следует ли считать необходимым соответствие между тем, что писатель проповедует в своем творчестве, и его личным поведением?» Некрасов ответил коротким и безоговорочным «да». И никогда, ни при каких обстоятельствах не отступал от этого принципа. Это делает образ автора в путевых заметках необычайно привлекательным. Некрасов много видел, много пережил, он умен, наблюдателен, проницателен. И при этом относится с юмором и иронией не только к окружающему миру, но и к себе, что, конечно, прибавляет ему обаяния. В «Первом знакомстве», положившем начало его путевым записям, Некрасов писал: «Не надо глотать аршин… Надо быть самим собой». Он всегда был верен себе — и тогда, когда ему выкручивали руки партийные руководители и цензоры, и тогда, когда оказался по ту сторону «железного занавеса» на свободе.
Насмотревшись на эмигрантов, которые за рубежом сделали из антикоммунизма профессию, становясь такими же догматиками и пропагандистами, как коммунисты, только с противоположным знаком, Сергей Довлатов писал: «После коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов». Некрасов, которому немало досталось от советской власти, таким антикоммунистом не стал. Он писал о том, что ему ненавистно в так называемом советском образе жизни. Но и о том, что далеко не все ему нравится в «свободном мире», тоже писал. Никогда не изменял себе, был тверд и ясен в своих убеждениях, в своей жизненной позиции, разумной, широкой, человечной — и тогда, когда жил в Советском Союзе, и тогда, когда оказался в эмиграции. Его творчество едино, в вещах, написанных в эмиграции, его мировосприятие, его гражданские устремления, его эстетические пристрастия не изменились. Может быть, поэтому и за рубежом эмигрантские издательства не рвались печатать его книги.
Вспоминая свою поездку в молодости в Италию, Илья Эренбург писал, что «издавна чужестранные писатели, попадая в эту страну, были по-новому счастливы, по-новому ощущали близость искусства — от Стендаля до Блока, от Гете до нашего современника В. П. Некрасова». Вот в какой ряд высокой классики поставил он путевые очерки Некрасова «Первое знакомство». Трудно точно определить тот рубеж, за которым творчество писателя — нашего современника переходит в разряд долговечных эстетических ценностей, в разряд классики. Обычно такой рубеж устанавливается задним числом, иногда с большим опозданием. Но сегодня уже можно сказать, что путевые очерки Некрасова заняли свое место рядом с «Письмами русского путешественника» Карамзина, пушкинским «Путешествием в Арзрум», «Фрегатом Паллада» Гончарова, «Островом Сахалин» Чехова.
В сущности книга «Саперлипопет, или Если б да кабы, да во рту росли грибы» — тоже путевые записки. Это мысленное путешествие по своей жизни автор предпринял, когда за его плечами были уже немалые годы, он много пережил и дурного, и хорошего, многое открылось ему, многое он понял. Это автобиографическая проза, но построена книга в высшей степени оригинально, кажется, предшественников, во всяком случае в русской литературе, в данном случае у Некрасова не было. Он не только вспоминает о том, что было, что случилось в его жизни, но и старается представить, воссоздает то, что могло бы с ним быть, «если бы»…
Такого рода дерзкая условность, которую нынче числят за постмодернизмом, была опробована Некрасовым давно, еще в 1965 году, когда о постмодернизме у нас и слыхом не слыхано было, в рассказе «Случай на Мамаевом кургане». Герой рассказа — сам Некрасов, уже известный писатель, автор знаменитой повести, — через двадцать с лишним лет оказывается снова в 1942 году, в блиндажах своих сталинградских однополчан, для которых он никакой не писатель, а полковой инженер. Он уже знает, что было в стране после Сталинграда и как было, а они не знают, не могут знать, как шла война дальше и когда кончилась, и что было потом, в послевоенные годы, не могут знать, что умер Сталин, а на XX съезде разоблачены его злодеяния. Они и представить себе не могут, что на том месте, где им пришлось вести жестокие кровопролитные бои, где они закапывались в землю, нашпигованную смертоносным металлом, сооружен помпезный мемориальный комплекс. Так Некрасов сводит на своеобразную очную ставку разные времена, чтобы выяснить, что открывается нам в сорок втором году, если смотреть на него сегодняшними глазами, и, наоборот, как выглядит наше время, если взглянуть на него оттуда, из сорок второго года, что приобретено, что утрачено, что было подлинным, что ложным, что следовало сохранить, а от чего избавляться, и что еще тяжким грузом весит, давит.
Сходную задачу ставит перед собой Некрасов в «Суперлипопет…» Это не постмодернистская «игра», а художественное исследование на материале собственной жизни зависимости человека от общества, в котором он живет, от исторической эпохи, попутное исследование особенностей этого общества и эпохи. Не надо думать, что судьба человека изначально запрограммирована, вполне возможны и иные ее варианты, многое зависит от так или иначе сложившихся обстоятельств, иногда даже от вдруг подвернувшегося случая. Из этого исходит Некрасов в «Суперлипопет…», вспоминая прошлое, он понимает, что не раз оказывался на развилке жизненных дорог: «Я вижу богатыря на своем буланом коне на перепутье, перед бел-горюч камнем. „Поедешь налево — татарин. Поедешь направо — соловей-разбойник, поедешь прямо — Лубянка“. А может, не Лубянка, а Шанз-Элизе или пляс Пигаль?»
Автор прикидывает другой, вполне возможный вариант своей судьбы: что было бы, если бы его семья не возвратилась в 1915 году в Киев, а осталась в Париже, где его мать работала в военном госпитале? Быть может, он стал бы французским писателем, но, наверное, никогда бы не забывал, что он русский, болел бы Россией и болел за Россию. «Правый, левый? Скорее, левый, рвался бы в Испанию. Гитлера ненавидел, поглядывал бы на Москву». В войну ринулся бы в маки. С полного одобрения матери — «Иди, иди, малыш, только давай о себе как-то знать…» После войны рвался бы в Советский Союз. «Все-таки мы, русские, победили!» В маки дружил бы со сбежавшими из плена советскими офицерами. Вот это ребята! О них написал свою первую книгу «Дымок махорки». В определенном кругу прозвучала, «даже какую-то премию получила». И вот когда приоткрылся «железный занавес», «двойник» Некрасова осуществил свою давнюю мечту — по туристической путевке поехал в Советский Союз, о котором он наслышался и восторгов и проклятий, поехал, чтобы своими глазами посмотреть, что там делается, как живут люди.
Он видит там то, что советский Некрасов прекрасно знал изнутри, конечно, многое не принимал, отвергал, но что делать, жить-то надо было, привык, притерпелся. А ему, человеку, прожившему иную жизнь, в иных условиях, не зашоренному, все это, увиденное воочию, кажется абсурдным, находящимся за пределами здравого смысла и человечности. Вот для чего понадобился автору «двойник» — французский писатель русского происхождения Виктор Некрасов.
Есть в «Суперлипопет…» еще один «двойник», еще один Виктор Платонович Некрасов. Он возник после одной реальной жизненной истории. В Париже проходил вечер советской поэзии, все выступавшие поэты были знакомы с Некрасовым, пришедшим на этот вечер. Но никто из них не решился к нему подойти — он был «вне закона», это грозило серьезными неприятностями, тем более что на вечере в полном составе во главе с послом присутствовали сотрудники советского посольства. Только Булат Окуджава, увидев Некрасова, сошел со сцены в зал и на глазах у посольских обнял его.
Отталкиваясь от этого случая, Некрасов выстраивает еще один возможный вариант своей биографии: как бы повел себя его «двойник», если бы все его неприятности в свое время как-то уладились, и он даже оставался «выездным», попав на такой вечер в Париже? Вряд ли Некрасову после всего, что с ним было в Советском Союзе, надо было, вводя в повествование еще одного «двойника», подтверждать, что он повел себя точно так же, как Окуджава. Этот эпизод («двойник», оторвавшись от своих коллег, бродит со своим другом-эмигрантом по Парижу, и они обсуждают больные проблемы отечества и эмиграции) нужен автору, чтобы показать, что как бы ни старались власти изолировать, ошельмовать эмиграцию, внутренние связи ее с родиной не порываются.
Вплетены «двойники» в повествование изящно, мостики от одного к другому переброшены легко и свободно, швов не видно.
При этом все «двойники» живые люди, у них своя самостоятельная жизнь, они и близки «прототипу», и отличаются от него — это не иллюстрации авторской мысли. «Фантастично» лишь их рождение, появление. Во всем остальном Некрасов, как всегда, реалист. Психологический портрет каждого точен, логика их судеб, реалии жизненного пути достоверны. Внутри эпизодов — свойственное художественной манере Некрасов жизнеподобие.
С этим даже связана одна почти анекдотическая история. В «Суперлипопет…» есть фантасмагорический, гротескный, но написанный, по видимости, вполне, как это свойственно Некрасову, «достоверно» эпизод: скучающий в одиночестве Сталин приказывает доставить к нему писателя, чтобы побеседовать с ним и «обмыть» Сталинскую премию «Окопов», этот визит превращается в двухдневный «загул», изображенный весьма колоритно, как говорится, со знанием дела, с бездной почерпнутых автором в других компаниях подробностей. Так вот, недавно один из сочинителей бредовых исторических «гипотез», которые нынче охотно печатают даже солидные наши журналы, доказывая нечто совершенно несусветное, ссылается как на решающее доказательство на эту выдуманную Некрасовым встречу со Сталиным, выдает ее за чистую монету. Стоит добавить, что тиран написан Некрасовым страшным и смешным, но иными красками, чем у Солженицына, Рыбакова, Искандера.
Незадолго до вынужденного отъезда в эмиграцию Некрасов написал два рассказа такого рода, которые представляют собой тоже фантасмагорию, правда, пронизанную сатирической иронией, — «Ограбление века, или Бог правду видит, да не скоро скажет» и «Король в Нью-Йорке». Герой первого — классик официозной советской литературы и крупный партийный и государственный деятель Александр Корнейчук, второго — Алексей Косыгин, в ту пору председатель Совета министров СССР. Я хочу предупредить наивных легковерных читателей, что не следует видеть в героях этих рассказов реального Корнейчука (о реальном Корнейчуке Некрасов написал вполне нелицеприятное эссе «А. Е. Корнейчуку — 80 лет») и реального Косыгина, которого он в глаза никогда не видел — разве только в кинохронике и телевизионных репортажах. В рассказах вымышленные художественные образы, вымышленные ситуации. Речь идет о советской правящей верхушке, живущей придворными страстями в недосягаемой дали от подлинной жизни обычных людей.
«Маленькая печальная повесть» — прощальное произведение Некрасова. Не только потому, что оно последнее по времени. До этого все, что писал Некрасов в эмиграции, было в основном повернуто к прошлому, к тому, что было пережито на родине. В последней повести осмысливается и духовный опыт жизни на чужбине. Некрасов рассказывает в повести историю дружбы молодых талантливых питерских актеров: они были не разлей вода, дня не могли прожить друг без друга, «три мушкетера» называли их. Эта дружба была опорой их духовного существования, отдушиной в затхлой атмосфере регламентированного советского искусства, не давала опуститься, приспособиться. Казалось, прочные неразрывные нити будут связывать их всю жизнь. Но им предстояло новое испытание — вынужденной разлукой: двое оказались в эмиграции, один, талантливый танцор, стал «невозвращенцем» и вскоре завоевал ослепившую его мировую славу, второй, которому из-за жены-француженки, пришлось переселиться в Париж, не преуспел там, его талант оказался невостребован; третий остался на родине, выбился в кинорежиссеры, каким-то чудом снял фильм, который не понравился начальству — со всеми вытекающими из этого последствиями. Навалились новые заботы, новые неприятности, новые искушения — теперь уже не общие, у каждого свои. И нити, связывавшие их, стали истончаться, рваться. Вот почему автор назвал повесть печальной.
Выяснилось, что и для Некрасова прожитые на чужбине годы были временем грустных утрат. В финале повести он вдруг отставляет в сторону своих героев и пишет о себе, пишет с поразительной искренностью — печалью пронизано лирическое отступление, которым заканчивается повесть:
«Благословляю ли этот день 12 сентября 1974 года (в этот день вытолкнутый в эмиграцию Некрасов вылетел из Киева в Цюрих. — Л. Л.)? Да, благословляю. Мне нужна свобода, и тут я ее обрел. Скучаю ли я по дому, по прошлому? Да, скучаю. И очень.
Выяснилось, что самое важное в жизни — это друзья. Особенно, когда их лишаешься. Для кого-нибудь деньги, карьера, слава, для меня — друзья… Те, тех лет, сложных, тяжелых и возвышенных. Те, с кем столько прожито, пережито, прохожено по всяким военно-осетинским дорогам, ингурским тропам, донским степям в невеселые дни отступления, по сивцевым вражкам и дворцовым набережным, киевским паркам, с кем столько часов проведено в накуренных чертежках, в окопах полного и неполного профиля, на кухнях и в забегаловках, и выпито Бог знает сколько бочек всякой дряни. И их, друзей, все меньше и меньше, и о каждом из них, ушедшем и оставшемся, вспоминаешь с такой теплотой, с такой любовью. И так мне их не хватает.
Может быть, самое большое преступление за шестьдесят семь лет, совершенное в моей стране, это дьявольски задуманное и осуществленное разобщение людей… Один из самых моих близких друзей, еще с юных, восторженных лет, не только не пришел прощаться, но даже не позвонил. Ближайшая приятельница категорически запретила ей звонить, не то что заходить. Еще один друг, тоже близкий, хотя и послевоенных лет, прощаясь и глотая слезы, сказал:
— Не пиши, все равно отвечать не буду…
И это „отвечать не буду“, эта рана до сих пор не заживает. Я внял его просьбе, не писал, но втайне ждал, надеялся, что он как-нибудь, надравшись в День Победы, возьмет открытку, напишет на ней левой подмышкой: „Поздравляю!“ и без обратного адреса опустит где-нибудь в Дарнице или на вокзале. За десять лет ни разу не надрался… Во всяком случае не написал, не опустил… А все это соль, соль на мою рану…»
День Победы Некрасов вспомнил не случайно: война была и оставалась до конца его дней самым значительным событием жизни, самым тяжким испытанием, которое он с честью выдержал. Бесконечно дорог ему был этот день. И горько, что оставшиеся за «железным занавесом» друзья в этот день не вспомнили о нем. Горько, что на чужбине нет никого, с кем бы ему хотелось отметить эту дату.
Об этом Некрасов написал рассказ «Девятое мая» — такой же, а может быть, еще более печальный, чем последняя его повесть. Жестокая ирония судьбы и истории: герой рассказа — художник-эмигрант, так же, как автор, воевавший в Сталинграде на Мамаевом кургане, волею судеб занесенный в этот памятный день на какую-то выставку в Германии, проводит праздник — больше не с кем — с немецким летчиком, летавшим тогда, в сорок втором, на «раме»-разведчике «фокке-вульф-189» в небе Сталинграда, они пьют и со странным смятенным чувством рассматривают сделанные тогда летчиком снимки Мамаева кургана. Тоска…
Григорий Кипнис, один из близких друзей Некрасова, киевский корреспондент «Литературной газеты», в своих воспоминаниях рассказывал о республиканском партийном активе, посвященном выступлению Хрущева, на котором обличали, клеймили писателя, требовали, чтобы он признал свои ошибки, покаялся: «Честно говоря, я никогда не видел его выступающим с трибуны, тем более — перед такой многолюдной аудиторией. К тому же настроенной, мягко говоря, недружелюбно. Мне стало страшно за него. Только б не сорвался… Но он уже говорил. И говорил таким звонким, таким ясным и уверенным голосом, что я поразился. Ни тени волнения. А зал слушал, что называется, затаив дыхание. Говорил он о чести, о том, что всегда поступал по совести и писал честно, что никак не может принять обвинения и признать за собой несовершенные ошибки, ибо, признав, потерял бы уважение к себе как писателю и коммунисту. И закончил громко, даже с несвойственным ему пафосом, что писал и будет писать правду. Ничего, кроме правды! Одну только правду, за которую сражался в окопах Сталинграда!»
Что бы он ни делал, что ни говорил, что ни писал, он всегда помнил о войне и был верен той правде, которую защищал в окопах Сталинграда…
«Моя война еще стреляет рядом…» (О поэзии Бориса Слуцкого)
Литературная судьба Слуцкого сложилась так, что, напечатав перед самой войной, в мае 1941 года, первое стихотворение, он замолчал на десять с лишним лет (по его собственному признанию, в войну он написал единственное стихотворение — «Кельнская яма»). Следующее стихотворение — «Памятник» — опубликовано в августе 1953 года в «Литературной газете», когда многие ровесники Слуцкого уже выпустили не одну книгу.
Слуцкий пробыл на фронте все четыре года. Начинал в сорок первом на Смоленщине, там был ранен, а закончил майором в Югославии и Австрии, старался служить в тех частях и подразделениях, которые «пехотнее» (этим словечком в письмах с фронта родным и друзьям он обозначал самую высокую меру военных тягот и опасностей), сполна изведал и фронтовых бед, и госпитальных мучений. «На войне, — это одна из записей Слуцкого, вошедших в его недавно выпущенную книжку „О других и о себе“, — я почти не писал по самой простой и уважительной причине — был занят войной. По нашу сторону фронта не было, как известно, ни выходных дней, ни солдатских отпусков».
После войны почти два года Слуцкий провел в госпиталях — последствия контузии: непрекращавшиеся головные боли, тяжелая черепная операция, бессонница, депрессия. Преодолевая эти не отпускавшие его недуги, с великим трудом стал он сочинять стихи. Потом признавался, что стихи его «вытолкнули из положения инвалида Отечественной войны второй группы, из положения, в котором есть свои удобства». Он написал потом обо всем этом — о мучившей его невыносимой головной боли и о том, как он от нее избавился, как ее преодолел.
Спасибо же вам, стихи мои, За то, что, когда пришла беда, Вы были мне вместо семьи, Вместо любви, вместо труда. Спасибо, что прощали меня, Как бы плохо вас ни писал, В тот год, когда, выйдя из огня, Я от последствий себя спасал. Спасибо вам, мои врачи, За то, что я не замолк, не стих. Теперь я здоров! Теперь — ворчи, Если в чем совру, мой стих.Но и преодолев более или менее болезнь, жил Слуцкий в послевоенные годы очень нелегко. Для многих вернувшихся с войны солдат и офицеров это были безрадостно тяжелые годы. По воле Сталина всячески вытравлялась фронтовая вольница, уже и в грош не ставились недавние военные заслуги, заработанные на фронте под огнем, при постоянном смертельном риске ордена и звания, даже день Победы был упразднен как государственный праздник.
Для него это были годы скудные и бесприютные, своего жилья не было — снимал углы, постоянной работы тоже — шестой пункт в анкете становился в те годы непреодолимой преградой, жил на скудную инвалидную пенсию и перепадавшие время от времени довольно жалкие гонорары за радиопередачи. Но уже всепоглощающим содержанием его жизни стали стихи. Писал много — видно, поэтической энергии накопился мощный неиссякающий запас. И, конечно, больше всего о войне писал — она была главным событием, главным содержанием всего, что было в его жизни:
А в общем, ничего, кроме войны! Ну хоть бы хны. Нет, ничего. Нисколько. Она скрипит, как инвалиду — койка. Скрипит всю ночь вдоль всей ее длины.Снова и снова возвращался Слуцкий к пережитому в те трагические годы. «В моем стихе, — признавался он, — как на больничной коечке, к примеру, долго корчилась война», «больничная коечка» и «корчилась война» — здесь не случайны. Тут кроется объяснение того, почему после войны литература так долго занималась трагическим опытом фронтовых лет, стараясь выяснить, что было тогда высоким и истинным, а что эфемерным, призрачным. Созревание таланта Слуцкого и было связано с сознательным отталкиванием от эфемерного, гладкописи, благостной казенщины, бодряческого равнодушия. Многие его стихи жили войной, открывали реальную, не искаженную пропагандистскими и поэтическими штампами фронтовую действительность. О своей первой книге он через несколько лет после ее появления писал: «Место действия — была война. Время действия — опять война». Даже среди тех поэтов-фронтовиков, которые вступали в литературу с «опозданием» (назову Давида Самойлова, Булата Окуджаву), он оказался больше других привержен этим воспоминаниям военных лет. То, что было пережито тогда, стало навсегда неотделимой частью его душевного опыта. Он написал о войне много очень сильных стихов, но глубинная, неотступающая память о фронтовых испытаниях пронизывает и его стихи о мирной жизни, они в них вдруг всплывают в непроизвольных ассоциациях, в неожиданно возникающих сравнениях. Новые города — память неожиданно подсказывает поэту сравнение — похожи на «батальоны одинаковых, как солдаты, домов». «Словно в танке танкисты, молча принимают колосья смерть», — напишет он о засухе. О времени, проведенном в больнице, он скажет: «в многосуточной отлучке самовольной из обычной злобы дня»; о вдохновении: «словно в самом конце войны, когда от волнения в горле першит»; о старых рифмах: «не снятые с вооружения, как штык, хранимый на случай рукопашной схватки». Впечатления военной поры, пережитое и увиденное тогда сформировали нравственные представления Слуцкого, определили существенные особенности его мировосприятия и поэтического видения.
Чтобы не быть голословным, приведу, заметив, что это один из множества возможных примеров, начало стихотворения «Как отдыхает разведчик» (стоит, кстати, попутно обратить внимание на очень характерный для поэтики Слуцкого тип заглавия — сказано деловито, кратко, без околичностей, как в наставлении или донесении). Эта деловитая определенность важнее всего для автора, и его нисколько не смущает повторение одной и той же «формулы»: «Как меня принимали в партию». «Как делают стихи», «Как меня не приняли на работу», «Как убивали мою бабку?», «Как растаскивается пробка?»:
Вот он вернулся с задания. Вот он проспал, сколько мог, Вытянув вдоль мирозданья пару исхоженных ног. Вот расстелил плащ-палатку. Вот подстригает усы. О, до чего же вы сладки, тихие эти часы!Пока это только зарисовка, в которой с некоторым даже педалированным бесстрастием, подчеркнутым повторением словечка «вот», фиксируются одни лишь мелочи быта: выспался, подстриг усы, расстелил плащ-палатку, наверное, перекусит с товарищами, может быть, если старшина расщедрится, выпьют полагающиеся «сто граммов». В этой заурядной «прозе» фронтовой жизни едва — едва брезжит, проступает поэзия. Обещание ее таится в строках: «О, до чего же вы сладки, тихие эти часы!» Но драматический нерв еще почти не ощущается. Для того, чтобы проступила, обнаружила себя обещанная поэзия, автору надо раскрыть скрытые от посторонних глаз напряжение и значительность «тихих этих часов». Слуцкий не рассказывает о том, что приходится делать разведчику там, за линией наших траншей, о том, что у него на душе в короткие часы отдыха перед новым заданием, — конкретизация может обернуться и невольным снижением. Есть опасность не подняться над окопным бытом. Читатели должны об этом сами догадаться, автор лишь подталкивает их воображение. Неожиданно он дает прямой вывод, прямую оценку, эмоциональная весомость которых усиливается обращающим на себя внимание отсутствием рифмы в последней строфе. Они возникают на резком контрасте с непритязательной обыденностью, предшествующей бытовой зарисовке окопного быта:
Вы, трофейные часики, тикайте на руке! Изображайте, классики, Эту жизнь налегке! Изображайте гении, Если вам по плечу: До следующего задания Полсуток ему еще.Сочетание внешне непримечательного, до крайности лишенного каких-либо традиционных батально-романтических аксессуаров и внутренне высокого, истинно героического и создает «поэтическое напряжение» стихов Слуцкого. В этом один из главных «секретов» его поэтичности.
Слуцкий вновь и вновь возвращался к трагической стороне войны, которая со страшной силой обрушилась на простых людей, от имени солдат и вдов он судит кровавое время. Здесь он искал поэзию той поры, которая не давалась поэтическим штампам, которую обходили чистые дорожки поэтической гладкописи. Не случайно Слуцкого оставили безучастными великолепные «парады природы» в Альпах — а какой это был давно испытанный, безотказный «возбудитель» «запрограммированного» поэтического вдохновения:
А я ничего не запомнил, А то, что запомнил, — забыл, А что не забыл, то не понял: Пейзажи солдат заслонил.Слуцкий отвоевал для поэзии немалый массив прозы, проза жизни не только определила круг тем, к которым он обращался, не только обусловила его пристальное внимание к быту и определила внимание к тем, кто его окружал, — солдатам, позднее посетителям районной бани — бывшим солдатам, жителям заводской окраины, соседям по «коммуналке». Вторжение прозы оказало воздействие на все элементы стиха: образный строй, язык, интонацию. Смело и широко Слуцкий использует солдатский жаргон военных лет, просторечия, даже просочившиеся в нашу устную речь канцеляризмы. И перебои ритма, и недосказанная, оборванная или намеренно нескладная фраза, и повторение какого-либо характерного словечка — все это от живого говора улицы, к которому прислушивался и чутко его схватывал Слуцкий. Но угловатость стихов Слуцкого обманчива — он из тех поэтов, которые огромное значение придают форме, «технике», инструментовке. Угловатость — результат не небрежности, а стремления разрушить гладкость, зализанность, литературщину, уйти от приблизительности, расплывчатости, неопределенности. Точность, острота и четкость мысли, ясность чувства — все это Слуцкий считает для себя обязательным, это тоже результат вторжения прозы в его стих.
Слуцкий обладал редкой способностью открывать поэзию в вещах, на первый взгляд, сугубо прозаических. Именно открывать, потому что есть предметы, которые тотчас же вызывают у читателя поэтические ассоциации, они по традиции как бы отданы давно поэзии, и есть предметы и явления, поэтическая природа которых скрыта или которые — тоже традиционно — считаются «непоэтическими». Слуцкого интересовали вторые. Искусство трансформации «непоэтической» прозы в поэзию было для него так важно, что он посвятил этому сюжету стихотворение, в котором раскрывается, как поэзия «просачивается» сквозь прозу:
И проза, смирная проза строк, Сбивается в елочку или в лесенку, И ритм отбивает какой-то срок, И строфы сползаются в песенку, И что-то входит, слегка дыша, И бездыханное оживает: Не то поэзия, не то душа, Если душа бывает.Поэзия Слуцкого довольно долго питалась фронтовыми впечатлениями. Больше того, именно они дали соответствующее направление его поэтике.
Для поэта, сосредоточивавшегося на житейской прозе, исповедовавшего такую эстетику, фронтовая жизнь была материалом, удивительно соответствующим природе его таланта. Само это явление — фронтовые будни — заключает в себе некий парадокс, некое глубинное драматическое противоречие. В сущности здесь уже в потенции заложен тот эстетический контраст, без которого нельзя вскрыть поэтическое в прозе. Ведь будни войны — это обычность необычного, не укладывающегося в привычные рамки человеческого существования. Крайний драматизм, трагичность этой житейской прозы рождает в стихах Слуцкого высокое лирическое напряжение. И чем сдержаннее, «суше», прозаичнее интонация, тем — по закону контраста — выше этот внутренний накал.
Я запомнил фамилию Слуцкого, прочитав в «Литературке» его «Памятник» — это была его первая публикация, стихотворение произвело на меня огромное впечатление. Я бы вряд ли рискнул об этом написать — в общем это факт моей биографии, если бы после этого судьба не сводила меня с разными людьми (и не только с литераторами, но и с любителями поэзии), которые в один голос говорили, что их, как и меня, потрясло первое напечатанное стихотворение Слуцкого. В этом нетрудно убедиться, обратившись к сборнику воспоминаний о Слуцком. На одно свидетельство — Иосифа Бродского — сошлюсь. Он говорил, что «Памятник» Слуцкого толкнул его к стихописанию, ему кто-то показал «Литературную газету» с напечатанным там стихотворением Слуцкого, которое произвело на него такое сильное впечатление, что он сам начал сочинять стихи.
Чем же это стихотворение Слуцкого обратило на себя внимание читателей, заставив их запомнить фамилию автора? В чем причина этого удивительным образом сработавшего успеха? Прежде всего, разумеется, не вызывало никаких сомнений, что появился талантливый поэт. Когда в следующем году Слуцкий читал свои стихи в секции поэтов, Михаил Светлов сказал на обсуждении — и в этом не было ни вызова, ни желания кого-то уесть: «По-моему, нам всем ясно, что пришел поэт лучше нас».
Но была и очень важная общая причина, работавшая на это стихотворение Слуцкого. В стране стал меняться общественный климат, что-то сдвинулось в каменно-застывшей, замороженной ждановскими постановлениями духовной атмосфере. Через год, когда будет напечатана повесть Ильи Эренбурга, ее название — «Оттепель» — станет символом начавшихся перемен. «Памятник» был одним из первых явственных свидетельств «оттепельных» идей и настроений. Этого не могли не почувствовать его читатели.
В «Памятнике» отчетливо проступали особенности поэтического видения Слуцкого. К этому времени уже сложилась определенная традиция в решении темы вечной памяти тех, кто отдал жизнь за родину. Это была одна из тем, которые долго не зарубцовываются, которые даже время плохо лечит. Об этом много писали. Вспомним хотя бы «Его зарыли в шар земной» Сергея Орлова, «Надпись на камне» Семена Гудзенко, «Упал и замер паренек» Юлии Друниной. Все эти известные тогда стихи вызывали то же чувство, что памятник неизвестному солдату, — торжественной скорби. Но, читая их, мы не думали о том, кем был этот неизвестный солдат, которому сооружен памятник, как воевал он и погиб. Он отдал жизнь за родину, — этого было достаточно, чтобы соорудить ему памятник. И в стихах, о которых идет речь, у героя нет и не может быть индивидуальных черт, индивидуальной судьбы. Это памятник всем, кто сложил голову, защищая отечество. Слуцкий идет иным путем. Прозаической картиной боя начинается «Памятник»:
Дивизия лезла на гребень горы По мерзлому, мертвому, мокрому камню...Все происходит так (и разговорное «лезла», и будничная интонация это подчеркивает), как обычно бывало в трудном бою (а были ли легкие бои?). И солдат-пехотинец, которому на вершине теперь сооружен памятник, не водрузил там, как этого требуют романтические каноны или омертвевшие «поэтизмы», знамени: «И ниже меня остается крутая, не взятая мною в бою высота». Смерть его была мучительной (это только одубевшие генералы и пуровские соловьи утверждают, что солдаты умирают с улыбкой на устах): скульптор, резавший из гранита памятник, — здесь пронизывающая стихотворение внутренняя полемика с эстетикой приглаженности выходит на поверхность, идет уже почти впрямую, — «гримасу лица, искаженного криком, расправил, разгладил резцом ножевым». Стихотворение строится на перемежающихся контрастах, благодаря которым высокое не превращается в риторику: «Я умер простым, а поднялся великим», живой человек — и гранитный памятник, прах солдата-пехотинца, который «с пылью дорожной смешался», — и «пример и маяк» для целых народов. Поразителен ритм «Памятника», соединивший затрудненное дыхание солдата, штурмующего крутую высоту, и величавый покой реквиема, возносящий над всем бренным.
Появившимися после «Памятника» в журналах стихами (а некоторые распространяли в рукописном виде, передавали из уст в уста) заявил о себе человек, за плечами которого был выстраданный жизненный опыт, и поэт, вполне сложившийся, с уже определившейся эстетикой, с самобытной манерой. Он последовательно отвергал какую-либо приглаженность, ретушь, «домалевыванье», наигранный пафос. То была не только эстетическая, но и жизненная позиция, проверенная войной и нелегкими послевоенными годами.
В отличие от многих ровесников Слуцкий не стал певцом своего поколения, хотя его часто причислялся к этой поэтической когорте. Да, он много писал о своих сложивших голову на войне товарищах. Но когда, вспоминая их, он писал: «В пяти соседних странах зарыты наши трупы», речь шла о всенародной войне, о том, чего стоили эти четыре кровавых года народу. Он писал о тяжелых потерях, о братских могилах: «их много на шоссе на Ленинградском и на других шоссе — их без числа»; о наших пленных, «мрущих с голодухи в Кельнской яме»; об инвалидах, «тела которых исчиркала война». О горькой судьбе солдатских вдов: «Очередь стоит у сельской почты. Длинная — без краю и межей. Это бабы получают то, что за убитых следует мужей», «дорожки от слез — это память о нем», где-то сложившим свою голову ее муже. Слуцкий писал о «городах, большой войной измученных», о том, «сколько черствого хлеба мы ели, сколько жидкого чаю мы пили»; о мальчишках-ремесленниках, вставших вместо отцов за станки, отдавших «отечеству не злато-серебро — единственное детство, все свое добро». Он писал об испытаниях, через которые прошел весь народ.
Вот вам село обыкновенное: Здесь каждая вторая баба Была жена, супруга верная, Пока не прибыло из штаба Письмо, бумажка похоронная, Что писарь написал вразмашку.Это подчеркнутое — «село обыкновенное», «каждая вторая баба» — чрезвычайно характерно для поэта. Здесь отчетливо проступает эстетический принцип, краеугольный для поэтики Слуцкого.
У этой поэтики, у стоявшего за ней жизнепонимания были очень влиятельные противники, пользовавшиеся благосклонностью властей.
В 1956 году Илья Эренбург напечатал в «Литературной газете» статью, посвященную стихам Слуцкого. Всего три года прошло после публикации «Памятника» в разных журналах, включая «Пионер», где появились вскоре ставшие такими же знаменитыми, как «Памятник», «Лошади в океане», было напечатано несколько его стихотворений. Еще не очень велик, хотя уже был заметен накопившийся к этому времени его поэтический багаж, а главное, сразу же обнаружившая себя сила его таланта. Эренбург в своей статье заявил, что пришел в литературу крупный поэт. Статья его вызвала газетную бурю (это происходило при мне, я работал тогда в «Литературке», отлично помню все, что связано с этим из ряда вон тогда выходящим происшествием). О начинавших литературную стезю не принято было так писать. Им полагалось скромно накапливать более или менее солидный поэтический стаж, они должны были примелькаться — лишь тогда о них можно было говорить. Но Эренбурга не интересовали послужные списки — только масштаб и оригинальность поэтического дара. Статья его была напечатана в отсутствии недавно назначенного главным редактором газеты Кочетова — потому и удалось ее напечатать, что его не было в газете. Вернувшийся из командировки в Москву Кочетов выходил из себя от ярости — Эренбурга он люто ненавидел как главного идейного противника в литературе, как закоперщика антисталинистской «оттепели». Думаю, что он вряд ли до этого читал стихи Слуцкого, а если и читал, то мало что в них понял, и в спешно организованной по его приказу хамской отповеди Эренбургу, за автора которой выдавался мифический учитель физики Н. Вербицкий, главной целью был именно Эренбург, который рядом с Маяковским и Есениным посмел поставить Пастернака (дело было еще до скандала с «Доктором Живаго» — это осуждалось, но было все-таки допустимо) и, что в кочетовском кругу рассматривалось как совершенно недопустимый, дерзкий вызов существующему в литературе порядку, Марину Цветаеву. Слуцкому же в этом топорно изготовленном «заказном» изделии только во вторую очередь, попутно наносились презрительные удары — типа «возможно, Б. Слуцкий в будущем будет писать хорошие произведения».
Но довольно скоро развернувшаяся схватка переместилась в сферу современной поэзии, превратясь в горячий спор о «народности», и объектом зубодробительных атак стал Слуцкий. Многие пииты (переверну слова Светлова, сказанные о Слуцком), писавшие так, что «по гамбургскому счету» серьезного внимания не заслуживали и уж никак не могли конкурировать со Слуцким, которого Эренбург поставил в столь высокий поэтический ряд, посчитали себя обиженными, кровно оскорбленными. Как так, их, выпустивших уже не один том сочинений, пользующихся благосклонностью литературного начальства, в расчет не принимают, а в первый ряд ставится какой-то автор сомнительных стихов, у которого даже книги еще нет? Кстати, нас, ценивших Слуцкого, беспокоила судьба его первой книги, возникли серьезные опасения, что закружившийся вокруг него зловещий хоровод литературных ведьм может перекрыть ей выход в свет. К счастью, обошлось. Книжка «Память» все-таки вышла. Была она маленькой — всего сорок стихотворений, туда не попали даже некоторые из тех, что цитировал в своей статье Эренбург. Книга подтверждала ту характеристику, которую дал в своей статье стихам Слуцкого Эренбург.
«Конечно, стих Слуцкого, — писал Эренбург, — помечен нашим временем — после Блока, после Маяковского, но если бы меня спросили, чью музу вспоминаешь, читая стихи Слуцкого, я бы, не колеблясь, ответил — музу Некрасова. Внешне нет никакого сходства. Но после стихов Блока я, кажется, редко встречал столь отчетливое продолжение гражданской поэзии Некрасова». Это проницательное, точное наблюдение. Вообще, когда дело касалось поэзии, Эренбург был замечательным, почти никогда не ошибавшимся, употреблю слово, которое нынче в ходу, «экспертом». В войну он открыл стихи молодого Семена Гудзенко, определив таким образом путь, по которому двинулись поэты поколения, названного потом фронтовым. Теперь он на передний край современной поэзии выдвигал стихи Слуцкого — они несли в себе новое время, обновляющийся взгляд на жизнь. Конечно, в поле зрения Эренбурга была тогда небольшая часть того, что напишет поэт. Он ведь работал, не разгибая спины. Мы знаем теперь несравнимо больше, нам открыт весь его творческий путь, и этим мы во многом обязаны Юрию Болдыреву, которого было бы грешно не вспомнить. Болдырев стал литературным душеприказчиком Слуцкого (когда Слуцкий тяжело заболел, Болдырев печатал одну за другой подборки его стихотворений — в архиве, который Слуцкий передал Болдыреву, было великое множество стихов — и тех, что не могли пройти через цензуру, и тех, которые автор по непонятным соображениям не предлагал до этого в печать (я помню, как люди, не знающие того, что происходило, удивлялись: «Вот говорят, что Слуцкий тяжело болен, а все время печатаются его стихи»). Эренбургу, его проницательности и безукоризненному вкусу надо воздать должное — по тогда еще небольшому массиву стихов Слуцкого он сумел точно определить и масштаб и характер дарования их автора. Все, что писал Слуцкий позднее, подтверждало то, что сказал о нем Эренбург.
Почему оппоненты так яростно набросились именно на «народность»? Для Эренбурга за этим понятием стояли не внешние закостеневшие от долгого употребления «поэтизмы», а размышления о народе, о его жизни, бедах, неустройстве и свойства художественного мира автора, сосредоточенного на решении именно этой трудной, но высокой задачи. Для нападавших, обличавших Эренбурга и Слуцкого «народность» была чем-то вроде негласного, но одобренного властями высокого звания, на получение которого они со временем благодаря своей верной службе правящему режиму и зарифмованному переложению спущенных сверху установок и соображений могли претендовать. Впрочем, народным они в тот момент, пожалуй, не назвали бы и Твардовского, так как начальство было им недовольно, он проштрафился, написал «Теркина на том свете», который осужден как произведение клеветническое, наделал немало серьезных ошибок, редактируя «Новый мир», за что и был снят с этого поста). Допустимо ли при таких серьезных грехах говорить о его «народности»? А Эренбург, из-за своих гнилых либеральных взглядов потерявший представление о подлинных гражданских свойствах и ценностях в советском обществе, народным объявляет поэта, у которого нет и, скорее всего, не будет никакого серьезного, не фрондерского признания.
Надо ли напоминать, что сочувствие тяжкой «русской долюшке женской», горю «Орины, матери солдатской», сына которой погубила безжалостная армейская муштра, — неотъемлемая часть гражданского и поэтического мира Некрасова? Без этого его просто нельзя себе представить. И не поэтому ли Эренбург, говоря о гражданственности поэзии Слуцкого, о его тесной связи с музой Некрасова, так часто цитирует стихи Слуцкого о женской судьбе в военное лихолетье? Солдатские вдовы — это было испокон веку, после каждой войны мыкали горе несчастные солдатские жены, у которых война отняла мужей, но, кажется, в поэзии, рожденной нашей войной, никто не отозвался на эту беду с таким сочувствием, как Слуцкий. Для него это незаживающая рана в большом списке обрушившихся на народ жестоких испытаний и невзгод.
И еще один сюжет, связанный с женской, девичьей судьбой в годы войны, не давал покоя Слуцкому, сидел в его памяти, как заноза. Когда девица-кавалерист Надежда Дурова приняла участие в войне против наполеоновских войск, ее смелый поступок, ее, как мы нынче можем сказать, феминистский вызов приобрели легендарный характер — полтора века все это потом волновало литературу.
В нашу отечественную войну в различных родах войск служили восемьсот тысяч женщин — мобилизованных и по своей доброй воле вставших в армейский строй. То, что во времена Надежды Дуровой рассматривалось как исключительный случай, как приключение, в нашу войну, разумеется, не от хорошей жизни — так опасно качались весы истории после тяжелых наших поражений сорок первого и сорок второго годов, ужасающих потерь, точной цифры которых мы и нынче не знаем. Такой глубокий и опасный кризис мы переживали, что была в подобного рода пополнении армии, никогда прежде не практиковавшимся, острая нужда. Служба женщин в действующей армии стала повседневным заурядным явлением. Об этом немало писали, правда, главным образом как о патриотическом подвиге, современном повторении героического порыва Надежды Дуровой. Слуцкий же увидел здесь и нечто другое, на что внимания не обращали, а что было очень важно для понимания масштабов трагедии, обрушившейся на нашу страну. И судьба девушек-солдат, как ее воспринимал Слуцкий, — одна из самых горьких, нарушавших веки вечные существовавшие принципы человеческого бытия, кажется ему проклятием этой безжалостной, истребительной войны, втянувшей в свой кровавый водоворот девушек и женщин. Разве по силам юной медсестре вытаскивать с поля боя под огнем раненого? «Вот и вспомнилась мне волокуша и девчонки лет двадцати: ими раненые волокутся, умирая по пути», — пишет Слуцкий. Он написал пронзительное стихотворение о том, что на войне женщинам много труднее, чем мужчинам, для которых все солдатские беды как бы на роду написаны:
— Хуже всех на фронте пехоте! — Нет! Страшнее саперам. В обороне или в походе Хуже всех им, без спора! — Верно, правильно! Трудно и склизко Подползать к осторожной траншее, Но страшней быть девчонкой-связисткой, Вот кому на войне всех страшнее.Всей душой сочувствует автор этим девчонкам, на чьи хрупкие плечи свалилась кровь и грязь безжалостной, беспощадной войны. Заканчивается стихотворение печальным вздохом жалости и упрека, что от бесчеловечных обстоятельств войны не оградили девушек:
Я не выдам вас, будьте спокойны. Никогда. В самом деле, Слишком тяжко даются вам войны. Лучше б дома сидели.Сколько горечи, сколько сердечной боли несут эти строки — повторю их: «Слишком тяжко даются вам войны. Лучше б дома сидели».
Если попытаться в общей форме определить главные принципы, основополагающие устои миросозерцания Слуцкого, которые породили его поэтическую систему, то это народность, человечность и правда, сплавившиеся, соединившиеся в одно неразделимое целое.
Какие особенности некрасовской музы, гражданской его поэзии имел в виду Эренбург, видя в стихах Слуцкого продолжение этой традиции? Замечу тут — это уместно — что Некрасов для Слуцкого был долгие годы любимым поэтом.
Ассимиляция прозы жизни в стих — вот в чем Слуцкий следует за Некрасовым, это одна из важнейших особенностей его поэтической индивидуальности. Такой большой прорыв прозы в поэзию, как у Слуцкого, случается нечасто. Он изменил современные ему представления о границах поэтичного, существенно расширил их. Проза жизни не только определила круг насущных тем, к которым обращается поэт, не только обусловила его пристальное внимание к быту и подсказала выбор героев… Вторжение прозы оказало воздействие на все элементы стиха: образный строй, язык, интонацию. Смело и широко Слуцкий использует солдатский жаргон военных лет, просторечия, даже вошедшие в разговорную речь канцеляризмы. И перебои ритма, и недосказанная, оборванная или намеренно нескладная фраза, и повторение какого-то характерного словечка — все это от сегодняшнего говора улицы, который чутко схватывал Слуцкий. При этом угловатость стихов Слуцкого, которую отмечали едва ли не все писавшие о нем критики, обманчива, — он из тех поэтов, которые огромное значение придавали форме, «технике», инструментовке. Угловатость — результат не небрежности, а стремления разрушить, взорвать гладкость, зализанность, преодолеть литературщину.
И не об этом ли в послевоенную пору в одном из выступлений, опираясь на свой опыт, говорил Александр Твардовский: «Поэзия пошла на смелое сближение с прозой… Я совершенно убежден, что решительное сближение прозы и поэзии — несомненный признак нашего здоровья, нашего подъема».
Как правило, Слуцкий обращается к обыденному, не укладывающемуся в утвердившуюся «норму» поэтичного житейскому факту. Он стремится воспроизвести «натуру» — вполне будничную, примелькавшуюся, если и способную как-то привлечь наше внимание, то как раз явным отсутствием привычных, прочно закрепленных традицией поэтических «примет». Это один из краеугольных камней его поэтики. Поэзия для него вообще начинается с этого.
Сочетание внешне ничем непримечательного, до крайности обыденного, лишенного каких-либо батально-романтических «поэтизмов» и внутренне прекрасного, высокого, героического и создает мощное поэтическое напряжение в стихах Слуцкого.
Поэтика Слуцкого настроена на такие коллизии войны (и не только войны), которые таили в себе ее трагическую суть, но к которым поэзия в силу разных причин (в том числе и внешних — цензурно-редакторских запретов, но прежде всего потому, что они в силу укоренившейся традиции считались «непоэтичными») не решалась, не умела подступиться. Внимательно прочитаем еще одно его стихотворение — «Последнею усталостью устав…»
Последнею усталостью устав, Предсмертным равнодушием охвачен, Большие руки вяло распластав, Лежит солдат.Автор словно боится оскорбить неуместным пафосом или сентиментальной нотой скорбную минуту. Даже эпитеты — «последнею», «предсмертным», «большие» — могут быть прочитаны и как простые определения. Но глубоко спрятанная горечь нарастает, становится почти нестерпимой:
Он мог лежать иначе, Он мог лежать с женой в своей постели, Он мог не рвать намокший кровью мох, Он мог… Да мог ли? Будто? Неужели? Нет, он не мог. Ему военкомат повестки слал, С ним офицеры шли, шагали. В тылу стучал машинкой трибунал.За четырежды повторенным печальным «он мог» и тремя короткими вопросами, безжалостно отсекающими все эти «мог», — горькая неотвратимость трагической судьбы солдата. Куда ему было деваться — военкомат, офицеры, приказы которых он должен беспрекословно выполнять, иначе безжалостный трибунал. Но неужели все дело было в непреклонной воинской дисциплине, в суровых карах, которые угрожают солдату, не выполнившему свой долг? Нет, не этим кончается стихотворение, Слуцкий копает глубже — в финале трагическая неизбежность осмыслена как высокая необходимость:
Он без повесток, он бы сам пошел. И не за страх — за совесть и за почесть. Лежит солдат — в крови лежит, в большой, А жаловаться никому не хочет.И читатель должен понимать, что когда Слуцкий пишет: «В крови лежит большой», то речь идет не о судьбе только этого тяжелораненого солдата, а о цене, которой заплачено за войну, дорого стоившей нам, — «большой крови» — победе.
Как легко здесь было впасть в высокопарную патетику или, наоборот, в сентиментальную слезливость. А для Слуцкого этих опасностей словно бы не существует. В его стихотворении сочетается, лучше сказать, сплавлено несочетаемое — предсмертная тоска и готовность к самопожертвованию, ужас кровопролития и высота духа.
Когда Слуцкий назвал свое стихотворение «Как делают стихи», в этом был некоторый вызов, потому что на память сразу же приходила так же называвшаяся, известная, ставшая хрестоматийной статья Маяковского. Маяковский в этой статье предупреждал, что разговор о поэзии таит в себе опасность повторения общих мест: «Человек, впервые формулировавший, что два и два четыре, — великий математик, даже если он получил эту истину из складывания двух окурков с двумя окурками. Все дальнейшие люди, хотя бы они складывали неизмеримо большие вещи, например, паровоз с паровозом. — все эти люди — не математики». Слуцкий внял этому предостережению Маяковского, он, написавший, что физики нынче в почете, при всем уважении к физикам не стал повторять то, что хорошо известно, складывать два и два с помощью их синхрофазотронов. Кстати, несколько строками выше того примера из статьи Маяковского, который я цитировал, в этой статье говорится, что поэтом называется человек, который создает свои поэтические правила. По этим собственным поэтическим правилам Слуцкий и написал стихотворение «Как делают стихи».
«Поэтическое вдохновение» — это стало устойчивым словосочетанием, согласно традиции именно оно окрыляет, одаряет божественной легкостью и свободой. В стихотворении «Как делают стихи» творческий процесс с неслыханной в истории поэзии дерзостью уподобляется атаке пехотинцев, которую Слуцкий рисует, отбросив традиционные романтические костюмы и декорации, не скрывая жестокой реальности, и между этими, столь далекими сферами действительности — муки творчества и кровавый бой — возникает поле поэтического напряжения.
Стих встает, как солдат. Нет, он как политрук, Что обязан возглавить бросок, отрывая от двух отмороженных рук землю всю. Глину — всю. Весь — песок. Стих встает, а слова, как солдаты лежат, Как славяне и как елдаши, вспоминая про избы, про жен, про лошат. Он-то встал, а кругом ни души. И тогда политрук… впрочем, что же я вам Говорю — стих! — хватает наган, бьет слова рукояткою по головам, сапогом бьет слова по ногам. И слова из словесных окопов встают, выползают из-под словаря и бегут за стихом и при этом поют, мирозданье все матеря. И, хватаясь (зачеркнутые) за живот, Умирают, смирны и тихи… Вот как роту подъемлют в атаку и вот как слагают стихи.В стихотворении «Как делают стихи» творческий процесс уподобляется атаке, которая рисуется поэтом с поразительным бесстрашием перед жестокой реальностью, и между этими, столь далекими друг от друга по содержанию слоями действительности — муки творчества и кровавый бой — возникает поэтический контакт. Интересно, что в этом контакте оказалась поэтически осмысленной не только «проза» творческого процесса, но и жестокие страшные будни войны — и речи не может быть о до сих пор усиленно вбиваемое в головы мифическое «За родину, за Сталина!»
Слуцкий резко расширил владения стиха, отвоевал для него большие массивы прозы, считавшиеся прежде поэтически бесплодными. И при этом его «прозаический стих», как его часто называли в критике, пронизан замечательной внутренней музыкой — это органическое соединение прозы и музыки и делает Слуцкого большим поэтом. Слуцкий писал о том, что в стихах «музыка — святая простота — она сама собою разумеется — сначала». А в другом стихотворении он пишет о себе: «Три мелодии или четыре. Я на них нанизывал стихи». Вообще подспудная глубинная «музыка» — главное «чудо», главная «тайна» поэзии. И она часто служит тем непреодолимым камнем преткновения, который делает невозможным перевод на другой язык замечательных стихотворений. Внутренняя мелодия в стихе Слуцкого преобразует прозу, властно подчиняет ее себе, ведет за собой. Поразительны сила и энергия этой музыки — как разнообразны, но сразу же узнаваемы — это Слуцкий — его мелодии. Прислушаемся к ним, чтобы убедиться, что определение «угловатый» (к которому не раз прибегал и автор этих строк) никак не может быть исчерпывающей характеристикой стиха Слуцкого. Вот примеры.
Ордена теперь никто не носит. Планки носят только дураки. И они, наверно, скоро бросят, Сберегая пиджаки.Еще один:
Набираюсь терпенья на всю полосу — я с запасом его набираю, положу поудобнее крест и несу, плечи — все до крови стираю.Или:
Был ты домом, может богатым. Стал ты комом круглым, покатым, стал ты камнем, добился цели. Все мы канем, выплывем все ли. До сих пор меня не устали Тешить серии: были — стали.Однако, и это необходимо иметь в виду, музыка стиха важна не сама по себе, суть в том, что она освещает новым светом драматический материал, который прежде всего и больше всего привлекает Слуцкого, переключает его поэзию в некий высокий общечеловеческий порядок. И чем органичнее, выразительнее внутренняя мелодия, тем ощутимее общечеловеческий подтекст стихов.
Как известно, устаревают даже географические карты. Проходит какое-то время, изменяется ландшафт — пересохла речушка, соорудили мост там, где был паром, проложили дорогу. Все это нужно учесть — выпускается новая исправленная карта. Со временем меняется и «карта» литературы, поэзии. Особенно плохи «карты» литературы советской поры, они создавались по ложным «измерительным» программам и часто совершенно кричаще не соответствовали реальному положению дел.
Впрочем, существенные расхождения случались и раньше. В свое время Чехова рассматривали в одном ряду с его современниками-беллетристами: Лейкиным, Потапенко, в какие-то годы некоторые из них были не менее популярны, чем Чехов. Но высший судья в вопросах художественного качества и литературного долголетия — время — все расставило по своим местам, по иному выстроило историко-литературный ряд. Лейкин, Потапенко и некоторые другие способные беллетристы той поры нашли свое место в ряду прозаиков «второго ряда» в литературе, не имеющих основания претендовать на большее. А Чехов был поставлен рядом с Достоевским, Львом Толстым. «Литературное наследство» недавно выпустило трехтомник «Чехов и мировая литература», свидетельствующий о всемирном признании гения Чехова.
Вспоминая Слуцкого, Константин Ваншенкин писал: «Конечно, он был органичным, крепко сформировавшимся поэтом, что не все понимали. Он был поэтом подчеркнуто прозаичным. Некоторым своим стихам он давал подзаголовки — определение жанра: „статья, очерк“. Нарочито? Но как же тогда Твардовский с его подзаголовками к лирике: „сельская хроника“, „фронтовая хроника“, а к поэме „Дом у дороги“ — „лирическая хроника“?
Странно проводить аналогии между этими двумя поэтами, но вот — у Твардовского:
Что-то вяжет девушка, Сидя за рулем.У Слуцкого:
Шоферша вязала в кабине Огромного самосвала.Это не заимствование. Заимствуют строку, манеру.
Это — сходные жизненные наблюдения.
Борис Слуцкий — поэт незаурядной силы, своей интонации, индивидуальности. Суровый, корявый. Но мастер».
Надо воздать должное зоркой незамутненной наблюдательности Ваншенкина: он сравнил, поставил рядом поэтов, которые на старых «картах» литературы были прописаны в разных, автономных, не соприкасающихся областях. Дань этому размежеванию оговорка Ваншенкина — «странно проводить аналогии». Оказывается, что не странно. Наблюдение Ваншенкина подсказывает, что связь между поэзией Твардовского и Слуцкого существует, ее не замечали, потому что ориентировались по старым «картам». Они, Твардовский и Слуцкий, были знакомы — так случилось, что оказались в одной группе поэтов, которая в октябре 1957 года по приглашению итальянского общества дружбы с Советским Союзом ездила в Италию, во время этой поездки не раз беседовали, даже обменивались колкостями — оба были из тех, кто не лезет за словом в карман. Слуцкий, вспоминая годы войны, писал, что читал «Теркина» «с удовольствием. Это была несомненная поэзия… Первое, что у Твардовского понравилось мне полностью, было „Дом у дороги“». Но он никогда своих стихов Твардовскому, «Новому миру» не предлагал. Маргарита Алигер в своих воспоминаниях пишет, что «Твардовский не раз приглашал в журнал Бориса Слуцкого, но умный Слуцкий вежливо отказывался, понимая, что добром это не кончится». Видно, отдавал себе отчет, что бытовавшие как само собой разумеющиеся литературные представления слишком далеко их развели.
Но та объединяющая их нить, о которой пишет в своих заметках Ваншенкин, — свойственное и Твардовскому и Слуцкому отталкивание от литературщины, от литературной гладкости, внимание к прозе жизни, в языке опора на живую окопную фронтовую речь. Об этом писал Твардовский, рассказывая о своей работе над «Теркиным». Он почувствовал невмоготу писать не для «взрослых грамотных людей», а для «выдуманной деревенской массы», давно ставшей штампом псевдонародности. Солдатский юмор, пропитавший «Теркина», из этого источника.
Часто он жесткий, злой, направлен против утешающей лжи. В первый год войны на фронте говорили не «отступаем», а «драпаем», что и зафиксировал Твардовский, записав солдатское словечко «драп-кросс». И не из того же солдатского источника строки Слуцкого: «И хоть шел я назад, но кричал я: „Вперед!“»? Сразу вспомнился фронтовой анекдот той поры: «Почему драпаем?» — «Забыл, что Молотов 22 июня сказал, что победа будет за нами?..» Уже начало стихотворения Слуцкого: «Словно я был такая-то мать. Всех всегда посылали ко мне» вводило читателя в стихию живого языка переднего края. Но сам этот юмор был направлен, не только против тех, кто вопреки реальному положению безрадостных дел внушал, что все в порядке, беспокоится нечего, он бил и по нам, отступавшим. Но каким бы он ни был резким и жестким, этот очищавший от благодушия юмор, но сам факт, что он возник тогда, что была в нем потребность, свидетельствовал о несломленной силе сопротивления тяжело сложившимся обстоятельствам войны.
Близость некоторых мотивов у Твардовского и Слуцкого, которую легко заметить, если перешагнуть через «разделительные полосы» старых «карт», была закономерной…
Есть у Слуцкого стихотворение «Однофамилец», посвященное солдату, павшему в боях за Москву (в этих сражениях был ранен и сам поэт) и похороненному там, у шоссе, в братской могиле, заросшей уже травой:
Все буквы — семь — сходилися у нас, И в метриках, и в паспорте сходились, И если б я лежал в земле сейчас, Все те же семь бы надо мной светились. Но пули пели мимо — не попали, Но бомбы облетели стороной, Но без вести товарищи пропали, А я вернулся. Целый и живой. Я в жизни ни о чем таком не думал, Я перед всеми прав, не виноват, Но вот шоссе, и под плитой угрюмой Лежит с моей фамилией солдат.И сразу вспоминаешь Твардовского — невозможно не вспомнить:
Я знаю, никакой моей вины В том, что другие не пришли с войны, В том, что они — кто старше, кто моложе — Остались там, и не о том же речь, Что я их мог, но не сумел сберечь, — Речь не о том, но все же, все же, все же…А вот много раз цитировавшиеся строки из «За далью — даль» Твардовского о редакторе, которого называли «внутренним»:
Я только мелочи убавлю Там, сям — и ты как будто цел. И все нетронутым оставлю, Что сам ты вычеркнуть хотел. Там карандаш, а тут резинка, И все по чести, все любя, И в свет ты выйдешь, как картинка. Какой задумал я тебя.На память приходят строки Слуцкого:
Лакирую действительность — Исправляю стихи. Перечесть — удивительно — И смирны и тихи. И не только покорны Всем законам страны — Соответствуют норме! Расписанью верны! Чтобы с черного хода Их пустили в печать, Мне за правдой охоту Поручили начать.Здесь нет места для сопоставления прозы Твардовского и Слуцкого, написанной в одну и ту же пору — «Родины и чужбины» и «Записок о войне». А между тем это сопоставление напрашивается, нельзя не заметить бросающихся в глаза перекличек, близких мотивов и наблюдений. Надо надеяться, что историки литературы не пройдут мимо этого очень важного сюжета, много говорящего и о времени, и об авторах упомянутых вещей. Но вот что стоит напомнить: очерки Твардовского были подвергнуты разгрому, да такому, что даже не посчитались с тем, что автор к тому времени был трижды лауреатом Сталинской премии, депутатом Верховного Совета РСФСР — видно, раздражение в начальственных кругах было очень велико. Две статьи — Владимира Ермилова «Фальшивая проза» в «Литературной газете» и Бориса Рюрикова «Малый мир» в «Комсомольской правде» — уже по их названию ясно, что от очерков Твардовского камня на камне не оставляли: «фальшь», «грубая идейная и художественная ошибка», «безыдейность», «мелочность и узость взгляда» и т. д. и т. п.
Слуцкий свои «Записки о войне» в печать не предлагал, наверное, понимал, чем это грозит. Они были опубликованы уже после его смерти, в «перестроечную» пору — до этого и думать об этом нельзя было, через пятьдесят пять лет после того, как были написаны. Рукопись «Записок» по просьбе Слуцкого, знаю это точно, читали считанные люди — по пальцам руки их всех можно пересчитать.
Близость Твардовского и Слуцкого, о которой я веду речь, заключалась и в том, что они оба были целиком и полностью людьми поэзии. Это было главным делом их жизни, все пережитое, прочувствованное, увиденное непременно претворялось в стихи. Это было органическим свойством их художественного дара. И поэтому у них разговорная речь так легко и свободно, словно бы сама собой, переходила в речь стихотворную.
Та новая «карта» литературы, о которой я заговорил, уже создается, уже существует. Могли ли четверть века назад о Михаиле Булгакове, Андрее Платонове, Василии Гроссмане, Марине Цветаевой, Анне Ахматовой говорить как о классиках нашей литературы? А сейчас это принимают как само собой разумеющееся даже составители школьных программ, обычно склонные к консервативной устойчивости и неподвижности. Слуцкий писал в строках, слегка подсвеченных иронией: «Я слишком знаменитым не бывал, но в перечнях меня перечисляли. В обоймах, правда, вовсе не в начале, к концу поближе — часто пребывал». Так было обозначено его место на старых, советского времени «картах» литературы. Думаю, что на новой «карте» поэзия Слуцкого будет стоять в том же ряду, где стихи Константина Симонова времен войны, Александр Твардовский, Анна Ахматова (кстати, нелишне это отметить, она с интересом относилась к стихам Слуцкого), Иосиф Бродский.
Внушительную, быть может, даже большую часть своих стихов Слуцкий напечатать не мог, они были, как тогда выражались, «непроходимы». В сущности он постоянно «писал в стол» — тоже распространенная тогда в литературных кругах формула. Другого пути у него не было. Ведь его творчество по самой природе своей было лирическим дневником, покоившимся на том, что чувствовал, видел, пережил.
Слуцкий надеялся, что придет пора, когда в стране жизнь, существующие порядки изменятся, воцарится справедливость, в искусстве утвердится «гамбургский счет», несправедливо преследовавшимся и оттертым в тень воздастся заслуженное и должное:
Долголетье исправит все грехи лихолетья. И Ахматову славят, кто стегал ее плетью. Все случится и выйдет, если небо поможет. Долгожитель увидит то, что житель не сможет.Увы, не суждено было Слуцкому стать долгожителем. И не знал он, какая судьба ждет его стихи, оставшиеся в рукописи. Все-таки надеялся, что дождется лучшего. Писал: «Я еще без поправок эту книгу издам!»
Увы, не случилось. Не была издана при его жизни такая книга — «без поправок». А кто знает, доживи он до поры, когда открылась дорога в печать «самым сильным и бравым» его стихам, может быть, справился бы с депрессией, которая отняла у него почти десять последних лет жизни.
Поэзия Слуцкого вобрал в себя множество его глубоких проницательных размышлений о жизни, о выпавшей на его долю войне, о людях, об истории, о творчестве. Она явление цельное, отразившее то время и поднявшееся над ним, утверждая непреходящие ценности справедливости и человечности.
Есть у Слуцкого стихотворение, в котором он замечает, что «в двадцатом веке дневники не пишутся и ни строки потомкам не оставят», — страх и смятение, рожденные его катастрофами и жестокостью, не дают это делать. Дневники заменяла поэзия, потому что «за стихотворною строкой» «как за броней цельностальною» все-таки — пусть и не всегда — удавалось скрыться от недреманного ока охранных дел мастеров.
Лишь по прошествию веков из скомканных черновиков, из спутанных метафор все извлекут, что ни таят: и жизнь, и смерть, и мед, и яд, а также соль и сахар.И, быть может, одним из самых верных свидетельств о «двадцатом страшном веке», так мало оставившем откровенных дневников и достоверных мемуаров о разоренных им жизнях и несломленных душах будет потомкам нашим служить поэзия Слуцкого. А свобода, правда и добро, которые он, несмотря ни на что, отстаивал, надо думать, не упадут в цене и в XXI веке.
Известный французский поэт Реми де Гурмон писал: «Крупный писатель всегда находится в становлении, даже после смерти — возможно даже более всего после смерти. С ним никогда не бывает все ясно, и судьба его развивается от поколения к поколению».
В таком становлении находится и поэзия Бориса Слуцкого. Звезда его только сейчас начала по-настоящему восходить, она стремительно движется на поэтическом небосклоне вверх и светит все ярче и ярче — это бросается в глаза…
Пядь отвоеванной земли О прозе Григория Бакланова
Есть у Григория Бакланова небольшое, всего в несколько страниц, произведение — «Как я потерял первенство». То ли новелла, то ли зарисовка, — видимо, и автор затруднялся в определении жанра, поставив при первой публикации подзаголовок: «Невыдуманный рассказ». И в самом деле — это случай из его собственной жизни, о себе он рассказывает. Именно с него мне бы хотелось начать эти заметки, отыскать в биографии писателя жизненные истоки его книг.
«Невыдуманный рассказ» был написан к двадцатилетию Победы: автор, которому тогда пошел уже пятый десяток, со снисходительной, насмешливой отрешенностью от себя самого, наивного, нескладного, худющего, восемнадцатилетнего, вспоминает, как первой военной зимой в эвакуации в уральском городке он пробился к командиру формировавшегося гаубичного полка с просьбой зачислить его в часть, взять на фронт. С юмором он рассказывает о том, какое «жалкое зрелище» являл собою в ту пору: «Даже после того, когда мне уже выдали обмундирование и я в шинели, затянутый ремнем, в солдатских кирзовых сапогах шел по улице, оглядываясь на себя в стекла магазинов, пожилая женщина остановилась и, глядя на меня, вдруг заплакала: „Господи, и таких уже берут…“»
Этот короткий мемуарный очерк вообще выдержан в юмористическом тоне — многое здесь смешно: и то, что, оказавшись в артиллерии (две предыдущие попытки попасть в действующую армию — в авиацию и пехоту — окончились крахом), герой сразу же стал считать, что именно этот род войск «единственно в полной мере достоин человека», что полк его «самый лучший», лишь по непонятным причинам не получивший звания гвардейского; и то, что у него возникло чувство ревности, когда в их полку появился солдат моложе его и он утратил неясно чем его тешившее первенство.
Но пусть юмор не заслонит читателю серьезного, того, что проливает свет на главное в жизни и творчестве Г. Бакланова, что в глубинных истоках определило и его судьбу и пафос его книг. Кое-что выглядит — особенно сейчас, из дали годов, — мальчишески нелепым, но мысли были взрослыми и решения тоже; и этот, как тогда говорили в армии, рядовой необученный в свои восемнадцать лет хорошо понимал, куда и зачем идет, во имя чего стремится на фронт, а оттого, что был он моложе многих других, спрос с него был не меньший, и часто было ему, наверное, много труднее, чем тем, кто постарше и покрепче. Да и мысли были взрослыми, и чувство ответственности было не по летам зрелым.
Недавно в интервью, вспоминая войну, своих ровесников, своих братьев, сложивших голову на фронте, Г. Бакланов говорил: «…Это было поколение достойное, гордое, с острым чувством долга. Не тем чувством долга, которое, как правильно отмечал Лев Толстой, особенно развито в людях ограниченных, а тем, которое в роковые моменты истории движет честными людьми, готовыми пожертвовать собой во имя спасения Родины. Когда разразилась война, поколение это в большинстве своем шло на фронт добровольцами, не дожидаясь призыва, считая, что главное дело нашей жизни — победить фашизм, отстоять Родину. И почти все оно осталось на полях битв».
Это поколение сегодня представлено в нашей литературе целой плеядой хорошо известных читателю имен. Все они, юноши Великой Отечественной — Василь Быков и Владимир Богомолов, Алесь Адамович и Анатолий Ананьев, Виктор Астафьев и Виктор Курочкин, Дмитрий Гусаров и Константин Воробьев, — были тогда в армии самыми молодыми, но отвечать им приходилось не только за себя, а часто и за других без какой-либо скидки на возраст. Попавшие на фронт прямо со школьной скамьи, они, как хорошо сказал однажды Александр Твардовский, «выше лейтенантов не поднимались и дальше командира полка не ходили» и «видели пот и кровь войны на своей гимнастерке». И этим будет многое продиктовано в тех книгах о войне, которые напишут они потом — лет через десять — пятнадцать после ее конца, — а тогда никто из них не помышлял о занятиях литературой: все было отдано войне, тяжкой солдатской службе. «Вполне понятно, — писал Г. Бакланов, — что мы шли тогда на фронт не материал для будущих книг собирать, а защищать Родину. Шли солдатами, на фронте становились офицерами. Излишне говорить о том, как быстро мужают на войне: год за три — это еще минимальная мера».
Вот те университеты, где будущий писатель прошел школу жизни, самую фундаментальную из всех возможных.
После этого остается о его жизненном пути сказать немногое — и самых кратких биографических сведений достаточно. Родился Григорий Бакланов в 1923 году в Воронеже, там окончил школу и, как один из его героев, в первый раз уезжал из дому в пионерский лагерь, во второй раз — на фронт. Начал войну рядовым на Северо-Западном фронте, потом окончил артиллерийское училище — конечно, это был ускоренный выпуск, — и уже офицером, командуя взводом управления, сражался на Юго-Западном (впоследствии он стал Третьим Украинским) фронте — на Украине, в Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии. И знает передний край войны самым основательным образом: товарищей хоронил, был ранен и контужен, недоедал, недосыпал, мерз, тащил по непролазной весенней и осенней грязи пушки на руках, а сколько перекопал в жару и мороз твердой, как камень, земли, сколько прошагал, прополз, сколько водных преград форсировал, и так уж случалось, что большей частью на подручных средствах… Отсюда бесчисленные поразительно точные подробности и поведения человека в бою, под огнем, и сурового фронтового быта, которые отличают прозу Г. Бакланова.
Первый рассказ написал Г. Бакланов после войны, ожидая демобилизации, и был принят в Литературный институт имени Горького. Пережитое толкнуло в литературу. Есть некая загадка в том, что поколение, которое понесло на войне такие тяжелые потери — по статистике, из каждых ста ушедших на фронт юношей в живых осталось лишь трое, — дало нашей литературе большой отряд ярко одаренных художников. Наивно предполагать, что пули и осколки почему-то щадили талантливых, наделенных художественным даром. Причина, видимо, в другом: война была ни с чем несравнимым потрясением, пробудившим у людей способности, которых они в себе и не подозревали и которые в других обстоятельствах, быть может, так и остались бы под спудом, не были бы реализованы, — за перо заставляло браться страстное желание рассказать о выпавших на их долю великих испытаниях, которые они выдержали достойно…
Однако час для этого пришел не сразу. Как это ни странно, почти все писатели фронтового поколения — и Г. Бакланов тоже — начинали книгами не о войне. Повесть «Южнее главного удара» (первоначальное название «Девять дней» (1957) — не первое его произведение. Но это первая его удача, книга, свидетельствовавшая о рождении писателя со своим видением мира, со своей выношенной темой.
То, что написано до этого, несет еще следы ученичества. Впрочем, мало кому дано совсем миновать период ученичества. Беда была не в этом, во всяком случае не только в этом, а в том, что в основе предыдущей повести, «В Снегирях» (1954), и первых рассказов лежал материал, добросовестно собранный, но не ставший для автора, как война, частью его собственной судьбы. Изображалась в них современность, мирная послевоенная пора, но бралась она не изнутри, между автором и воссоздаваемой действительностью, по отношению к которой он занимал позицию наблюдателя, сохранялась изрядная дистанция — преодолеть ее молодому писателю очень трудно, ему трудно «вжиться», не пережив самому.
Но, быть может, эта пауза, перед тем как взяться за главное, за действительно выстраданное, этот разбег были нелишними и в конечном счете пошли на пользу. Удалось накопить некоторый литературный опыт — очень нужный. И не только литературный — пополнился и жизненный багаж. Что говорить, за годы войны они, еще совсем молодые люди, увидели, узнали, пережили такое, что в мирное время очень редко выпадает даже человеку, прожившему долгую и бурную жизнь. Но при этом им недоставало взрослого знания повседневной обыденности мирного существования, а без такой «точки отсчета», без ясного ощущения нормы человеческого бытия нельзя было по-настоящему осмыслить не дававший им покоя тяжкий груз фронтовых впечатлений. Война и мир — неразделимые сферы для художника, даже если он создает не широкую панораму, не эпического размаха полотно, а маленькую повесть, в которой перед нами проходит всего несколько дней фронтовой жизни, какой-то один маленький ее эпизод…
Василь Быков уже после того, как были написаны произведения Григория Бакланова, у которых и резонанс в критике был громче, и читательский успех больше, чем у повести «Южнее главного удара», все же счел нужным подчеркнуть принципиальный характер достоинства этой ранней книги: «…Первая военная повесть Г. Бакланова явилась для меня необыкновенно наглядным примером того, как неприкрашенная военная действительность под пером настоящего художника зримо превращается в высокое искусство, исполненное красотой и правдой. Во всяком случае, с благоговейным трепетом прочитав эту небольшую повесть, я понял, как надо писать о войне, и думаю, что не ошибся». Приводя этот отзыв, я хочу напомнить, что В. Быков, как и Г. Бакланов, был в войну офицером-артиллеристом, что он участвовал в тех же ожесточенных боях у венгерского города Секешфехервар, которые описаны в повести «Южнее главного удара», и это придает особый вес его словам о том, что Г. Бакланов правдиво запечатлел «неприкрашенную военную действительность». В ту пору это не слишком часто встречалось в книгах о войне и далеко не всем писателям и критикам казалось таким необходимым или даже просто допустимым, иначе сам принцип — о войне надо писать без умолчаний и прикрас — не воспринимался бы как некое откровение.
Сейчас острота этой стоявшей тогда перед военной литературой проблемы так не ощущается, то, что было нелегкой задачей, вызывало горячие споры, питало резкую полемику, нынче выглядит почти само собой разумеющимся — поиски правды, споры о ней (а все это, естественно, никогда не прекращается в литературе) перенесены в другую плоскость. А тогда смелостью, даже некоторым вызовом была сама жизненная ситуация, на которой строился сюжет повести «Южнее главного удара»: тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами врага в победном сорок пятом, за несколько месяцев до конца войны.
Но, пожалуй, существеннее в повести другое: та атмосфера фронтовой жизни, которая воссоздана автором с непререкаемой достоверностью, — она возникает из множества врезавшихся в память подробностей — тех, что не зря называют непридуманными, потому что их и в самом деле придумать невозможно.
Это подробности батальные — вот для примера два эпизода из повести.
Под артобстрелом через снежное поле ковыляет, опираясь на винтовку, раненый в распахнутой шинели. Время от времени разрывы закрывают его, но он, словно заговоренный от осколков, бредет дальше. И вот окончилась артиллерийская обработка, сейчас начнется немецкая атака. «Ударила мина вдогон. Одна-единственная. Когда ветром отнесло летучий дымок, человека не было: на снегу серым пятном распласталась шинель».
Солдат рассказывает: «Пообедать думали. Только ложку зачерпнул, ко рту несу, ка-ак сверкнет! Меня о стенку вдарило — огни в глазах увидел. Гусев: „Ох-ох! Ох-ох!“ Пока я к нему кинулся — готов уже. А Кравчук и не копнулся. А я посередине сидел…
И он снова принимался осматривать и ощупывать на себе шинель, сплошь иссеченную осколками, поражаясь не тому, что убило обоих его товарищей, а что сам он каким-то образом остался жив. Он был контужен. Оттого и кричал и дергал шеей. Все видели это, и только сам он вгорячах не замечал еще».
Но нельзя рассказать о солдатской жизни на войне, минуя подробности невообразимого фронтового быта. Смерть все время ходит рядом, а все же человеку надо как-то устроиться поспать, и поесть что-то надо, и гимнастерку постирать и залатать. Никуда от этих забот не денешься, а даже самое малое требовало немалых усилий. Вот идут пехотинцы, многие на ходу жуют сухари — они только из боя, там было не до еды, а на новых позициях, кто знает, будет ли для этого время?.. Где-то раздобыл солдат лайковые перчатки и щеголяет в них — выглядит это нелепо, но ведь зима на дворе, холодно, — какие ни есть, а все-таки перчатки…
Если писатель изображает мирные будни, не так уж важно, шел ли его герой на работу пешком или ехал на автобусе, об этом можно даже не поминать, быт здесь более или менее «нейтрален», а если пехотинца, которому приходится тащить на себе пуд, подбросили вдруг на машине — это для него кое-что значит, это весьма существенно. Одно дело, когда в мирной жизни говорят: приготовь сегодня обед получше, и другое, когда командир батареи перед боем приказывает старшине: вы продуктов не жалейте, — это значит и то, что потери ожидаются большие. Очень часто быт войны неотделим от крови…
«Южнее главного удара» — это принятое у военных обозначение в рамках запланированной или разворачивающейся операции места действий. Но глубинный смысл названия повести (а лучше сказать — ее пафос) иной, он раскрывается постепенно: разворачивается не только сюжет, движется вперед и авторская мысль. Однако первоначальная «формула» дана сразу же, в первой главе. Тут, в Венгрии, на Третьем Украинском фронте, тихо, положение стабилизировалось; успешно наступают нацеленные на Германию северные соседи, им салютует Москва, к ним приковано общее внимание. С завистью говорит один из героев, командир дивизиона Ребров: «Слыхал, как на Втором Белорусском даванули немцев? За четыре дня боев — сто километров по фронту и сорок в глубину. Дают прикуривать! На Первом Белорусском Варшава взята. Вон где главный удар наносится. А мы тут засели в низине у Балатона и победу и славу просидим здесь». И младший лейтенант Назаров, только что прибывший из училища на фронт, опасается, что так и не увидит настоящую войну, не удастся ему отличиться в деле. Герои еще не знают, что через несколько часов немцы здесь нанесут сильнейший удар танковым кулаком, и им, чтобы остановить и отбросить их, придется стоять насмерть.
Здесь-то и возникают размышления автора, в которых дана эта первоначальная «формула»: «На войне, как и везде в жизни, есть выигрышные и невыигрышные участки. Наступают Белорусские фронты — весь народ, все сердца с ними. А между прочим, судьба войны решается и на тех участках, о которых в час последних известий сообщают одной короткой фразой: „За истекшие сутки никаких существенных изменений не произошло“. Может, только славы здесь меньше… Так ведь в этой войне люди дерутся не ради славы».
К этой мысли — настолько она важна и дорога автору — нас возвращает и финал повести. Но тут она уже на новом «витке», автор не рассуждает, «поправляя» тех персонажей, которых и на войне не оставляет суетное, тщеславное, — это итог пережитого героями, чувство, которое они обрели в дни тяжелых кровавых боев, не суливших им ни наград, ни славы: «…Для каждого иным светом осветилось все сделанное ими. Все их усилия, и жертвы, и раны — все это было частью великой битвы, четыре года гремевшей от моря до моря и теперь подходившей к концу».
Как бы ни была серьезна и основательна мысль автора, если она выражена лишь «формулой», а не вытекает из художественного строя книги, немногого она стоит. Лишь в том случае, если «формула» сконцентрировала в себе то, что показано в произведении, если она «экстракт» нарисованной художником картины жизни, — а это так в повести «Южнее главного удара», — только тогда она весома и значима как факт искусства.
Несколько дней жестоких боев, которые ведут батарейцы капитана Беличенко, займут в их судьбе огромное место. Да и не всем из героев повести суждено пережить это сражение: погибнут и бесшабашно храбрый Богачев, и не по возрасту рассудительный Ваня Горошко, и ревностно блюдущий армейский порядок старшина Пономарев, и многие другие. А те, кто уцелеет, столько узнают за эти дни о жизни и смерти, о долге и самоотверженности, такое откроется им и в окружающих, и в них самих, — на что в мирное время иногда уходят годы. Пройдя через эти испытания, взрослым станет по-мальчишески восторженный младший лейтенант Назаров, преодолеет гнетущий его страх писарь Леонтьев.
Г. Бакланов строит повесть так, чтобы для читателя стало очевидным, что победа добывалась сообща на «выигрышных» и «невыигрышных» участках, и на «невыигрышных» требовались не меньшие мужество и доблесть, чем на «выигрышных», и жизнь одинаково была дорога, когда приходилось ею жертвовать и там и там.
Как писал Александр Твардовский:
Пусть тот бой не упомянут В списке славы золотой, День придет — еще повстанут Люди в памяти живой. И в одной бессмертной книге Будут все навек равны — Кто за город пал великий, Что один у всей страны; Кто за гордую твердыню, Что у Волги у реки, Кто за тот, забытый ныне, Населенный пункт Борки.Наверное, эти строки — так они подходят — можно было бы поставить эпиграфом к повести Г. Бакланова; кстати, он как-то писал, что долгое время — уже и после войны даже — искренне считал, что речь в этой главе поэмы А. Твардовского идет о стоившем многих жизней бое за деревню Белый Бор, в котором довелось и ему участвовать. И то, что один из мотивов «Теркина» перекликается с главной идеей повести Г. Бакланова, говорит не о литературном происхождении «Южнее главного удара», — напротив, это лишний раз подтверждает верность автора повести действительности: не зря же за поэмой А. Твардовского закрепилось название «энциклопедия солдатской жизни в Великую Отечественную войну»…
Несомненно, повесть «Южнее главного удара» была удачей молодого писателя, но имя его стало широко известно только после следующей вещи: повесть «Пядь земли» (1959) сразу поставила Г. Бакланова в первый ряд военных писателей. И это не было капризом своенравной литературной судьбы: «Пядь земли» — более зрелое и совершенное произведение, чем «Южнее главного удара». Конечно, интерес к новой повести подогрели вспыхнувшие тогда споры о «правде солдатской» и «правде генеральской», о том, какой виделась война из окопа и на командном пункте военачальника, о «глобусе» и «карте-двухверстке», споры, в эпицентре которых оказалась «Пядь земли», но и сами они были вызваны в немалой степени тем читательским успехом, который сопровождал появление книг прозаиков военного поколения, в том числе и «Пяди земли». Сейчас, почти четверть века спустя, когда улеглись взвинченные полемикой страсти и само время сняло многие несправедливые обвинения в «дегероизации», «ремаркизме» и т. п., — яснее выступила теоретическая почва этого непонимания, неприятия того, что несла «вторая волна» прозы о войне; природу этого заблуждения верно определил Г. Козинцев: «Существо героического путают со стилем, способность к подвигу хотят сочетать с пристрастием к возвышенной речи. Не думаю, чтобы имело смысл утверждать какой-то один стиль».
Здесь нет места для подробного разбора этой дискуссии, сыгравшей свою роль в развитии нашей военной прозы, и я вспомнил о ней лишь для того, чтобы установить «месторасположение» повести Г. Бакланова в литературном процессе тех лет. Но, как всякая талантливая книга, «Пядь земли» — не «производное» от определенной литературной тенденции; даже те черты повести, на основании которых и устанавливается типологическое родство ее с произведениями других авторов, не могут быть верно истолкованы без ясного понимания, что близость не есть повторение. Больше того, вне этой диалектики неразличимы сложные связи даже между книгами одного и того же писателя, а сами понятия — творческий путь, творческая эволюция — превращаются в лучшем случае в плоскую схему. Некоторые проблемы, поставленные в повести «Южнее главного удара», некоторые мотивы, намеченные там, в «Пяди земли» получили дальнейшее развитие и более глубоко осмыслены. Впрочем, это уже не совсем те, а иногда и совсем не те проблемы и мотивы; оказавшись в новой художественной структуре, они сплошь и рядом трансформируются, несут иную смысловую нагрузку, выполняют другие функции.
Начну с главного различия, во многом определившего все остальное. Если в повести «Южнее главного удара» Г. Бакланов видит свою задачу в доказательстве того, что судьба сражений решалась не только на направлениях главного удара, что всюду, на всех участках фронта дорогой ценой плачено за победу, — пафос «Пяди земли» точнее всего выражают слова Юлиуса Фучика, вынесенные автором как эпиграф: «…Не было безымянных героев, а были люди, которые имели свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и поэтому муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю». В одном случае тяжкие, но безвестные, обойденные славой бои, в другом — незаметные люди, чьи имена не сбережет история: сходство есть, но акцент резко перенесен на человека. Чего ему все это стоило, через что он прошел, что вынес? «Вот этой весной. Днем в окопах по колено талой воды. Ну люди же! Глядишь: один, другой вылез на бруствер обсохнуть на солнышке. Тут — обстрел! Попрыгали, как лягушки, в грязь. А ночью все это замерзает в лед. Вот что такое пехота!» — рассказывает один из героев повести. А что такое попасть под пулеметный огонь, когда укрыться негде: «Впереди — воронка. Только бы добежать до нее! Не стреляет… Не стреляет… Падаю, не добежав! Сердце колотится в горле. Пиу!.. Пиу!.. Чив, чив, чив! Словно плетью хлестнуло по земле перед самой воронкой. Отдергиваю руку — так близко. Дурак! Не надо было шевелиться. Изо всех сил вжимаюсь в землю. Она сухая, каменистая… Впереди меня, у края воронки, каким-то образом уцелевший желтый подсолнух; смотрит на солнце, отвернувшись от немцев. Фьюить! — падает шляпка. Фьюить! — падает стебель, перебитый у основания». Каждая пядь отвоеванной у врага земли полита кровью и оплачена жизнями многих людей. А человек — это не легко заменимый винтик огромной армейской машины — у каждого одна жизнь, и где-то в тылу у каждого остались родные, для которых во всем белом свете нет никого дороже, чем он.
«Пядь земли» написана от первого лица, это была точно выбранная форма для повествования о том, что не было на войне «безымянных героев», безликой массы, а были люди. Такая структура обеспечивала читателю эффект присутствия, позволяла ему видеть происходящее глазами героя, который проходит через все те малые и большие испытания, что составляют содержание жизни офицера переднего края. Кровавый смерч боев раскрыт в повести таким образом, что артиллерийская канонада и треск автоматов не заглушают стонов и шепота, а в пороховом дыму и пыли от разрывов снарядов и мин можно разглядеть в глазах людей решимость и страх, муку и ярость. Изображение столь приближено к читателю, что в сущности перестает быть лишь созерцаемой им картиной, — возникающее у него сопереживание отличается удивительной полнотой и глубиной. И не только у героя повести лейтенанта Мотовилова, перебегающего под пулеметными очередями, не хватает дыхания, — нас тоже, когда мы читаем эту сцену, словно бы обжигает смертоносным огнем.
Всестороннее художественное исследование характера главного героя «Пяди земли», когда каждый его поступок, каждое сказанное слово, каждое движение души «на виду» — все взвешивается и осмысливается (этого, кстати, не хватало повести «Южнее главного удара», где капитан Беличенко, находящийся в сюжетном фокусе произведения, не раскрыт с достаточной выразительностью и глубиной, проигрывая в сравнении даже с некоторыми персонажами второго плана), — такое исследование не самоцель для автора, оно ведется для того, чтобы выяснить, в чем источник душевной силы людей, которые постоянно ходят рядом со смертью, благодаря чему они могут выдержать невыносимое напряжение. Это и ненависть к фашизму, посягнувшему на сами основы человеческого бытия, запланировавшему превратить миллионы людей в лагерную пыль или рабочий скот: «Бывали и раньше войны, — размышляет Мотовилов, — кончались, и все оставалось по-прежнему. Это война не между государствами. Это идет война с фашизмом за жизнь на земле, чтобы не быть тысячелетнему рабству, поименованному тысячелетним рейхом». И чувство долга и ответственности, заставляющее считать этот окоп, который суждено тебе защищать, или эту высоту, которую ты должен штурмовать, главным боевым рубежом родины, и пока ты жив, пока есть у тебя силы, чтобы держать оружие в руках, никто не может здесь заменить тебя, ни на кого не имеешь ты морального права переложить эту тяжесть, даже если тебе невмоготу. И чувство братства с товарищами, которые сражаются рядом — со знакомыми и незнакомыми, — у всех общая и такая цель, что делает близкими людьми и незнакомых: человек, которого ты увидел всего несколько часов назад, спас тебе жизнь, подвергая себя смертельной опасности, но ведь и ты, рискуя своей головой, выручил из беды кого-то, даже не зная его имени.
«…Я не хочу себе судьбы, отдельной от моих товарищей. Мы столько раз вместе сжимались под обстрелом, вместе сидели у костров, и хлеб, и вода в котелке, и огонь были общими. А когда не было всего этого, мы ложились тесно и в мороз согревали друг друга теплом своих тел. Я до сих пор несу в себе тепло тех, кого уже нет в живых, я часто думаю их мыслями, в душе моей часть их души», — эти мысли навеяны герою письмами матери, которая живет в постоянном страхе за него. Вот что он мог бы ей, наверное, ответить, но даже матери он никогда не напишет того, что думает сейчас, никогда ни он, ни его товарищи ни с кем не заговорят об этом вслух. Не обо всем можно сказать словами, и тот, кто решается говорить о сокровенном чувстве, не дорожит им. Потому что речь идет не об умозрительном выводе, пусть вполне основательном, а именно о чувстве, интимном чувстве, не нуждающемся в обосновании и чурающемся громогласности. Сила и подлинность его подтверждаются не словами, а только поступками, — у Толстого источником мужества сражавшихся на Бородинском поле служит скрытая теплота патриотизма.
Имя Толстого возникло не случайно: Г. Бакланов принадлежит к тем писателям военного поколения, для которых главным эстетическим ориентиром служили толстовские традиции, они в немалой степени определили направление его собственных художнических исканий. И это касается не столько изображения войны как таковой, батальных сцен, сколько проникновения в психологию персонажей, в изменяющийся «текучий» мир забот и стремлений личности, в нравственную подоплеку поступков, в сложные, переплетающиеся, противоборствующие причины событий. Это не школа — окончил ее и выпущен для самостоятельной деятельности; связь Г. Бакланова с толстовскими традициями не прерывается и не слабеет с годами, для последних книг она не менее, а иногда и более существенна, чем для ранних; вот и в недавнем интервью он говорил, что и нынче ему представляется в военной литературе наиболее перспективным «все то же старое реалистическое направление, идущее от Толстого». Но именно в «Пяди земли» это равнение, эта ориентация на толстовские традиции определились как принципиальная позиция.
В отличие от «Южнее главного удара», где автор погружался в прошлое, «Пядь земли» обращена к современности; нравственные уроки будущему, извлеченные из пережитого людьми на войне, создают лирическое напряжение в повести. Автор и рассказчик (дистанция между ними минимальная, и есть резон в том, что о произведениях писателей военного поколения иногда говорят как о «мемуарах» солдат и лейтенантов) много, очень много размышляют о жизни и смерти, о смысле человеческого существования, о необходимости беречь мир на земле, о том, что такое человечность на войне.
Высочайшая мера требовательности к себе, нравственный максимализм, страстное стремление во что бы то ни стало добиться справедливости — и в большом и в малом, вселенская отзывчивость, когда близко к сердцу, как собственная боль и горе, принимается все, что происходит в мире, — эти черты поколения и времени по-своему преломились в характере Мотовилова. То было поколение романтиков, революция, ее идеи определили их духовный горизонт — необычайно широкий, она вселила в них веру в то, что им выпала на долю беспримерная историческая миссия — покончить на земле с бесчеловечностью и злом.
Романтиками их делала одержимость идеями справедливости, а не война сама по себе, тем более не военные «приключения». Только из дали годов и тем, кто не прошел через это, может сегодня показаться, что жестокая кровопролитная война, в противоположность благополучно однообразной повседневности мирного времени, располагает к романтическому мировосприятию. На самом деле — и об этом убедительно свидетельствует литература «потерянного поколения» — в грязи окопов первой жертвой становились романтические иллюзии. Но романтика ровесников Мотовилова не была иллюзорной, их романтический пыл не могли остудить самые угрюмые из всех мыслимых — фронтовые, окопные будни. Уже хотя бы потому, что приобретенный в войну жизненный опыт, бесчеловечность фашистов, с которой они сталкивались на каждом шагу, раскаляли их воинствующую непримиримость ко злу и несправедливости в любых проявлениях, в любых обличьях.
«Мы не только с фашизмом воюем, — мы воюем за то, чтоб уничтожить всякую подлость, чтобы после войны жизнь на земле была человечной, правдивой, чистой», — размышляет Мотовилов. От книги к книге этот мотив звучит у Г. Бакланова все сильнее и сильнее, острее становится критика шкурничества и безыдейности, безнравственности и приспособленчества, проникающая сквозь самую изощренную социальную и нравственную мимикрию (стоит взглянуть на панораму литературного процесса конца 50-х годов, и мы увидим, что вообще в прозе резко вырос интерес к нравственной проблематике, больше внимания уделяется художественному анализу зависимости гражданского поведения человека от его нравственных устоев).
И если в «Южнее главного удара» и «Пяди земли» этот мотив реализован лишь в эпизодических персонажах (повозочный Долговушин, чтобы быть подальше от передовой, прикидывающийся человеком, неспособным ни к какому серьезному делу, с которого все взятки гладки; Мезенцев, который всегда ловко устраивается так, что за него «все трудное, все опасное в жизни делают другие»), то в следующей небольшой повести «Мертвые сраму не имут» (1961) он возникает в связи с одной из главных фигур произведения и разработан подробнее, основательнее.
За плечами начальника штаба артиллерийского дивизиона капитана Ищенко уже восемь лет безупречной, как ему представляется, службы. Он и в самом деле дока по части неукоснительного соблюдения некоего внешнего распорядка, которому в армии придается немалое значение, здесь у него наверняка все всегда было в абсолютном ажуре, тем более что в исполнительности и аккуратности видел он суть армейской службы. Ищенко не служил, а выслуживался, не обременяя себя мыслями о том, что защищает наша армия, за что идет война, в которой и он участвует. Разумеется, он прекрасно знал все слова, которые писались и говорились по этому поводу, да и сам произносил их в надлежащих случаях, но для него они так и оставались словами, не находившими никакого отклика в его душе. А по-настоящему для Ищенко было важно только то, что прямо затрагивало его интересы, сосредоточенные на продвижении вверх по служебной лестнице, на его доме, на вещах, которыми они с женой обзаводились любовно и с толком. Он полон самоуважения и чувства превосходства над окружающими, потому что все у него ладно, основательно — от уютной квартиры (ценность которой возрастала от того, что соседом был сам командир полка) до наборного мундштучка, изготовленного дивизионным умельцем.
И в минуту трудную, кризисную эта духовная скудость, эта нравственная недостаточность не могли не дать себя знать. Когда потрепанный в боях дивизион напоролся на немецкие танки, в неразберихе внезапного ночного боя на марше Ищенко, спасая свою жизнь, бежал: для него не существовало ценностей, которые защищают, не щадя себя. Он бежал, бросив в отчаянный момент на произвол судьбы подчиненных, не подумав предупредить их о стоявших в засаде немецких танках. Он спасал себя, расплачиваясь их кровью, предавая их. Именно предавая, — не случайно замполиту Васичу, раскусившему его в этом бою, пришла в голову мысль, что, окажись Ищенко в оккупации, он бы и не подумал о сопротивлении захватчикам, а «тихонько опустил бы на окне белую тюлевую занавеску: и мир видно через нее, и тебя не увидят. Вдвоем с женой, за занавеской, можно и немцев переждать». И хотя Ищенко побаивается — если всплывет, как он вел себя в этом бою, его могут судить, строго наказать, — вины своей он не чувствует и раскаяния, естественно, не испытывает. Тогда, в бою, он оправдывал себя, считая, что начальство с преступным легкомыслием послало дивизион на заклание, теперь, перед лицом начальства, он находит другое оправдание: он ничего не мог сделать, бой был проигран из-за того, что его погибшие товарищи распоряжались нерадиво и неразумно. Он сваливал на них ответственность за этот несчастливо сложившийся бой, в котором они сделали все, что смогли: у них не было сил, чтобы остановить мощную группу немецких танков, но они их все-таки задержали, а шесть сожгли. Ищенко не хотел разделить со всеми судьбу на поле боя, он спасал свою шкуру, а уж выбравшись оттуда целым и невредимым, он тем более не собирался «отвечать за всех». И когда в штабе полка его дотошно расспрашивал о случившемся капитан Елютин из СМЕРШа, привычно ищущий виновников, которые должны отвечать за неудачу, Ищенко снова предал своих товарищей — мертвых и уцелевших, возводя на них напраслину…
Разные люди были в дивизионе: бесшабашные и осмотрительные, более выносливые и послабее, замкнутые и душа нараспашку, образованные и не очень грамотные, решительный, уверенный в себе, грубоватый Ушаков и мягкий, обуреваемый, как нынче говорят, интеллигентскими комплексами Кривошеин, начальник разведки Мостовой, который жаждет высшей незамутненной справедливости и даже думает о том, что после войны и немцев нельзя судить чохом, с каждым надо бы разбираться отдельно, и тот простодушный молодой разведчик, который никак не мог взять в толк, почему Ищенко бросился в сторону от своих, когда на них сейчас навалятся немцы, — но все они, непохожие друг на друга, не могли и помыслить для себя иной, более легкой, чем у их товарищей, судьбы, для всех них и этот бой и вся война были общим и кровным делом.
Для всех, кроме Ищенко. Конечно, он был исключением. Исключением, но не казусом. В этом характере писателем верно схвачено явление, которое при обычном течении жизни редко выступает с такой обнаженностью, уже хотя бы потому, что не может иметь столь очевидных, немедленных и катастрофических последствий, — так скрытая за гладкой поверхностью металла раковина обнаруживает себя лишь при очень больших перегрузках. Но и в мирные времена захребетничество, ржа эгоизма исподволь, незаметно разъедают общественные связи, подтачивают моральные устои. Серьезность этой опасности старается подчеркнуть Г. Бакланов, давая понять, что, скорее всего, Ищенко выкрутится, избежит возмездия. За руку-то его не поймали, а презрение тех, кто почувствовал что-то неладное в его поведении, — разве проймешь его этим? В душе он ликовал, что остался жив, все другое для него мало значило. И в мирной жизни он будет устраиваться за счет других, работая локтями, ставя подножки, не останавливаясь ни перед чем.
Фигура, подобная Ищенко, оказавшись в поле зрения писателя, ставила перед ним ряд серьезных проблем (откуда берутся эти люди, какими обстоятельствами формируются, на чем паразитируют), которые могли быть исследованы только в широком общественно-историческом контексте, — сделать это в такой небольшой повести, как «Мертвые сраму не имут», замкнутой на одном фронтовом эпизоде, разумеется, невозможно. Но для этого писателю нужна была не столько гораздо большая площадь, — необходимо было изменить, расширить угол зрения, чтобы уловить течение времени и эволюцию характеров. Внутренняя логика художественных исканий вела Г. Бакланова к роману. И хотя по объему «Июль 41 года» (1964) не очень намного превышает «Пядь земли» или «Южнее главного удара», — это роман, произведение иной жанровой структуры, отвечающей новой авторской задаче.
Вскоре после того, как появился «Июль 41 года», Г. Бакланов в анкете, проводившейся журналом «Вопросы литературы», поделился некоторыми своими размышлениями о войне, о военной литературе. Несомненно, это были уроки недавно оконченного им романа. «Великая Отечественная война, как и вся мировая война, — писал Г. Бакланов, — не была чем-то отъединенным, локальным в жизни стран и народов. И характер их, и поражения, и победы во многом определялись предшествующей историей… Конечно, то, что происходит сегодня, это — современность. Но она соотносится с прошлым, как устье с истоком реки. Единая жизнь, как река, течет в берегах, и на нее невозможно нанести деления. Если же мы попытаемся установить более прочные разграничительные сооружения, некий род плотин, делящих реку на части, то увидим сразу же, как начинает мелеть и пересыхать все то, что ниже по течению». И еще: «…Труд писателя, ставящего своей целью рассказать о времени, это в какой-то своей части непременно труд исследователя, исследователя экономических и общественных условий, формировавших характеры и отношения, вторгавшихся даже в интимную жизнь людей, исследователя характеров, сформированных временем и формировавших время. Мы только-только начинаем многое узнавать и понимать, начинаем по-иному смотреть на вещи. Но еще мало кому дано оторваться от притяжения отдельных фактов и событий, подняться над ними и увидеть картину целиком».
Так представлял себе писатель ту новую художественную задачу, которую стремился решить в романе, — здесь выведен его «генетический код». Что значит применительно к роману «Июль 41 года» «увидеть картину целиком»? Прежде всего проникнуть и в дальние причины наших поражений и неудач начального периода войны. Но это лишь одна сторона дела. Крайне важна и другая: авторская установка — воссоздать взятое в данный момент время так, чтобы в нем, как в реальном потоке жизни, непременно присутствовали, переплетаясь, вчерашнее и завтрашнее, — требовала постижения того, что было залогом наших грядущих военных успехов. Рисуя один из самых тяжких месяцев войны, Г. Бакланов не закрывает глаза на то, что нам мешало, что составляло наши слабости, и зорко видит то, в чем мы были сильны, что в дальнейшем должно было изменить ход событий, хотя здесь не было и могло быть механического равновесия. Выясняя, почему мы отступали, нужно было понять, благодаря чему мы одержали затем победу, — иначе была бы искажена историческая перспектива.
При этом следует помнить, что как бы глубоко и дотошно ни исследовал писатель экономические и общественные условия (Г. Бакланов справедливо подчеркивает необходимость и плодотворность такой работы для художника), роман, конечно, не историческая монография, не военно-исторический очерк: некоторые причины наших поражений и побед — экономического, технического и военного свойства — в «Июле 41 года» не раскрыты, никак не отражены. Это неудивительно, сквозь «магический кристалл» романа можно как следует разглядеть только то, что отозвалось в человеческих душах, в психологии, что имеет непосредственное отношение к фактору — как тогда говорили — моральному, а в старину это называлось духом войска и народа.
Многообразна и непроста зависимость, существующая между историческими обстоятельствами и характерами. Здесь действуют разнонаправленные силы — притяжения и отталкивания. Здесь одна и та же причина может нередко вызывать разные последствия. Обстоятельства, благоприятные для одних людей, способствующие их процветанию, жизненному успеху («Ведь нынче любят бессловесных», — говорит Чацкий о Молчалине, предсказывая, что тот «дойдет до степеней известных»), для других становятся камнем преткновения, не дают им развернуться в полную силу (Пушкин с горечью писал о Чаадаеве: «Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес, а здесь он — офицер гусарский»).
Но ведь случаются и иные обстоятельства, при которых прозябают молчалины и идут в гору чаадаевы. Впрочем, и неблагоприятные условия, это тоже нельзя упускать из вида, нравственно деформируя и ломая нестойких, податливых, выковывают из тех, у кого достает сил не сгибаться, кто не желает приспосабливаться, настоящих людей. Сложная диалектика такого рода связей возникает в романе Г. Бакланова.
Война сурово проверяла, кто чего стоит, кто на что способен. Это было и строгое испытание формировавших людей обстоятельств: как они, предвоенные обстоятельства, отозвались потом, в тяжелое грозное время, — хорошим и дурным, силой и слабостью. Было ли все в них неотвратимо или что-то можно было изменить, да не все было для этого сделано? Командиру корпуса Щербатову его сын, лейтенант, рассказывает, что во взводе, которым он командует, боец предложил из лука стрелять по вражеским танкам бутылками с зажигательной смесью — и здорово получается, рукой так далеко и точно не кинешь. Щербатов, опытный военный, хорошо отдает себе отчет, какой крови будет стоить каждый сожженный подобным способом танк. Сейчас уже ничего не поделаешь, придется против танков и таким оружием воевать. Но вся его жизнь была отдана армии, все силы ума и души — укреплению ее мощи, от этого зависела судьба революции, будущее страны, — как же вышло, что «он, отец, командир корпуса и генерал, учит вот таких мальчиков не бояться танков, подпускать их ближе, пол-литровыми бутылками поджигать их, учит смекалке? Неужели он виноват, что так случилось?». Задавая себе этот мучительный вопрос, Щербатов, что очень существенно для понимания характера главного героя романа, судит прежде всего себя, а не обстоятельства. Потому что движет им не желание как-то оправдаться в собственных глазах, снять с себя ответственность (что, мол, я мог сделать, если сложилась такая ситуация), он хочет выяснить, чего он все-таки не сделал, чтобы изменить эту ситуацию, почему опустил руки.
Неотступные трудные его думы — не разъедающая волю к действию рефлексия, это — жесткая самопроверка, чтобы извлечь из былого практические уроки для себя, она укрепляет его волю к борьбе и решимость, его веру в победу. И в самые критические минуты, подымая в атаку бойцов, прорывающихся из окружения, шагая под огнем в цепи, как все они, с винтовкой наперевес, навстречу неведомой судьбе, он знал твердо, что «через страдания и кровь, через многие жертвы, так же неостановимо, как восходит солнце, взойдет и засияет людям выстраданная ими победа».
Не должно быть ни малейшего зазора между служебным и нравственным долгом, то, чего не приемлет нравственное чувство, не может пойти на пользу делу, рано или поздно скажется самым пагубным образом, — вот вывод, в котором укрепляется Щербатов, пережив потрясения первых недель войны. И тут кроется принципиальное отличие Щербатова от командующего армией Лапшина.
Не в том дело, что Щербатов опытнее, что он продвигался вверх по служебной лестнице, не перескакивая через ступени, а Лапшин, меньше чем за два года, из комбата стал командармом. Это не всегда беда: случалось, что люди, стремительно взлетевшие вверх, оказывались на месте, наилучшим образом справлялись со своими обязанностями (таков в романе молодой комдив Тройников), а бывало, что годы усердной службы не расширяли кругозора и новый масштаб задач, увы, оказывался им не по плечу (генерал Сорокин, человек в летах, с немалым командирским стажем, все же не дорос до своей должности начальника штаба корпуса, не тянет). Спора нет, свою роль играло, был ли человек баловнем судьбы или своим трудом, талантом, своим горбом заработал высокую должность, но главным, решающим было другое — мера ответственности, которая лежала в основе его решений и действий.
Для Лапшина она определялась главным образом благорасположением тех, кто заметил его, выделил среди других, выдвинул, потому что думает он в основном о себе, а не о деле, не об армии, которая ему доверена. Он мечется, он не способен самостоятельно принять решение. Потеряв голову — все происходило не так, как ему рисовалось, но все время помня о себе — что будет с ним, он кричит в истерике Щербатову: «Думаешь, разбил он меня? Разбил?.. О-бо-жди!.. Я с новой армией приду, так только дым от него пойдет!» Он и теперь не может осознать: той войны, которая ему представлялась, где все пойдет как по писаному, не будет и не могло быть. И так, как он командовал, нельзя воевать. А он все еще надеется: пусть сегодня не удалось, завтра он непременно закидает противника шапками.
Ошибки и промахи Лапшина (в пределах возможного, тогда никто не мог сотворить чуда — превосходство было на стороне врага) не одного лишь профессионального свойства, они коренятся в ущербности его нравственных представлений, в атрофии гражданского самосознания. Щербатов и Лапшин не только два типа военачальника — это производное, они олицетворяют разное отношение к жизни, к делу своей жизни: один человек глубоко идейный, выполняющий свой долг не за страх, а за совесть, другой — бездумный исполнитель, неспособный к самостоятельным суждениям и действиям…
И еще один персонаж противостоит Щербатову в романе — это начальник особого отдела Шалаев. Не за страх, а за совесть — убежден Щербатов, — только так можно сплотить людей, и они будут сопротивляться врагу до последнего дыхания. За страх — считает Шалаев, — если держать всех в страхе, мы станем сильными и неуязвимыми. Он утратил идейные и нравственные ориентиры и не способен отличить правых от виноватых, не может и не желает. В результате смятение и панику сеет вокруг себя Шалаев, в сущности он расшатывает моральный фундамент армии, подрывает ее сплоченность, порождает недоверие и отчужденность.
Щербатов — главный герой романа не потому только, что все сюжетные нити книги так или иначе стянуты к этому образу, а потому, что в его характере заключен самый высокий идейный и нравственный потенциал. Щербатов словно бы аккумулирует спокойную стойкость Прищемихина и неиссякаемый оптимизм Нестеренко, самозабвенную готовность Бровальского отдать себя людям и трезвый, ни перед чем не останавливающийся анализ Тройникова. В свою очередь, эти и многие другие окружающие Щербатова люди заряжаются его духовной силой, неостывающей верой в торжество нашего дела, потому что оно правое дело, его гуманизмом и справедливостью.
Щербатов не только главный герой романа, но и главная художественная удача писателя. Решающая, так сказать, стратегическая удача. И вот что примечательно: романная структура предъявляла свои требования автору, диктовала условия, с которыми он не мог не считаться. Надо ли говорить, что у Г. Бакланова были все возможности еще подробнее и глубже раскрыть молодых персонажей романа — Гончарова и Литвака, людей его поколения, — для автора «Пяди земли» это не составляло особого труда. Но вряд ли книга от этого выиграла бы, скорее, проиграла, — пришлось бы потеснить Щербатова, отобрать у него какую-то часть читательского внимания. И если кое-где в романе, как мне кажется, все-таки нарушено художественное равновесие, то в иную сторону. Гончаров и Литвак занимают в произведении больше места, чем в той реальной системе человеческих и служебных взаимоотношений, центром которой стал Щербатов. Здесь дала себя знать инерция предшествующего успеха, правда, сила ее невелика и зона действия ограничена — это касается персонажей второго плана, одного из «боковых» ответвлений сюжета…
В целом же и «Июль 41 года» и последующее творчество Г. Бакланова показывают, что он не стремился эксплуатировать собственные достижения, не собирался сеять на том поле, с которого уже собрал однажды добрый урожай. Его увлекает исследование судеб, характеров, обстоятельств, которыми прежде он не занимался, каждый раз он ставит перед собой новую задачу, которая не решается освоенными способами, в привычных жанровых координатах.
Это одна из причин, почему после «Июля 41 года» Г. Бакланов обращается к современности. О другой он говорил сам: «Много лет прошло после войны, жизнь раскрывала свои сложнейшие проблемы, драмы мирного времени. И все это случалось не с кем-то, а со мной тоже, я ведь жил не в иных мирах. Кроме этого, когда пишешь много лет подряд о войне, о ее трагедиях, возникает и определенная усталость». И не то чтобы военные впечатления были бы исчерпаны писателем — это невозможно, но, видно, у художника в тот момент еще не возник свежий (по сравнению с романом) подход к материалу войны, а прожитые после войны уже немалые годы, ставшие существенной частью биографии его поколения, настойчиво требовали осмысления. Характерно признание, сделанное Г. Баклановым несколько лет назад: «Я не совсем понимаю, как можно книгу за книгой писать о войне, но я еще в большей степени не могу понять, как можно забыть о ней».
Но, занявшись днем нынешним, его проблемами впрямую (произведения, посвященные войне, были лишь «настроены» на них, повернуты к ним), Г. Бакланов все же остается военным писателем. И не только потому, что герои двух его написанных после «Июля 41 года» произведений, действие которых происходит уже в наше время, люди военного поколения, а в очерковых книгах о поездках в США и Канаду то и дело возникают воспоминания автора о своей фронтовой юности (кстати, эти воспоминания внимательному читателю откроют жизненную основу некоторых образов и ситуаций военных вещей Г. Бакланова). Даже не будь этого, военное происхождение художественного мира Г. Бакланова обнаруживало бы себя в особой нравственной атмосфере, в бескомпромиссности, в резком сближении причин и следствий, когда дурное и хорошее проявляется в человеке не исподволь, не постепенно, а сразу же и вполне определенно, в интересе к тем ситуациям, где обычное течение жизни прерывается событиями катастрофическими, где нависшая смерть заставляет людей задуматься над смыслом их существования. Суть нравственной позиции автора, сложившейся в тяжкие военные годы, проверенной в суровых испытаниях, остается неизменной и в книгах о современности.
В финале «Пяди земли» герой размышляет: «Пока сидели на плацдарме, мечтали об одном: вырваться отсюда. А вот сейчас все это уже позади, и почему-то грустно, и даже вроде жаль чего-то. Чего? Наверное, только в дни великих всенародных испытаний, великой опасности так сплачиваются люди, забывая все мелкое. Сохранится ли это в мирной жизни? Будет ли каждый из нас всегда чувствовать, что его, как раненного в бою солдата, не бросят в беде люди?»
Под этим углом зрения и рассматривается в повести «Карпухин» (1965) сегодняшняя мирная жизнь. Один из персонажей произведения, наблюдая распри в своей семье, с удивлением и грустью говорит: «Старики у меня хорошие, тихие. И Тамара ведь баба неплохая. Чего не ладят? Эх, люди, чудной народ! Была война — как друг за дружку держались! Неужто забыли?» В повести это маленький эпизод, но для автора вопрос — «неужто забыли?», неужели из-за равнодушия, казенного отношения, погруженности в свои мелкие дела и интересы можно бросить в беде человека? — главный, центральный вопрос. Так он проверяет своих героев, чего они стоят, что у них за душой, так вершит над ними моральный суд. Постоянная нравственная проекция сегодняшнего на войну — «как раненного в бою солдата» — делает этот авторский суд строгим и высоким.
На войне воочию убеждаешься, как часто наша жизнь зависит от тех, кто рядом с нами, а их жизнь — от нас; в мирное время это не очень ясно видно — только в чрезвычайных обстоятельствах. В такой острой драматической ситуации оказывается Николай Карпухин — герой баклановской повести. Беда нависла над ним нешуточная, и если не выручат его люди, разбита будет его и без того не очень складная жизнь. А человек он по-настоящему достойный, из тех, на кого всегда можно положиться, кто неизменно, словно по-другому и быть не могло, и в войну и потом, после нее, брал на себя самое трудное. Судьба не баловала его, несправедливо тяжкие удары ее дорого стоили Карпухину: в войну он за чужие грехи попал в штрафную роту, а в годы послевоенного разорения за малую вину получил непомерно большой срок.
И вот новая беда подстерегла его: ночью на шоссе сбил человека насмерть: тот пьян был, выскочил прямо перед машиной. Только-только стала как-то налаживаться у него жизнь: женился, жена ребенка ждет, пить бросил — одно время после лагеря он, махнув на все рукой, стал попивать… И опять грозит Карпухину лагерь, многое против него: две судимости, подозрение, что не человек, попавший под колеса его машины, а он сам был пьян, к тому же следствие и суд проходят тут, где все знали погибшего, он пользовался уважением, а Карпухин — посторонний, чужак.
Только одно может отвести от Карпухина нависшую над ним беду — непредвзятость, но на это оказываются способны не все, от кого теперь зависит его судьба, не все могут и хотят вникнуть в реальные обстоятельства случившегося. Молодой следователь Никонов — человек незлой и совестливый — почувствовал, что Карпухин не виноват, что правда на его стороне, но Никонов в себе еще не очень уверен, это его только третье дело, ему трудно стоять на своем, когда общественное мнение маленького городка, где все всех знают, против него, у прокурора тоже иная точка зрения, и обвинительное заключение Никонов составил такое, какого от него ждали. Прокурор же, требуя для подсудимого самого сурового наказания, меньше всего думал в этот момент о Карпухине, о его судьбе. Он был целиком поглощен собой: считая, что он неизлечимо болен и в последний раз обращается к людям, прокурор хотел сказать им самое главное, заветное, объяснить, что милосердие к преступнику противоречит гуманизму. А для судьи Сарычева очень важно, что сейчас ведется кампания борьбы с пьянством: оправдать Карпухина, когда есть подозрение, что он в пьяном виде вел машину, значит двинуться против течения, поставить под сомнение дело большой государственной важности. Овсянников и Сарычев не относятся к Карпухину пристрастно, их суждения продиктованы, казалось бы, принципиальными соображениями, но руководствуются они принципами, для данного случая совершенно неподходящими, и о человеке, судьбу которого решают, не думают. Если бы не это, то они, конечно, обнаружили бы, что Карпухин ни в чем не виноват, что оснований для обвинительного приговора нет.
Из других принципов — справедливости, внимания к человеческой личности — исходят механик автоколонны, секретарь парторганизации Бобков и народный заседатель Владимиров, подполковник в отставке, командовавший в войну мотострелковой бригадой. Для них суд — дело не профессиональное, а нравственное. Они убеждены, что человека можно осудить и наказать, только если он действительно виноват, если доказано, что он не совершил преступление, — никакие другие мотивы не могут приниматься в расчет. Прежде всего надо видеть человека, его достоинства и недостатки, вникнуть в его судьбу — вот путеводная нить, которая не даст заблудиться в любом хитросплетении обстоятельств и принципов, вот истина, которой никогда нельзя пренебрегать.
И когда уверенный в непогрешимости своих суровых принципов Овсянников вдруг ощутил, что в его суждениях не было места этой простой, но непросто дающейся истине, что-то в нем дрогнуло, «нравственная почва под его ногами начинала колебаться». Открывшаяся и Никонову эта истина вызовет у него муки совести, острое гнетущее недовольство собой — быть может, из всего этого в будущем родятся нравственная прозорливость и стойкость. «Как же так получилось, — не оставляло Никонова чувство постыдной вины, — что все они, незлые люди, принесли в жертву такого же, как они, человека по фамилии Карпухин? Ведь завтра это же может случиться с ним, с Никоновым. Не будет его, и вот так же ничего не изменится, и люди вечером выйдут поливать свои огороды… Мысль эта казалась ему непереносимой. Ведь так нельзя жить! И чему в жертву? Они сами, если спросить их, не знают, кому нужна такая жертва? Кому от этого может стать лучше?»
Чужой беды, от которой можно было бы с холодным сердцем и спокойной совестью отстраниться, не бывает, на кого бы она ни обрушилась, это касается и каждого из нас. Любой, оказавшийся рядом, должен, как в бою, прийти на помощь, подставить свое плечо, взять на себя хотя бы часть груза. Мысль эта утверждается в повести Г. Бакланова с публицистической страстностью, но не публицистическими средствами. Она «растворена» в емких и выразительных жизненных картинах, к ней подводит само течение событий в произведении, где большое не отделено от малого, на нее наталкивает переплетение человеческих судеб, рассмотренных автором широко, неоднозначно. В повести взят случай, а раскрыты нравственные и социальные закономерности.
Более обширный круг социально-нравственных проблем занимает Г. Бакланова в романе «Друзья» (1975). Жизненный успех — подлинный и мнимый, приспособленчество, сделки с совестью ради преуспевания и карьеры, нравственные компромиссы и суетность, обессиливающие талант, приводящие в творчестве к бесплодию, — об этом размышляет автор романа, рисуя жизнь своих героев, их стремления и заботы, их взаимоотношения, постигая, чего они хотят от жизни, чем для них является дело, которому они посвятили себя. И по жанровой структуре этот роман отличается от всего того, что делал Г. Бакланов прежде, — «Друзья» непохожи на «Июль 41 года», образный строй нового романа подчинен прежде всего тому, чтобы выявить эволюцию характеров, убеждений, отношения к своему призванию.
Особенно хорош образ Немировского. Трансформация человека способного, умного, неплохого, но душевно нестойкого, неравнодушного к жизненным благам, а еще больше к занимаемому положению, в интеллигентного чиновника показана в романе во всей ее неприглядности, — автор не прощает герою измены самому себе, своему любимому делу. И при всем этом моралист нисколько не мешает художнику: Немировский — живой и сложный человек, в нем есть всякое — вовсе не всегда он ничтожен, иногда вызывает и сочувствие. Он сохранил и некоторое обаяние — то ли благожелательности, то ли старомодной учтивости. Более того, он, умеющий в деликатной форме угодить тем, от кого зависит, вполне овладевший искусством служебной дипломатии, тщеславно дорожащий своим местом «на виду», все-таки до конца не утратил человеческого достоинства, не все растерял на извилистых жизненных дорожках. «Я попрошу не приглашать меня за собой в лакейскую!» — резко обрывает он, выходя из себя, подхалима и лизоблюда Зотова, и не потому только, что развязность Зотова открыла Немировскому, что положение его пошатнулось, — есть тут и другое: старого архитектора коробит от хамства, ему претит пошлость. И даже смерть его — по давней привычке он прошел прямо на сцену и сел в президиум, не зная, что его туда не выбрали, чувство невыносимого стыда разрывает ему сердце, — даже это нельзя объяснить однозначно. Конечно, уязвлено самолюбие чиновника, акции которого вдруг покатились вниз, который выходит в тираж. Но вряд ли это было смертельным ударом. А вот то, что он, привыкший уважать себя, привыкший к уважению окружающих, так уронил себя публично, попал в ситуацию постыдную, станет посмешищем, — это для него невыносимо. И его смерть — драма, а не анекдот, в который она бы неизбежно превратилась, если бы Немировский перед нами предстал в романе не как человек, а как олицетворение чиновничьего мирочувствования.
В образе Немировского роман «Друзья» достигает наибольшей глубины. Это образ ключевой для всей художественной структуры произведения. Судьба Немировского бросает свой свет, придает значительность истории краха дружбы Андрея Медведева и Виктора Анохина, дружбы, переходящей в противостояние и вражду. В сущности, Анохину предстоит повторить путь Немировского, правда, в несколько ином, упрощенно-циничном варианте. Немировскому пришлось начинать во времена куда более крутые и трудные. Он когда-то не устоял, поддался соблазну, Виктор же нетерпеливо ждет своего часа, лишь до времени тая — и не очень глубоко — свое стремление во что бы то ни стало занять командное место, урвать у жизни кусок побольше и пожирнее.
Но написаны Андрей и Виктор чересчур контрастными, а главное — каждый из них слишком однотонными красками. Виктор дурен всегда и во всем, дурен так беспросветно, что фраза Андрея: «Нам с Витькой скоро серебряную свадьбу справлять — вот сколько мы дружим», — повисает в воздухе. Трудно понять, на чем могли держаться долгие годы близкие отношения людей, занимающих столь разные жизненные позиции. Большей частью мы видим Виктора глазами Андрея, замечающего теперь в своем бывшем друге только душевные пороки, — это понятно и психологически оправданно. Но даже когда Виктор остается наедине с собой, автор не дает ему возможности ни проявить себя в чем-то по-иному, ни хотя бы как-то облагородить, оправдать перед самим собой свои побуждения и поступки. Образу недостает художественной стереоскопии.
Пусть не истолкуют меня превратно: явление, которое стоит за Виктором, и вполне современно, и общественно значимо, — автор не преувеличивает его опасность — она в самом деле серьезна. И гнев его обоснован. Но здесь моралист, справедливо стремящийся осудить отрицательное явление, теснит художника, который не может не считаться с тем, что жизнь пестра, что люди, как заметил однажды Лев Толстой, «пегие — дурные и хорошие вместе».
Во всех произведениях Г. Бакланова герои подвергаются нелегким испытаниям на мужество, человечность, принципиальность. В «Друзьях» они испытываются успехом, и это тоже трудное испытание.
Но что значит успех для архитектора? Создать талантливый проект — это еще полдела, надо, чтобы он был воплощен в жизнь. Без этого успех невозможен. Многие прекрасные сооружения так и оставались на бумаге — они были не по вкусу заказчику, многие оригинальные проекты, доработанные по требованию заказчика, превращались в ординарные, а то и безобразные здания. Архитектор зависит от заказчика и не может с ним не считаться. Нет ничего зазорного в том, что архитектор хочет, чтобы его проект понравился, плохо, когда он начинает делать не то, что дорого ему, не то, что считает нужным обществу, а то, что нравится заказчику, — он теряет свое лицо, попусту растрачивает талант. Такой ценой платят иной раз за успех.
«Из всех проблем архитектуры, — читаем мы в романе, — есть одна, менее всего от архитектора зависящая, сложнейшая из сложнейших: заказчик. Рядом с великими творениями ему надо ставить памятник: не он создал, но он оказался способен понять, и потому создано при нем». Именно эта проблема, стоящие за ней нравственные коллизии больше всего интересуют автора, он, главным образом, показывает не архитектурные мастерские, где создаются проекты, а учреждения, где они рассматриваются — утверждаются или отвергаются. И написаны эти учреждения в романе не только подробнее, но и сильнее. Чинная атмосфера приемных, где царит неписаный, но строго соблюдаемый ритуал, где посвященные все понимают с полуслова, где в улыбке или отчужденном взгляде секретаря сквозит расположение или холодность начальника к этому посетителю; приподнятая обстановка больших совещаний, где можно встретить нужных людей и на ходу решить вопросы, которые в обычном порядке утрясались бы долго, где, если и нет такого дела, не худо просто показаться, напомнить о себе, — все это живет в романе не как фон, не как место действия, а как сила, участвующая в формировании образа жизни героев, объясняющая их поведение и поступки. Здесь тоже выступают и по-своему решаются те общие нравственные проблемы, на которых сосредоточен писатель в романе «Друзья».
Пятнадцать лет после «Июля 41 года» Г. Бакланов не касался военных тем: не потому, что материал был уже «отработан», а потому, что требовал к себе, как я уже говорил, нового подхода. А новый подход нельзя выдумать, «изобрести». Только накопленный жизненный опыт может изменить угол зрения писателя, и тогда ему открывается то, что прежде не бросалось в глаза, хотя и было очень важным — он это видел, да тогда не приметил…
«Отцы-командиры» — так в былые времена называли боевых офицеров, тех, кто особым образом относился к солдатам. И дело было не в патриархальных нравах, а в высоте понимания воинского и человеческого долга. Офицеру на войне дано право распоряжаться жизнью солдат, но он должен делать все, чтобы уберечь их от зряшных опасностей — и без того они постоянно на виду у смерти. А разве не его долг позаботиться о харче и ночлеге для подчиненных, проследить, чтобы были одеты, обуты? Строг, но справедлив — говорили о таком командире: спрашивает за дело строго, да и себе никаких поблажек не дает, но судит справедливо, сознавая, что и в походе и на поле боя больше всех достается солдату…
В Великую Отечественную войну эти слова — «отец-командир» — не были в ходу. Наверное, потому, что очень многим взводным и ротным — тем офицерам, что ближе всего стояли к солдату, — было в ту пору двадцать, девятнадцать, а то и восемнадцать лет, кроме фронта, за плечами у них был лишь ускоренный выпуск военного училища, — какие уж «отцы», пожилые солдаты между собой потихоньку называли их «сынками». Писатели военного поколения в своих книгах уже немало рассказали об этих юных офицерах, нравственный кодекс которых, поведение на передовой, отношение к подчиненным заставляют вспомнить это старомодное, но исполненное благородного смысла понятие — «отцы-командиры»…
Таков и герой повести Г. Бакланова «Навеки — девятнадцатилетние» (1979) лейтенант-артиллерист Володя Третьяков. В повести — история одной судьбы, одной юной жизни, а для названия ее автор выбрал множественное число, чтобы подчеркнуть: речь пойдет о судьбе целого поколения. И, пожалуй, самое характерное, самое примечательное в духовном облике этого поколения — высочайшее бескомпромиссное чувство ответственности. Вот стоит лейтенант Третьяков перед заробевшими батарейцами: по хлипкому деревянному мосту надо переправить трактора и тяжелые орудия, а выдержит ли он, солдаты сомневаются. «Все они вместе и по отдельности каждый отвечали за страну, и за войну, и за все, что есть на свете и после них будет. Но за то, чтобы привести батарею к сроку, отвечал он один». Конечно, лейтенант мог просто приказать — и все, но ведь он отвечал еще и за них и хотел, чтобы они поняли, их жизнями он распоряжается не легкомысленно, не безрассудно, — чтобы ободрить солдат, Третьяков встал под мостом, по которому двинулись тягачи с орудиями…
В повести множество невообразимых, свидетельствующих, что запас фронтовых впечатлений у автора не исчерпан, неисчерпаем, подробностей — подробностей драматических, ужасных («…Лежали они в траве перед противотанковым рвом, будто все еще ползли. И внизу, скатившись туда от разрыва, чуть не наступил Третьяков на полузасыпанного глиной бойца. Чей-то зеленый телефонный провод пролег через него поперек»), порой забавных — всякое бывало на фронте (под обстрелом два солдата — артиллерист и пехотинец — схватились из-за приглянувшейся им немецкой катушки с проводом, — «железный скрежет снаряда. Оба присели, катушку ни один из них не выпускал из рук»), иногда смешных и страшных одновременно («Они в пехоте, — не без зависти рассказывает солдат-артиллерист, — потери на другой день сообщают. Сначала водку получат, потом потери сообщат. Завтра, знаете, сколько у них будет водки!..»).
Впрочем, все это — точные и выразительные детали, складывающиеся в широкую и безупречно правдивую картину нелегкой жизни офицера переднего края, — было присуще и прежним произведениям Г. Бакланова о войне. Много общего у лейтенанта Третьякова и героя «Пяди земли» лейтенанта Мотовилова — и в короткой биографии, и в житейских правилах и представлениях, неизменно справедливых, и в складе чувств и мыслей. Но теперь, через двадцать лет, которые отделяют повесть «Навеки — девятнадцатилетние» от «Пяди земли», писатель, человек зрелого возраста, острее и проницательнее видит, что герой его, на которого всей тяжестью обрушилась война, в сущности, еще мальчик, едва-едва ступивший на порог юности. Ему даже вспоминать еще нечего, кроме родительского дома и школы. И даже роман его со школьницей Сашей — если можно назвать романом их застенчивую стыдливую юношескую влюбленность — это от неосознанной тоски по дому, по материнской заботе и ласке, по младшей сестренке. Автор рассказывал в интервью: «„Навеки — девятнадцатилетние“ я писал, когда мне было уже за пятьдесят. И герой этой повести, как и Мотовилов, нынче годится мне уже не в сыновья даже, а почти что во внуки. Я думаю об этих юношах — святых, честных, самоотверженно выполнивших свой долг, — с отеческим чувством думаю о них, мне больно, что так рано оборвались их жизни». Если в «Пяди земли» автор и герой неразделимы, сливаются, повесть написана от первого лица — это сделано сознательно, то так же намеренно в «Навеки — девятнадцатилетние» они «разведены», автору необходима дистанция, чтобы выразить новое «отеческое чувство» к герою, который в «Пяди земли» ощущал себя сильным, взрослым, несгибаемым.
Юность, у которой все еще только в будущем, только обещание, юношеская незащищенность, открытость, отзывчивость и кровавая беспощадность войны, косящей молодые побеги жизни, — этот чудовищный контраст ни на минуту не исчезает из авторского поля зрения, он пронизывает образный строй произведения, написанного очень плотно, так что весомой и многозначительной оказывается едва ли не каждая деталь. Немало места в повести отдано госпитальным сценам (вспомним, чтобы понять их функцию, как Толстой в «Севастопольских рассказах» говорил: не побывав в лазарете, не увидишь истинного лика войны), в «Пяди земли» эта сторона войны лишь поминалась, в ее развернутом описании не было нужды, а в повести «Навеки — девятнадцатилетние» оно необходимо потому, что выражает то чувство, с которым автор сегодня вспоминает суровые фронтовые годы (жаль только, что сценам этим недостает драматической динамики).
В нынешнем чувстве автора куда больше горечи: не случайно Мотовилов оставался жив, а Третьяков гибнет. Как верно заметил Вячеслав Кондратьев, «Навеки — девятнадцатилетние» — это реквием. И не смешно, а горько, что «отцами-командирами» были Мотовилов и Третьяков, но эта горькая ирония не принижает, а возвышает девятнадцатилетних. Им была предложена историей немыслимо тяжкая задача, они с ней справились и свой долг выполнили до конца, не щадя себя, своей жизни.
Размышляя о баклановском юном герое, то и дело невольно заменяешь «он» на «они», думаешь о поколении. Таков был замысел автора, так и написана повесть. Как часто на пути героя встречаются его ровесники — солдаты и офицеры, и все это не «подстроено» автором, он верен действительности. Характерная сценка: «Всё это были, — взглянув на свой взвод, роющий окоп, отмечает про себя Третьяков, — молодые ребята, начинающие наливаться силой: за войну подросли в строй», а между тем «у многих отметины прежних ран, затянутые глянцевитой кожей». Автор словно бы прибегает к «стоп-кадру», давая нам возможность тщательно рассмотреть изображение, постичь его глубинную суть, — взгляд же самого героя не может на нем так долго задерживаться, потому что все для него здесь привычное, само собой разумеющееся. Случается иногда, что автор утрачивает чувство меры, подменяя видение героя своими сегодняшними соображениями, но в принципе этот прием позволяет ему вскрыть подспудный обобщающий смысл рассыпанных в книге подробностей. Вот пример того, как многозначительны в повести детали. Возвращаясь из госпиталя на фронт, герой просит проводницу как-то устроить в вагоне женщину, едущую в промерзшем тамбуре со стариком и двумя малыми детьми, — разговор, казалось бы, вполне бытовой. «Себя не жаль? — спросила проводница и глянула на Третьякова, сощурясь. — А мне вас, вот таких, жалко. Всю войну вожу, вожу и все в ту сторону». Реплика проводницы переводит разговор в другой, уже бытийный план: гибель юных — это ведь и дети, которые никогда не родятся, это прерванная эстафета человеческого существования, вот почему так горьки ее слова…
И здесь особо надо сказать об образах детей у Г. Бакланова. Они играют в его художественном мире очень большую роль. Они неизменно присутствуют даже в военных его книгах, и эти короткие мимолетные эпизоды заключают в себе в высшей мере важное для автора содержание. В «Южнее главного удара» это маленькая венгерская девочка, которой осколком оторвало ногу, — перевязывавшая ее медсестра Тоня мучается: «У меня все время было виноватое чувство перед этой матерью… Если бы мы не поставили здесь пушки, может быть, девочку не ранило бы. Вот вырастет она… Женщина без ноги — это ужасно…» В финале «Пяди земли» это молдавский мальчик, которого приласкал герой, отвыкший от домашней жизни, от детей: «…Встают все новые дымы разрывов. Дорога уходит туда. Если суждено мне пройти ее до конца, я хочу, чтобы после войны был у меня сын. Чтобы я посадил его на колено, родного, теплого, положил руку на голову и рассказал ему обо всем. Прогоняют еще группу пленных. Мальчик сидит у меня на колене. Я тихонько глажу по волосам его спутанную, теплую от солнца голову, а он играет моим оружием», — так многозначительно заканчивается повесть.
Не буду продолжать дальше выписки из других произведений Г. Бакланова, возьму еще только одну из его очерковых книг — «Темп вечной погони». Оказавшись через много лет после войны по ту сторону океана, наблюдая далекую и чужую американскую жизнь, писатель будет с особым интересом присматриваться к детям («Не знаю зрелища лучше зрелища человеческих детей») и неотступно думать о том, что ждет их, какая у них будет жизнь: «Когда будут счастливы люди? Наверное, все же тогда, когда у всех детей во всем мире будет детство. Счастье одних, гибель других — сегодня все еще разные концы палки. А ведь дом человека — весь мир. И нет большей заботы, чем забота о мире, в который всякий раз по твоей воле вступает рожденный тобой человек. Твое дитя».
Сказанное здесь имеет для писателя первостепенное значение: дети у Г. Бакланова — это будущее, продолжающаяся жизнь, мир на земле. Однако не будем торопиться с выводами о характере гуманизма, исповедуемого им, — все-таки сказано было еще не все. Приведу еще одну цитату — она в данном случае необходима, она открывает еще одну существенную грань:
«Известный наш поэт, мой ровесник, — рассказывает Г. Бакланов в одной своей статье, — выступал и читал стихи, посвященные защите природы и еще чего-то. И вот, в его речи или в белых его стихах — не помню уже — была фраза (строчка), которой зааплодировал зал. Он произнес с большой долей самоутверждения, что так вот получилось, что он в своей жизни никого не убил. И тут раздались дружные аплодисменты.
По логике происшедшего, по всему этому внезапному одушевлению мне, видимо, надо было почувствовать себя неловко. Ведь все четыре года войны я был на фронте, а на фронте, как известно, затем и оружие в руки берут, чтоб убивать.
Я подумал тогда, в этом зале, что если бы во время войны человек моего поколения, то есть призывного в то время возраста, сделал бы такое гордое в прозе или в стихах заявление, это бы восприняли совсем по-иному. Во время войны считалось, что для мужчины, для человека самое достойное дело — это быть на фронте и убивать врага. Это понимание, я уверен, незыблемо и сегодня; ведь не было бы „сегодня“, если бы мы не думали и не делали так тогда.
Зал в своем гуманистическом порыве просто спутал времена и многое другое».
Быть подлинным гуманистом, по-настоящему любить детей — значит, если возникает необходимость, защищать их с оружием в руках, нести, как бы тяжело оно ни было, бремя ответственности за их судьбу, — таково неколебимое убеждение писателя. Не случайно в финале «Пяди земли» маленький мальчик с таким доверием играет оружием героя…
Этими нравственными принципами руководствовался когда-то, в годы Великой Отечественной войны, двадцатилетний офицер-артиллерист, сегодня они питают творчество Григория Бакланова — немолодого уже человека и зрелого художника…
Нас время учило (Булат Окуджава и война)
Когда-то Анна Ахматова написала: «Когда человек умирает, изменяются его портреты».
После кончины Булата Окуджавы меняются и его «портреты». Я имею в виду не только нынешнее — позднее — государственное признание: учреждена премия его имени, в Переделкине создан и пользуется популярностью его музей, на старом Арбате, на пересечении с Плотниковым переулком, сооружен его памятник (хороший памятник, но как странно видеть Булата бронзовым изваянием!). Вряд ли он мог все это себе представить или мечтать об этом: долгие годы власти его не больно жаловали. Кровавое колесо советской истории проехало и по его судьбе: он был еще мальчишкой, когда расстреляли его отца и дядю, мать отправили в лагерь.
Жил Булат с клеймом сына «врагов народа», что в ту пору в лучшем случае значило — в этот институт не примут, в этом городе не пропишут, эту работу не получить. Позднее все, что выходило из-под его пера, встречалось в штыки официозной критикой. Пластинки не выпускались. За то, что вел себя независимо, — персональное дело, исключение из партии. Почти полный набор советских карательно-воспитательных мер достался на его долю.
И все-таки, говоря о меняющихся «портретах» Окуджавы, я имел в виду не только изменившееся отношение к нему властей, а прежде всего судьбу его литературного наследия. Из сферы литературной критики, сиюминутных, сугубо оценочных суждений, злободневных ассоциаций оно перемещается в сферу литературоведения, исследования жизненных и литературных истоков, образного строя, поэтических структур и так далее. Тому убедительное свидетельство — две международные научные конференции, посвященные его творчеству.
Так случилось, что в литературу Окуджава вошел одновременно с группой поэтов, которых потом стали называть «шестидесятниками». Происходило это на наших глазах, как писал, правда, по другому поводу, Пастернак: «Это было при нас, это с нами вошло в поговорку». Обойму эту составили Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина; пятым был Булат Окуджава. На поэтическом небосклоне звезда их взошла после XX съезда партии, когда вспыхнул необычайно острый интерес к поэзии, знаменовавший после оцепенения сталинских времен начало духовного пробуждения, раскрепощения общества. Они были тотчас замечены читателями, и с тех пор имена их обычно стали произносить вместе. Успех у них был грандиозный, неслыханный — люди изголодались по живому слову, искренним чувствам, аудиторию они собирали многотысячную. И в сознании многих читателей, да и критиков, они закрепились как некое творческое содружество.
И еще одна обойма, утвердившаяся в читательском сознании и критическом обиходе, — по жанру, который позднее назвали авторской песней. Это Булат Окуджава, Александр Галич, Владимир Высоцкий, Юлий Ким, Александр Городницкий.
Поэзия Окуджавы оказалась, таким образом, размещенной на литературной карте вовсе не там, где должна находиться, и многократно повторенная эта невольная ошибка затемняет и подлинные истоки, и пафос его творчества, Литературоведческий, историко-литературный подход, вступающий в свои права, намечает, как мне представляется, иные координаты.
Окуджава — из другого времени, нежели его постоянные соседи по критическим обоймам, у него другой жизненный опыт. «А мы с тобой, брат, из пехоты» — это о себе он говорит в одной из самых проникновенных песен. Нет, все-таки не Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, а Борис Слуцкий и Давид Самойлов, Юрий Левитанский и Сергей Наровчатов, а если идти чуть дальше, — Михаил Кульчицкий, Павел Коган, Семен Гудзенко — его собратья, ближайшие поэтические родственники. И в прозе это не «шестидесятники» Василий Аксенов, Анатолий Кузнецов, Анатолий Гладилин, а Виктор Некрасов, Григорий Бакланов, Константин Воробьев, Виктор Астафьев и Вячеслав Кондратьев — бывшие солдаты и лейтенанты переднего края, «окопники» Отечественной.
О том, что на войне были его главные жизненные университеты, Окуджава говорил не раз. Говорил в 1962 году, в начале литературного пути, когда еще числился в «молодых»: «У меня большинство стихотворений и песен — военного плана, и это объясняется прежде всего тем, что семнадцати лет из 9-го класса ушел на фронт. И это было очень страшно. Очень страшно. И тогда я стихов не писал. А стихи я стал писать значительно позже. Мои воспоминания шли за мной по пятам и идут. И почему-то у меня все время — до сих пор — появляются военные стихи и военные песни».
Он повторил это и через тридцать лет, в 1992 году, когда ему уже было под семьдесят: «Война коснулась меня, когда мне было 17 лет, и она глубоко засела во мне. И, конечно, я все под впечатлением остаюсь до сих пор, хотя прошло полвека».
Но эти авторские признания пропускались мимо ушей — такова сила инерции утвердившегося подхода. Не считались и с тем, сколько среди созданных Окуджавой в 50-е годы песен и стихов, заложивших фундамент его нараставшей популярности, посвящено войне. Это и «Песенка о солдатских сапогах», «Король», «Медсестра Мария», «До свидания, мальчики», «Бумажный солдатик». Это и очень сильные стихи «Синька», «Вобла», «Ангелы», «Первый день на передовой», «Я ухожу от пули, делаю отчаянный рывок…», «Не вели, старшина, чтоб была тишина…», «Сто раз закат краснел. Рассвет синел», «Тамань».
Шли годы, а Окуджава в песнях и стихах снова и снова возвращался к войне — и в 60-е, и в 70-е, и в 80-е, и в 90-е. Чтобы не быть голословным, кое-что (далеко не все) назову. 60-е годы: «Черный мессер», «Песенка о московских ополченцах», «Песенка веселого солдата», «Песенка о пехоте», «Часики», «Шла война к тому Берлину», «Отрада», «Четыре года», «Душевный разговор с сыном», «Белорусский вокзал». 70-е годы: «Послевоенное танго», «Из фронтового дневника», «А мы с тобой, брат, из пехоты…», «Проводы у военкомата». 80-е годы: «Воспоминания о Дне Победы», «Всему времечко свое: лить дождю. Земле вращаться…», «Живые, вставай-подымайся…», «Поздравьте меня, дорогая: я рад, что остался в живых…», «На полянке разминаются оркестры духовые…», «Мое поколенье», «Старики умирать не боятся…», «Ах, что-то мне не верится, что я брат, воевал…». 90-е годы: «Вы говорите про Ливан…», «Ехал всадник на коне…».
Прочитав в 1943 году стихи Семена Гудзенко, написанные в госпитале после ранения, Илья Эренбург так определил их новаторскую природу: «Это поэзия — изнутри войны. Это поэзия участника войны. Это поэзия не о войне, а с войны, с фронта». В сущности эта была общая родовая характеристика поэтов фронтового поколения. Она верна и по отношению к творчеству Булата Окуджавы — оно с фронта, изнутри войны.
На фронте сформировались его представления о добре и зле, о чести и бесчестии, оттуда он вынес неостывающую ненависть к кровопролитию, жестокости, милитаристской романтике, демагогии и казенной лжи, там, под огнем, научился по-настоящему ценить жизнь, проникся уважением к правде — той, о которой, видимо, не зря говорят, что она горькая.
Он ощущал себя в поэзии посланцем тех, кто сложил голову на войне. Процитирую два поздних стихотворения Окуджавы, в которых его мировосприятие, сформировавшееся на фронте, его отношение к войне проступают с замечательной поэтической ясностью и глубиной:
Ах, что-то мне не верится, что я не пал в бою. А, может быть, подстреленный, давно живу в раю, И кущи там, и рощи там, и кудри по плечам… А эта жизнь прекрасная лишь снится по ночам.И концовка второго:
Судьба ли меня защитила, собою укрыв от огня! Какая-то тайная сила всю жизнь охраняла меня. И так все сошлось, дорогая, наверное, я там не сгорел, Чтоб выкрикнуть здесь, догорая, про то, что другой не успел.О том, какое большое место в памяти Окуджавы, в его поэтической оптике занимала война, свидетельствует и то, что она нередко всплывает в стихах на вполне мирные «штатские» темы, через нее видит поэт окружающий его мир.
Вот стихотворение, посвященное поэтическому слову:
А есть слова: шинелей серый ряд. В литые сапоги они обуты, ремни свои затягивают круто, махоркою прогорклою дымят.Вот пейзажная зарисовка:
Все мне чудится: вот сойдутся дубы, и осины, и ели. И повторят привалов уют. Над кострами развесят шинели И домашнее что-то, щемящее запоют.О своем костюме:
На мне костюмчик серый-серый, Совсем, как серая шинель.О шарманке:
По Сивцеву Вражку проходит шарманка — смешной отставной одноногий солдат.По дороге из Нормандии в Париж ему вдруг
Припомнилось, привиделось, приснилось, пригрезилось, и все остановилось на том углу, где был я юн и слеп, в землянке той, не слишком удобной…Да и те стихи Окуджавы, которые я бы назвал костюмно-историческими — герои их юнкера, гусары, кавалергарды («Проводы юнкеров» «Песенка кавалергарда», «Песенка о молодом гусаре», «Нужны ли гусару сомненья…»), и те, в которых создается мир сказки («Старый король», «Капли датского короля», «Военные портняжки»), — все они, несомненно, подсказаны, навеяны воспоминаниями о фронтовой юности.
Многие наши поэты искали и предлагали в своих стихах слово, которое бы претендовало на то, чтобы стать поэтической формулой войны. Василий Лебедев-Кумач: «Идет война народная, священная война». Александр Твардовский: «Бой идет святой и правый, смертный бой не ради славы, ради жизни на земле». Константин Симонов: «Да, война не такая, какой мы писали ее, — это горькая штука…». Михаил Кульчицкий: «Война ж совсем не фейерверк, а просто трудная работа…». Борис Слуцкий: «А война — была. Четыре года. Долгая была война». Давид Самойлов: у него война — это «роковые, свинцовые, пороховые» годы.
Окуджава предложил свое определение: «Ах, война, что ж ты сделала, подлая…». Развернутое и реализованное в его стихах и песнях, в автобиографической повести «Будь здоров, школяр» — это «подлая» ошарашивало, потому что резко расходилось с утвердившимся в нашей пропаганде и нашем искусстве взгляде на войну. Как он однажды заметил: «Все мои стихи и песни не столько о войне, сколько против нее». Подлая война особым образом настроила его будущее писательское зрение. Она выветрила из меня навсегда, — рассказывал он, — те осколки романтики, которые во мне все же еще, как и в любом юнце моего возраста, сидели. «Я увидел, что война — это суровое жестокое единоборство, и радость побед у меня постоянно перемешана с горечью потерь, очевидцем которых я был. И впоследствии, когда я все это осознал, не могу сказать, что я стал пацифистом, это было бы смешно, но во мне выработалась не умозрительная, а органическая ненависть к войне. И это наложило отпечаток на всю мою жизнь, и литературную тоже».
Изданная Окуджавой в поздние годы книга «Девушка моей мечты», жанр которой в подзаголовке определяется как «автобиографические повествования») открывается рассказом о первом дне войны. Он, этот день, стал истинным началом биографии того поколения, к которому принадлежит Окуджава. Многое из того, что случилось потом, и в войну и после нее, забылось, стерлось. А ее первый день врезался в память навсегда. Он разом отсек прошлое, словно бы установил иное, особое исчисление времени — не на часы и дни, на поражения и победы, на павших и уцелевших, он был началом беспощадного исторического суда над каждым из нас и над общей нашей судьбой. Но это мы потом осознали его как грозный исторический рубеж, а тогда это был самый обычный день — никаких вещих предзнаменований. День как день… Таким его хранила память Окуджавы, таким он предстает на первой странице его «автобиографического повествования»:
«Прошлое, давно прошедшее, минувшее, былое, история — какие торжественные понятия, перед которыми, наверное, следует стоять с непокрытой головой. Да неужели, думаю я, такое уж это прошлое? Такая уж это история? Да ведь это было совсем недавно: лето в Тбилиси, жара, позднее утро. Я и дядя Николай перетряхивали чемоданы. Тетя Сильвия отбирала летние вещи. Мне было семнадцать лет. Вдруг отворилась дверь и вошла без стука наша соседка. Мы шумно ее приветствовали. Она сказала белыми губами:
— Вы что, ничего не слышали?
— Слышали, — сказал дядя Николай. Столько чего слышали… А что вы имеете в виду?
— Война, — сказала она.
— А-а-а, — засмеялся дядя Николай, — Таити напало на Гаити?
— Перестань, — сказала тетя Сильвия. — Что случилось, дорогая?
— Война, война, — прошелестела соседка. — Включите же радио!
По радио гремели военные марши. Я выглянул в окно — все было прежним!»
Никакого пафоса — заурядная поездка к морю на отдых, старые чемоданы, летние вещи — действительно не надо становиться навытяжку с непокрытой головой. И все-таки именно такой была реальная история. Вроде бы все вокруг оставалось прежним, но жизнь круто и бесповоротно менялась, и эти перемены складывались в то, что потом называли народной бедой и народным мужеством.
Вместе с приятелем рассказчик разносит военкоматские призывные повестки. Мимолетная сцена: «В одном из дворов среди низко подвешенных сохнувших простынь и рубашек стояла перед нами еще молодая женщина с большим животом и мальчиком на руках, и за юбку ее держались две девочки. Все, кто был во дворе, увидев нас, замолчали, поэтому стало очень тихо.
— Кого хотите? — спросила женщина, как будто не расслышала фамилию, которую мы назвали, а сама смотрела не на нас, а на розовую, трепещущую под ветром повестку.
— Мнацаканов Альберт, — сказал я и протянул листок.
— Это мой муж, — сказала женщина».
Тогда он не понимал, вестником какой трагедии они были — почему при виде их замолчали все, кто был во дворе. Почему так посмотрела на военкоматскую повестку мужу женщина. Но, видно, что-то зацепило, задело, потому что запомнилось. Запоминалось многое, что тогда не казалось заслуживающим внимания. «Город наполнялся войсками. Помятые грузовики, заляпанные грязью орудия, рваные мятые гимнастерки на солдатах, офицеры, похожие на солдат. Поползли слухи, что фронт прорван, что в Крыму или где-то в том районе нам пришлось спешно отступать, что было окружение. Что многие остались „там“». Нет, это была не та история, которую им вбивали в голову со школьных лет, которая была так высока и величественна, что перед ней полагалось смиренно и покорно стоять с непокрытой головой. Наши высокие руководители внушали, что война будет быстрой и легкой на чужой территории, где-то за тридевять земель. А реальная война стремительно покатилась по нашей земле — и так далеко, что даже в дурном сне нельзя было себе это представить; и так долго она продолжалась, что, казалось, конца-края ей не будет; и столько полегло народа, что оставшиеся в живых считают, что чудом уцелели. «Постарайтесь вернуться назад» — это слова из одной из самых горьких песен Окуджавы о судьбе мальчиков и девочек — так он их называет (они и в самом деле были мальчиками и девочками), — сложивших свою голову в огне войны.
Вспоминая через много лет войну, себя восемнадцатилетнего солдата, прямо со школьной скамьи шагнувшего в ее огонь, Окуджава рассказывал: «Это как ожог, сильный, до сих пор незаживший. Все, что довелось тогда испытать, по сей день ношу в себе — как осколок, как неизвлеченную пулю. По-настоящему я вошел в литературу именно с военной темой… Я чувствовал неодолимое желание высказаться, выразить себя, рассказать о пережитом. Писалось по свежему, еще сильны были непосредственные впечатления той огненной поры. Они-то и послужили толчком, отправной точкой для многих моих стихотворений и автобиографической повести».
Пережитое на войне помогло сбросить шоры милитаристского догматизма — и идеологического, и эстетического, отвратило от «культовой» мифологии, от пропагандистского позерства в искусстве, от батальной литературщины. И отвратило не одного Окуджаву. Это было общим свойством «лейтенантской» литературы — за что ей тогда немало доставалось: ее прорабатывали за «окопную правду», «дегероизацию», «ремаркизм», «пацифизм». Нынче многие не могут себе представить, что это были тяжелые идеологические обвинения, за которыми следовали соответствующие «оргвыводы». В сущности спор шел не просто об изображении войны, а о том, как нам жить, куда двигаться после XX съезда партии, раскрывшего страшные злодеяния правившего страной режима.
А Окуджаве после повести «Будь здоров, школяр» приписывались самые тяжкие грехи. Повесть появилась на свет в «крамольных» «Тарусских страницах», которые были осуждены специальным постановлением Бюро ЦК КПСС по РСФСР. В подготовке постановления принимал деятельное участие небезызвестный Егор Лигачев, замечу кстати, находившийся в войну за много сотен километров восточнее фронта. Эти документы были опубликованы уже в «перестроечную» пору, когда он стал вторым человеком в партийно-государственной иерархии. Я как-то рассказал Окуджаве о них. Он пошутил: «Не хочу себя преувеличивать, наверное, Лигачев так вырос не только на моих костях». В предшествующей постановлению Записке, подготовленной двумя отделами ЦК о зловредном сочинении Окуджавы говорилось: «Главный герой повести и его товарищи выглядят откровенно циничными, разболтанными, трусливыми людьми, лишенными высоких чувств любви к Родине, преданности делу социализма, воли к борьбе с фашизмом, то есть всех тех прекрасных качеств, которые придавали непреоборимую силу нашим бойцам… Не вызывают симпатии и командиры. К многим из них в повести приклеиваются такие ярлыки, как „штабные крысы“, „гады“…»
Надо ли объяснять, почему до перестройки повесть «Будь здоров, школяр» не перепечатывалась?
Но справедливости ради скажу, что не только официозная критика громила повесть Окуджавы. Она была осуждена и на страницах «Нового мира», стойко и последовательно защищавшего «лейтенантскую» литературу. Видимо, автора той давней статьи в «Новом мире» напугал открытый антивоенный пафос Окуджавы, «Человек на войне — и все, — выговаривал он Окуджаве. — Какой человек. На какой войне, за что он, в конце концов, сражается — неважно. Все войны одинаковы, на всех войнах человеку тяжко, все войны — зло».
Не стану доказывать, что любая война, даже справедливая, — дело кровавое, противоестественное, бесчеловечное, что автор статьи, отрицавший это, неправ: опровергать его сегодня — ломиться в уже широко распахнутые ворота. Но, может быть, герою Окуджавы действительно безразлично, за что идет война, и он в самом деле «занят только собой», мысли его поглощены обмотками, с которыми не может как следует справиться, ложкой, которую он потерял? Диву даешься, как тогда была прочитана — вернее, не прочитана — повесть «Будь здоров, школяр». И иными критиками не по тому, что следовали направляющим указаниям ПУРа, где всегда диктовали свои правила, как назвал их Евгений Шварц в «Драконе», «первые ученики» из вымуштрованных идеологических служб, а потому, что она опережала утвердившиеся, примелькавшиеся представления о войне и о том, как о ней писать. Недоступны были ее пафос и образный язык. В повести Окуджавы не было привычно «литературного» изображения войны, восходившего к широко распространенным беллетристическим сочинениям и фальшивым фильмам, где наши чудо-богатыри били немцев, как мух. А это воспринималось как искажение автором жизненной правды. Для того, чтобы верно понять повесть, надо было выбраться из наезженной колеи таких ходячих «героических» представлений о войне. Вспомним, как в «Войне и мире» Николай Ростов, правдивый молодой человек, делясь своими воспоминаниями о кавалерийской атаке, рассказывает не то, что было с ним в действительности, а то, что ждут от него слушатели, — не может преодолеть власть утвердившегося канона батальных описаний. В таком же примерно положении оказались некоторые критики повести «Будь здоров, школяр».
Герой ее не произносит тех слов о любви к Родине, которые обычно изрекались в газетных очерках и бездарных романах: они кажутся ему фальшивыми или нецеломудренными. Но ведь он уходит на фронт добровольцем, что яснее ясного раскрывает его отношение к происходящему, его настроение, хотя рассказывает он о своем поступке в юмористических тонах, не желая его героизировать. И о ненависти к фашистским захватчикам герой не произносит речей, но разве непонятно, что у него на душе, если он, испытавший множество унизительных неудобств из-за потерянной ложки, отказывается взять трофейную — она вызывает у него отвращение? Вообще высокое в повести, как и было на реальной войне, погружено, вросло в быт, в немыслимо тяжелый фронтовой быт, гнетущий не меньше, чем страх смерти.
Все автобиографические вещи Окуджавы написаны от первого лица, это лирическая проза, но немалая дистанция отделяет автора от героя, и создается она прежде всего иронией (исследователям его творчества еще предстоит осмыслить и раскрыть содержание его поэтической декларации: «Я выдумал музу Иронии для этой суровой Земли»). С насмешливой грустью вспоминает Окуджава себя на фронте: «Нынче все это по прошествии сорока с лишним лет представляется столь отдаленным, что я теряю реальное ощущение времени. Да и самого себя вижу почти условно: так, некто нереальный семнадцатилетний, с тоненькой шейкой в блеклых обмотках на кривых ножках, погруженный в шинель с чужого плеча…». Однако мы ошибемся, посчитав этот автопортрет, нарисованный по памяти и густо окрашенный сегодняшней иронией, документальной фотографией, и автор время от времени очень деликатно, едва заметно от этого предостерегает: обратим внимание на «вижу почти условно», «некто нереальный». Вот характерный для манеры Окуджавы эпизод: «Командир полка читает донесение и посматривает на меня. И я чувствую себя тщедушным и маленьким. Я смотрю на свои не очень античные ноги, тоненькие в обмотках. И на здоровенные солдатские ботинки. Все это, должно быть, очень смешно. Но никто не смеется». Не пропустим при чтении «никто не смеется» — оно предупреждает, что, наверное, герой выглядел до смешного нелепым не на самом деле, а лишь в собственных глазах.
Нельзя принимать за чистую монету самобичевание героя. Оно не свидетельствует о том, что он погряз в пороках, — нет, он сильно преувеличивает свои слабости и грехи. Но то, что он ничего себе не прощает, не делает себе никаких поблажек, раздувая свои вольные, а чаще невольные провинности, говорит о его совестливости, о высоте нравственных принципов, которым он стремится следовать, о непрекращающейся ни на минуту душевной работе. Как он казнит себя: «Я — подлец и мерзавец. Вот я бы на его месте так, наверное, будил бы, пока не разбудил. Я бы больше своей нормы и не ходил бы, наверное. Я — скотина. Проучить меня нужно. Я — предатель». Что же случилось, что он натворил. Чем так подвел товарищей, что теперь от стыда не может найти себе покоя? Оказывается, когда они возвращались в свою часть из командировки и остановились на ночевку, он выпил спирта — впервые в жизни — и заснул так, что товарищи, которые были и старше, и крепче не стали его будит, дали отоспаться, отдежурив за него. Но ему невыносима мысль, что он не выполнил своих обязанностей, что другим пришлось за него отдуваться.
После нескольких месяцев боев, многое хлебнув на войне, — и холод, и голод, и непосильный труд, и подстерегающие на каждом шагу опасности, и смерть товарищей, — герой повести, раненный в бою, попадает в госпиталь: «Какой же я солдат, сетует он, — даже из автомата ни разу не выстрелил. Даже фашиста живого ни одного не видел. Какой же я солдат? Ни одного ордена у меня, ни медали даже… А рядом со мной лежат другие солдаты. Я слышу стоны. Это настоящие солдаты. Эти все прошли. Все повидали». Все здесь вроде правильно: не видел он живых немцев, не стрелял из автомата, но он ведь не пехотинец, он служит на батарее тяжелых минометов. Да и ордена и медали тогда давали еще очень редко… Но он, что примечательно, и пролив кровь, не считает, что сделал все, что должен был. Он не позволяет себе стонать — наверное, у других, кто стонет, раны более тяжелые.
Война — с ее жестокими требованиями строжайшей дисциплины, беспрекословного выполнения приказов, — война, стригущая всех под одну гребенку, была, однако, в годы, которые описывает Окуджава в повести «Будь здоров, школяр», временем преодоления психологии «винтиков», временем самостоятельных решений, цена которых — жизнь или смерть. Так или иначе, в той или иной степени это переживали многие. «Нас время учило» — это из одной из песен Окуджавы, очень важное признание. Время трудных суровых испытаний действительно было очень важной школой, учило видеть правду. И поэтому стало для многих временем преодоления сталинских пропагандистских мифов, глубоко проникших в массовое сознание, обретения здравого смысла, реального взгляда на происходящее. Процесс этот, как точно определил его глубинную суть известный наш историк Михаил Гефтер, за плечами которого был и трудный опыт в войны, породил стихийно возникающую «десталинизацию». Какая уж провидческая мудрость обожествлявшегося вождя, если страна, следуя его указаниям, оказалась на краю гибели! Если многими миллионами жизней пришлось заплатить, чтобы выбраться из той страшной ямы, в которую он нас завел. Годами внушалось как непререкаемая истина, что везде и всюду — в небесах, на земле и на море — мы самые, самые, самые, все нам нипочем, и в воде мы не утонем, и в огне не сгорим, а немцы дошли до стен Ленинграда и Москвы, до Волги и Кавказских гор… Чтобы одолеть врага, надо было избавиться от от слепой веры и покорности «механических граждан» — таким хотел видеть народ вождь, чтобы освободить страну от захватчиков, надо было избавиться от догматических пут, преодолеть дурман демагогии. Духовный опыт многих фронтовиков стал потом психологической базой XX съезда партии, помог сокрушению не только недавних идолов и кумиров, но и взрастившего их тоталитаризма.
На войне взрослели, прозревали быстро — это была безжалостная, но на многое открывавшая глаза школа. Герой повести «Будь здоров, школяр» отбросил тот псевдоромантический вздор, которым его кормили со школьных пионерских лет и который вовсе не был так безвреден, как может показаться на первый взгляд, потому что способствовал оболваниванию, безответственности, рождал «пересортицу» ложных и истинных ценностей. На фронте, в пору испытаний на душевную прочность, на подлинный, а не декоративно-плакатный патриотизм, он получил сильнейшую прививку против несправедливости, демагогии, бесчеловечности, которая затем оберегала от заражения вирусами этих болезней, в их более поздних современных мутациях. Он вернулся с войны молодым, но с таким серьезным нравственным опытом, благодаря которому воспринимал сгустившуюся в послевоенные годы сталинщину как нечто чуждое и враждебное тому, за что сражались. Не стоит, разумеется, преувеличивать, речь все-таки идет об ощущении, о чувствах (об этом превосходный рассказ Окуджавы «Девушка моей мечты» в том же цикле «автобиографических» повествований). Много еще не знал, не понимал, но добро и зло различал зорко, даже когда зло снова обличали в тогу праведности и преподносили его от имени народа.
И здесь, пожалуй, следует возвратиться к тем двум «обоймам», о которых шла речь. Я вовсе не считаю, что все в поэзии и прозе Окуджавы может быть объяснено одной лишь войной, был более поздний опыт, и вполне реальна и его связь с «шестидесятниками», но ее надо рассматривать не как внешнюю, не как простое совпадение по времени вступления в литературу, а как содержательную общность некоторых «оттепельных» идей, мотивов, настроений. Вот вопросы, которые у нас естественно возникают, когда мы думаем о той поре: откуда XX съезд, откуда «перестройка», в каких слоях общества все это зрело, почему эти слои в меньшей степени были задеты нравственными деформациями, порожденными сталинщиной, что послужило психологической базой для сокрушения так, казалось бы, прочно укрепившихся идолов и кумиров. В творчестве Окуджавы, отразившем духовный опыт фронтового поколения, можно отыскать ответы на некоторые из этих непростых вопросов, Понятно, что он не историк, не делает выводов, не предлагает формул и определений. Он просто рассказывает правду о том, что было с ним и его товарищами на войне и после войны. Но его проницательный талантливый взор открывает нам много.
И вторая «обойма» — «бардовая» — тоже возникла не на пустом месте. Новое время, время начинавшегося в «оттепель» духовного раскрепощения, потребовали новых песен. Так рождалась авторская песня, родоначальником ее и самым высоким поэтическим достижением был Булат Окуджава. В отечественной словесности нашего времени не было поэта, который, как он, создал бы такой большой массив современных, подлинно народных песен (сегодняшняя народность уж точно не в лапотно-сермяжном мнении и описании, которые высмеивали еще Белинский и Гоголь). Гитара, которая десятилетиями воспринималась как один из неизменных атрибутов мещанской пошлости, оказалась у него связанной с высокой поэзией. Песни Окуджавы (а в них, как мне кажется, его поэтическая художническая индивидуальность выразилась и наиболее органично, и наиболее полно), опирающиеся на романсовую традицию, противостоящую так называемой «массовой» песне, которая долгое время была официальной и полноправной законодательницей вкусов, не опускались, однако, до душещипательной сентиментальной чувствительности — в них был истинный драматизм, они вбирали в себя трагедии минувшего жестокого века.
Песни Окуджавы отличает не суетная, не поверхностная современность; его лирический герой — маленький человек, такой же «московский муравей», как и другие пассажиры «последнего случайного» троллейбуса, у обожаемой им «богини» легкое пальтишко и старенькие туфельки. Окуджава воспевал простые и вечные человеческие ценности: «молюсь прекрасному и высшему» — таков его нравственный и поэтический девиз. В его песнях — неостывающий жар человечности и доброты.
Помню его похороны…
Шел дождь — казалось само московское небо оплакивает его…
Очередь на старом Арбате протянулась от станции метро «Смоленская» до театра Вахтангова. Сотни людей пришли попрощаться с Булатом Окуджавой — их было так много, что пришлось продлить время, отменить вечерний спектакль. У женщин и мужчин, молодых и пожилых, составивших эту длинную очередь, было нечто общее — интеллигентные лица. Это бросалось в глаза, этого нельзя было не заметить. Никто их не призывал, сюда они сами по зову сердца пришли попрощаться со своим поэтом, со своим певцом, строившим для них «замок надежды».
Но, как выяснилось, горевали не только в Москве. Вот, существенно расширяющие то, что я только что написал, воспоминания Виктора Астафьева о Булате. Он пишет о горячих поклонниках Окуджавы, живших далеко от Москвы, где-то в глубинах России: «Однажды прислал мне большую, хорошо изданную книгу со своими песнями и нотами к ним. Я был не только удивлен, но и потрясен тем, что половина песен из этой книжки уже считается народными. Его проводили и оплакали многие друзья, товарищи, почитатели таланта. Но более всех, искреннее всех горевала о нем провинциальная интеллигенция — учителя, врачи, сельские газетчики, жители и служители городских окраин, которые чтят и помнят не только родство, но и певца, посланного Богом для утешения и просветления вечно тоскующей о чем-то русской души».
У Булата Окуджавы была счастливая литературная судьба. Его песни, записывавшиеся на магнитофонные пленки (я знаю людей, которые для этого покупали магнитофон в пору, когда он был редкой и дорогой вещью) и поэтому миновавшие бдительную цензуру, распространялись со скоростью лесного пожара.
Признаюсь, долгое время я считал, что он наш поэт, что песни его принадлежат нашему поколению, мы владеем ими безраздельно. Да и он сам говорил: «Самая приятная для меня аудитория — это аудитория, близкая мне по возрасту, то есть людей с моим опытом». Оказалось, что это не совсем так. Он был неслыханно популярен, но мода проходит, а ему оставались верны.
Одно поколение сменялось другим, а любовь к его песням не угасала, не угасает, не угаснет.
Когда воюет народ О творчестве Алеся Адамовича
I
Вовсе непраздное любопытство, как иногда считают, вызывает у большинства читателей интерес к биографии писателя: они ищут жизненные истоки понравившейся книги, стараются понять, что из пережитого автором и как «отстоялось словом», их, естественно, привлекают взаимоотношения внутри вечного для искусства «треугольника»: жизнь — художник — книга.
Тем более все это важно, когда в основе книги — пережитое самим автором, события его биографии. Дилогия Алеся Адамовича «Война под крышами» и «Сыновья уходят в бой» принадлежит к такого рода произведениям, и есть резон разговор об этих книгах начать с биографии их автора.
Алесю Адамовичу шел пятнадцатый год, когда началась война. Жил он с родителями (отец его — врач, мать — фармацевт) в рабочем поселке Глуша на Бобруйщине, успел, как и полагалось по возрасту, закончить семь классов. Каков был духовный багаж пятнадцатилетнего паренька, что он знал и видел? «…Я „наизусть“, — вспоминает Адамович, — знал „свой“ лес, не хуже, чем однотомник Пушкина, в которого был влюблен, как в живого, третий раз начал читать „Войну и мир“ и особенно любил в книгах умные, не совсем мне понятные разговоры и рассуждения, а поэтому увлекся „Жизнью Клима Самгина“ и Белинским…»
И вот война… От Глуши не так уж далеко до границы. Прошло всего несколько дней, и поселок заняли немцы. Началась жизнь под властью оккупантов — такая страшная, что не могла привидеться в самом кошмарном сне. В эти дни — до срока — кончилось детство Алеся. «Порядок», который установили ненавистные захватчики, не оставлял места для ребячества: жить можно было, только стиснув зубы, только надеждой на мщение. Вскоре мать связалась с партизанами, переправляла им драгоценные медикаменты, потом подпольные задания стали получать и сыновья — сначала старший, а затем и Алесь. А в начале 1943 года, когда об этом стали догадываться полицаи, вся семья ушла в лес, к партизанам.
Здесь до той поры, когда в конце 1943 года его отряд соединился с нашей наступающей армией, Алесь Адамович познал и пережил все, что было службой и бытом рядового партизана: дерзкие налеты на немецкие гарнизоны, прорывы из вражеского окружения, из подожженного карателями леса, смерть товарищей, павших в бою или замученных врагом, холод и голод… За два с лишним года, проведенных в оккупированном фашистами поселке и в партизанском отряде — казалось бы, небольшой срок, — он, не зная юности, сразу же в шестнадцать лет стал взрослым. И не просто взрослым…
Далеко не во все эпохи и не всюду даже людям, прожившим очень долгую жизнь, доводилось такое повидать на своем веку: благородство и бесчеловечность, самоотверженность и шкурничество, стойкость и предательство — и все это в самых крайних проявлениях, оплаченное большой кровью, жестокими страданиями, многими жизнями. «За эти годы, — писал о годах войны Ю. Смуул, у которого юность тоже прошла на фронте, — мы увидели душу человека, увидели его „я“ более обнаженным, чем когда-либо прежде или после. Надо сказать, что наше поколение многое повидало, многое пережило, за сравнительно немногие годы, — больше, чем успевает пережить в среднем каждый швед за всю свою спокойную жизнь». Об опыте этого же поколения — строки Е. Винокурова: «Я вам открою бездны, в семнадцать лет открывшиеся мне».
В жизни этого поколения война была и осталась главным испытанием, потребовавшим от молодых людей немыслимого напряжения всех духовных и физических сил, она была потрясением, пробудившим в Адамовиче, как и в других его ровесниках, художника. Однако путь их к книгам о войне был непрям и непрост.
Есть какая-то закономерность в том, что люди этого поколения, попавшие на фронт, под огонь прямо со школьной скамьи, лишь много лет спустя, когда им уже перевалило за тридцать, брались за книги о пережитом на войне (я имею в виду прозаиков, у поэтов было по-иному). С годами, казалось бы, должны тускнеть воспоминания: расплываются в дымке времени даже близкие и дорогие лица, стираются многие детали. Но их воспоминания не потускнели — может быть, еще и потому, что это были воспоминания юности.
Больше того, некоторые писатели этого поколения, словно бы опасаясь преждевременно потревожить заветное, начинали книгами о более близком послевоенном времени. Нечто подобное произошло и с Алесем Адамовичем — прежде чем стать военным писателем, он завоевал себе имя в литературе как критик и литературовед.
Видно, для того чтобы правдиво рассказать о кровавом водовороте боя, о том, как верность долгу подавляет естественный страх смерти, о том, что проходит перед внутренним взором человека, видящего лишь надвигающийся на него танк или прижатого к земле пулеметным огнем, — чтобы рассказать об этом, молодой ясной и цепкой памяти необходима еще приходящая с годами зрелость миропонимания. Без нее не разобраться в калейдоскопе предельно напряженных чувств солдата, постоянно живущего рядом со смертью в трагических коллизиях малых и больших сражений, не распознать тот повседневный героизм, который стал нормой поведения самых обыкновенных людей.
Была еще одна причина, объясняющая, почему молодые люди, которые так страстно хотели рассказать о пережитом на фронте, что, может быть, именно из-за этого и выбрали для себя литературное поприще, почему они медлили с книгами о самом главном, что было в их жизни. В литературе первых послевоенных лет, как известно, довольно ощутимо сказывались тенденции облегченного изображения действительности. Книги того времени о войне не составляли в этом отношении исключения. Среди них немало было таких, в которых картина тяжкой фронтовой жизни никак не совпадала с тем, что фронтовики видели своими глазами, сами испытывали, — это вызывало у будущих писателей недоумение и растерянность, настороженность и недоверие к собственному жизненному опыту. Виктор Астафьев — и до этого и здесь я все время говорю о писателях одного поколения, одной судьбы — как-то поведал о своих сомнениях той поры: «…я послужил не в одном полку. Бывал я и в госпиталях, и на пересылках, и на всяких других военных перекрестках встречал фронтовиков. Разные они, слов нет, но есть в них такое, что роднит всех, объединяет, но и в родстве они ничем не похожи на тех, которые кочуют по страницам книг, выкрикивая лозунги, всех бьют, в плен берут, а сами, как Иван-царевич, остаются красивыми и невредимыми. Нет, не такими были мужики и ребята, с которыми я воевал».
Та же проблема стояла и перед Адамовичем. Он принялся набрасывать эпизоды партизанской войны (характерно, что жизненный материал, который лег в основу его первой книги «Война под крышами», он и вовсе обошел тогда вниманием, — писал только о боевых действиях партизан, потому что невооруженное сопротивление оккупантам мирных жителей казалось еще слишком будничным, недостаточно эффектным), но написанное не удовлетворяло, работа не захватывала. И дело было не только в недостатке литературного опыта. «Очень благодарен судьбе, — оценивал впоследствии Адамович эти свои первые наброски, — что не решился тогда написать и попытаться напечатать что-то завершенное. Испортил бы, наверно, материал. Перечитывая те записи, вижу, что „сносило“ меня крепкими ветрами того времени: нет-нет, да и начинал писать не так, „как оно было“, а так, „как должно было быть“».
Конечно, и в те годы ветры дули не в одном направлении. Уже сложилась традиция правдивого неприкрашенного изображения героической борьбы советских людей против гитлеровских захватчиков. Фундамент этой традиции был заложен еще в дни войны в разных жанрах А. Твардовским, И. Эренбургом, А. Беком, К. Симоновым, А. Сурковым, Л. Леоновым, А. Корнейчуком и многими другими писателями. В первые послевоенные годы ее обогатили Э. Казакевич, В. Панова, В. Некрасов. Если взять лишь одну тему: борьба в тылу врага, — тему, которую выбрал для себя Адамович, — то и здесь ему было на что опереться. Назову «Непокоренные» Б. Горбатова и «Молодую гвардию» А. Фадеева (хотя романтический пафос и несвойствен Адамовичу, между этими произведениями и его дилогией есть внутренние связи), назову мемуары прославленных партизанских командиров: «От Путивля до Карпат» С. Ковпака, «Люди с чистой совестью» П. Вершигоры, «В крымском подполье» И. Козлова, «Подпольный обком действует» А. Федорова, «Это было под Ровно» Д. Медведева (принципы документально-художественного повествования, воплощенные в этих книгах, тоже близки Адамовичу, хотя, само собой разумеется, в дилогии и «Хатынской повести» они претворены применительно к художественной прозе).
Под первым романом Адамовича стоит дата: 1955–1959. Именно на эти годы приходится вторая мощная волна литературы о Великой Отечественной войне. Поток мемуарной и документальной литературы резко (точнее — безгранично) расширился, что наложило глубокую печать на весь литературный процесс. «…Сила воздействия многих их воспоминаний (участников войны. — Л. Л.) так велика, — заметил по этому поводу К. Симонов, — что писателям приходится задумываться над силой воздействия собственных художественных произведений о войне. Над тем, как им нужно работать для того, чтобы сила их художественных обобщений не бледнела перед правдой подлинных фактов». К темам войны вновь обращаются и авторы завоевавших уже читательское признание книг о битве с фашистами, а одно время казалось, что в этих произведениях они уже полностью исчерпали запас фронтовых впечатлений.
И, наконец, большой группой, очень заметно, вызывая своими книгами о войне острые дискуссии в критике, входят в литературу ровесники Адамовича — те, кто в юности был на фронте солдатами и офицерами переднего края, в партизанских отрядах рядовыми бойцами. Они стремились рассказать о своей жизни на войне, о том, что видели и испытали, поэтому они и брались за перо, это был главный стимул. Адамовича заставил взяться за перо властный приказ памяти.
«После войны, — рассказывал он, — преследовал меня — в двадцатый, в тридцатый раз! — один и тот же сон.
Будто уже снова война — то ли та еще не кончилась, не кончалась, то ли новая — и надо идти в лес, в партизаны. Сдвоенное, как бывает в снах, ощущение: ты уже партизан (еще с тех пор), они знают, а потому надо уходить в партизаны… И не хочется, тоска в душе. А когда-то, в реальное время войны, оккупации, рвался туда, как в 15, в 16 лет рвутся в легенду, которую творят взрослые, храбрые, настоящие.
А тут, в снах, такое правдивое реальное тоскливое чувство: убьют же обязательно на этот раз, не минет, не обойдешь, как тогда обошел, а ты ведь не успел… Не успел написать. О той, о первой твоей войне. Убьют — и вроде ничего, никого и не было: и тебя не было, и всего пережитого, и хлопцев во второй раз убьют, о которых ты должен был рассказать, а теперь не расскажешь. Они ведь там остались, а тебя послали жить — для этого…
Вон какая вера, что должен, что можешь, смог бы! И никакого на то основания. Малейшего не было. Ну, пописывал стишки, так ведь все пишут стихи в 14, в 17 лет.
„Материал“, пережитое — вот что понуждало, вело, звало, гнало. Вон, даже в снах».
В автобиографии Адамович восхищенно поминает известные строки А. Твардовского — полюбились они ему не случайно: глубоко и просто говорит поэт о той страсти, что влечет художника к творчеству:
Вся суть в одном-единственном завете: То, что скажу, до времени тая, Я это знаю лучше всех на свете — Живых и мертвых, — знаю только я.Процитировав это четверостишие, Адамович пишет: «Известно, очень важно, чту ты знаешь „лучше всех на свете“ и что хочешь рассказать. Для моего поколения это „что“ — прежде всего Отечественная война и те мысли о довоенном и послевоенном, которые она вызвала».
II
Уже хорошо известны факты…
И чудовищные злодеяния, совершенные на белорусской земле устроителями «нового порядка», и самоотверженная доблесть белорусских партизан и подпольщиков — все это запечатлено в документах и цифрах исторических очерков. Цифры дают представление о размахе и жестокости борьбы между оккупантами и непокорившимся народом, борьбы, длившейся многие месяцы. Огнем и мечом — нет, это не метафора — вводился «новый порядок». В городах были уничтожены все крупные предприятия, здания, взорваны электростанции. В селах фашисты и полицаи сожгли миллион двести тысяч домов и строений. Гитлеровцы уничтожили два миллиона двести тысяч мирных жителей и военнопленных, около четырехсот тысяч человек угнали в Германию на каторжные работы.
Но сожженная и залитая кровью земля Белоруссии горела у захватчиков под ногами — это тоже не метафора. Здесь был создан подлинный партизанский фронт, действовало 1108 отрядов: триста семьдесят тысяч человек с оружием в руках сражались против фашистов. Во всех областях и районах функционировали подпольные партийные организации и комитеты, руководившие сопротивлением.
Да, факты и цифры уже известны. Но само это слово «цифры» не случайно имеет два постоянных эпитета: мы говорим о цифрах не только «точные», но еще и «сухие». Подсчитано количество сожженных хат, но разве может цифра передать, как бедствовали, лишившись крова, бабы с малыми детишками — ведь в каждой хате жила семья?.. Установлено, сколько жертв пало от рук фашистских палачей, но эта недоступная человеческому воображению цифра с шестью нулями, разве может она выразить предсмертную тоску одного человека, неизбывное горе матери, потерявшей сына, тяжелые слезы вдовы? Не секрет нынче и численность партизанских отрядов, но разве можно увидеть за этой цифрой «окруженца», почерневшего от ненаходившей выхода ненависти к врагу, насмотревшегося в скитаниях на горе и слезы, или молодого парня — из местных, которому предстояло не только научиться воевать, но и в бою добыть себе оружие?..
Историку цифры необходимы — это его аргументы. В искусстве с ними делать нечего. Для художника каждый человек — это особый неповторимый мир, он не может быть в каких-то подсчетах единицей, одинаковой с другой единицей. И хата героя для художника отнюдь не статистическое «строение», с ней неразрывно связана жизнь именно этого человека, ему здесь каждая вещь близка, знакома, напоминает о радостных и горьких часах. Но, рассказывая об одном человеке, об одной хате, художник имеет в виду судьбу и образ мыслей многих людей, то, что делалось во многих хатах. И потому для читателей книги Адамовича, вероятно, будут нелишни те цифры, которые я привел.
Книга Адамовича, как уже говорилось, в основе своей автобиографична. Герой ее Толя Корзун — пятнадцатилетний паренек из белорусского поселка Лесная Селиба — очень похож на автора, каким тот был в военные годы: многое из того, что пережил тогда будущий писатель, отдано герою книги. Вспоминая уже через много лет дилогию, Адамович писал: «Книга пошла, хвалили, но было и осталось чувство, что не за написанное, сделанное теперь хвалят, а за когда-то пережитое. Потому что сам считал (в критиках уже ходил — на себя развернулся, за себя взялся критик), что я не столько писал, сколько записывал. Что помнил, что врезалось в душу, записал и назвал это романом, дилогией». И все же Толя Корзун не псевдоним Алеся Адамовича, нет тождества и между остальными персонажами произведения и теми, кто в реальной действительности был рядом с юным партизаном Адамовичем. Можно сказать лишь, что сам автор, каким он был в дни войны, и некоторые близкие и знакомые ему люди стали прототипами героев книги. Об этом свойстве такого рода произведений писал в свое время Гончаров: «…это не мемуары какие-нибудь, где обыкновенно описываются исторические лица, события и где требуется строгая фактическая правда: у меня в жизни и около меня никаких исторических событий и лиц не было. Это и не плод только моей фантазии, потому что тут есть и правда, и, пожалуй, если хотите, все правда. Фон этих заметок, лица, сцены большею частью типически верны с натурой, а иные прямо взяты с натуры. Кто-то верно заметил, что археолог по каким-нибудь уцелевшим от здания воротам, обломку колонны дорисовывает и самое здание, в стиле этих ворот или колонн. И у меня тоже по одной какой-нибудь выдающейся черте в характере той или другой личности или события фантазия старается угадывать и дорисовывает остальное. Следовательно, напрасно было бы отыскивать в моих лицах и событиях то или другое происшествие, то ли другое лицо, к чему читатели бывают наклонны вообще, и при этом редко попадают на правду. Всегда больше ошибаются… Все описываемое в них не столько было, сколько бывало. Другими словами, я желал бы, чтобы в них искали не голой правды, а правдоподобия…» По этим законам и следует судить дилогию Адамовича…
Конечно, близость персонажей к их прототипам, которая свойственна и дилогии, не есть еще гарантия художественной правды. В одной из статей Адамович справедливо заметил (опираясь, несомненно, и на собственный писательский опыт): «Уловить момент, когда „правда факта“, действительности становится „правдой искусства“, так же непросто, как и проследить за любым качественным скачком в природе. Качественного перехода может и не произойти, хотя романисту будет казаться, что он сам видит, слышит то, что рисует. Особенно легко впасть в подобное заблуждение именно тем, кто опирается на прототипы, на память. Нам кажется, что мы видим, слышим, но, может быть, это память наша звучит, „оживает“, а вовсе не слова наши… Вот почему так трудно, а вовсе нелегко пишущему на основе прототипов. Легкость работы тут кажущаяся, обманчивая. Нарисовать, „воплотить“ встреченный в самой жизни характер — это означает взять его, но одновременно и освободиться от него, реального, ради того уже нового, который рождается в слове».
Дилогия Адамовича — не историческая хроника жизни одного белорусского поселка и боевых действий одного из партизанских отрядов, не мемуары — здесь произошел тот качественный скачок, о котором пишет литературовед А. Адамович, и судить о ней, проверяя лишь достоверность конкретных фактов, невозможно: персонажи произведения отделились от прототипов, стали самостоятельны, они живут в иной системе, в иной реальности, по иным законам — искусства. И к такому произведению — уже другие требования: не точность конкретных фактов интересует нас, а верно ли передает автор сам дух партизанской войны, подпольного сопротивления, правдива ли нарисованная им картина жизни и борьбы советских людей в условиях фашистской оккупации?
Действия партизан, как известно, далеко не всегда решают исход кампании, но широкое партизанское движение — верное свидетельство справедливого и народного характера войны. Показать партизанскую войну как войну — по самой природе своей и по методам — подлинно народную — в этом главная задача Алеся Адамовича. Вот одно из авторских отступлений, в которое следует вчитаться внимательно: «Как-то сама собой выросла стена скрытности, отчуждения, которая отгораживала жителей не только от оккупантов, но и от всякого, кто оказался предателем или на кого нельзя было положиться. Люди, ненавидящие оккупантов, борющиеся, не жили на виду у врага, они жили за стеной общей народной конспирации. И там, за стеной, они могли позволить себе знать друг о друге больше, чем допускают правила военной конспирации. Время от времени в стене этой могли появляться проломы: каждый предатель — брешь, через которую враг может прорваться в крепость. И это будет стоить немалых жертв. Но перед врагом снова встанет стена». Живая стена сопротивления, встающая перед врагом, — этот образ может служить ключом к книге Адамовича.
Конечно, то, что главными героями своего повествования Адамович избрал пятнадцатилетнего парнишку и его мать, объясняется прежде всего биографией автора — он рассказывает о «своей» войне, о том, что видел сам, что знает лучше всего. И все-таки это не единственная причина: есть еще одна — чрезвычайно важная. Сама ситуация, ставшая главным драматическим узлом повествования, — мать, рискующая благополучием и даже жизнью своих детей, вступает в борьбу с врагом во имя счастья народа, во имя будущего всех детей, мать, которая выбрала для своих сыновей, в сущности еще мальчиков, судьбу партизан, — эта ситуация порождена предельным напряжением воли народа, готового любой ценой отстоять свою независимость и свободу. «Кончится война, живые останутся жить, — размышляет один из героев книги, высказывая сокровенную мысль автора. — И будут рассуждать о мере пережитого и сделанного. А по-моему, самое тяжелое в теперешней войне — вот это: мать и дети… Каково было бы даже солдату, если бы в окоп подсадили еще и детишек его!»
Мать, охраняющая своего ребенка от опасностей и невзгод, готовая пожертвовать всем, чтобы защитить его, — это вечная тема искусства, в ней самой уже заключена притягивающая многих и многих художников высокая символика. Адамовича к самой высокой из всех возможных трагедий приводят реальная действительность, собственный жизненный опыт.
Поставив немыслимую ни в каких других условиях ситуацию в центр книги, построив на ней сюжет, он подчеркивает — в соответствии с жизненной правдой — ее обычность — все это быт партизанской войны. Уже посвящение книги матерям-партизанкам выводит рассказываемую в ней историю за пределы исключительного случая, лишает ее уникальности. А сколько раз на протяжении повествования рядом с Толей и его матерью Анной Михайловной будут возникать люди сходной судьбы… Надя, соседка их по поселку, которая ушла в партизанский отряд и погибла в бою, оставив сиротами двух девочек. И сердобольная старуха, которой было так жалко юного партизана Толю, — у нее самой мужа расстреляли немцы, а сын-партизан подорвался на «железке». И тетя Паша тоже осталась одна на белом свете: ее Митю, который учился в одной школе с Толей и в партизанском отряде был с ним в одном взводе, настигла пуля карателей. Нет, не случайно Анне Михайловне снится ужасный сон: какие-то женщины разыскивают своих сыновей, и она вдруг тоже обнаруживает, что и ее сыновья куда-то исчезли, — мысль о том, что смертельная опасность нависла над ее сыновьями, не выходит все время у нее из головы, она не может не думать об этом, несчастье может произойти каждый день, каждый час… Но она понимает, что нет силы, которая могла бы заставить ее детей отстраниться от участия в этой кровавой борьбе, потому что и для нее самой нет более справедливого дела, чем освобождение родной земли от фашистов.
Композиционно дилогия построена так, чтобы эта ситуация — мать и дети — все время находилась в центре читательского внимания, чтобы фокус изображения не смещался. Когда во второй книге главными действующими лицами становятся сыновья (уже не они, как бывало в поселке, с затаенной тревогой ждут возвращения матери, которой — они даже не всё знают, только догадываются — приходится выполнять опасные задания партизан, а она с замирающим от страха сердцем дожидается, вернутся ли ее дети на партизанскую базу из очередного рейда целыми и невредимыми), Адамович вводит в повествование внутренний монолог Анны Михайловны, и теперь мы видим Толю и Алексея, которые себе кажутся уже бывалыми воинами, глазами матери, для которой они остаются детьми.
Дилогия Адамовича представляет собой довольно сложный и своеобразный жанровый сплав. Очень близкая по стилю и интонации лирической повести, которая в годы, когда Адамович писал свою книгу, заняла столь заметное место в литературе о Великой Отечественной войне, она вместе с тем по охвату событий, по временной протяженности, по количеству персонажей произведение романной структуры. И это своеобразие, этот сплав определяется тем, что Адамович стремится решить одновременно две задачи, каждая из которых вполне претендует на самостоятельность: с одной стороны, изнутри раскрыть историю становления молодого человека военных лет, с другой — показать истоки и особенности сопротивления, партизанской войны, — отсюда широта жизненной панорамы, отличающая дилогию.
В знаменитых заметках «О партизанской войне» Денис Давыдов писал, что действия в тылу противника предусматривают не только чисто военные цели — разгром вражеских гарнизонов, захват или уничтожение неприятельских обозов с продовольствием, фуражом, боеприпасами, дальнюю разведку и т. д. «Нравственная часть, — особо отмечал он, — едва ли уступает вещественной части этого рода действий». И перечисляет важнейшие из этих нравственных целей: поднятие «упадшего духа» у мирных жителей захваченных неприятелем областей, разоблачение посулов, содержащихся в прокламациях противника, потрясение и подавление духа в войсках врага. «Каких последствий не будем мы свидетелями, — утверждал, исходя из опыта Отечественной войны 1812 года, Давыдов, — когда успехи партий (так он называл партизанские отряды — Л. Л.) обратят на их сторону все народонаселение областей, находящихся в тылу неприятельской армии, и ужас, посеянный на ее путях сообщения, разгласится в рядах ее?».
Как ни была внушительна (воспользуюсь терминами Давыдова) «вещественная часть» боевых действий белорусских партизан (например, в результате «рельсовой войны» осенью 1943 года железнодорожное движение в Белоруссии на магистралях, ведущих к фронту, было практически парализовано), «нравственная часть» имела значение не меньшее… Она в первую очередь и интересует художника.
Адамович зорко заметил и запомнил множество характерных деталей, примет времени, — это дало ему возможность воссоздать сложные душевные процессы, не выпрямляя их, не уходя от противоречий. И наивные иллюзии первых дней войны, которые обернулись затем у многих унынием и растерянностью, и сменившую их после первых же случаев вооруженного отпора оккупантам волю к борьбе, крепнущую по мере того, как росло и ширилось партизанское движение. В сущности, как немного нужно было людям, чтобы понять, что можно бороться и вдали от линии фронта, что враг не может победить их до сих пор, пока они сами не признают себя побежденными; стоило только появиться «окруженцам», решившим не пробираться тайком ночами на восток, вслед за откатывающимся фронтом, а бить врага здесь, где он считает себя в безопасности, — и люди вновь почувствовали себя хозяевами этой земли: «Сами того не сознавая, парни эти, так беззаботно живущие на виду у немецкой армии, обнаруживали и демонстрировали людям слабинку врага. Ведь на глазах у жителей гибли организованные воинские части, многим могло казаться: до тебя, только пошевелись, немцы дотянутся мигом. А тут открыто расхаживают трое вооруженных красноармейцев и, похоже, не чувствуют себя обреченными… Они убивали страх перед всесилием врага, помогали людям избавиться от первого оцепенения». Немцы и полицаи решили расправиться с теми крестьянами, у которых бывали эти трое парней, но на обратном пути из села, куда наведывались парни, карателей обстреляли, коменданта ранили. А парни вскоре опять побывали в том же селе, но на этот раз они обошли все хаты, и было их уже не трое, а четверо. Вот тогда, — пишет Адамович, — и появилось слово, которое давно носилось в воздухе, — партизаны. Казалось, само это слово вызывало у оккупантов ярость и ужас. Словно бы в противовес ему из прошлого были вызваны слова: «пан», «бургомистр», «господин», «полицейский», вызвавшие всеобщую ненависть и презрение.
Чем больше зверствовали немцы, стараясь сломить у населения оккупированных областей волю к сопротивлению, создать вокруг первых партизан мертвую зону страха, обрекающую их на неминуемую гибель, тем яснее становилось всем, что фашисты не могут справиться с партизанами, боятся их, и тем больше людей уходили в лес и брались за оружие или оказывали партизанам активную помощь и поддержку. Прошло совсем немного времени, и уже местные жители говорили не вообще «партизаны», а «храпковцы», «денисовцы», «митьковцы». Так война и за линией фронта, в тылу врага стала войной всего народа: «Часть огромного тела страны была придавлена чугунной плитой оккупации, но и в этой части пульсировала та же кровь, что омывала и страшную рану фронта, и далекие просторы Урала и Сибири. Первый шок проходил, люди на подмятых врагом территориях уже не чувствовали страшного разрыва с тем, что внезапно отхлынуло на восток. Кровь пульсировала, у всей страны по-прежнему было одно сердце, одно дыхание».
III
Когда литературу долгое время занимает одна и та же тема, возникают стереотипы, накатанные колеи. Стереотипы сплошь и рядом уводят от реальности, инерция привычных представлений всегда таит в себе опасность превращения необычной правды в хорошо знакомую схему, и все это большей частью происходит незаметно и неосознанно. И инерция такого рода мышления очень сильна. Разве не стала она бедой многих произведений?
Все это следует помнить, чтобы ясно представить себе, какие усилия потребовались Адамовичу, чтобы «рассказать все, как было» и «только то, что было». Беллетристические штампы и казенные схемы в изображении партизанской войны стали для него в романе постоянной полемической целью: чтобы незаметно для себя не поддаться им, он их как бы «материализует» и все время держит на прицеле. Иногда эта полемика глубоко спрятана, обнаруживая себя лишь в эпитете или сравнении (Адамович, например, пишет: «Странно слышать тонущее в железном реве, несильное беззащитное человеческое „ура!“» — это сказано без особого нажима, но совершенно очевидно, что автор ставит под сомнение клишированное определение: «громовое могучее „ура!“»), иногда она выходит на поверхность, ведется впрямую.
Несовпадение расхожих мелодраматических или казенных представлений о партизанской войне с действительностью постоянно подчеркивает Адамович, раскрывая внутренний мир своего героя. В воображении Толи, еще не видевшего партизан, но жадно впитывающего все слухи об их боевых делах, они рисовались чудо-богатырями, «людьми особенными, бесстрашными и справедливо беспощадными». Даже внешне, был убежден он, партизаны должны выглядеть внушительно, необычно: «Все они, конечно, с автоматами, и все у них обязательно кожаное: сапоги, брюки, пальто, шапка». Расставался с этой картиной Толя не без внутреннего сожаления и сопротивления: он на первых порах даже пытался то, что ей не соответствует, вообще не замечать или считать случайным, несущественным. Все, что противоречило созданному его воображением образу, его больно задевало: ведь себя в роли народного мстителя он хотел видеть именно таким, закованным в кожаные доспехи, неуязвимым, не знающим страха и сомнений. И дело здесь не в наивном юношеском романтизме героя, — его наивность, скорее, смягчает, чем подчеркивает оторванность от жизни всех этих прекраснодушных мечтаний. Толя и в партизанской отряде остался юношей, настроенным романтически, но, открывая для себя реальный мир, он постепенно избавляется от схематичного подхода к жизни.
Оказывается, партизаны — самые обыкновенные люди, такие же, с какими он неоднократно сталкивался и прежде: «…вот они. И хмурящийся более обыкновенного Серега Коренной (язва, наверное, мучит), и Зарубин, отковыривающий пластырь грязи с ботинок, с уморительной безнадежностью смотрящий на брюки и китель, которые окончательно потеряли „моряцкий“ вид, и Головченя, насмешливо косящийся на задремавшего под солнышком Савося (грязная мягкая щека — вроде подушечки), и „профессор“, у которого глазницы то ли от усталости, то ли еще от чего другого провалились еще глубже, и не устающий, как мячик, Вася-подрывник, от золотой улыбки которого всегда светлее, — вот они — партизаны, и все такие, какие есть. Да, обыкновенные». Нет у них могучей стати, надмирных интересов, картинной величественности — они мучаются от холода, устают на длинных переходах, иногда ссорятся из-за пустяков, грустят, им бывает и страшно. Но именно эти обыкновенные люди совершают то, что, как прежде казалось Толе, по силам лишь богатырям, великанам, — они способны на подвиг.
Созданные воображением Толи партизаны были неуязвимы для пуль и страданий — все им поэтому легко и просто; реальные партизаны, одним из которых стал Толя, знали, что в каждом бою их может настигнуть роковая пуля, знали, что страшнее смерти — живым попасть в руки врага, но снова и снова они шли в бой…
Созданные по беллетристическому канону партизаны удивительно похожи, почти неразличимы, реальные партизаны были людьми очень разными: добрыми и злыми, мрачными и веселыми, легкомысленными и серьезными. И меньше всего о них можно было судить по внешности, геройский вид вовсе необязательно был признаком крепости духа и воинской доблести, отчаянным храбрецом мог быть и человек невпечатляющей, даже неказистой внешности. «Что в нем, — размышляет Толя о своем командире взвода, — маленький, в руке пистолетик, нос уточкой, взгляд даже неуверенный, ускользающий, а если смеется, то как-то неумело, будто давится: „кхи-и“, — и вот именно такой кажется Толе самым сильным и надежным из всех, кого он узнал в партизанах». Как много нужно было Толе пережить, чтобы понять это, чтобы сбросить шоры, мешающие видеть в людях то, что составляет их сущность…
Даже полицейские, ненавидимые и презираемые «бобики», с которыми-то, казалось, уже все ясно, и те никак не укладывались в готовые схемы. Выяснилось, что среди них были и люди, специально посланные партизанами и работавшие на них, — и они должны были быть мужественными и стойкими не меньше, чем партизаны. Но это, в конце концов, случай как будто бы еще несложный — люди эти действовали по заданию партизан, — хотя уже он заставляет внимательнее присмотреться к тем, на ком всем ненавистный мундир. Ведь были среди них и такие, что шли в полицаи для того, чтобы выбраться из лагеря военнопленных или избежать отправки в Германию, — другого выхода не было. И приходилось им — деваться некуда — как положено служить немцам, с надеждой и страхом ожидая случая, чтобы убежать к партизанам в лес, где встречали, естественно, с подозрением и нелегко было завоевать доверие. Здесь одинаково не подходили ходячие представления и о доблестных народных мстителях, и о коварных злобных предателях. Сколько таких и более сложных судеб прошло перед Толей…
Война преподносила сюрпризы, обнаруживая в людях то, что в мирное время было скрыто, до чего трудно было докопаться. Директор столовой Лапов, который на «демонстрациях даже где-то впереди шел» и был, казалось бы, больше всех озабочен чистотой наших рядов, стал при немцах бургомистром. А Артем Лесун, что был единственным «единоличником на весь сельсовет» и из-за этого считался личностью явно сомнительной, стал связным у партизан.
Да, так было. Но это не значит, что война смешала все карты, опрокинула все критерии. Не устояли только критерии неистинные, несостоятельным оказался подход огульный, формальный. «Что стоят анкеты, — с горечью замечает один из героев Адамовича, — мы уже убедились. Писали, писали, а нужной оказалась графа, которой-то не было: человек ли?» Именно в этом суть: война резко и осязаемо определила, что такое хорошо и что такое плохо, слова тут же проверялись делами, и становилось ясно, что ты за человек. Война не размывала нравственные критерии, наоборот, они становились четче и категоричнее.
С этих позиций и вершит Адамович суд над двумя персонажами, изображению которых в дилогии уделено немало места. Один из них, Казик Жигоцкий — эгоист и приспособленец, для которого собственное благополучие дороже всего на свете: у него одна цель — отсидеться, выжить, уцелеть, и, если над ним нависнет угроза, он не остановится ни перед чем — будет доносить, предавать, лишь бы выпутаться самому, лишь бы себя спасти. Не менее опасен и другой — Мохарь. Демагог, спекулирующий на бдительности, шкурник, научившийся прикрывать свою трусость «высшими» соображениями, он во зло использует оказавшуюся у него в руках власть. Только война с такой очевидностью могла обнаружить гражданскую и человеческую несостоятельность подобных людей.
Война была жестокой, беспощадной проверкой, но все-таки обычно исход экзаменов был другим, гораздо чаще приходилось сталкиваться с иного рода неожиданностями.
«Кто мог бы подумать, что этот застенчивый человек в минуты смертельной опасности будет вести себя с таким безупречным мужеством!» «И представить нельзя было себе, что этот мальчишка, у которого был ветер в голове, станет командиром, за которого солдаты готовы в огонь и воду!» Как часто это приходилось слышать, когда рассказываются фронтовые истории…
Это же чувство радостного удивления, восхищения людьми, которые шли на смерть и делились последним куском хлеба, которые молчали, когда их пытали в немецких застенках, и многие километры через топи и болота тащили на себе раненых, возникает, когда читаешь дилогию Адамовича. Это были и бабы, собирающие и передающие скудный харч для пленных, и «окруженцы», неделями пробирающиеся на восток, чтобы перейти линию фронта, и партизаны, отстреливающиеся до последнего патрона и подрывающие себя последней гранатой. Юный Толя и старик Митин, девчонка Лина и пожилая тетя Паша, интеллигентный Бакенщиков и «Разванюша» из старообрядцев, кадровый военный Сырокваш и бывший учитель Бойко, ставший комиссаром. Все они раскрываются в испытаниях войны как настоящие люди.
Их так много, что общее имя у них может быть только одно — народ. А когда воюет народ за свою свободу, когда он защищает правое и благородное дело, — одолеть его нельзя. «Война могла быть иной по планам, по тактическим и даже стратегическим успехам, по жертвам с той или другой стороны, по занятым или незанятым городам, но она не могла быть иной по исходу. Встретились не просто две армии и даже два народа, в жесточайшей схватке столкнулись два мира. И победить мог лишь тот мир, который открывал людям путь в будущее, достойное Человека», — пишет Алесь Адамович, и эта мысль может служить итогом всего того, что он рассказал о Великой Отечественной войне в дилогии «Война под крышами» и «Сыновья уходят в бой».
IV
Дилогия — и потому, что она была первым художественным произведением автора, и потому, что в основе своей это книга автобиографическая, — вобрала в себя очень многое из военного опыта Адамовича, из пережитого им во время фашистской оккупации и в партизанском отряде: ведь стремление рассказать все, что знает, все, что видел, рассказать во всех подробностях, стремление воссоздать былое, воскресить павших и заставило его взяться за перо. Естественно, ему могло казаться, что этот жизненный материал он уже исчерпал, — во всяком случае, как только повествование было завершено, те неотступные сны о войне, о которых рассказывает писатель, «пропали и больше не возвращались».
Томас Вулф как-то поведал о том душевном смятении, в котором он пребывал после выхода первой книги: «Раньше я был писателем в надеждах и мечтах, теперь я стал писателем на деле. Например, я читал статьи, в которых обо мне говорилось как об одном из „молодых американских писателей“. Я был одним из тех, на кого, по словам критика, следует обратить внимание. Моей новой книги ожидали с интересом и с некоторым чувством тревоги… Я был смущен, растерян, испытывал смешанное чувство вины и ответственности. Я был молодым американским писателем, на меня надеялись, о моем будущем тревожились: что я еще напишу, получится ли из этого что-нибудь или ничего не получится, много я дам или мало? Будут ли недостатки, которые обнаружились в первой книге, усугублены или я их исправлю?.. Критики начали строить предположения о второй книге, так что и мне пришлось начать о ней думать».
Вероятно, такого рода жизненную ситуацию и душевное состояние приходилось переживать не одному художнику. Я, например, хорошо помню, как на обсуждении в Союзе писателей повести «Двое в степи» Эммануил Казакевич говорил, что успех «Звезды» не решил для него вопроса — писатель ли он, потому что первая его книга рассказывала о людях и событиях, которые он очень хорошо знал, и, чтобы проверить себя, выяснить, на что способен, он написал «Двое в степи» — вещь, в основе которой незнакомый ему материал (он не воевал на юге, ему не пришлось испытать ничего похожего на то, что выпало на долю героя этой повести).
Я вспомнил об этом, потому что сходные проблемы встали и перед Адамовичем. Надо было двигаться дальше. Но куда и как? Продолжать писать о войне? Но первый слой впечатлений (это в данном случае не значит — верхний, поверхностный) уже использован в дилогии, а то, что за первым может быть еще второй, третий и т. д., — это еще предстояло открыть… Новые слои обнаруживаются лишь при новом подходе. А новый подход не придумывается намеренно, не конструируется, а вырабатывается постепенно, подсказывается накапливающимся жизненным опытом, развитием современного искусства.
Вот внутренняя причина того, что в двух повестях, написанных после дилогии, — «Асия» (в журнальном варианте — «Виктория») и «Последнем отпуске» — Адамович обратился к современности. Безусловно, эти вещи требуют самостоятельного разбора, но предмет моих заметок — военная литература, и меня интересует в них то, что вело к «Хатынской повести», подготавливало ее.
Судя по всему, не так просто давался писателю этот поворот к современности, не так легко было ему расставаться с образами, навеянными его военной юностью (чем больше проходит времени, тем очевиднее, что для людей этого поколения, этой биографии то были самые насыщенные событиями годы жизни). В этих повестях его то и дело «сносит» к партизанскому прошлому. Не случайно одна из глав «Асии», в сущности, представляет собой эпилог дилогии — в ней рассказывается о послевоенной судьбе некоторых персонажей первой книги Адамовича. Не случайно истоки характеров и явлений автор нередко видит в обстоятельствах военного времени, там он часто черпает и материал для сравнений. Не случайно его героев не оставляют воспоминания о схватках с карателями, о погибших товарищах, о смертельной опасности, о зверствах оккупантов. И это, несомненно, самые сильные страницы повестей.
Но все-таки главным образом автора занимают тут работы и коллизии сегодняшней действительности. А вместе с войной из повестей ушла и тема народной жизни — для Адамовича коренная и органичная. Ей на смену пришли темы и более камерные, и одновременно более общечеловеческие (особенно в «Последнем отпуске» это сочетание бросается в глаза). Известно, что успех произведения зависит не от темы, не от материала. Но все же, видно, не зря говорят: взялся не за свою тему. Темы могут быть художнику близкими и далекими. Те, которым посвящены «Асия» и «Последний отпуск», не захватывали автора безоглядно. Одно связано с другим — куда больше, чем во время работы над дилогией, его занимали формальные задачи: он «колдовал» над языком, стремясь к лаконизму; он бился над монтажом, стараясь нащупать способы выразительного соединения разновременных, разнохарактерных планов и эпизодов.
Все это, конечно, не прошло даром — накопленный опыт был затем использован в «Хатынской повести», которая написана более плотно, более динамично, чем дилогия. Но главное, что обрел Адамович в годы, отданные работе над «Асией» и «Последним отпуском», — это новый подход к материалу войны. В «свернутом» виде его уже можно обнаружить в «Последнем отпуске».
Герой повести, от имени которого ведется повествование, несколько раз возвращается в воспоминаниях к одному и тому же эпизоду военного детства. Оккупанты в отместку за какого-то убитого начальника решили расстрелять всех жителей улицы, на которой жил герой; когда их начали уже гнать к яме, мать, нечеловеческим усилием разогнув толстые прутья кладбищенской ограды, вытолкнула его, и он бежал, спасся. Вспоминая об этом в финале книги, он размышляет о жестоких испытаниях тех лет, о нависшей над миром страшной угрозе атомной войны, о безуспешной пока борьбе с раком — чумой XX века, который косит и косит, и в его мыслях все это связано общей тревогой за судьбу человечества и надеждой, что люди осознают ответственность каждого за будущее, — только в этом спасение. Он подводит итоги собственной жизни, зная, что обречен: у него страшная болезнь, от которой нет спасения, — он сам привил ее себе, чтобы разгадать ее природу. Когда-то, спасая его от фашистских палачей, мать сделала то, что за пределами человеческих возможностей, — такова сила материнской любви. Он жертвует собой тоже из всесильной любви к людям, во имя их будущего.
«Сколько раз она (мы не знаем, сколько раз) — эта сверхсила любви человеческой — побеждала угрозу, нависшую над нами, людьми!
Но разве существовала когда-либо угроза, равная сегодняшней?
Когда шла война, помню, была такая вот мысль, и даже не мысль, а скорее чувство: „Хорошо хоть, что смерть не достанет тех, что за Москвой, за Уралом!“ И ей же богу, легче было о своей смерти думать.
Тогда не могла достать всех. Сегодня может. Если не окажется человек сильнее самого себя. Потому что и в атомный век угроза — в самом человеке».
В дилогии Адамович стремился воссоздать прошлое без прикрас, рассказать, как все было. Здесь же война, уже уходящая в даль годов, и сегодняшний мир, и тревожные думы о будущем — все это сливается воедино. Здесь война служит уроком и предостережением современности, а наш сегодняшний опыт помогает лучше понять войну.
Этот новый для писателя подход был затем реализован в «Хатынской повести». Суть его в том, что опыт войны рассматривается уже на уровне философии истории. Говоря в дни тридцатилетия Победы над фашистской Германией об итогах литературного развития последнего десятилетия, Адамович заметил: «Перспективной мне видится сегодня та линия в современной „военной прозе“, на которой размещаются „Сотников“ В. Быкова и старые, но звучащие в новом контексте военные дневники К. Симонова. То есть движение к прозе все более философской с сохранением всего богатства чувств, эмоциональной стихии». На этой линии размещается и его «Хатынская повесть» (первоначальное, рабочее название которой — «Время разбрасывать камни и время собирать камни» — с этой точки зрения весьма характерно).
Эта книга была начата одновременно с «Последним отпуском» — у них общая начальная дата: 1966 год. А затем отложена: «…очень скоро понял, — рассказывает автор, — что это будет самоповторение — всего лишь дополнение к собственной дилогии». Как и куда вести повествование, он понял, работая над документальным фильмом о «белорусских Лидице», записывая рассказы очевидцев фашистских злодеяний. «Слушаешь страшные хатынские истории, а зловещие отблески костров из живых человеческих тел и криков бегут, ложатся вперед, впереди: то, что творили фашисты в Белоруссии, пожалуй, более, нежели другое что-либо, смыкается с нашими сегодняшними тревогами. Хатыни — сотни и сотни их! — это „Хиросимы“ старыми средствами… Из боли тех материнских рассказов, из заново пережитой войны, из мыслей сегодняшних о вчерашнем и завтрашнем и возникла „Хатынская повесть“».
Эта формула Адамовича — «мысли сегодняшние о вчерашнем и завтрашнем» — находила образное воплощение в сопоставлении войны и современности, в очной ставке былого и настоящего в назидание будущему. Разные писатели — каждый самостоятельно — открывали для себя этот путь к книге-размышлению, к книге-вопросу. Назову здесь лишь «Обелиск» и «Волчью стаю» В. Быкова, «Наш комбат» Д. Гранина. За этими и другими вещами — общая закономерность литературного движения, общая потребность в новом осмыслении того, что хранит народная память.
Но, говоря о философском осмыслении как о характерной черте «Хатынской повести», хочу сразу же подчеркнуть, что при этом повесть Адамовича — произведение, основой образной и композиционной структуры которого служит чувственно-пластическое изображение действительности. Это необходимо отметить особо, ибо мы привыкли обычно считать, что философичность в художественной литературе непременно ищет выражения в условных формах. У Адамовича же к проблемам человеческого бытия приводит изображение жизни в «формах самой жизни».
Как много в повести пронзительно точных подробностей партизанского быта, с какой бесстрашной правдивостью раскрывает автор жестокость войны на оккупированной врагом территории, как глубок психологический анализ, проникающий в смятенный мир чувств и мыслей человека, оказавшегося на краю бездны, переживающего невообразимый ужас. В повести по сравнению с дилогией «вес» детали — предметной и психологической — возрастает, более высока степень художественного обобщения, но при этом автор еще ближе к документальности, чем в дилогии, в структуре которой весьма существенную роль играли принципы мемуарного повествования. По отношению к «Хатынской повести» не годится даже слово «вспоминает», столь обязывающее автора художественного произведения. «Я как бы заново переживал войну, — признается писатель. — Изо дня в день… Первый раз (мне кажется) я даже не столь остро, не так близко ее пережил: что ни говори, а в 14–17 лет все окрашивается определенным юношеским легкомыслием — по отношению к своим, а заодно и чужим бедам. Теперь ты слушаешь память народную — о том же времени. Изо дня в день видишь войну глазами матерей, убиваемых, сжигаемых вместе с детьми. И тебе уже не 16, а за 40… И сегодня ты менее защищен психологически (время-то мирное) от человеческих трагедий, тем более таких!..» Вот каким образом Адамовичу открывалась новая для него сторона войны. А это повлекло за собой и изменения стиля: материал был таков, что непросто, очень нелегко было отыскать соответствующий ему стилистический ключ.
Во время работы над «Хатынской повестью» Адамович в журнале «Вопросы литературы» под рубрикой «Перед новой книгой» рассказал о своем замысле, о тех трагических событиях, которые стремится воссоздать в произведении. Он привел в качестве иллюстрации несколько записанных им воспоминаний людей, выбравшихся из Хатыней. Они оглушали, эти воспоминания, эти свидетельства очевидцев. Не скрою, я тогда усомнился, можно ли вообще в художественном произведении передать все это, не опустившись до мелодрамы или натурализма? С таким материалом литературе не приходилось иметь дело. Да и автор признается, что заканчивал он книгу с ощущением литературного поражения. Но тогда и я ошибался, и автор был не прав. Не знаю, можно ли говорить о полной победе (есть в повести и слабости — о них дальше пойдет речь), но нет сомнения, что в самом главном и в самом трудном вещь удалась. Казалось, что писателю, отважившемуся обратиться к этому материалу, ориентирами могут служить лишь «Капричос» Гойи или «Герника» Пикассо — реализм в том его варианте, который сохраняет бытовое правдоподобие, здесь бессилен. А «Хатынская повесть» убеждает, что это не так, что мы сплошь да рядом умозрительно судим о возможностях той или иной манеры, того или иного жанра…
Нельзя не обратить внимание на то, с какой осторожностью, с каким нравственным тактом (потому что дело здесь, конечно, не в одном лишь эстетическом чутье и вкусе) подводит автор читателей к нечеловечески ужасному, постепенно — шаг за шагом — наращивая подробности, приближая нас к страшным событиям. Сначала герой повести, семнадцатилетний Флера, в партизанских скитаниях во время наступления карателей видит издали зловещее зарево от горящих деревень и «бегущих по зареву, по горизонту людей», которых, вероятно, подстегивает умопомрачающий страх. «И вдруг в той стороне поля, куда все уносится, что-то произошло. Длинно вытянувшаяся трасса пуль разрезала темноту, и стало видно, что оттуда тоже бегут, наверное, другая деревня. Увидев друг друга, люди растерянно приостановились и, может быть, закричали (а может, они все время кричат, мне не слышно). Заметались…» Конца этой трагедии герой, добравшийся наконец до спасительного «партизанского» леса, не видел…
Но вот он, стараясь вырваться из все суживающегося кольца фашистской «блокировки», попадает в родное село, где оставил, уходя в партизанский отряд, мать и двух семилетних сестренок-близнят. А села нет — пустырь, на котором «вспыхивают от ветра бугры, где стояли хаты, а теперь грузно белеют печи». И дома его нет — калитка, часть забора, железная кровать, рама велосипеда да сплюснутое ведро. Вокруг печи пепелище. А в печке еще стоят чугунки. «В том, который поближе, черные угли. Я достал второй, с выкипевшим почти до донышка супом, он еще тепловат…» На все село ни одной живой души… Но еще будет тлеть надежда — убежали, спрятались где-нибудь в лесу, — вопреки всему не будет угасать; пока сам этого не увидишь, трудно поверить, что такое возможно.
Ему (и нам, читателям, вместе с ним) еще придется увидеть своими глазами, как сжигают живых людей (не затем ли обрек Адамович своего героя на слепоту, что хотел этим подчеркнуть, что людям, прошедшим через такое, «в глаза — изнутри! — бьет нестерпимый свет невыносимой памяти?»). А до этого, чтобы не оставлять герою какой-либо утешающей надежды, автор сведет его с обожженным соседом, единственным выбравшимся из того хлева, в котором сожгли Флериных односельчан, его мать и сестренок. Человеческое сознание не может принять этой реальности — людей, как скот, «забивают», травят, жгут, — оно старается как-то уйти от нее, представить ее кошмарным сном, который вот-вот должен прерваться. Адамович не дает нам свернуть к нереальности кошмара, — страницы, посвященные изображению «акции» карателей, написаны с жесткой точностью. Так, что не тускнеют от соседства подлинных документальных записей, включенных сюда автором, — это очень трудное испытание, которому автор подверг свою повесть, она выдержала.
Но Адамовичу еще предстояло найти «разрешение» изображаемой нечеловеческой ситуации, — просто показать, что убийц настигло возмездие, это было бы отступлением к беллетристической облегченности, к мелодраме, потому что нет возмездия, равного этим злодеяниям. И он рисует в финале повести невыносимо тяжелый кровавый бой партизан с карателями, бой, который требует от каждого сверхчеловеческих сил. Не в том подлинное «разрешение», что несколько пойманных партизанами убийц и поджигателей будут расстреляны, а в том, что не щадя себя будут партизаны крушить эту армию, эту бездушную силу, несущую смерть и порабощение, не считающуюся ни с какими человеческими законами…
«Первая мировая война — ее кровавый опыт литература выразила в очень правдивой и жестокой формуле, напрямую прозвучавшей в „Тихом Доне“: как просто умирали люди. Когда мы думаем о зверствах гитлеровцев, фашистском затемнении Европы, просится формула еще более жесткая: как просто убивали люди. Уточню, не люди — фашисты…» — критик и литературовед Адамович размышляет здесь о том, что в «Хатынской повести» является главной темой. Быть может, формула им предложена слишком общая (впрочем, какая литературоведческая формула полностью вмещает содержание художественного произведения?), но пафос повести она выражает в общем верно. Характерно, что именно к этой мысли стянуты и нынешние раздумья героя, и споры его с психологом Бокием (часто это споры с самим собой), и те документальные вставки, которые посвящены зверствам американских карателей во Вьетнаме. Но вся эта публицистика мало что добавляет к художественному повествованию, в сущности здесь разжевывается то, что и так ясно. Обычно иллюстративность рассматривают как порок, проявляющийся в сфере образного мышления, в повести Адамовича случай необычный — иллюстративной становится логическая публицистическая мысль. Литературное поражение потерпел не художник, а критик, без должного доверия отнесшийся к образу, к его возможностям, к его силе.
Что поделаешь, так бывает: с несравнимо более трудными задачами — а в этом случае требовались всего-то сокращения, да и только — автор справился (о самом важном я уже говорил, отмечу еще поразительную органичность переходов от видения — именно видения, а не рассказа — семнадцатилетнего паренька-партизана к видению зрелого человека, который за четверть века много раз мысленно обращался к партизанской юности, тщательно рассматривая «кадры» своей жизни), а тут не устоял перед искушением поставить все точки над «i», — искушением, столь естественным для критика и столь опасным для художника.
Пусть не истолкуют меня превратно: страницы, посвященные сегодняшней жизни героев, взгляд на прошлое из нынешнего дня — все это возникло в «Хатынской повести» закономерно. Но драматизм был необходим и в этих эпизодах о современности. Однако искать его следовало, вероятно, не в выражаемых публицистически глобальных категориях, а в более глубоком исследовании таких характеров, как «вымороженный» Косач, как Столетов, готовый, чтобы выжить или выслужиться, топить других, таких явлений, как возникающее внутреннее противостояние им остальных партизан. Когда людям выпадают на долю непомерные страдания, когда они сталкиваются с нечеловеческой жестокостью, это не проходит для них бесследно. Но нравственные последствия неодинаковы у разных людей. Одних такие испытания закаляют и делают более отзывчивыми — для них чужого горя не бывает. И таких большинство. Но есть и другие, чьи души ожесточаются, словно бы оледеневают, — и для них чужое горе не горе. Не зря, вспоминая о тех муках, которые ему пришлось вынести в гитлеровском лагере, Косач говорит с угрозой, не очень ясно кому адресованной — кажется, не только фашистам, но и вообще людям, которые могут оказаться у него на пути: «…человека можно глубоко выморозить. До последней слезинки. Можно. Только сами потом не скулите!..» И это безжалостное — «не скулите» — потом, после войны, стало для Косача способом обращения вовсе не с врагами… Однако то, что разделяет партизан и Косача, партизан и Столетова, эта трещина, это взаимное отчуждение не доведено в повести до уровня конфликта. Впрочем, надо себе отдать отчет и в том, что даже если бы это удалось автору, все равно страницы повести, посвященные современности (в лучшем случае они могли быть исполнены драматизма), никак не могут впечатлять так же, как военные эпизоды, воссоздающие подлинную трагедию.
Адамовича давно влекло к документальности. Задолго до того, как была написана «Хатынская повесть», он утверждал, что «документальность стала требованием самого времени». А работая над этой повестью, он соприкоснулся с материалом, который не отпускал его, приковывал к себе, и после того, как была дописана ее последняя страница. Нет, он не думал о новой повести или романе. Он заканчивал «Хатынскую повесть» со странным чувством недовольства собой, невыполненного долга (опытный литератор, он, конечно, не мог не понимать, что вещь в целом удалась, и все-таки его не оставляла мысль, что он обязан сделать еще что-то другое): «Я слишком убежден, что никакая литература даже приблизиться не в состоянии к той правде, которая в глазах, голосе, в словах от тех людей (из Хатыней. — Л. Л.). Они сами, чувствуется, боятся всей своей памяти: вся не позволила бы жить…» Думаю, что дело здесь не в силе или бессилии художественной литературы, а в том, чтобы сохранить в первозданном виде память этих людей как важнейшее историческое свидетельство. И та статья Адамовича, из которой только что была приведена цитата, заканчивалась словами: «Без жестокой памяти о белорусских Хатынях мир, даже после Освенцимов и Бухенвальдов, не может считать, что он знает, что такое фашизм и чем маньяки грозили (и грозят) человечеству».
Так возник замысел документальной книги «Я из огненной деревни», над созданием которой Адамович работал вместе с Янкой Брылем и Владимиром Колесником.
V
Читать эту книгу тяжело. Невыносимо тяжело. Даже такие слова, как ужас, ад, зверства, чудовища, кажутся неподходящими, слишком уж спокойными, «обкатанными» житейским обиходом и литературой, чтобы передать то, чему посвящена эта книга… Какими словами рассказывать об этом?!
«А они ходят с пистолетами и добивают. Дошел до меня, слышит, что дитя кричит (ребенку было четыре месяца. — Л. Л.), а на меня он не подумал, что живая: волосы у меня понесло, и платок, и тут кровь… В ребенка бахнул и мне пальцы прострелил. Как держала я его за личико, так и мои пальцы прострелил. И дитя стихло, кровь на мне, чувствую, хлещет на лицо…»
«Назавтра в десять часов немцы приехали, забрали мать мою и дитя. Она еще им песенки пела, маленькая… Четыре года девочке было, и тут ее расстреляли вместе со всеми. Тринадцать душ тогда убили, старых женщин и детей…»
«А еще и до боя (до расстрела. — Л. Л.) издевались: и вилами пороли, и ногами ходили, и били — ой!.. Детей малых били, по живым ходили… А некоторые знали, что немцы яйки любят, несет которое дитя ему яичек да просит, чтоб не убили. А он как даст ему ногою, дак оно и перекувыркнется — и с ногами по нему пошел…»
«А некоторые живьем дети горели, которые малы, — их даже не стреляли. Ой, я и не припомню, сколько нас побили в наших Переходах».
И так на каждой странице этой книги. На каждой странице льется кровь — детей, женщин, стариков. Льется потоками — не в переносном, а в самом прямом буквальном смысле слова. На каждой странице убивают из автоматов, пулеметов, пистолетов безоружных, беспомощных, ни в чем не повинных людей, как некогда говорили, мирных жителей, бросают в них гранаты, сжигают живьем. На каждой странице рассказывается о том, что находится за пределами человеческого воображения.
И рассказывают об этом чудом уцелевшие, вставшие из могил — расстрелянные, истекавшие кровью, но не убитые, задыхавшиеся в дыму, обожженные огнем, но не сгоревшие, коченевшие от стужи, обмороженные, но не замерзшие…
Четыре года Алесь Адамович, Янка Брыль, Владимир Колесник ездили по деревням, разделившим судьбу Хатыни, и записывали их рассказы, составившие книгу «Я из огненной деревни»…
Когда-то, в первые дни мира, в июне сорок пятого года, Илья Эренбург писал: «Недавно Франция отметила трауром годовщину уничтожения Орадур-сюр-Глан. Президент Бенеш выезжал на пепелище Лидице. Я думаю о наших Орадурах, о наших Лидице. Сколько их? Если пойти от Москвы на запад, к Минску, или на юг, к Полтаве, или на север, к Ленинграду, увидишь повсюду развалины, пепел, могилы и, сняв шапку, больше ее не наденешь. И повсюду уцелевшие жители будут рассказывать о том, как качались на виселицах старики, как матери пытались спасти младенцев от палачей, как горели дома с живыми людьми».
Тогда еще не были известны цифры. Да и сегодня у всех на памяти Хатынь, она стала символом, а ведь сел, в которых фашисты уничтожили жителей, было в Белоруссии шестьсот, — шестьсот Орадуров, шестьсот Лидице. Всех жителей — грудных детей и глубоких стариков, мужчин и женщин. А сами деревни сожгли.
Шестьсот Хатыней… Впрочем, я боюсь в этом случае цифр. Боюсь, не начинаем ли мы с годами — по мере того как отдаляется от нас война — невольно воспринимать ее прежде всего как некую статистику (численность войск, процент потерь, количество выпущенных и уничтоженных танков и самолетов и т. д. и т. п.), как описание сражений, в которых участвовали десятки, а то и сотни тысяч людей? Спора нет, все это необходимо было выяснить и нужно знать… Но при этом надо иметь в виду: масштаб истории таков — ничего здесь не попишешь, — что она не может запечатлеть бой за деревню Борки и ту карательную экспедицию гитлеровцев, которая уничтожила деревню Хвойню. Никакая статистика — надо снова напомнить об этом — не откроет нам, что чувствовала женщина, на глазах которой в ее хате убили ее детей и родню, а она лежала на полу в их и своей крови… Или переживаний недострелянного мальчишки, которому довелось провести несколько часов в яме, ставшей братской могилой, рядом с убитыми отцом и матерью… Только услышав их рассказ, можно понять по-настоящему, что это была за война, против кого и за что мы сражались.
В ста сорока семи деревнях побывали белорусские писатели, разыскивая свидетелей. Мало их осталось — в некоторых, даже больших селах после того, что оккупанты называли «акциями», «экспедициями», «фильтрацией», «операциями», не уцелело ни одного человека. Это не были эксцессы, вспышки жестокости, а именно «операции», планомерно осуществляемые, тщательно подготовленные, продуманные в подробностях (кстати, в «акциях» иногда участвовали и армейские части).
Это было какое-то подобие бойни — вот только забивали на ней людей. «Привожу численный итог расстрелов. Расстреляны 705 чел., из них мужчин — 203, женщин — 372, детей — 130. При проведении операции в Борках было израсходовано: винтовочных патронов 786 шт., патронов для автоматов — 2496 шт.» — так доносил начальству командир роты карателей обер-лейтенант Мюллер. Авторы книги столкнут этот документ с рассказами очевидцев, четырех оставшихся в живых жительниц села Борки Малорицкие, и перед нами возникнет картина того, что произошло тогда в этом селе. Но и сам этот почти «бухгалтерский» отчет карателя помогает понять, что это такое — фашизм и фашисты.
Мы уже прочитали об этом массу книг — мемуарных и документальных, художественных, исследований историков. И все-таки «Я из огненной деревни» не просто еще один, в ряду многих других сборник, есть в этой книге нечто такое, что делает ее явлением из ряда вон выходящим. «Ее не с чем сравнить, эту книгу», — заметил Григорий Бакланов. «Книга, которая сильнее всего потрясла меня за последние годы и сильнее других заставила думать о том, что всеобщий мир есть наша неизбежная цель, если человечество хочет избежать самоуничтожения, была книга документальная. Это книга трех белорусских писателей — А. Адамовича, Я. Брыля и В. Колесника „Я из огненной деревни“», — говорил Константин Симонов. «Потрясающей силы книга», — повторил то же определение Иван Мележ.
Откуда же эта сила (если брать литературную сторону дела)? Как ни странно, придется прежде всего указать на то, чего авторы не стали делать: они удержались от какой-либо литературной редактуры и «ретуши». Они относились к записываемым рассказам не как журналисты или редакторы, а как историки, для которых самое ценное качество свидетельских показаний — точность.
Но этот подход им подсказало писательское чутье, именно оно. Только художникам дано было понять, что сила этих рассказов в их первозданности, непосредственности, невыстроенности — любые попытки как-то «укрепить» их литературно пошли бы во вред. Создатели книги не пересказывают, не шлифуют, поддавшись соблазну стилизации; они добросовестно воспроизводят. И это был единственно верный путь. «Свою задачу мы видели в том, чтобы сберечь, удержать, как плазму, невыносимую температуру человеческой боли, недоумения, гнева, которые жили не только в словах, но и в интонациях голоса, выражении глаз, лица, удержать все то, что, как воздух, окружает человека, который рассказывал нам…» — так пишут авторы, и они выполнили эту очень трудную задачу с помощью монтажа и кратких — только самых необходимых — комментариев. Они словно бы боятся слов, потому что нелегко найти такие, которые выдерживают соседство с обжигающей правдой рассказов об огненных деревнях.
Можно было бы сказать, что книга, созданная белорусскими писателями, один из самых страшных, самых беспощадных обвинительных актов, предъявленных фашизму, но разве есть в этих верных и справедливых словах та «невыносимая температура человеческой боли, недоумения, гнева», которая заключена в каждом из ее рассказов? Если бы речь шла лишь об одном, всего об одном из множества рассказанных в книге эпизодов, и тогда бы общество и строй, повинные в содеянном, отвечающие за него, должны были быть безоговорочно осуждены, прокляты, а тут ведь была целая система «обезлюживания», еще только, как считали гитлеровцы, отрабатывавшаяся в белорусских селах, в лагерях уничтожения. Пророческими оказались сказанные еще в 1937 году, во время войны в Испании, слова Хемингуэя о фашизме: «…когда он уйдет в прошлое, у него не будет истории, кроме кровавой истории убийств…»
Есть немало серьезных причин, почему очень сильная немецкая армия потерпела поражение — наиболее глубокая, пожалуй, заключалась в том, что «новый порядок», который пыталась утвердить эта армия, предполагая уничтожение самих нравственных основ человеческого бытия, лишал цены жизнь человека.
И то, что фашистские «акции» у их жертв вызывали не только гнев и ненависть, но и удивление (до сих пор уцелевшие жители «огненных деревень» словно бы не могут до конца поверить, что это было возможно), было выражением не просто беспомощности беззащитных людей, а их нравственного превосходства над своими палачами.
В книге «Я из огненной деревни» поражают не только картины фашистских злодеяний, но и то, что в нечеловеческих обстоятельствах люди, которых истязали, продолжали сохранять человечность. Старались спасти детей — и не только своих, но и чужих. Чем могли, старались помочь более слабым, а как часто какая-нибудь картофелина, глоток воды, тряпка для перевязки, сто шагов, которые на себе тянули раненого, — были поистине бесценными, равными подаренной жизни и пожертвованному последнему шансу выбраться самому…
В этом кровавом водовороте люди все-таки продолжали думать и заботиться не только о себе, сохраняли отзывчивость, не закрывали глаза на то, что происходило вокруг них. Ольга Минич, раненая и обожженная (к тому же она была беременна, два месяца до родов оставалось), выбравшись из деревни, тащила в лес тяжело раненного мужа. Она была без сил, почти в беспамятстве. Но до сих пор она не может ни забыть, ни простить себя: «Я тащила мужика, уже вечером это, и знаете, вот так, метрах в тридцати от меня, шли они назад, за руки побрались хлопчики и шли назад в село. И почему у меня ума не хватило, ей-богу, ну прямо непростительно! Почему мне было не сказать: „Детки, вернитесь назад!“ Мне как-то на ум… Просто я растеряна была. А потом, уже назавтра, я опомнилась. И вот и сегодня, где увижу двое деток таких, дак обязательно вспомню тех детей. И вот я на себя вину беру: почему я их не вернула, тех деток?..» Эта живая совесть людей — то, с чем не могли справиться фашисты. Они могли «обезлюживать», но им не удавалось «расчеловечить». И уже одно это было предпосылкой их неминуемого поражения.
Нельзя не обратить внимание и на то, что нигде в книге, ни в одном рассказе, ни разу не возникает ни малейшего упрека, ни тени укора «хлопцам», партизанам. А ведь каратели и полицаи, «бобики», чтобы «переадресовать» гнев населения, создать вокруг тех, кто в лесу, выжженную страхом непреодолимую полосу, твердили одно: это вам за партизан! Но люди не очень грамотные, лишенные какой-либо информации, кроме слухов, понимали, что это не так, что это гнусное вранье. Нравственное чувство безошибочно подсказывало им, что ничем нельзя оправдать убийство детей, что не может быть никаких причин для поголовного уничтожения мирных жителей. Они твердо знали, что только партизаны, если им удастся, смогут их защитить и спасти. И чем больше зверствовали фашисты, тем больше людей уходило в лес, к партизанам.
Партизаны становятся действительно грозной силой, с которой не может справиться регулярная, до зубов вооруженная армия, благодаря народной поддержке. Когда народ поставлен перед необходимостью защищать свое право на жизнь, свое будущее, он готов на любые жертвы, его не могут сломить самые жестокие испытания. Вчера, казалось бы, рассеянные карателями, обескровленные в «блокировках», завтра партизанские отряды становятся многочисленнее и сильнее. И эта «подпочва» партизанской борьбы за правое дело отчетливо проступает во всех рассказах, воспроизводимых в книге «Я из огненной деревни». Эта книга о страданиях народа, о жертвах стала книгой и о мужестве, о нравственном противостоянии народа захватчикам, о его неиссякаемой духовной силе.
Перед нами открылась еще одна страница Великой Отечественной войны. Читая книгу «Я из огненной деревни», еще раз убеждаешься, что мы знаем вовсе не все о войне, Особенно о том, какой она была для множества людей из самой гущи народной. Эта книга подсказывает, где нужно искать новые материалы о войне, она раскрывает еще неисчерпанные возможности документальных жанров…
В годы войны создатели книги «Я из огненной деревни» — все трое — были партизанами. Трагедия белорусских сел опалила им душу, хотя в нелегких боях да по молодости лет вряд ли они могли ее до конца осознать. Как писал один из поэтов военного поколения:
Но даже смерть — в семнадцать — малость, В семнадцать лет — любое зло Совсем легко воспринималось, Да отложилось тяжело.Теперь, уже зрелыми людьми, они вновь вернулись к той давней трагедии — выполнили свой долг перед прошлым, перед святыми могилами. В те дни, когда наша армия освобождала области, в которых бесчинствовали фашисты, Андрей Платонов под впечатлением увиденного писал в письме с фронта: «…после войны, когда на нашей земле будет построен храм вечной славы воинам, то против него… следует соорудить храм вечной памяти мученикам нашего народа. На стенах этого храма мертвых будут начертаны имена ветхих стариков, женщин и грудных детей. Они равно приняли смерть от рук палачей человечества…»
Но не только это много лет не дававшее покоя чувство двигало авторами…
Они думали не только о прошлом, но и о будущем…
Невыносимо тяжело читать эту книгу. Но ее должен прочитать каждый, кто по-настоящему осознает человеческую ответственность за будущее…
Совесть не замерзает О «Блокадной книге» Алеся Адамовича и Даниила Гранина
Не так давно журнал «Вопросы литературы» опубликовал письма Ольги Берггольц военных лет. Несколько писем не из Ленинграда, а в Ленинград: после первой, самой тяжелой, самой страшной блокадной зимы, в марте сорок второго года, Берггольц, заболевшую дистрофией, вызвали в командировку в Москву, где она пробыла почти два месяца, приходя в себя.
И вот, что ее поразило, когда она попала на Большую землю, — она пишет об этом с недоумением, горечью, обидой: «…я убедилась, что о Ленинграде ничего не знают. Много, конечно, сделал Тихонов, — до него совершенно ни у кого не было даже приближенного представления о том, что переживает город. Понимаешь, говорили, что ленинградцы — герои, восхищались их мужеством и т. д., а в чем оно — не знали. Не знали, что мы голодали, что люди умирают от голода, что нет транспорта, нет огня и воды. Ничего не слышали о такой болезни, как дистрофия. Меня спрашивали: а это опасно для жизни?»
Впрочем, очень скоро Берггольц поняла, что люди, с которыми она встречалась, и не могли знать, что в действительности выпало на долю ленинградцев, какие невыносимо жестокие испытания на них обрушились. О том, что в городе нет топлива, нет света, не работает водопровод, стоят трамваи, тогда не писали, — наверное, по-иному вряд ли могло быть в военное время. Ни строчки в газетах, ни слова по радио о голоде, который был губительнее артиллерийских обстрелов и бомбежек. «На радио, — пишет Берггольц, — не успела я раскрыть рта, как мне сказали: „Можно обо всем, но никаких упоминаний о голоде. Ни-ни. О мужестве, о героизме ленинградском — это то, что нам просто необходимо, как и все о Ленинграде. Но о голоде ни слова“».
Откуда же было знать, что на самом деле происходит там, внутри окруженного немцами города? Что было известно, например, мне? Очень немногое. А ведь мне, пожалуй, было легче, чем многим другим, составить представление об истинном положении дел: я был в ту пору курсантом Военно-морского училища имени Фрунзе и самое начало блокады — до эвакуации училища — провел в Ленинграде (читая во второй части «Блокадной книги» в дневниках Г. А. Князева запись о том, как на случай уличных боев какие-то «совсем юные моряки, по-видимому, курсанты» выбирали и оборудовали в домах на набережной Невы, на Васильевском острове огневые точки, я вспомнил то, что давно ушло из памяти, — ведь и мы занимались этим делом; наше училище, Князев его иногда по старинке называет кадетским корпусом, располагалось по соседству).
Понятно, что, оказавшись затем в других краях, на другом фронте, я с особым вниманием прочитывал все, что тогда писали о Ленинграде, стараясь между строк угадать и то, что не говорилось. Сейчас мне ясно: более или менее близкой к тому, что было в действительности, картины я представить себе не мог. Догадывался, что голодают, но ведь голод голоду рознь, — что так голодают, об этом я понятия не имел. Вообразить такое человек не в состоянии, догадаться об этом невозможно: наша проницательность вырастает из предшествующего жизненного опыта, а тут ей совершенно не на что было опереться — дело касалось немыслимого.
Потом, в послевоенные времена, о ленинградской блокаде было написано немало, но все-таки не исчезало чувство, что долг этому многострадальному и героическому городу, его жителям, его защитникам еще не выплачен полностью. Нет, не о почестях идет речь — слов о мужестве, о подвиге ленинградцев предостаточно слышала и Ольга Берггольц еще тогда, весной сорок второго, но при этом у нее все же оставалась какая-то обида. И обида эта не была зряшной. Она хотела, чтобы люди узнали, что вынесли ее земляки, какие страдания выпали на их долю, в чем их доблесть, какой ценой далась им стойкость. Не почестей она искала — понимания. Впрочем, может быть, человеческое понимание, участие и есть высшая, ни с чем несравнимая награда…
Дать возможность людям, вынесшим невыносимое, рассказать во всеуслышание об этом — значит подтвердить перед лицом истории, что их муки и доблесть были не напрасны, что они сохраняют, сохранят непреходящее значение. Наверное, только в этом и могло по-настоящему выразиться то уважение к их страданиям и мужеству, которое они заслужили. Алесь Адамович и Даниил Гранин это поняли, они осознали неутоленную потребность блокадников выговориться, рассказать все, как было, вспоминать все до конца.
Но блокадная эпопея — боль и гордость не только ленинградцев, она одно из высших проявлений всенародного сопротивления фашистским захватчикам, одна из самых больших жертв, которую заплатил народ за победу. И эта мысль тоже с самого начала присутствует в «Блокадной книге».
Нет ничего удивительного, что записывать рассказы блокадников, разыскивать их дневники, собирать документы и письма того времени стал ленинградский писатель, проживший в этом городе почти всю свою жизнь, сражавшийся у его стен. Поколение людей, в сознательном возрасте переживших блокаду, находится уже на том жизненном рубеже, когда невысказанное сегодня завтра некому будет рассказать: не записанное нынче потом нечем будет восполнить. Очень многое в Ленинграде должно было напоминать о неотложности этой задачи, напоминать каждый день, на каждом шагу. Но поразительно, что за это дело взялся, инициатором его был белорусский писатель, никогда не живший в Ленинграде, воевавший в партизанах далеко от этого города. Не случайно им оказался Алесь Адамович, так много сделавший, чтобы разыскать чудом уцелевших после кровавых фашистских «акций» жителей Хатыней, записать их воспоминания о судьбе белорусских «огненных деревень», поведать об этом миру, — раскрывшаяся ему трагедия, которую пережил его народ, рождала особую отзывчивость к чужому горю, заставляла воспринимать его как свое. Примечательно, что в творческой судьбе одного писателя соединились две самые болевые точки Великой Отечественной войны, — у этих трагических событий, столь, казалось бы, разных, есть «общий знаменатель» — всенародный, всечеловеческий.
Нет, не профессиональный интерес — нравственный долг толкнул Даниила Гранина и Алеся Адамовича к этой трудной работе.
«Блокадная книга» повествует о событиях ужасных, о страданиях невообразимых — не хочется верить, что такое было, могло быть. Злодеи существовали во все времена. Но только в наш век они получили возможность убивать сотнями тысяч. Злодейство, освобожденное государством и обществом от какого-либо морального осуждения, становится словно бы чисто технической задачей: каким образом убивать больше, быстрее, «организованнее». Комендант концентрационного лагеря Саксенхаузен штандартенфюрер СС Антон Кайндл показал на процессе, что газовые камеры в лагере были созданы по его инициативе: он исходил из того, что «сооружение газовых камер для массового уничтожения будет целесообразнее и даже гуманнее». В Белоруссии «ликвидация» деревень тщательно планировалась: как минимальным количеством боеприпасов уничтожить максимальное количество людей, сколько понадобится карателей, чтобы из созданного ими оцепления не выбрался ни один человек, что нужно, чтобы сжечь деревню дотла. Ленинград решено было сокрушить и уничтожить голодом — гитлеровцам не удалось овладеть им штурмом. Они заранее прикинули (для этого проводились специальные исследования, о которых рассказывается в «Блокадной книге», изучался зверский «опыт» лагерей, в которых не только расстреливали, но и морили голодом) эффективность этого оружия, определили сроки агонии огромного города.
Массовое уничтожение людей (даже не убийство, а именно уничтожение — как крыс или тараканов) — эта формула могла родиться только в наш век. Предшествующая история — какой бы ни была она временами жестокой и кровавой — ничего подобного все-таки не знала. Авторы «Блокадной книги», раскрывая конкретное — чудовищное — содержание этой нынче примелькавшейся и оттого как бы менее страшной формулы, думают не только о прошлом, но и о будущем — чем оно может обернуться для людей, если их память не сохранит пережитого, если они не извлекут из былого уроков. Мы обязаны знать и запомнить, как это было, постигнуть, почему это могло случиться, — иначе микробы фашизма смогут вызвать новую эпидемию зловещих преступлений, жертвами которых станут миллионы людей…
Что говорить, тяжко вспоминать об этом, больно прикасаться к таким ранам. Наверное, у авторов порой опускались руки — каково изо дня в день слушать рассказы о том, как умирали — чаще и неотвратимее, чем на передовой, о трупах, которые неделями не хоронили, об обессилевших, превратившихся в живые мощи людях, о сводящем с ума голоде.
Так что же, вычеркнуть все это из памяти, подчистить, смягчить то, что было во время блокады? Лев Толстой, чье нравственное чувство всегда служит нам эталоном, писал в «Севастопольских рассказах»: «Только что вы отворили дверь, вот и запах сорока или пятидесяти ампутационных и самых тяжело раненных больных, одних на койках, большей частью на полу, вдруг поражает вас. Не верьте чувству, которое удерживает вас на пороге залы, — это дурное чувство…» Да, это действительно дурное чувство — оно рождено заботой о собственном душевном комфорте, осознанном или неосознанном эгоистическим стремлением отстраниться от чужих страданий, от чужого горя, не отягощать ими себя. Но если миновать, обойти все кошмарное, что блокада обрушила на людей — смерть и кровь, голод и холод, грязь и смрад, — сколько бы ни произносилось высоких слов о блокадниках, об их верности родине, их любви к своему городу, мужестве и самоотверженности, — эти слова, лишенные жестокой жизненной конкретности, останутся звуком пустым.
Главное достоинство «Блокадной книги» — уважение к правде — неурезанной, несмягченной, необлегченной. Конечно, читать ее нелегко, местами невыносимо — почти каждая страница о нечеловеческих страданиях, о душераздирающем горе. Но, странное дело, с какого-то момента не то что к этому привыкаешь — неверно, что привыкнуть можно ко всему, к такому привыкнуть нельзя, невозможно, — но начинаешь все чаще обращать внимание и на другое. В этом кошмаре, в этом мраке возникает и не гаснет какой-то свет. И чем пристальнее вглядываешься в происходящее, тем резче он ударяет в глаза.
В этих крайних, я бы сказал, запредельных обстоятельствах, пробуждающих животный эгоизм, люди обнаруживали и все лучшее, что в них заложено, — высокое благородство, не останавливающуюся ни перед чем самоотверженность, готовность помочь слабому, верность правде, добру, свободе. То, что отозвалось в поразительных строках «Февральского дневника» Ольги Берггольц, написанного — хочу это подчеркнуть — не потом, не издалека, а в невыразимо страшную зиму сорок второго года:
О да, мы счастье страшное открыли — достойно не воспетое пока, — когда последней коркою делились, последнею щепоткой табака…Судя по опубликованным в журнале «Литературное обозрение» письмам, именно это больше всего потрясло читателей «Блокадной книги» — свет человечности:
«У меня возникло какое-то соединение жуткой горечи и вместе с тем гордости за род людской».
«…Для меня ленинградцы — пример удивительной воли к жизни. Это когда в крайней ситуации человек думает о другом человеке. Высший подвиг — жить в подвиге не одно лишь мгновение, а дни, месяцы — жить между бытием и небытием и вытаскивать из бездны других». «Вроде бы книга о смерти и гибели, а на самом деле она о жизни, о доброте, о великой духовной силе человека, о великих людях». «Будь моя воля, я бы давал „Блокадную книгу“ каждому входящему в жизнь: такие книги должны быть в каждой семье… Вы говорите и о взлетах человеческой души и не скрываете правды о падениях ее. И как один из живых уроков: такие испытания можно выдержать, если будешь жить по совести, честно…»
Тысячи тысяч людей — самых обыкновенных и таких разных — были поставлены жуткими обстоятельствами блокады перед необходимостью в повседневной жизни, руководствуясь своим нравственным чувством, решать те последние вопросы человеческого бытия, которые ставила классическая наша литература. И мы можем только поражаться ее проницательности, глубине постижения человеческой натуры…
Когда-то в начале нашего века Владимир Короленко написал рассказ о том, как два добрых совестливых человека, окоченев от якутской стужи — ртуть замерзала в термометрах, — в каком-то странном оцепенении проехали мимо сидящего у дороги путника, который в такой мороз наверняка должен был погибнуть. Это по-настоящему до них дошло, когда они добрались до селения и отогрелись. Пытаясь понять, как же так могло выйти, как они могли оставить человека на верную гибель, казня себя за это, один из них говорит: «Совесть замерзла!.. О, конечно, это всегда так бывает: стоит понизиться на два градуса температуре тела, и совесть замерзает… закон природы… Не замерзает только соображение о своих удобствах…»
На этот «закон природы», на «подлую человеческую натуру», как говорит герой Короленко, и был расчет у гитлеровцев, взявших в кольцо Ленинград. Есть физиологический предел человеческих сил и возможностей, голод и холод заставят забыть о долге, о достоинстве, убьют все чувства, кроме желания выжить, заставят родителей бросить на произвол судьбы детей, детей отвернуться от немощных родителей. Каждый будет занят лишь собственным спасением, отталкивая слабого, стараясь вырвать у него последнюю кроху. И не выживет никто…
Но вышло не совсем так, как планировали гитлеровцы, вышло все-таки по-иному. «Прививка» человечности (кстати, это всегда было одной из главных целей русской литературы, ее пафосом, и герой Короленко сам опровергает выведенный им «закон природы»: он, понимая, что идет на верную гибель, все-таки отправляется на спасение неизвестного путника и погибает, — нет, совесть не замерзает) оказалась куда более стойкой, чем предполагали фашисты. Их идеология, отвергавшая совесть как химеру, человечность — как вырождение, не давала им понять, с какой силой люди способны сопротивляться «расчеловечиванию». И уже поэтому бороться с ними будут до последнего дыхания.
Авторы «Блокадной книги» ничего не сглаживают, не упрощают, не приукрашивают. Выстоять, не потерять себя в условиях блокадного существования было очень трудно. Ольга Берггольц, написав, что в Ленинграде каждый был «не просто горожанин, а солдат», продолжает:
Но тот, кто не жил с нами, — не поверит, что в сотни раз почетней и трудней в блокаде, в окруженье палачей не превратиться в оборотня, в зверя…Что стоит за поэтической формулой Берггольц, ценой какой мучительной внутренней борьбы это давалось, раскрывает дневник Юры Рябинкина. И было немало людей, которые не выдерживали, у которых неукрощенный инстинкт самосохранения одолевал иные чувства — они могли вырвать хлеб у ребенка, украсть продовольственные карточки. Но большинство нравственно не сломилось. Даже те, кто физически не выдерживал, кто погибал от голода, сохраняли человеческое достоинство.
«У каждого был свой спаситель» — эти слова, сказанные одним из блокадников и так или иначе подтвержденные наблюдениями всех, кто делился с А. Адамовичем и Д. Граниным своими воспоминаниями о пережитом в ту пору, означают и то, что без взаимопомощи, без взаимной выручки, наверное, не удалось бы выжить никому, и то, что спасителей было много, — в какой-то момент, в каких-то обстоятельствах почти каждый становился спасителем. Помочь обессилевшему человеку добраться до своего дома — всего-навсего каких-нибудь полсотни шагов, поделиться с потерявшим карточки кусочком хлеба — и значило спасти жизнь. И было это без всяких преувеличений подвигом, высочайшим самоотречением. Нам по нашим нынешним представлениям непросто это понять. Сама мысль о том, что полсотни шагов или кусочек хлеба могут быть ценой жизни, сегодня кажется противоестественной. А тогда в Ленинграде человек, помогавший другому добраться до его дома, мог потом не дойти до своего, потому что тратил на это самые последние силы. И человек, поделившийся хлебом, в сущности жертвовал собой — никак иначе это не назовешь.
Авторы «Блокадной книги» так ведут повествование, чтобы читатель в конце концов проникся этим чувством, не только понял, но и эмоционально постиг блокадную цену жизни, блокадную меру участия и отзывчивости.
В первой части книги из мозаики множества воспоминаний складывается широкая всесторонняя картина жизни в окруженном врагом городе. Во второй — общий план сменяется крупным, воспоминания — дневниками, перед читателем проходят три блокадные судьбы — Георгия Алексеевича Князева, ученого, человека немолодого, умудренного жизнью; Юры Рябинкина, шестнадцатилетнего мальчика, окончившего в сорок первом году восемь классов; Лидии Георгиевны Охапкиной, на руках которой были пятилетний сын и пятимесячная дочь. Эти два разных плана дополняют друг друга. Но именно вторая часть — записи день за днем рождают у читателя глубокое сопереживание, дают ему возможность ощутить себя на месте этих людей, увидеть происходящее их глазами, проникнуться их мукой, заботами, надеждой.
И вот что еще нужно сказать о ленинградских дневниках. Тютчев как-то заметил: «Если то, что мы делаем, ненароком окажется историей, то уж, конечно, помимо нашей воли. И, однако, это — история, только делается она тем же образом, каким на фабрике ткутся гобелены, и рабочий видит лишь изнанку ткани, над которой трудится». Все это верно, обычно так и происходит. Но, видимо, не зря говорят о звездных часах, когда людям дано прозревать исторический смысл их повседневного существования. Так было в блокадном Ленинграде. Очень многие там чувствовали, что на их глазах и при их участии созидается история. Нет ничего удивительного, что эта мысль постоянно присутствует в дневниках Г. А. Князева, — он историк и по профессии, и по самому складу мышления. Но и Юра Рябинкин, и Л. Г. Охапкина, люди, казалось бы, целиком поглощенные обыденными заботами, и они видели не одну «лишь изнанку ткани», а творимую ценой величайших жертв и напряжения историю. Оказалось, что особо отмечают авторы «Блокадной книги», многие в осажденном Ленинграде вели записи, — к сожалению, не все сохранились, не все дошли до нас, — потому что ощущали историческое значение происходящего, — иначе откуда им было брать для этого силы… И это тоже (как и не угасший, а, пожалуй, выросший интерес к книгам) было своеобразным выражением духовного сопротивления, преодолеть которое была не в состоянии даже такая военная машина, как гитлеровская армия.
Издавна существует представление, что интеллигентность не входит в число солдатских добродетелей, скорее, она противопоказана воину. Наверное, оно сложилось тогда, когда образцовым солдатом считался мало над чем задумывавшийся ландскнехт. Даже в эту войну по инерции иногда говорили: перепуганные интеллигентики. Ленинградская эпопея показала, как далеко это утверждение от истины, с особой наглядностью она обнаружила самую тесную связь между совестью и самоотверженностью, интеллигентностью и стойкостью, сознательностью и доблестью. Эти духовные истоки нашей победы и раскрывает «Блокадная книга».
В последние годы военная документалистика все чаще обращается к тем людям, голоса которых никогда прежде в мемуарной литературе не было слышно. Когда пишут воспоминания прославленные герои, известные военачальники, государственные деятели — это понятно, тут никаких вопросов не возникает. А что особенного может рассказать простой солдат, кругозор которого замкнут его ротой, клочком земли на переднем крае? Или ленинградский почтальон? Или крестьянка из белорусской деревни Ковчицы? Их жизненный опыт военных лет в принципе сходен с опытом многих других таких же, как они, людей. Но именно тем он и интересен и важен, что это «низовой», глубинный, самый массовый опыт. Долгое время документалистика до него не добиралась, ценности его не сознавала. Но настал час, когда это стало ощущаться как ее весьма существенный пробел, как обширнейшее зияние в историко-документальной панораме войны. Лет десять назад ленинградский писатель, участник войны Лев Успенский заметил: «Как хотелось бы… встретить хотя бы два или три томика „Записок“ рядовых бойцов… Ведь каждый из них… является хранителем уникальных, потому что индивидуальных, воспоминаний, каждый помнит свое, неповторимое». Это желание, эта потребность возникли тогда у многих. Те, кто пережил войну, остро почувствовали, что упускается что-то очень существенное, без чего нельзя по-настоящему понять, какими они были, те четыре года…
«Константин Симонов, — вспоминает А. Адамович, — справедливо говорил: расспрашивайте и записывайте народ, если хотите знать всю правду об Отечественной войне! Спросите свой народ!» И сам Симонов взялся делать документальный фильмы «Шел солдат…» и «Солдатские мемуары» (в этом названии уже есть полемический запал), в которых рядовые участники войны рассказывают о том, что видели и пережили на фронте. Но это все же солдаты… А в книге А. Адамовича, Я. Брыля, В. Колесника «Я из огненной деревни» мирные жительницы, белорусские колхозницы, вспоминают, как измывались над людьми, как зверствовали на оккупированной территории гитлеровские каратели. И в «Блокадной книге» об осаде Ленинграда рассказывают люди, тоже оружия в руках не державшие.
Как же так, о войне, а рассказывают не только солдаты? Есть ли в этом нужда? Разве от них зависел исход сражений? Разве кто-нибудь из них сразил хотя бы одного вражеского солдата?.. Но вспомним, что это была за война… Вести ее пришлось всему народу. Солдат, поднимавшийся в атаку, белорусская крестьянка, делившаяся с партизанами скудным харчем, ленинградский ученый-архивист, продолжавший, несмотря на холод и голод, артиллерийские обстрелы и бомбежки, работать, — у каждого из них была своя очень тяжелая война, и только все вместе, объединенные общей целью, которая им была дороже их собственной жизни, они могли одолеть такого сильного и свирепого врага. Обратившись к пережитому этими людьми из самой гущи народной, документальная литература не только открывает неведомые, незаслуженно остававшиеся в тени героические и трагические страницы грозных военных лет, — у нее есть и «сверхзадача»: она исследует то, что можно назвать нравственным фундаментом народной войны, великой нашей победы.
Так работает армейская машина (Художественный мир Владимира Богомолова)
Начну с нескольких цитат из рассказов Владимира Богомолова.
«К тому же мне был всего двадцать один год, и, естественно, ко мне относились иначе, чем к другим комбатам! Если командир полка и его заместители старались ничем это не показывать, то Маслов — самый молодой из моих полковых начальников — не скрывал, что считает меня мальчишкой, и обращался со мной соответственно, хотя я воевал с первых месяцев войны, имел ранения и награды» («Иван»).
«Мне было девятнадцать, а ей восемнадцать лет. Мы встречались тайком: командир роты и санитарка» («Первая любовь»).
«Я не успел дойти до калитки, как со двора появился подполковник — высокий, молодцеватый, в свежих, тщательно отутюженных шароварах и гимнастерке с орденскими планками, в новенькой полевой фуражке и начищенных до блеска сапогах. Обтянутая черной глянцевитой лайкой кисть неподвижно торчала из левого рукава. Было ему лет тридцать пять, но мне в мои девятнадцать он казался пожилым, если даже не старым» («Зося»).
Нет, здесь речь идет не об одном и том же человеке: каждый из рассказов вполне самостоятелен, они не образуют цикла, — и действуют в них люди разные. И все-таки этот интерес к людям одного поколения, двадцатилетним Великой Отечественной, требует объяснений. Требует объяснений этот — скорее всего непроизвольный — выбор героя, а если точнее сказать — точки зрения на происходящее, потому что повествование в рассказах Богомолова ведется от лица этого героя…
Чтобы верно понять пафос творчества писателя, надо отыскать источник того сердечного волнения, которое заставляло его браться за перо.
«Это чувство я испытываю постоянно уже многие годы…» — так начинается одна из лирических миниатюр, написанных Богомоловым через два десятилетия после войны, речь в ней идет о сверстниках писателя, ушедших на войну в сорок первом, о школьных товарищах, погибших на фронте. И еще о тех идет речь в этой миниатюре, для кого эта потеря навсегда осталась незажившей, незаживающей раной. Случайно рассказчик встретил мать своего одноклассника. «И хотя Ленька, как я слышал, погиб в первом же бою, возможно, не успев убить и одного немца, а я пробыл на передовой около трех лет и участвовал во многих боях, я ощущал себя чем-то виноватым и бесконечно должным этой старой женщине, и всем, кто погиб — знакомым и незнакомым, — и их матерям, отцам, детям и вдовам…» Столько лет прошло, но и нынче «до боли клешнит сердце: я вижу мысленно всю Россию, где в каждой второй или третьей семье кто-нибудь не вернулся…»
«Сердца моего боль» — так называется эта миниатюра. И она, мне кажется, ключ ко всему творчеству Богомолова. И к главной, самой популярной его книге — роману «Момент истины» (первоначально он назывался «В августе сорок четвертого…»).
И дело не только в том, что и в этом романе возникает тот же, повторяющийся во всех произведениях Богомолова горький мотив: «Вчера встретила у Белорусского вокзала Машу Терехову, стояли с ней на площади и плакали, — пишет мать на фронт одному из героев романа, девятнадцатилетнему лейтенанту. — В вашем классе еще две похоронки: под Севастополем погиб Сережа Кузнецов, а в Белоруссии убили Милочку Панину. Оказывается, она была на одном с тобой фронте. Это девятая по счету смерть в вашем классе — бедные ребята, несчастные матери!» Важнее другое — стоящее за этим письмом острое, никак не притупившееся у писателя в течение долгих лет ощущение трагического времени. И еще одно: внутренняя убежденность, что именно там надо искать ключ к кардинальным нравственным проблемам нашего века, что пережитое тогда, когда все — чувства, поступки, решения — оплачивалось самой высокой из всех возможных ценой — кровью и жизнью, открывает художнику многие «тайны» человеческого сердца.
Даже для писателей военного поколения, звезда которых стремительно всходила на литературном небосклоне на рубеже 50-х и 60-х годов, судьба Богомолова необычна. Первый его рассказ «Иван», опубликованный в 1958 году, отличался такой художественной силой и зрелостью, что критики единодушно — вполне обоснованно — посчитали автора вполне сложившимся, «состоявшимся» писателем. Рассказ был замечен и выделен, хотя тогда официозная критика очень много и настойчиво говорила о том, что требуются, пришел час широких, всеобъемлющих полотен, только здесь можно ждать настоящих удач. Даже то, что после «Ивана» Богомолов напечатал всего один рассказ «Зося» и несколько литературных миниатюр, никак не отразилось на его литературной репутации.
Если попытаться отыскать «ключевое» слово, определяющее самое главное, нравственную доминанту богомоловских героев, я, не колеблясь, сказал бы: ответственность. Само собой разумеется это, как и всякое другое односложное, «формулировочное» определение, неизбежно упрощает и характеры, и содержание произведений, хотя уместно здесь, наверное, напомнить, что «отец» итальянского неореализма Чезаре Дзаваттини проницательно заметил, что война — «тема тем», потому что она синтезирует «чувство ответственности, которым человек должен обладать в отношении к жизни». Да, Богомолов помнит о трагедиях безжалостно оборванных войной жизней. Пишет о неестественной, непосильной для ребячьей души, ненависти фашизма (это стало темой фильма «Иваново детство», снятого Андреем Тарковским). Пишет о первой любви — несбывшейся, но незабываемой. И все-таки главное для него во всех этих историях ответственность. Могу в данном случае прямо сослаться на его собственное признание: «Меня интересует не война сама по себе, а человек, главным образом молодой, причем обязательно Воин и Гражданин; основное мерило в оценке людей для меня — их полезность и активность в общей борьбе». Вот авторский комментарий к «Ивану» и «Зосе»: «Мальчик в „Иване“ не объект жалости. Естественно сочувствие к обездоленному войной ребенку, но мужественные суровые люди относятся к нему с любовью и нежностью не оттого, что он потерял мать, сестренку, отца, а потому, что, на каждом шагу рискуя жизнью, он умудряется делать больше, чем это удается взрослым разведчикам. В великом фронтовом братстве он и в свои двенадцать лет труженик, а не иждивенец. То же самое и в „Зосе“. Рассказчик дорог мне не только своей нравственной чистотой, мечтательностью и лиризмом, но в первую очередь тем, что он воин, имеющий на личном боевом счету „больше убитых немцев, чем кто-либо еще в батальоне“».
Лейтенант Байков из рассказа «Зося» — по природе своей добрый отзывчивый парень, но эти доброта и сердечность «окрашены по-особому, они для него и некий важный „принцип“, даже общественный долг.
„Мы не просто воины, а освободители, — не однажды с достоинством говорил он бойцам, кого мы освобождаем?.. Обездоленных!.. Мы обязаны чем возможно помогать им. Мы должны не брать, а давать…
Убежденный в этом, он, где бы мы ни стояли в свободные минуты, охотно помогал: заготавливал для них топливо или вскапывал огороды, отрывал на пожарищах землянки и даже умудрялся складывать печи из старого битого кирпича. Я не сомневаюсь, что впоследствии эти люди нередко вспоминали его добрыми словами. Еще он очень любил и даже полагал делом чуть ли не государственной важности, насадив полный кузов ребятишек — то-то бывало крика, визга, радости! — покатать их с ветерком…“»
В общем героям Богомолова присуще вошедшее в плоть и кровь чувство высокой ответственности. Его ранние рассказы о «доблестях, о подвигах, о славе». Герой последнего напечатанного им рассказа «В кригере» тоже молодой человек, ему только-только исполнилось двадцать. Он старший лейтенант, командовал взводом и ротой, школу фронта прошел по полной программе и на западе, против немцев, и на востоке, против японцев. Не миновало его тяжелое ранение. И ордена за дело получил. После капитуляции Японии он ждет во Владивостоке нового назначения, мечтает об академии. Но тем, кто должен решить его судьбу, нет дела ни до его фронтового прошлого, ни до его планов. Им приказано ликвидировать «некомплект» в офицерском составе в частях, которые отправляют туда, куда Макар телят не гонял, — на Курилы, Сахалин, Чукотку. Этим они и занимаются, ни с чем и ни с кем не считаясь. Армейская машина работает без устали, правдами и неправдами выполняя полученный приказ. И если искать для этого безрадостного рассказа о том, как кончаются войны, поэтическую формулу, лучше всего подходит стихотворение Бориса Слуцкого, которое я уже цитировал:
Когда мы вернулись с войны, Я понял, что мы не нужны. Захлебываясь от ностальгии, От несовершенной вины, Я понял: иные, другие, Совсем не такие нужны.Повествовательной манере Богомолова — при строгой внешней объективности, выразительной и богатой деталями пластике — свойственна глубокая внутренняя поэтичность, рожденная исключительной интенсивностью авторского чувства. Минимальная дистанция между автором и героем-рассказчиком придавала его рассказам почти дневниковую достоверность. Рассказы были написаны необыкновенно плотно, без малейших пустот и зазоров, все детали выверены, для них найдено точное место. Степень художественной концентрации, умение извлечь из минимума текста максимум образной выразительности так высоки в них, что можно было на этом основании думать, что удел Богомолова — новеллистика. Уже хотя бы потому, что добиться подобной плотности в романе чрезвычайно трудно. И когда Богомолов взялся за роман, эта затея была не только смелой, но и рискованной. Очень трудно было добиться желаемой художественной высоты, того же уровня совершенства, который отличал рассказы. Не зря работе над романом автор отдал столько времени и сил.
И добился успеха. В восприятии читателей роман «Момент истины» стал и остался главной книгой Богомолова. Это проза, отвечающая требованиям самого взыскательного вкуса. Это строгая и серьезная проза высокой пробы.
Я хочу сразу же сказать об этом, потому что присущие «Моменту истины», в котором рассказывается история розыска и ликвидации вражеской разведывательной группы, заброшенной в наши фронтовые тылы, острый сюжет и драматическая напряженность могут восприниматься как характерные приметы легкого занимательного чтения.
Пусть поймут меня правильно, я вовсе не противник занимательности, тем более нет у меня и тени предубеждения к острому сюжету. Но слишком уж часто появлялись книги и фильмы, в которых шитая белыми нитками детективная история или невероятные военные приключения, положенные в основу сюжета, должны, но, естественно, не могут восполнить отсутствие в произведении каких-либо художественных достоинств.
Кто-то из критиков как-то заметил, что детектив — это «игра плюс литература». Но острый сюжет не дает оснований для того, чтобы посчитать «Момент истины» детективом, пусть даже очень хорошим. В книге Богомолова есть «литература» — роман написан мастерски, но в нем совершенно нет «игры». На месте «игры» — реальная жизнь, глубокий психологизм, подлинная, не облегченная для удобства действий героев война. Роман Богомолова — это «литература жизни».
Острый сюжет, изобилующий неожиданностями, резкими внезапными поворотами, вовсе не самоцель для автора; не законы жанра продиктовали ему этот сюжет, он возник сам собой как отражение того дела, которым занимаются герои Богомолова, — иного пути реалистически раскрыть характеры героев, поставленных в центр книги, в данном случае не было. Многие эпизоды в романе, я уже не говорю об оперативных документах, если оценивать их с точки зрения детективной интриги, не нужны, не функциональны. Но «Момент истины» — не приключенческий роман на военном материале, а роман о войне. И задача автора — правдиво воссоздать ту сторону войны, которую знают плохо — и потому, что контрразведкой занимался очень узкий круг людей, и потому, что все это было глубокой тайной, засекречено самым строжайшим образом, и потому еще, наконец, что многое сделанное в литературе и кино на эту тему страдало приблизительностью и литературщиной, которые неизбежно возникают, когда материал известен понаслышке, получен не из первых рук — тогда и возникает та «игра», о которой я писал. Утвердившиеся благодаря подобного рода книгам и фильмам в сознании публики стереотипы так же далеки от реальности, как рассказ в «Войне и мире» Николая Ростова о Шенграбенском сражении от того, что толстовский герой в самом деле видел и пережил в тот день.
Один из персонажей Богомолова, словно бы продолжая какой-то давно начавшийся спор, размышляет с раздражением: «Контрразведка — это не загадочные красотки, рестораны, джаз и всезнающие фраера, как показывают в фильмах и романах. Военная контрразведка — это огромная тяжелая работа… Четвертый год по пятнадцать — восемнадцать часов каждые сутки — от передовой и на всем протяжении оперативных тылов… Огромная соленая работа и кровь… Только за последние месяцы погибли десятки отличных чистильщиков (чистильщик — жаргонное обозначение розыскника военной контрразведки. — Л. Л.), а вот в ресторане я за всю войну ни разу не был». Впрочем, подталкиваемый полемическим запалом, он не задумывается над тем, что эти фильмы и романы, вызывающие у него отталкивание, возникли потому, что деятельность смершевской конторы, в которой он служит, покрыта непроницаемым туманом «секретности». Обходит он еще одно, более серьезное обстоятельство, с которым не мог не сталкиваться: почему к ним, ко «смершевцам», люди воюющие, окопники относятся настороженно, неприязненно? Не в том ли дело, что их контора поддерживает и внушает давно утвердившийся в обществе страх, и под одной крышей СМЕРШа объединены и они, рискующие жизнью чистильщики, и деятели, которые плодят доносчиков, шьют дела, как тот особист, который старался вывести на чистую воду в Сталинграде Аникушина? Да, богомоловский герой это не держит в голове. Но автор знает и помнит. Поэтому и возникли в романе те эпизоды, о которых только что шла речь.
Автору «Момента истины» чужда какая-либо искусственная романтизация. Персонажи его не поставлены в такое положение, когда противники и обстоятельства играют с ними в поддавки, заранее расчищают им дорогу к цели. Как и в жизни, в романе трагическое соседствует с обыденным и бытом: один из персонажей боится испачкать в грязном кузове грузовика свою новую форму, а через какие-нибудь два-три часа он будет после схватки с вражескими лазутчиками лежать на лесной поляне лицом вверх с «уставленными в одну точку, прямо на солнце, остекленными глазами». Героям Богомолова приходится сталкиваться не только с самоотверженностью и мужеством, но и с равнодушием, халатностью и просто житейской мутью. Да и сами они не отрешены от служебных неурядиц, от житейских дрязг, не заговорены от пуль. Нет, это не те всезнающие и всесильные молодцы, которые видят сквозь стены и всегда выходят сухими из воды. Им случается и долго идти по ложному следу — «пустышку тянуть», и не только рисковать жизнью, стараясь, однако, это делать только в случаях крайней необходимости, но и заниматься — с точки зрения литературно-романтических представлений о круге обязанностей положительного героя — делами совершенно неподходящими, даже унизительными: подбирать окурки, долгие часы лежать в крапиве или, того хуже, вести наблюдение за уборной. В общем, как и в жизни, заниматься «черной» работой.
Сказать что автор «Момента истины» прекрасно, во всех подробностях и деталях знает предмет изображения, что скрупулезная точность стала для него и важным фундаментальным эстетическим принципом, и ограничиться только этим нельзя. Потому что и доскональное знание бывает разного толка. Характерно, что роман Богомолова начисто лишен экзотики, которая всегда возникает при взгляде со стороны, при стремлении «умилять» и «поражать». Наверное, многое из рассказываемого автор видел своими глазами, может быть, и пережил сам, а у него острый проницательный взгляд и емкая, ничего не упускающая память. Но и это еще не все — вот что он рассказывал сам: «…Как бы хорошо я ни знал материал, я не надеюсь на память: любая деталь подвергается перекрестной проверке и только после этого является для меня достоверной».
Накопленных писателем таким образом знаний хватило, чтобы обеспечить ими трех главных героев романа — Алехина, Таманцева, Блинова, нет, четырех — помощника коменданта Аникушина тоже, и всех этих очень разных персонажей раскрыть изнутри. Они, хочу это снова подчеркнуть, ничем не напоминают те условные, плоские фигуры, которые обычно выступают в качестве персонажей детективных книг и нужны лишь для «обслуживания» сюжета, у Богомолова это живые, сложные люди, они одновременно и цельны, и противоречивы, у каждого из них свой характер, своя судьба, своя индивидуальная неповторимая речевая характеристика (а это для писателя всегда самая труднорешаемая художественная задача). Все они, попеременно, сменяя друг друга, но выдерживая общую нить, ведут повествование — каждый видит свое и по-своему.
Старший группы, капитан Алехин, — до войны научный работник, селекционер. Видимо, это занятие — опыт здесь продолжается годами — воспитало в нем выдержку, терпение, умение ждать. Он не торопится с выводами, всесторонне анализируя обстоятельства, тщательно взвешивая все «за» и «против», но зато его выводы обоснованны, он тверд в своих решениях. Впрочем, сила его не только в аналитическом анализе, но и в непоказном «тушинском» мужестве.
Старший лейтенант Таманцев, выросший в южном портовом городе, до конца так и не избавился от бесшабашных привычек широкой «морской души». Добрый и отзывчивый, он не в меру горяч и, как нынче говорят, «заводится с пол-оборота», но в деле, под пулями, ведет себя с поразительным самообладанием и хладнокровием (чего стоит одна деталь — только что закончилась кровавая стычка с вражескими агентами: «На ходу я успел посмотреть на часы — для рапорта. Зафиксировать момент начала сшибки я не имел возможности, но продолжалось все это не более трех-четырех минут»). У Таманцева редкие данные для «чистильщика», «волкодава»: мгновенная реакция, неистощимая выносливость, умение стрелять без промаха из любого положения. Но сам он все эти качества не очень высоко ставит, с трогательным восхищением и завистью относясь к тем, кто наделен «талантом делать правильные выводы из минимума данных».
Гвардии лейтенант Блинов — стажер в розыскной группе, но не потому Алехин и Таманцев называют его «Малыш», а потому, что ему всего девятнадцать, у него юношеский румянец и соответствующие привычки и вкусы. Однако этот «домашний» мальчик из интеллигентной московской семьи командовал на передовой взводом и ротой, и командовал хорошо, в контрразведку попал после контузии — он и сейчас еще заикается. Там, на передовой, он чувствовал себя равным с теми, кто воевал рядом, — не хуже, а может быть, и лучше многих других он был, — здесь же он страдает оттого, что стал, как ему кажется, «иждивенцем» Алехина и Таманцева. Он добросовестно занимается новым для него делом, но в глубине души все еще тоскует по своему полку, по тому положению, которое там в боях завоевал. Блинов — фигура, знакомая читателям по рассказам Богомолова. Но писатель в данном случае не повторяет себя — наверное, картина армейской жизни той поры без присутствия в том или ином виде девятнадцатилетнего ротного была бы ущербной.
И капитан Аникушин помощником коменданта стал тоже из-за ранения: медицинская комиссия признала его «ограниченно годным». Болезненное самолюбие, столь частый спутник таланта (а у Аникушина прекрасный голос — до войны в консерватории, где он учился, его считали восходящей звездой), постоянно осложняет ему жизнь. Из-за мальчишеского страха (все-таки он очень молод) уронить свое достоинство, он иногда держится надменно, свысока. Для него, воюющего с сорок первого (он ни за что не хотел остаться в ансамбле, вырвался в действующие части), не раз бывавшего в переделках, из которых выбираются чудом, служба в комендатуре — обидная, даже оскорбительная несправедливость судьбы. Но тем педантичнее — таков уж характер — он выполняет свои обязанности, тем агрессивнее реагирует на «снисходительное» отношение к его должности и правам. Выросший в семье кадрового военного, он под влиянием отца воспитал в себе привычку к крутым и бесповоротным решениям, которым он следует, невзирая ни на что, иногда вопреки всему и всем. Он поступает так, как подсказывает ему совесть, идет до конца и не боится расплачиваться за свои поступки.
Как и остальные герои романа, Аникушин не «иждивенец» — напротив, ему свойственно очень острое чувство ответственности. Он не из тех, кто ради собственного благополучия будет мириться с обстоятельствами, которые принять не может, никогда не станет бездумным равнодушным исполнителем.
Он принципиален и когда решает, что не будет принимать участие в оскорбительном и незаконном обыске офицеров-фронтовиков. В его глазах — глазах человека, не посвященного в суть данного дела, данной операции, эта проверка, этот обыск выглядит именно такими. В его памяти живут унизительные допросы, которым его подверг когда-то старательный «особист». Но не только это — видимо, как помощник коменданта он знает, что сотрудники этого ведомства, к которому его вдруг прикомандировали, задерживали людей и по необоснованным, ложным подозрениям, сообщение об этом мелькают в оперативных документах.
И вообще действительность предстает в романе Богомолова сложной, многослойной, трагически противоречивой. Видеть в книге поэтизацию деятельности одного из военных ведомств — контрразведки (а так получалось у некоторых рецензентов) нет никаких оснований. Я уже не говорю о том, что такого рода цель не может быть задачей для серьезной художественной литературы. Но к этому я еще вернусь.
Герои романа, глазами которых мы видим происходящее, замечают каждый свое и по-своему, никак не повторяя друг друга, даже когда рассказывают об одном и том же. Их видение, их представление о происходящем, все время дополняя, корректируя, опровергая друг друга, сливаясь вместе, делают изображение многомерным, стереоскопическим. Так ведет автор читателей к правде, к объективной картине действительности. Давая слово разным персонажам, попеременно раскрывая то, что они видят, думают, чувствуют, автор показывает, что в их восприятии верно, а где они вольно или невольно обманываются, как они выглядят в собственных глазах, а как — со стороны. Его точка зрения, нигде не выраженная впрямую, не сливается полностью с точкой зрения ни одного из героев — она шире и выше. Она все-таки из другого, более позднего времени, а его герои полностью — и поведением, и мыслями, и строем чувств, и речью — прикреплены к своему, нет здесь ни в чем ни малейшей модернизации.
Особо надо отметить речевые характеристики персонажей, отличающиеся острой выразительностью, экспрессией, безукоризненным историзмом — это действительно язык сорок четвертого года, это подлинный язык армейской среды, это, наконец, когда дело касается розыскников, их натуральный профессиональный жаргон. Но каждый раз это еще и сугубо индивидуальная манера данного человека разговаривать, вскрывающая особенности его психологии, его личности, его жизненный опыт. С каким филигранным вкусом и точностью сделана, например, речевая характеристика Таманцева, а ведь высказывания его так густо приперчены жаргоном, что, если бы не идеальное их соответствие своеобычной натуре этого персонажа, автор не смог бы избежать упреков в языковом натурализме или изыске. А с каким блеском (не боюсь употребить это слово, нечасто используемое в характеристиках критиков) написаны сцены допроса задержанных офицеров, где реальная картина происходящего сопровождается внутренним монологом, потоком сознания Алехина, старающегося разгадать, с кем имеет дело, кого они задержали — какой силы драматическое напряжение создается!
Наиболее явственно высота авторской точки зрения ощущается в тех главах романа, которые называются «Оперативные документы». В свое время в «Звезде» Эммануил Казакевич описал, как «ширились круги» вокруг переданного разведгруппой лейтенанта Травкина сообщения о сосредоточении в ближайших тылах противника танковой дивизии «Викинг»: «Из штаба армии данные эти внеочередным донесением пошли в штаб фронта, а оттуда — в Ставку Верховного Главнокомандования, в Москву».
Богомолов изображает противоположную ситуацию. Ставка берет под свой контроль дело, которое считает особо важным, — круги здесь тоже расширяются. Но идут не снизу вверх, а сверху вниз. Со все большей силой и скоростью начинают вращаться колеса и приводные ремни гигантской военной машины, все ее валы и шестеренки, — одна из особенностей этой машины в том и состоит, что в ней, если она как следует налажена, если она на ходу, нет и не может быть полностью автономных механизмов. С этого момента в романе поток оперативных документов нарастает лавинообразно — все должно быть предусмотрено до последних мелочей: и как кормить служебных собак, и что делать с эшелонами, которые везут «танковую технику россыпью», и в каких пропорциях можно заменять сахар на трофейный изюм и порядок заправки автомашин горючим…
Еще три дня назад было решительно отказано в просьбе «ликвидировать некомплект оперативного состава в розыскном отделе и отделении дешифровки Управления контрразведки фронта», приходилось обходиться собственными малыми силами, каждый человек был на счету, не было возможности устроить вторую страховочную засаду, не хватало того, недоставало этого, а после директивы Ставки, как по мановению волшебной палочки, «задействованы» сотни, даже тысячи людей самых разных воинских специальностей, множество всевозможной техники, теперь даже портсигар для опознания посылают специальным самолетом…
Правда, далеко не все, что делается, диктуется необходимостью, а кое-что может и вовсе помешать делу (не случайно розыскники изо всех сил сопротивляются проведению войсковой операции для сплошного прочесывания районов работы вражеской радиостанции, — сопротивляются, хотя это грозит им нешуточными служебными неприятностями, даже довольно расхожей в ту пору мерой — «судом специального трибунала»; они знают, что при такой операции обычно не удается взять радистов живыми, а значит, выкорчевать вражескую агентуру). Но движущая сила первоначального толчка — директивы Ставки — так велика, что военная машина не может действовать иначе, работать на малых оборотах. Впрочем, она в подобных случаях, вероятно, вообще может работать только так: ее мощь заключается в максимальной концентрации общих усилий в одном направлении, на одну цель.
Другое дело, что цель эта должна быть определена правильно. Нет, не стоит преуменьшать ту опасность те тяжелые последствия для сражающейся армии, которые влечет за собой деятельность в нашем фронтовом тылу опытных разведчиков противника, добывающих каким-то образом сведения чрезвычайной секретности. Тревога по этому поводу в Ставке понятна, обоснованны и многие из предпринимаемых крутых мер. Но из-за того, что укус ядовитой змеи опасен, вряд ли целесообразно устраивать на нее облаву, как на волков, — змей-то ловят по-другому… И то, что в романе все-таки розыскники, а не кто другой ликвидируют вражескую группу, — это не игра счастливого случая, а закономерный исход дела: они умеют охотиться на змей…
Однако все-таки возникают вопросы: зачем понадобилась автору вся эта история с войсковой операцией, для чего он приводит нас в кабинет Сталина (ведь «дела, взятые на контроль Ставкой, бывают не каждый месяц и не каждое полугодие», «такой концентрации усилий по розыску, такого массирования сил и средств Алехин за три года работы в контрразведке не видел, да и слышать ни о чем подобном ему не приходилось», а для писателя важна и интересна вовсе не исключительность ситуации сама по себе), к чему в романе этот поток оперативных документов?
Неужели войсковая операция, нависающая дамокловым мечом, контроль Ставки — все это нужно лишь для того, чтобы усилить сюжетное напряжение? Но все это наверняка можно было сделать менее громоздким образом. И хотя не все оперативные документы нужны для движения сюжета, однако у нас нет сомнений, что они на месте в романе, что они там необходимы, что они не «пришиты», а органическая, неотъемлемая часть художественного мира произведения. В чем же их функция? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно точно определить «внутренний закон» и пафос романа «Момент истины». В книге не просто раскрывается работа военной контрразведки, здесь широко и по-новому показаны война и армия. По-новому, потому что взят неожиданный для нас ракурс, выбрана, как сказали бы кинематографисты, прежде не бывавшая в ходу «точка съемки». В сущности, книга Богомолова предлагает нам свою панораму войны. И если мы поймем это, постигнем «внутренний закон» произведения, отрешившись от глубоко въевшегося стремления судить о вещи, выдвигая во главу угла интригу, станет ясно и в чем смысл многих ее фигур и эпизодов, находящихся как будто бы на далекой периферии сюжета, и зачем автору в таком количестве понадобились документы.
Кажется, больше всего толков у читателей вызвали эти «оперативные документы». Сумятица этих странных, большей частью эстетически вульгарных суждений возникла, к сожалению, не без участия некоторых критиков, чего только не наговоривших по поводу «подлинных и „выдуманных“ документов в романе Богомолова, хотя им по роду занятий вроде бы не пристало ошибаться в решении столь элементарных эстетических „задачек“. Правда, для этого надо было верно определить задачу автора и пафос его книги.
Вот что говорил о романе Богомолова Константин Симонов: „Книга эта — роман в чистом виде. И судить ее можно только по законам художественной литературы. Как здесь следует относиться к документам? Воссозданные автором с ювелирным мастерством, с великолепным знанием дела эти документы введены в повествование таким образом, что читателя буквально оглушает атмосфера подлинности, непререкаемой достоверности. Благодаря этому и возникли совершенно, на мой взгляд, неоправданные применительно к роману споры и толки: подлинные или неподлинные это документы? Это не играет никакой роли. Важен достигнутый автором эффект. Для меня они свидетельство блестящего литературного мастерства писателя, в этом плане я их воспринимаю и оцениваю…“ Не только писатель, но и внимательные читатели все это поняли, разобрались в книге. Когда журналист стал допытываться у маршала Баграмяна, командовавшего 1-м Прибалтийским фронтом, где разворачивались события романа „Момент истины“: „И что же, на самом деле имел место эпизод, о котором рассказывает писатель?“ — маршал ответил ему: „Увы, не помню“… Главное ведь не в этом, а в том, что в целом книга верно — и по содержанию, и по трактовке — описывает события той поры. Но это произведение художественное. И оно, естественно, несет в себе какие-то элементы вымысла и отклонения от того, что происходило на самом деле». Присоединяясь к высказываниям Симонова и Баграмяна, я могу не вести полемику по этому поводу…
Роман «Момент истины» — произведение сложной композиционной и стилевой структуры, но разные жизненные и стилевые пласты, «многоголосие» повествователей сведены здесь воедино, и такое органическое соединение их всегда дает больше, чем простую арифметическую сумму. Многое в романе вообще невозможно понять и оценить, не уловив этих постоянно переплетающихся внутренних связей и противостояний, взаимопритяжений и взаимоотталкиваний. Все вместе и делает рисуемую картину действительности по-настоящему объективной.
Что это значит?
В своем последнем обзоре русской литературы Белинский писал о двух типах литературного дарования. Один их них критик видел в писателе, для которого «важен не предмет, а смысл предмета», ему неведомо «наслаждение представить верно явление действительности для того, чтобы верно представить его», главная его сила «не в творчестве, не в художественности, а в мысли, глубоко прочувствованной, вполне осознанной и развитой». Другой тип Белинский называет «чисто художественным» — этот писатель «обладает способностью быстро постигать все формы жизни, переноситься во всякий характер, во всякую личность», он рисует фигуры, сцены, характеры с поразительной верностью действительности, предоставляя читателям «говорить и судить и извлекать из них нравственные следствия».
Конечно, всякая такого рода «типология» условна, конечно, большая часть произведений искусства всегда и всюду составляют «промежуточные» образования. И все-таки, если даже с этой оговоркой ее принять, можно совершенно определено сказать, что роман «Момент истины» написан художником второго типа, главная сила которого в верности действительности, в точности воссозданных характеров и обстоятельств, в художественности. Читателю в данном случае самостоятельно приходится извлекать «нравственные следствия», и многое тут зависит от его подготовленности, от того какая у него за плечами жизненная и эстетическая «школа». Роман Богомолова часто читали залпом, взахлеб, стремясь побыстрее добраться до финала, а между тем это книга, требующая иного, очень вдумчивого чтения, пристального внимания к подробностям, деталям, оттенкам, к не выходящим на поверхность и не бросающимся в глаза связям и противостояниям. Прочитавшим ее лишь на «уровне» сюжета, не освоившим ее сложный и разветвленный художественный мир, невозможно добраться до тех «нравственных следствий», на которые он наталкивает внимательных читателей…
Окопная правда (О ржевской прозе Вячеслава Кондратьева)
В июле 1943 года Илья Эренбург писал: «Замечательные книги о войне напишут не соглядатаи, а участники, у которых теперь подчас нет возможности написать письмо родным… Зародыш классического романа уже живет в голове фронтовика, который теперь думает куда меньше о литературных формах, нежели о характере вражеской обороны».
Я снова привожу эти слова Эренбурга, чтобы сказать, что так оно потом и вышло. Самые пронзительные, самые правдивые книги о войне написали ее участники — солдаты и офицеры переднего края, «окопники». Долгие годы у нас не больно жаловали такие книги, а это был большой массив самой высокой пробы литературы, который уничижительно называли «лейтенантской», потому что требовалась «генеральская». С каким яростным энтузиазмом науськанные высоким пуровским начальством литературные стервятники клевали эту правду «окопников» — это, мол, «очернительство», «дегероизация», да и что вообще мог видеть солдат, взводный и ротный из траншеи боевого охранения, кому нужна такая приземленная правда? А это была правда тех, кто на своих плечах вынес главную тяжесть неслыханно жестокой и казавшейся бесконечной войны, заплатив за победу тысячами тысяч жизней. «Окопная правда» — это народная память о пережитом на смертельных рубежах, где между нами и врагом была лишь насквозь простреливаемая ничейная земля. Трудно эта правда пробивалась на печатные страницы. Отголоски этих когда-то руководящих суждений порой слышны и ныне.
Жизнь Вячеслава Кондратьева в литературе оказалась недолгой — меньше пятнадцати лет, а его произведения (в сущности это всего один, хотя и солидный по объему том) занимают видное место в первом ряду лучших книг о великой войне. Их оценили по достоинству самые авторитетные «эксперты» — писатели, сами прошедшие войну и написавшие о ней книги, которые правдой своей заслужили признание читателей. Это Константин Симонов, прочитавший повести и рассказы Кондратьева в рукописи и оценивший их достоинства. Это Виктор Некрасов, выдворенный в эмиграцию, — уже в далеком от нас Париже ему попался на глаза кондратьевский «Сашка». Он сразу же в одной из своих статей отреагировал: «Один Вячеслав Кондратьев всколыхнул меня своим „Сашкой“, опубликованным, кстати, через сорок лет после того, как автор кончил воевать». Прочитав дошедший до него «Отпуск по ранению» и другие произведения Кондратьева, Некрасов написал ему большое письмо — благодарил: «Многое ты во мне расшевелил. И солдатское тебе спасибо за это». И Даниил Гранин в большом ряду произведений о войне выделил «Сашку» как редкий пример книги, где наш солдат проявляет «симпатию, человечность к немецкому солдату». Четверть века назад (это было до литературного дебюта Вячеслава Кондратьева) Василь Быков, размышляя о состоянии и перспективах литературы о Великой Отечественной войне, высказал следующее, представлявшееся мне очень важным соображение: «…Я, немного повоевавший в пехоте и испытавший часть ее каждодневных мук, как мне думается, постигший смысл ее большой крови, никогда не перестану считать ее роль в этой войне ни с чем не сравнимой ролью. Ни один род войск не в состоянии сравниться с ней в ее циклопических усилиях и ею принесенных жертвах. Видели ли вы братские кладбища, густо разбросанные на бывших полях сражений от Сталинграда до Эльбы, вчитывались когда-нибудь в бесконечные столбцы имен павших, в огромном большинстве юношей 1920–1925 годов рождения? Это — пехота. Я не знаю ни одного солдата или младшего офицера — пехотинца, который мог бы сказать ныне, что прошел в пехоте весь ее боевой путь. Для бойца стрелкового батальона это было немыслимо. Вот почему мне думается, что самые большие возможности военной темы до сих пор молчаливо хранит в своем прошлом пехота».
Я вспомнил об этих с таким волнением и печалью сказанных когда-то словах Быкова, когда прочитал в февральской книжке журнала «Дружба народов» за 1979 год повесть «Сашка». Вспомнил, потому что повесть эта возникла на том направлении нашей литературы о войне, которое представлялось Быкову особенно важным и где не было больших удач. Не будем говорить, как сказано Быковым, о гениях, с этой меркой к текущему литературному процессу не подступишься, оставим ее для классиков, для «небожителей». Впрочем, думаю, Быков имел в виду и иное — то, что поближе к нашим земным делам и масштабам в литературе, рассчитывать на пополнение писателям военного поколения уже не приходится. Все сроки вышли — вот что он хотел сказать… Автором поразившей меня повести был Вячеслав Кондратьев — имя в литературе новое, до этого неизвестное. Повесть была посвящена рядовому пехотинцу, и автор ее — из пехоты.
О его фронтовой судьбе рассказывал Константин Симонов, чьими стараниями и с чьим добрым напутствием публиковалась в журнале повесть:
«…Несколько слов о военной биографии писателя. С первого курса вуза — в 1939 году — в армию, в железнодорожные войска, на Дальний Восток. В декабре 41-го — один из пятидесяти младших командиров, отправленных из полка на фронт после подачи соответствующих рапортов.
В составе стрелковой бригады на переломе от зимы к весне 1942 года — подо Ржев, а если точнее, чуть северо-западнее его. Помкомвзвода, комвзвода, временно, за убылью командного состава, принял роту; после пополнения — снова комвзвода. Все это за первую неделю. Потом новые бои, такие же тягостные, неудачные, словом, те же самые, которые с перехваченным горечью горлом вспоминают фронтовики, читая или слушая „Я убит подо Ржевом“ Твардовского. Убит — эта чаша миновала автора „Сашки“. На его долю досталось ранение и медаль „За отвагу“ — за отвагу там, подо Ржевом…»
Вот что о Кондратьеве рассказывал в своем предисловии Константин Симонов, хотя и без этого, из самой повести ясно — так написать можно только о пережитом…
Пехота не только несла в боях самые большие потери, о которых говорил Быков, ей и трудно выносимых повседневных тягот доставалось сверх всякой меры. Мало кто сейчас имеет об этом более или менее близкое к реальности представление.
Кондратьев без всяких смягчений сумел рассказать о горемычной пехоте, больше чем на год застрявшей в непросыхающих болотах, полегшей там без счета, до сих пор, столько десятилетий прошло, всех погибших не отыскали, не похоронили.
И вот еще что, о чем нельзя было писать тогда, когда публиковались повести и рассказы Кондратьева, — главлит не дремал, помалкивают и сейчас военные историки. Кондратьев в своей ржевской прозе изнутри показал то, что в сводках Совинформбюро военной поры небрежно-успокоительно называлось «боями местного значения», а в этих боях без пользы и смысла было угроблено людей, наверное, не меньше, чем в самых крупных и знаменитых сражениях. Кто из фронтовиков не помнит появляющегося в редкие дни затишья пылающего гневом поверяющего из какого-нибудь высокого штаба (на взводном и ротном уровне любой штаб воспринимался как высокий) с ничего хорошего не сулящей фразой: «Что у вас тут — война кончилась? Вы что мир с немцами заключили?» После чего пехоту для демонстрации требуемой начальством боевой активности без артподготовки, да и вообще без всякой подготовки бросали а атаку — отбить какую-то высотку или остатки деревеньки, хотя никакого продолжения этой атаки не планировалось. И даже если удавалось захватить высоту или ворваться туда, где когда-то было село, — чаще не удавалось, — непомерной ценой было за это плачено. Кажется, никому в нашей литературе не удалось так, как Кондратьеву, показать во всей своей страшной реальности пронизывавший все структуры армейского механизма сталинский принцип: любой ценой, людей не жалеть, потери в расчет не принимать.
Да, литературный дебют Кондратьева был явлением неожиданным, совершенно уже нежданным. В столь солидном возрасте (через год после публикации «Сашки» Кондратьев отпраздновал свое шестидесятилетие, у него была серьезная профессия художника-оформителя, которая много лет кормила его), если и берутся за перо, то разве что для того, чтобы писать мемуары. И тут, мне кажется, и нужно искать главное объяснение этого все-таки из ряда вон выходящего случая. В том-то и дело, что своего рода «мемуарность» (ставлю здесь кавычки, чтобы указать, что это понятие употребляется в более широком, чем обычно, смысле) — существенная, можно сказать, родовая особенность военной прозы писателей фронтового поколения. Эта проза не всегда автобиографичная в принятом истолковании этого понятия, но она насквозь пропитана авторскими воспоминаниями о фронтовой юности. Всех их буквально выталкивали в литературу воспоминания о пережитом во время войны, и то, что они писали о фронтовой юности, особенно первые их вещи, были одновременно и солдатскими, и лейтенантскими «мемуарами», которые в самом деле никто из них никогда бы не отважился писать. Кондратьев в этом смысле исключения не составляет — вот разве что очень уж много времени прошло после войны. Каков же должен был быть заряд пережитого, чтобы сработать через столько лет!
В своих заметках о том, как создавался «Сашка», Кондратьев рассказывал: «Я начал жить какой-то странной двойной жизнью: одной — в реальности. Другой — в прошлом, в войне. Ночами приходили ко мне ребята моего взвода, крутили мы самокрутки, поглядывали на небо, на котором висел „костыль“. Гадали, прилетят ли после него самолеты на бомбежку, а я просыпался только тогда, когда черная точка, отделившаяся от фюзеляжа, летела прямо на меня, все увеличиваясь в размерах, и я с безнадежностью думал: это моя бомба… Начал я разыскивать тогда своих ржевских однополчан — мне дозарезу нужен был кто-нибудь из них, — но никого не нашел, и пала мысль, что, может, только я один и уцелел, а раз так, то тем более должен я рассказать обо всем. В общем, схватила меня война за горло и не отпускала. И наступил момент, когда я уже просто не мог не начать писать».
О силе этого чувства, об одержимости — иное здесь слово не подходит — автора, для которого то, что он стал писать о войне, было не только литературной задачей, а смыслом и оправданием его жизни, свидетельствует хотя бы такой факт. Не напечатав еще ни одной строки из написанного, не имея никаких гарантий, что какое-нибудь из его произведений увидит свет («Сашку», боясь обвинений в зловредной «окопной правде», долго мурыжили в разных редакциях), — а надо ли говорить, как этот стимул важен для художника, — Кондратьев писал, как тогда говорили, «в стол» повесть за повестью, рассказ за рассказом. Только страстная вера в то, что он обязан рассказать о своей войне, о товарищах, которые сложили голову в затяжных, стоивших нам больших жертв боях подо Ржевом, только такая неостывающая, ни с чем не считающаяся вера могла питать это упорство.
Но что значит своя война? Константин Симонов, представляя читателям «Сашку», писал: «Это история человека, оказавшегося в самое трудное время в самом трудном месте и на самой трудной должности — солдатской». Не знаю, годится ли в первых двух случаях превосходная степень: легкой войны вообще не было, и одному богу известно, где она была самой трудной — подо Ржевом или в Сталинграде, в Севастополе или на Невской Дубровке? Но что подо Ржевом в силу разных обстоятельств — и объективных и субъективных, которые правдиво отражены в прозе Кондратьева (Симонов в предисловии подтверждал это выписками из воспоминаний известных наших военачальников — маршалов Г. К. Жукова и К. К. Рокоссовского, генерала армии Г. И. Хетагурова), — было невыносимо тяжко, об этом спора нет…
И когда я говорю, что Кондратьева, как и всех писателей фронтового поколения, привело в литературу страстное желание рассказать о своей войне, я имею в виду не только место (непросыхающую ржевскую топь — непроезжие дороги, воду в землянках и окопах) и время (выдохшееся наступление, напоминающее то, о котором в давнем, военных лет стихотворении Симонов писал: «Есть в неудачном наступлении несчастный час, когда оно уже остановилось, но войска приведены в движенье. Еще не отменен приказ, и он с жестоким постоянством в непроходимое пространство, как маятник, толкает нас».). Литература наша не обошла этот не просто дающийся художнику материал — эпизоды трагической ржевской эпопеи были воссозданы в повести «Февраль — кривые дороги» Еленой Ржевской, воевавшей там в качестве переводчицы разведотдела, в упоминавшемся уже замечательном стихотворении Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». Ржев возник в этом стихотворении не случайно — рассказывая через четверть века после войны историю этого стихотворения, поэт связывал его рождение с тем тягостным чувством, которое у него возникло во время пребывания подо Ржевом осенью 1942 года: «Впечатления этой поездки были за всю войну из самых удручающих и горьких до физической боли в сердце. Бои шли тяжелые, потери были очень большие, боеприпасов было в обрез — их подвозили вьючными лошадьми. Вернувшись в редакцию своей фронтовой „Красноармейской правды“, которая располагалась тогда в Москве, в помещении редакции „Гудка“, я ничего не смог дать для газетной страницы, заполнив лишь несколько страничек дневника невеселыми записями».
Так что дело не только во времени и месте действия — в «Сашке» все происходящее мы видим глазами человека, находившегося на «передке», действительно «в самой трудной должности — солдатской». Кондратьев изнутри раскрывает, какую тяжесть нес на своих плечах этот рядовой пехотинец, которому «каждый отделенный — начальник», для которого КП батальона, находящийся в каких-нибудь двух километрах — рукой подать, — был уже тылом. И вроде не очень много он может со своим автоматом (а то и с «трехлинейкой») — против него и пулеметы, и артиллерия, и танки, и авиация, а все-таки именно он и его товарищи — решающая сила армии, и только о той земле мы говорим, что она в наших руках, которую удерживают или отбили они, пехотинцы, — вот им и достается. А уж в боях подо Ржевом досталось им тяжелого до слез. На что уж Сашка не избалован жизнью: с малых лет приучен к нелегкому крестьянскому труду, привык к невзгодам («…был в детстве и недоед, и в тридцатых и голод настоящий испытал»), но и ему невмоготу — все разом на них навалилось здесь, из последних сил он держится. И тяжко не только то, что которую неделю ходят они на виду у смерти, каждую минуту она подстерегает — из первоначальных ста пятидесяти тринадцать человек осталось в их «битой-перебитой» роте, да это еще после того, как пополняли, наскребая кого только можно в полковых и дивизионных тылах. Хотя надежда на лучшее не оставляла Сашку, он трезво понимал, что ждет пехотинца: «Передок, ранение, госпиталь, маршевая рота и опять передок. Это если будет везти. А сколько может везти? Ну раз, как сейчас, ну два… Но не вечно же? А война впереди долгая».
Нет, устал так Сашка не от одной лишь постоянно подстерегающей смертельной опасности — не меньше оттого, что все время на фронте впроголодь что во всем нехватка (не только в харчах и куреве, но и в боеприпасах), что негде обогреться, просушиться, а о бане и мечтать невозможно — все завшивели, что и на переднем крае и и в армейском тылу явно недостает порядка и все их усилия и жертвы по-настоящему не окупаются. От этого на душе у Сашки камень, а чтобы давил поменьше, старается он убедить себя, что «по-другому, видно, нельзя было дело повернуть, какую-то задачу важную они выполняли и, возможно, выполнили». Но все эти невеселые обстоятельства затяжных и безрезультатных боев подо Ржевом (а надо упомянуть еще о скудной жизни в разоренных войной прифронтовых деревнях, которую наблюдает добирающийся до госпиталя Сашка и которая описана Кондратьевым без какой-либо смягчающей ретуши) в повести важны и интересны не сами по себе — перед нами художественное произведение, не документальный очерк, — а тем, как в них проявляется характер главного героя, обнаруживая скрытые, столь явственно и определенно не проявляющиеся в в обычное время, в ординарных мирных условиях черты.
Характер Сашки — главная удача Кондратьева. В жизни каждый из нас, наверное, сталкивался с людьми, чем-то его напоминающими, и если мы не сумели понять и оценить этот характер, то потому, что он еще не был открыт и объяснен искусством — не зря Твардовский говорил, что всякая действительность нуждается в подтверждении и закреплении средствами художественного выражения, а «до того, как она явится отраженной в образах искусства, она как бы еще не совсем полна».
Не так часто даже очень талантливому писателю случается обнаружить в действительности новый характер. Кондратьеву это удалось, его Сашка — открытие. И пусть не обманывают простота и ясность этого характера — он таит в себе и глубину, и сложность, и значительность, раньше литературой не обнаруженные, не подтвержденные. И имеющаяся у Сашки литературная «родня» (скажем, толстовские солдаты) пусть тоже не вводят нас в заблуждение: перед нами явление, которое традицией не покрывается и не исчерпывается. Кондратьев открывает нам характер человека из народа, сформированный своим временем и воплотивший черты своего поколения — добавлю для точности и ясности: лучшие черты (этим, кстати, объясняется и та близость и взаимопонимание, которые так естественно и легко возникают у Сашки — деревенского парня и его ротного, до войны студента, у Сашки и лейтенанта Володи, выросшего в интеллигентной московской семье, — многое в их нравственных представлениях совпадает.
Сложилась устойчивая, но вовсе не бесспорная традиция изображения коренного народного характера как воплощения органического, «нутряного» нравственного чувства, чуждого какой-либо рефлексии и анализа. Кондратьев ее не приемлет. Его Сашка — человек не только с обостренным нравственным чувством, но и с твердыми осознанными убеждениями. И прежде всего он человек размышляющий, проницательно судящий и о происходящем вблизи него, и об общем положении дел. «На все, что тут (на фронте. — Л. Л.) делалось и делается, было у него свое суждение. Видел он — не слепой же — промашки начальства, и большого и малого. Замечал и у ротного своего, к которому всей душой, и ошибки, и не догадки…» Раздраженный упрямством Сашки, добивающегося, невзирая ни на что, справедливости, его неуступчивостью, ординарец комбата ему «врезает»: «Кто мы с тобой? Рядовые! Наше дело телячье… Приказали — исполнил! А ты…» А Сашка так — «наше дело телячье» — поступать не хочет и не может. И то, что многое о жизни, о людях, о войне продумано Сашкой, и то, что поступает он не безотчетно и импульсивно, а взвешенно и с пониманием, и то, что чувствует он себя, как сказано в «Василии Теркине», «в ответе за Россию, за народ и за все на свете», не раз обнаруживается в повествовании.
Пытливый ум и простодушие, жизнестойкость и деятельная доброта, скромность и чувство собственного достоинства — все это соединилось, сплавилось в цельном характере Сашки. Тонкий и проникновенный психологический анализ, свойственный Кондратьеву, вскрывает, что и первое движение души у героя, и привычные мысли, и обдуманные поступки всегда направлены в одну сторону: сначала о других, потом о себе. Заметив, что у ротного никудышные валенки, Сашка решает добыть ему целые — снять с убитого немца, лежащего на нейтральной полосе. Затея опасная, он это отлично понимает: «Для себя ни за что бы не полез. Пропади пропадом эти валенки. Но ротного жалко. Его пимы насквозь водой пропитались…» Ранило Сашку: ему бы сразу в тыл, в медсанбат, но он возвращается к себе в роту (дважды пересекая открытое, хорошо пристрелянное немцами место, где проще простого получить еще одну, уже роковую, пулю): хочет оставить ребятам свой ППШ, у них негусто с автоматами, и попрощаться — неловко ему, он хоть и раненый, но живым отсюда выбирается, а кто знает, что ждет их… «Психанул» его спутник лейтенант в госпитале, запустив тарелкой в майора, по-хамски разговаривавшего с ранеными, — Сашка вину на себя принял, рассудив, что офицеру эта выходка так просто с рук не сойдет, может и под трибунал «загреметь», а его, рядового, скорее всего не накажут строго… И таков герой повести всюду и во всем — в большом и малом, во взаимоотношениях со случайными спутниками и девушкой, в которую влюблен. На передовой в минуты опасности и в прифронтовой деревне, где остались одни бабы…
Говоря о значении Пушкина, Достоевский обращал внимание на то, что он «первый из писателей русских создал целый ряд положительно прекрасных русских типов, найдя их в народе русском», и они не выдумка, не плод фантазии писателя, «главная красота этих типов в их правде, правде бесспорной и осязательной, так что отрицать их уже нельзя, они стоят, как изваянные». Я воспользовался этой формулой Достоевского, чтобы подчеркнуть, что автор «Сашки» не выдумал в соответствии с идеальными представлениями и литературными канонами, а нашел, отыскал в народе, сражавшемся в Отечественную войну, современный положительный прекрасный тип и правдиво изобразил его.
В «Сашке» автор выбрал для повествования одну из разновидностей сказа. Этот выбор точно соответствовал поставленной им перед собой художественной задаче — литературоведы считают, что поэтика сказа служит «выявлению народного характера, предоставляя народной массе возможность заговорить от своего имени». Именно в этом качестве сказовая форма успешно используется в «Сашке».
Повесть «Сашка» была сразу же замечена и оценена по достоинству самыми строгими в данном случае судьями — писателями, хорошо знающими войну. Я уже назвал некоторых, можно без труда расширить этот ряд, но, кажется мне, нужды в этом нет — все и так ясно. «Сашка», сразу же создавший Кондратьеву имя, несомненно, лучшая его вещь. Но она не стоит особняком, ее первенство и превосходство не затмевают достоинств других его произведений. Некоторые из них — «Селижаровский тракт», «Овсянниковский овраг», «Борькины пути-дороги», «Отпуск по ранению» — можно поставить вслед за «Сашкой». В сущности Кондратьев создал свой художественный мир. Все его вещи как бы прорастают друг в друга. Каждая из них вполне самостоятельна, но между ними существуют и внутренние, скрытые и вполне очевидные сюжетные связи: один и тот же бой возникает в них то как происходящее на наших глазах, то в воспоминаниях разных персонажей, некоторые герои переходят из одного произведения в другое, а те, что на передовой не встречались, не знали тогда друг друга, оказывается, служили под началом одного и того же старшего командира, после ранения попадали в один и тот же санвзвод или санроту, один и тот же подбитый танк служил им на поле боя ориентиром. Все произведения Кондратьева объединяет общий замысел, в сущности, они части обширной и цельной художественной структуры, и чем раньше и отчетливее читатель это ощутит, тем больше ему откроется в ржевской прозе.
Художественное пространство у Кондратьева невелико и кажется замкнутым. Редеющий в безуспешных атаках и от постоянных — как по расписанию — немецких обстрелов батальон, разные его роты; три расположенные рядом деревеньки — Паново, Усово, Овсянниково, в которых прочно закрепились немцы; овраг, маленькие рощицы и поле, за которым вражеская оборона (один из героев через двадцать лет после войны измерит его — всего тысяча двести шагов отделяла от немцев), — поле, сплошь простреливаемое пулеметным и минометным огнем…
Правда, рассказы и повести Кондратьева переносят нас и на Дальний Восток — там служили срочную в армии многие его герои, там застала их война; и в напряженно-суровую, но спокойную Москву — сюда, в родной дом, получив отпуск по ранению, приезжает из-подо Ржева один из кондратьевских героев; и в сретенские переулки сорок пятого года, попасть сюда так мечтал он на фронте, а вот, что тут поделаешь, прогулки эти оказались не такими, как представлялось; и в Москву наших дней с ее сутолокой, шумным многолюдием, напряженным темпом жизни, властно подчиняющим себе человека, — только поспевай…
И когда герой рассказа «День Победы в Чернове», побывав здесь снова через много лет, говорит: «…Никакие романы, повести и стихи не расскажут о войне столько, сколько может рассказать этот небольшой клочок земли бывшей передовой…», — он высказывает мысль, которая многое определяет в художественном мире Кондратьева, где все стянуто, повернуто к этому страшному полю: и Москва военная и послевоенная; и Дальний Восток, где герой проходит обычную, уставом предусмотренную боевую подготовку, не ведая, что бои им предстоят никаким уставами не предусмотренные; и жуткий ржевский лагерь, где немцы измываются над нашими пленными; и мыкающие горе, обезлюдевшие — остались одни бабы, старики да детишки — деревни у нас в тылу, за неширокой здесь Волгой…
У Кондратьева была превосходная память, он хорошо помнил и то, что было до войны, и фронт, и послевоенную пору. Его памяти ржевская проза обязана бесчисленным количеством невыдуманных подробностей, многие из которых забыты даже теми, кто пережил нечто похожее. Реалии у него безупречно точны — он ни за что не спутает, скажем, деталей зимнего и весеннего быта на передовой — тогда между ними разница была огромная: это теперь, когда много лет прошло, многое уже сливается, слилось в общую картину.
«Чтобы не нарушить правды того времени, — признавался Кондратьев, — мне пришлось, и не без труда, отринуть все свои „знания“ (последующего хода войны и послевоенного времени. — Л. Л.), позабыть о них, а знать только то, что знал мой герой в том самом сорок втором году». Впрочем, здесь Кондратьев не совсем прав. Конечно, писатель, если он хочет быть верен правде, передавая, что видели, чувствовали, думали его герои, не должен делиться с ними тем, что узнал и понял лишь после войны, — они не могут, не должны ни на шаг опережать время, в котором живут, не могут быть проницательнее и дальновиднее, чем были тогда. Но сам он, как бы ни старался, не сумеет «забыть» все, что было «потом». Да и не требуется это: как без этих знаний докопаться до той правды, которая участником событий прошлых лет еще не была видна, но без которой сегодня невозможно рассказать правду о том времени? Скажется, неизбежно скажется умудренный взгляд автора на пережитое в отборе материала, в отношении повествователя к изображаемому, в его интонации.
В одном из писем Виктору Астафьеву Кондратьев рассказывал, как у него на многое открылись глаза, словно бы пелена спала (а до того был истово «верующим» — «Я на Дальнем Востоке, будучи отделенным, весь год перед войной трубил ребятам наши „истины“, да так успешно, что и сам уверился. В первом же бою увидел такое небрежение преступное человеческими жизнями, что встали сразу предвоенные годы — и коллективизация, которую видел воочию, и „черные вороны“ у подъездов, и вышки по всей Транссибирской магистрали, и лагеря в Приморье, куда довелось заходить по служебной надобности (мы принимали железную дорогу Ворошилов — Посьет у заключенных), ну и понял, что раз не жалели людей перед войной, то уж в войну сам бог велел…»
Разве не отразилось это наступившее у Кондратьева в дни войны прозрение в ржевской прозе? Конечно, отразилось, не могло не отразиться…
Ничем овсянниковское поле не примечательно: поле как поле, наверное, у каждой деревни в тех краях можно отыскать похожее. Но для героев Кондратьева все главное в их жизни свершится здесь. И многим, очень многим из них не суждено его перейти, останутся они тут навсегда. А тем, кому повезет, кто вернется отсюда живым, запомнится оно на всю жизнь во всех подробностях — каждая ложбинка, каждый пригорок, каждая тропка в прилегающих к нему рощицах. Все было тут не исхожено даже, а исползано — не очень-то походишь под губительным огнем. Для тех, кто здесь воевал, даже самое малое было исполнено немалого, жизненно важного значения: и шалаши, служившие зимой хоть каким-то укрытием от ледяного ветра, и мелкие окопчики — поглубже вырыть сил не хватало, — весной наполовину залитые талой водой. И последняя щепоть махорки, смешанная с хлебными крошками, и взрыватели от ручных гранат, которые принято было носить в левом кармане гимнастерки — если сюда угодит пуля или осколок мины, неважно, что они взорвутся, все равно хана, и валенки, которые никак не высушить, и полкотелка жидкой пшенной каши на двоих, и вдруг замедлявшееся, останавливавшееся во время атаки время — «полчаса только, а вроде бы жизнь целая прошла». Все это и составляло дни и ночи на передовой, вот из чего складывалась там жизнь солдата, чем была наполнена. Даже смерть, то и дело настигавшая кого-то рядом, была здесь заурядно привычной, хотя и не угасала надежда, что каким-то чудом пронесет, но умом понимал, живым и не искалеченным вряд ли отсюда выбраться. Теперь из дали мирных времен тем, кто этого не видел, не испытал, может показаться, что какие-то подробности у Кондратьева не так уж существенны — можно и без них обойтись. Ну что примечательного в дате, которой помечена пачка полученного солдатом концентрата? Все-таки не пропустите ее — она, как и упоминающиеся мимоходом лепешки из перезимовавшей в земле гнилой раскисшей морковки, много говорят о полуголодном времени. Знатоков уставов и наставлений может, конечно, возмутить, что у Кондратьева окопы выкопаны кое-как, а не в полный профиль, как полагается. У кого-то могут вызвать шок кровавые подробности — вот как снимают часового: «Ножом в спину… Рукой ему рот зажал, а через пальцы — крик. И кровь со спины на меня! Весь ватник забрызган…» Но все это правда, так было. Можно ли, отвернувшись от грязи, крови, страданий, почистив, подправив, высветлив, рассказать, как доставалось окопнику, чего он натерпелся на передке? Можно ли оценить меру мужества солдата, силу его веры в победу? Да и вообще понять по-настоящему, чего стоила народу эта война и победа?
Клочок истерзанной войной земли, горстка солдат — самых обыкновенных, не решающее, вошедшее в историю сражение — кровавая обыденность боев местного значения… Но чем дальше читаешь ржевскую прозу Кондратьева, тем явственнее ощущаешь, что повести и рассказы, взаимосвязанные, дополняющие и углубляющие друг друга, складываются в единую эпическую картину народной войны.
Правда, мы привыкли к тому, что эпичность требует обширной панорамы жизни, внушительного размаха действия, отражения важнейших событий эпохи, множества персонажей, среди которых и крупные исторические фигуры, и т. п. Все это закреплено как канон в читательском сознании классической традицией, главным образом гениальной толстовской эпопеей.
У Кондратьева ничего похожего нет. Но ведь суть эпического в полноте изображения народной жизни — характеров, чаяний, испытаний, быта, а достигается эта цель может самыми разными способами, разными средствами. Классикам нельзя подражать, у них следует учиться. Искусство по самой своей природе не терпит заемных форм, копирования, повторений — жизненный материал подсказывает формы его претворения. А надо ли указывать, сколь глубоки различия между Великой Отечественной войной и войной 1812 года, запечатленной в толстовской эпопее?
Старательное подражание высоким образцам (часто почти что под копирку) не только не гарантирует от поражений, неудач — приводит к ним. Многие панорамные романы 50-х годов, обладая вроде бы всеми внешними приметами эпичности, за что к ним благоволила нормативная официозная критика, но широта оборачивалась в них поверхностью, персонажи, выступавшие лишь в роли представителей кого-то или чего-то, были лишены индивидуальности, сражения походили на тщательно отрепетированные спектакли. Это была имитация эпичности, муляжи ее, и немудрено, что все эти сочинения вскоре канули в Лету. А «Василий Теркин», лишенный этих качеств (что еще раз подтверждает, что они необязательны) — все вобрал в себя судьбу одного героя, его характер, — стал подлинным эпосом солдатской жизни на войне.
Кондратьев в художественном исследовании действительности военных лет идет вглубь, проникая — слой за слоем — в толщу народной жизни, добиваясь на небольшом пространстве полноты изображения. В малом мире овсянниковского поля открываются существенные черты и закономерности мира большого, предстает судьба народная в пору великих исторических потрясений. В малом у Кондратьева всегда проступает большое. И жанровую форму для ржевской прозы он отыскал столь же емкую, как роман. Но еще более свободную. Конечно, не надо дело представлять таким образом, что для своей ржевской прозы Кондратьев придумал такую форму. А потом ее целеустремленно реализовал. Нет, она складывалась сама собой, но толкал к ней жизненный материал, подсказывало чувство правды.
Фронтовая жизнь — действительность особого рода: многое зависит от случая, счастливого или коварного, встречи здесь скоротечны — в любой момент приказ или пуля могли разлучить надолго, часто навсегда. Но под огнем, когда смерть подстерегает на каждом шагу, за немногие дни или часы, а иногда даже в одном лишь поступке характер человека проявляется с такой исчерпывающей полнотой и определенностью, которые в нормальных условиях явственно не проступают и в многолетних приятельских отношениях. Когда-то в сорок втором году, размышляя над тем, что мы обрели в жестоких испытаниях обрушившейся на нас войны, Илья Эренбург писал: «До войны другом легко называли. Но друга и легко забывали. Говорили прежде: „Мы с ним пуд соли съели“. Но что соль рядом с кровью? Что года по сравнению с одной ночью в Сталинграде?» Это верное и проницательное наблюдение.
Часто говорят, имея в виду судьбу человека, — река жизни. На фронте ее течение становилось катастрофически стремительным. Она властно увлекала за собой человека и несла его от одного кровавого водоворота к другому. Как мало оставалось у него возможностей для свободного выбора! Но и выбирая, он каждый раз ставил на карту свою жизнь или жизнь своих подчиненных. Цена выбора здесь всегда была жизнь, хотя выбирать обычно приходилось в кругу вещей как будто вполне прозаически обыденных на переднем крае — позицию для пулемета с укрытием получше и с обзором пошире, время атаки — в сумерках или когда уже рассвело, где нужно по-пластунски, а где можно и перебежками…
Кондратьев стремился передать это неостановимое движение потока жизни, увлекающего за собой человека, потока грозного. Но становящегося привычным. Иногда у него, как, скажем, в повестях «Сашка» и «Борькины пути-дороги» на первый план выступает герой. И хотя герой старается использовать все возникающие возможности для выбора, не упускает таких ситуаций, исход которых может зависеть и от его смекалки, выдержки, решительности, он все-таки во власти этого неукротимого потока фронтовой действительности — пока жив и цел, ему снова и снова ходить в атаки, вжиматься под обстрелом в землю, есть что попадет, спать где придется… А в «Селижаровском тракте» иной угол зрения: тут автор стремился запечатлеть сам этот жизненный поток, соединивший и увлекающий в одну сторону, в одном направлении множество людей. Мы словно бы наблюдаем походную колонну — взор задерживается на каком-то человеке, потом его заслоняют другие фигуры, другие лица, затем он вдруг возникает снова. Но все время у нас перед глазами эта движущаяся масса людей, которых соединили вместе и ведут вперед, навстречу неведомой судьбе долг и приказ. И эта эстетическая установка с особой отчетливостью обнаруживает себя в авторских размышлениях о дороге на фронт — они не привязаны к какому-то одному персонажу, потому что через это, становясь частью потока военной жизни, неизбежно проходил каждый:
«Любая война начинается с дороги. Сперва с железной, по которой катят в теплушках по восемь человек на каждых нарах, с печкой в середине, раскаливаемой докрасна и брызжущей огненными искрами, которые мечутся по всему эшелону, демаскируя его ночью. С короткими остановками, с негустой кормежкой, выдаваемой почему-то всегда ночью, когда она совсем не в радость, когда с еще не продранными глазами достаешь ложку и хлебаешь без вкуса полутеплую жидню.
С дороги, на которой навстречу тянутся эшелоны с ранеными, с дороги, на которой их провожают печальными, а порой и заплаканными глазами женщины-солдатки, безнадежно помахивают руками, а некоторые и осеняют крестом; с дороги, на которой валяются искореженные вагоны, скрученные взрывом рельсы. И представить страшно, что же делается с людьми, с их живыми телами при таком вот силище разрыва; с дороги, на которой с тоской и ненавистью смотришь на ясное небо, потому как при таком-то безоблачном небе и жди самолетов. Но кончается эта железная дорога, и уже жалеешь о ней, потому что было тебе тепло, потому что не топал ты ногами, лежал лежмя на нарах, покуривая, и война была от тебя еще ох как далеко.
И начинается дорога другая, где на плечах все твое нехитрое хозяйство, все довольно весомое оружие, дорога, по которой переть тебе пехом, спотыкаясь и скользя на обледенелом просторе, дорога, на которой и покурить-то как следует невозможно, а только таясь, в рукав, а потому и без вкуса… Дорога, где ни одного приветного огонька, ни одной живой деревеньки, ни одного какого жителя не встречается. Только торчат закопченные трубы да черные деревья с костлявыми обожженными ветвями на тех местах по большаку, где были деревни…»
Я решился привести эту столь пространную цитату потому, что она дает представление о том пристальном внимании, которое уделяет Кондратьев военному быту. Для него — и это тоже свойство эпического мировосприятия — бытие слито с бытом, разделить их нельзя, невозможно. В ржевской прозе перед читателем предстает война, как страшная беда, проникшая во все поры народной жизни, ставшая гнетущим невыносимым бытом миллионов людей на фронте и в тылу. Тыл тоже так или иначе постоянно возникает у Кондратьева. Война и в тылу легла на плечи людей непосильным грузом: тяжелой работой, слезами матерей, у которых дети на фронте, вдовьей долей солдаток. И что бы там ни говорили недобрым словом, отводя душу, иногда солдаты о о тыле и тыловиках — это скорее въевшийся, по инерции передающийся из поколения в поколение привычный штамп… На самом деле они прекрасно знают, что никто им так не сочувствует, никто их так не жалеет, как горемычные бабы и старухи, последним куском поделятся, на оккупированной территории будут прятать от фашистов и полицаев. И в глубине души они, солдаты, чувствуют свою вину перед теми, кого призваны защищать, — за то, что война пошла не так, как думалось, за то, что женскими руками приходится делать мужскую работу. И, быть может, солдат, которым так досталось в первые месяцы войны, больше их собственных бед и горестей жжет сознание того, что вот уже в армию, на войну уходят девушки, — значит на самом краю стоим, из последних сил отбиваемся, значит сами они с солдатским делом не управляются.
Очень тяжкий период войны изображает Кондратьев. Мы еще только учимся воевать, дорого нам дается эта учеба. Постоянный — из повести в повесть, из рассказа в рассказ — мотив у Кондратьева: уметь воевать — это не только, зажав, преодолев страх, пойти под пули, не только не терять самообладания в минуты смертельной опасности. Это еще полдела — не трусить. Труднее научиться другому: думать в бою и над тем, чтобы потерь — они, конечно, неизбежны на войне — все-таки было поменьше, чтобы зря и свою голову не подставлять и людей не класть. На первых порах это не очень-то получалось, и в безуспешных боях стало даже кое-кому казаться, что храбрость — это презрение не к смерти, а к жизни. В рассказе «Овсянниковский овраг» молодой ротный, вчерашний студент, удивится, услышав от бойца, который много старше его: «…Некоторые цену жизни не понимают… Кто по глупости, кто по молодости… Уважать ее надо, жизнь-то… На войне особенно…» Удивится, но не забудет этих слов, будет их вспоминать. И как незаживающая рана некоторым героям Кондратьева будет не давать покоя воспоминание о том, что они не отдавая себе отчета, посылали людей на смерть, когда этого можно было избежать. Они и себя тогда не щадили, но теперь понимают, что это не оправдание.
С нами сражалась очень сильная армия — хорошо вооруженная, вымуштрованная, обладавшая немалым боевым опытом, уверенная в своей непобедимости. Против нас была армия, отличавшаяся жестокостью и бесчеловечностью, не признававшая никаких нравственных преград и ограничений в обращении с противником и с мирным населением в захваченных областях. С каким равнодушием, с какой деловитым механическим равнодушием немолодые резервисты-конвоиры в «Борькиных путях-дорогах» гонят советских военнопленных, добивают раненых, которые не могут идти. Жестокость, однако, не только устрашает, как полагали гитлеровцы, она рождает сопротивление и ненависть. Герой этого рассказа, глядя на то, что творят захватчики, решает, что, если выберется из плена, когда вернется в часть, воевать будет по-другому — жесточе и беспощаднее. Ненависть к гитлеровским захватчикам тогда называли святой. Она была справедливой, но не стала слепой и безграничной. Предел ей устанавливали те гуманистические ценности, которые мы защищали. Герои Кондратьева не могли платить фашистам той же монетой не потому, что захватчики этого не заслуживали, а потому, что это было для них невозможно: они утратили бы чувство безусловной правоты, абсолютного нравственного превосходства над фашистами, благодаря которому смогли вынести и невыносимое, сохранить и в самых отчаянных положениях веру в победу. Когда у Сашки спросили, как же он решился не выполнить приказ комбата — не стал расстреливать пленного, разве не понимал, чем ему это грозило, он ответил просто: «Люди же мы, а не фашисты». И простые его слова исполнены глубочайшего смысла: они говорят о неодолимости человечности, которая была тем рубежом, который фашисты взять не могли.
Один из поэтов фронтового поколения Сергей Наровчатов через четверть века после победы, вспоминая войну, написал стихотворение (кажется, оно у него было одним из последних). Оно о солдатской судьбе. Он вспоминает последние бои, себя и однополчан, какими были тогда. Все обыденно: пасмурный рассвет, льет дождь, насквозь промокшая пехота ждет начала очередной атаки, которая неизвестно чем для кого кончится, в каком-то ничем не примечательном месте. Осточертела война, осточертело тянуть трудную солдатскую лямку, осточертели однообразные безрадостные будни передовой. Скорее бы со всем этим покончить, и…
Тогда — то главное случится!.. И мне, мальчишке, невдомек, Что ничего не приключится. Чего б я лучше делать смог. Что ни главнее, ни важнее Я не увижу в сотню лет, Чем эта мокрая траншея, Чем этот серенький рассвет.Стихотворение так и называется — «О главном». С годами становилось все яснее: то было время самого трудного в жизни испытания и, что бы ни было сделано потом после войны, чего бы ты ни достиг, главнее и важнее тех четырех лет не было.
Ржевская проза Кондратьева, в которой так беспощадно нарисован жуткий лик, вернее, оскал войны — грязь, вши, голодуха, трупы, — проникнута верой в свободу и справедливость, во имя которых шли на смерть, в торжество человечности. И эта вера, этот свет не позднего, ностальгического происхождения, они оттуда — из тех тяжких лет, которые не зря называют и свинцовыми, и пороховыми, и кровавыми. Так было и для тех, кто прошел тот ад, годы на фронте остались самыми главными в жизни, самым трудным из всех выпавших на их долю и выдержанных ими испытаний, их звездным часом.
Я вспомнил стихотворение Наровчатова, потому что о том же думал Кондратьев. Герой его рассказа «Знаменательная дата» прожил после войны благополучную и вполне достойную жизнь. Он не может пожаловаться на судьбу: доволен своей работой, на заводе его ценят и уважают, у него хорошая семья. «Но все равно, — признается он, — тоска иногда забирает по тем денькам. Понимаете, по-другому тогда все было». Очень непросто объяснить, что же было в войну по-другому, о чем его тоска. Но суть герой Кондратьева, кажется, ухватил верно: «На войне я был до необходимости необходим». Наверное, ничего не может быть для человека важнее этого чувства, что он был необходим для участия в общем благородном и великом деле. Вот и Василь Быков, оглядываясь на те годы, писал, что во время войны мы «осознали свою силу и поняли, на что способны. Истории и самим себе мы преподали великий урок человеческого достоинства».
Надеюсь, читатели мне простят, что я закончу заметки о ржевской прозе Вячеслава Кондратьева на личной ноте. Дело в том, что автор этих строк тоже из пехоты и знает, что такое «окопная правда». И мне пришлось в годы войны вместе с кондратьевскими Сашкой, Володькой, Жорой — пусть их звали по-другому и было это не подо Ржевом — и есть из одного котелка не очень густую кашу, и прижиматься под огнем пулеметов к раскисшей земле, и хоронить товарищей, и мыкаться по госпиталям. Повести и рассказы Кондратьева не только заставили меня вспомнить все это — они открыли кое-что из того, что я тогда по молодости лет и по недостатку жизненного опыта не сумел как следует разглядеть в людях, с которыми вместе тогда воевал, в грозных обстоятельствах, выпавших на нашу долю. А скорее всего дело не в молодости и в недостатке опыта — просто талантливому художнику дано и то, что мы вроде хорошо знаем, сами пережили, раскрыть как неведомое…
В кровавом тумане оккупации (О партизанских повестях Василя Быкова)
У Бориса Слуцкого есть такие строки:
Я помню парады природы И хмурые будни ее, Закаты альпийской породы, Зимы задунайской нытье Мне было отпущено вдоволь — От силы и невпроворот — Дождя монотонности вдовьей И радуги пестрых ворот. Но я ничего не запомнил, А то, что запомнил, — забыл, А что не забыл, то не понял: Пейзажи солдат заслонил.Как и всякое лирическое стихотворение, это написано о себе.
Как и всякое талантливое произведение, оно уводит от автора — в большой мир, ко многим людям.
Я, перечитывая эти строки, прежде всего думаю о Василе Быкове, его вспоминаю. Может быть, потому, что действие в одной из его повестей происходит в Альпах, но какие там «парады природы» — травят эсэсовцы сбежавших из лагеря узников, а в другой воюющих в Венгрии героев насквозь пронизывают ветры «зимы задунайской», но что им, отрезанным от своих, непогода, иные беды, иные опасности обрушились на них невыносимой тяжестью.
Быкову война заслонила все. И солдат, о котором писал Слуцкий, это и однополчане Быкова, и он сам, его фронтовая судьба.
Вот какой представала война перед его взором в поздние годы из таких далеких от нее мирных дней — ничего не сглажено, не приглушено, не отретушировано: «Очень это непросто — писать о пережитом, тем более о давнем военном прошлом. И не потому, что многое выпадает из памяти — память фронтовиков как раз цепко удерживает все, что касается пережитого в годы войны, — трудности же здесь несколько другого рода. Как я теперь думаю, они в эмоциональном отношении к тому, что когда-то было проблемой жизни и смерти, а ныне, по прошествии лет, отдалилось настолько, что стало чем-то почти ирреальным из области снов, приведений. Иных в этом их отношении к пережитому в годы войны тянет на юмор, на поиски забавного или, на худой конец, увлекательного по сюжету и его извилистым прихотям. Мне же все это по-прежнему видится в кровавом заторможенно-невразумительном тумане — как оно и отразилось тогда в нашем горячечном сознании, изнуренном боями, опасностью, предельным физическим напряжением и бессонницей».
В конце войны, в январе сорок пятого, когда шли последние ожесточенные бои, Илья Эренбург после очередной командировки на фронт писал: «Трудно говорить о битве во время битвы. Будущий историк изучит освобождение Польши и сражение за Восточную Пруссию. Если нашим детям повезет, будущий Толстой покажет и душу советского офицера, который сейчас умирает под зимними звездами». Эренбург был уверен, что только участники войны смогут рассказать правду о том, какой была война.
Пророческие, подтвержденные потом опытом литературы слова Эренбурга имеют самое непосредственное отношение к писателям фронтового поколения, к тому же Василю Быкову, которому тогда, конечно, не до литературы было, книги, которые он напишет, ему даже не мерещились. Вот два — всего два — эпизода из его окопной биографии — какая уж там литература!
Первый бой: командир роты, рассказывал Быков, «подвел меня к коротенькому строю моего стрелкового взвода. Он представил взвод мне, а меня представил бойцам — хмурым, невыспавшимся, озябшим, ждущим запаздывающий завтрак. Я хотел о чем-то расспросить бойцов, но он нетерпеливо бросил: „Ладно, познакомишься. Командуй. Через двадцать минут атака!“ Через двадцать минут была атака, бешено стегали вражеские пулеметы, а минные разрывы черными пятнами за десять минут испещрили все поле. Вскоре мы залегли, казалось, не в состоянии больше подняться. Чтобы определить плотность огня, командир роты на несколько секунд вскинул над собой лопатку, и в металле ее сразу же появились две рваные дырки. И все-таки мы встали, подняли бойцов и атаковали село, на краю которого в братской могиле осталась треть нашей роты».
Первое ранение. Уже получив пулю в ногу, Быков снова попадает под атаку немецких танков. «Нас набралось здесь человек сорок. Второпях мы вырыли в рыхлом снеге неглубокие ямки и залегли. Очень скоро из балки появились танки, их было одиннадцать, при виде нашей цепи они замедлили ход, а затем и остановились вовсе. Эта их остановка сначала обрадовала, а затем и озадачила нас: лучше бы они атаковали, мы бы тогда попытались отбиться гранатами. На расстоянии же они были для нас неуязвимыми, зато вполне уязвимы для них были мы. Не раз мне на фронте приходилось переживать подобную ситуацию. Так было и потом, в конце 44-го, при втором моем ранении под Балатоном в Венгрии, когда танки с близкого расстояния, буквально за несколько минут выбили залегший на мерзлой земле батальон. Снарядов они не жалели, времени у них было в достатке, впрочем, как и сноровки тоже. Они расстреливали нас методически, аккуратно по снаряду посылая в каждого бойца, и спустя четверть часа вместо нашей цепи на снегу чернел ряд кровавых разрывов с разметанными вокруг комьями мерзлой земли».
Сам Быков часто говорил, что пережил на войне то, что выпадало на долю любого фронтовика-окопника. А что такое судьба солдата и офицера переднего края — любого?.. Рассказывая к случаю — в интервью, в статьях — о своей фронтовой юности, вспоминая однополчан, кто был с ним рядом в кровавых боях, как часто Быков эти воспоминания завершает горьким «погиб»: «В тот же день под вечер начался затяжной бой за очередной городок, вскоре погиб капитан Кохан…»; «…Ни одному из них не удалось дожить до Победы. Первый погиб на Днепре в 1943 году, последний — 27 апреля сорок пятого года в австрийских Альпах…»; «В той же братской могиле оказался и мой командир роты лейтенант Миргород, имя которого носит теперь пионерская дружина местной школы. Недалеко от тех мест похоронен командир нашего батальона капитан Смирнов. Ненамного переживший своего командира роты, по соседству с ними покоится прах командира полка майора Казарина, скончавшегося от ран в медсанбате».
Только пережив все это, можно было потом рассказать правду о том, что было на душе у молодого офицера, умиравшего под зимними звездами.
Миллионы сложивших голову на поле боя для Быкова не абстрактная цифра. Он хотел в своих книгах воссоздать войну, какой она была на переднем крае, когда шел ожесточенный бой за какую-то безвестную высотку, в партизанских отрядах, сражавшихся не на жизнь, а на смерть с карателями, полицаями в белорусских селах, оказавшихся под властью оккупантов.
Пилот, чтобы точно выдержать нужный курс, должен постоянно сверять его с сигналами радиомаяка. Для Быкова таким «радиомаяком», по которому он ориентировал свой «курс», был его фронтовой окопный опыт, то, что он пережил и видел на войне. Конечно, многое он услышал и узнал о тех годах уже в послевоенную пору (он ведь не был партизаном, хотя все поздние его вещи — о том, что происходило за линией фронта), но характер этих добытых знаний во многом определялся все же опытом лейтенанта Быкова.
«Через войну, — говорил о Быкове Даниил Гранин, — автор открывает военной литературе новые возможности. Через войну автор раскрывает историю деревни, судьбы людей, важнейшие социальные и нравственные процессы предшествующих войне десятилетий. И выясняется, что многое можно увидеть и понять только через войну. Трагедия войны открыла такие глубины народной истории, до которых, кажется, никаким иным способом нельзя добраться. Оказалось, что это такой лемех, который далеко достает, многое вывернул на поверхность».
Характеризуя художественную структуру первых вещей Быкова, критика числила их по разряду лирической прозы, к которой относили всю «лейтенантскую литературу», ставшую заметным явлением на рубеже 50–60-х годов. Для этого были серьезные основания: его первым произведениям присущ проникновенный лиризм, нередко реализовавший в повествовании от первого лица, психологизм, добротное бытописание. Эти свойства Быков в последующие годы не только не утратил, а оттачивал и совершенствовал. Но в его повестях была еще одна существенная особенность, быть может, поначалу недостаточно проявившаяся и потому не сразу замеченная, но чем дальше, тем больше она главенствовала, выходила на первый план, бросалась в глаза. Именно она определила природу, жанровое и стилевое своеобразие его поздней зрелой прозы. Пожалуй, самое подходящее определение для этих его повестей — нравственно-философские. Их отличает сосредоточенный, концентрированный интерес к общечеловеческим проблемам.
В 70-е годы очень важное место в нашей духовной жизни заняла литература нравственных исканий, нравственных проблем — их требовательно ставила, задавала жизнь, возникшие «оттепельные» умонастроения, которые на материале войны, как у Быкова, приобретали кинжальную остроту. Повести Быкова стояли у истоков ее, намечали и прокладывали этот путь. Из них мы многое узнали о войне, но еще больше они открывали в человеке. В тех невообразимых обстоятельствах на героев Быкова война обрушила не только непосильные тяготы и и невзгоды, бесчисленные опасности, — им еще уготованы мучительные нравственные испытания на душевную прочность, они должны совершить выбор в обстоятельствах крайних, без приказа и команды, предоставленные сами себе, на свой страх и риск, следуя лишь велению собственной совести.
Перед очень трудными вопросами ставит своих героев Быков: как сохранить человечность в бесчеловечных обстоятельствах, что человек может в этих условиях, где та граница, переступив которую он утрачивает себя, только ли для себя живет человек? Автор ничего не подсказывает им, ответы на вопросы, от которых зависит их — и часто не только их — жизнь, они сами должны отыскать, они головой отвечают за выбранную стезю, за принятые решения. Быков спрашивает с них за их выбор по самому строгому, единственно истинному счету — по счету человечности.
Быков почувствовал, понял и однажды прямо сказал об этом, что «извечная тема выбора в партизанской войне и на оккупированной территории стояла острее и решалась разнообразнее, мотивированность человеческих поступков была усложненнее, судьба людей богаче, зачастую трагичнее, чем в любом из самых различных армейских организмов. И вообще элемент трагического, всегда являющийся существенным элементом войны, проявился здесь во всю страшную силу».
Это и определило переориентацию Быкова на материал партизанской войны, материал этот становится для него близким, органичным. Ведь то, о чем пишет в партизанских повестях Быков, происходило на земле, где он вырос, где он с детских лет все и всех знал, с его родными, соседями, знакомыми. «Фронт борьбы с гитлеровцами, — писал Быков в статье „Колокола Хатыни“, — проходил по каждой околице, по каждому подворью, по сердцам и душам людей. Всенародная борьба означала, что каждый был воином со всеми вытекающими из этого слова обязанностями и последствиями. Независимо от возраста, пола имел он оружие и стрелял в оккупантов или только сеял картошку и растил детей, — каждый был воином. Потому что и оружие, и картошка, и подросшие дети, да и само существование каждого белоруса были направлены против оккупантов».
Но начну я эти заметки не с партизанской, а военной повести «Атака сходу» (мне кажется более соответствующим ее общему эмоциональному звучанию название, которое у нее было при публикации на белорусском — «Проклятая высота»). Два обстоятельства это объясняют. Повесть эта возникла не вдруг — обстоятельства, исследованием которых Быков занялся в ней, давно не давали ему покоя, кровоточили… Тяжелый сон, который преследует в плену героя «Альпийской баллады», навеян породившей его не менее тяжелой явью: «По прибитой овечьими копытами улице к колхозному амбару, куда пригнали со связанными руками Голодая и с ним несколько знакомых гефлингов[2]. Сердце у Ивана разрывается от обиды, от напряжения. Кажется, он опоздает и не докажет людям, что нельзя срывать злость на пленных, что плен не проступок их, а несчастье, что они не сдались в плен, а некоторых даже сдали, предали — было и такое. Но он не добегает до амбара». В другой повести, в «Западне» изменник, ставший служить немцам, придумывает остроумный, как ему кажется, способ расправы с несговорчивым попавшим в плен лейтенантом — отправить его к своим — там лейтенанту несдобровать, «на той стороне все в квадрат возведут». С издевкой он бросает ему: «Зондер-привет коллегам!», уверенный, что советские «коллеги» не очень станут разбираться прав или виноват лейтенант, «замаран» и все тут. Все так и произошло, как придумал этот изменник. Лейтенантом сразу же занялся советский «коллега» немецкого прислужника (собрат по профессии и способам ее претворения в жизнь). Это понятно, это само собой разумеется. Но почему его поддержали солдаты, которые видели лейтенанта в бою, знали, что он смел, не жалел себя? Потрясенный пережитым у немцев, ожидающий автоматной очереди в спину спускается Климченко к своим. «Он не видел еще ни их лиц, ни взглядов, но что-то страшное вдруг подсознательно передалось ему. И он отчетливо, как это может быть только за секунду до смерти, понял, что и для этих людей он почему-то стал врагом… Кто-то из них зло крикнул: „Предатель!“» И тут возникает очень непростой вопрос, ответ на который не лежал на поверхности: почему и в той и в другой повести люди, которые вроде бы хорошо знают героев, готовы поверить, что те, кто попал в плен, предатели? И еще один пример — повесть «Обелиск». Герой ее — учитель Мороз ушел из партизанского отряда и сам отдал себя в руки полицаев, которые объявили, что если он явится, они выпустят схваченных его учеников. Мороза казнили вместе с учениками. Но поступок его не был понят, и тень подозрения на долгие годы легла на его доброе имя — не предал ли он, не перебежал ли на сторону врагов? Вот почему на обелиске, сооруженном в память о казненных школьниках, нет его фамилии…
Вот данные из исторического очерка «Великая Отечественная война. 1941–1945»: «В 1937–1938 гг., а также в последующее время в результате необоснованных массовых репрессий погиб цвет командного и политического состава Красной Армии. Как „агенты иностранных разведок“ и „враги народа“ были осуждены и уничтожены три Маршала Советского Союза (из пяти имевшихся в то время) — М. Н. Тухачевский, В. К. Блюхер, А. И. Егоров, погибли все командующие военных округов, в том числе и И. П. Уборевич, И. Э. Якир, а также возглавлявшие флот В. М. Орлов, М. В. Викторов; погибли организаторы партийно-политической работы в армии: Я. Б. Гамарник, А. С. Булин, Г. А. Осепян, М. П. Амелин и другие; были уничтожены или разжалованы и подвергнуты длительному заключению многие видные деятели и герои гражданской войны, в том числе А. И. Корк, Р. П. Эйдеман, И. С. Уншлихт, Е. И. Ковтюх, П. Е. Дыбенко, И. Ф. Федько, И. Н. Дубовой и другие. Из армии были устранены все командиры корпусов, почти все командиры дивизий, командиры бригад; около половины командиров полков, члены военных советов и начальники политических управлений округов, большинство военных комиссаров корпусов, дивизий, бригад и около одной трети военкомов полков. Всего за 1937–1938 гг. репрессиям подверглась одна пятая часть офицерских кадров».
Эта краткая сухая справка открывает одну из главных причин наших тяжелых поражений в первый год войны. Но массовые репрессии были не только в армии. Они коснулись всех сфер жизни, обрушились в разном виде на все слои общества, страшная волна захлестнула не одни лишь верхние этажи, не было в стране заповедных уголков, которые она миновала. Конечно, давление такого рода обстоятельств разными людьми воспринималось по-разному, на одних оно действовало сильнее, на других слабее. Возникавшие при этом нравственные деформации могли быть более и менее глубокими, преходящими, преодолимыми со временем, и накопленным жизненным опытом, и укоренившихся у иных навсегда, но вовсе избежать их мало кому удавалось, таких, как Федор Раскольников, понимавших подлинные причины происходившего, были считанные единицы. Многие по лености ума и души, а иные из корысти — освобождались посты, выгодные должности, замаячили стремительные карьеры — старались ни о чем не думать, все принимали на веру: нет дыма без огня, зря не берут, раз посадили, значит за дело — меня же это не касается, не коснется. Другие, оглушенные, сбитые с толку, запуганные, но все-таки в глубине души сомневающиеся, что тысячи и тысячи людей могли быть шпионами, вредителями, двурушниками, пытались как-то разобраться в действительности, становившейся «фантомной», если искать литературные параллели, гофманской, кафкианской, но дальше «лес рубят — щепки летят», «Сталин не знает…» обычно не шли. Микроб утвердившейся подозрительности оборачивался сковывающим страхом потерять доверие. Эти страшные явления потом называли «тридцать седьмым годом», хотя начались массовые расправы раньше, с коллективизации, не утихали в войну, когда целые народы были отправлены в ссылку, и в послевоенные годы — страна была в руках новоявленной опричнины. Все это впрямую или в тяжелых последствиях постоянно присутствует в художественном мире Быкова.
В «Атаке сходу» Быков подвергает художественному исследованию сознание человека, попавшего в трагические жернова времени, о которых шла речь. Подлинные истоки разыгравшейся здесь драмы находятся где-то на скрытой от героев глубине, и она обнаруживает себя то в каких-то деталях, то в двух-трех репликах, но в ней — скрытый «нерв» случившегося. Старший лейтенант Ананьев командует лучшей ротой в полку, да и сам он, начавший в сорок первом старшиной, не шибко грамотный, но на практике назубок освоивший с виду простую, а на самом деле такую нелегкую солдатскую и командирскую науку — и пулями ученый, и наградами отмеченный, он по праву считается в полку одним из самых надежных офицеров. Есть у Ананьев одна черта, которая вызывает к нему особую симпатию, особое расположение подчиненных: никогда не забывает он о солдатах, об исполнителях его приказов — сам был в их шкуре, знает, как им достается, заботится о них, бережет их, насколько это возможно во время боевых действий. Кажется, столько уже видел на фронте Ананьев, в таких переделках побывал, что не растеряется в любой обстановке, опрометчиво не поступит. Но тут случилась такая история: одного из его солдат захватили немцы и предложили обменять его на плененного бойцами Ананьева немца. И Ананьев, пожалевший немолодого солдата, разрешил этот обмен, не отдавая себе отчета, какие это может повлечь за собой последствия. Когда он это понял, вернее, ему дали понять, что о его решении куда надо доложено, и оно будет истолковано, невзирая на все его прошлые заслуги, как тяжелое преступление. И ничего тут не объяснить. То, чем он руководствовался: надо спасти попавшего в беду солдата, с этим, разумеется, считаться не станут. Он в отчаянии решается на безрассудную атаку, отдавая себе отчет в том, что это в сущности самоубийственное решение. «Жареному карасю кот не страшен!» — говорит он перед этой атакой. Впрочем, если бы она чудом удалась, это бы тоже ничего не изменило…
Быков создает в повести своеобразную «модель» нравственной проблемы, взятой в предельном варианте.
Быков доводит обстоятельства до критической точки, а героя — до катастрофы. Этот тип повествования, подобного рода нравственная проблематика будут в центре внимания всех его партизанских повестей.
Но прежде чем приступить к разбору их, коснусь еще одной причины, из-за которой я начал с «Атаки сходу». Эта повесть, как и «Круглянский мост» и «Мертвым не больно», подверглась сокрушительной атаке официозной критики и тех идеологических и карательных инстанций, вдохновлявших и направлявших эту критику, указывающих на объекты, приговоренные к экзекуции.
Отвлекусь в сторону, чтобы коротко рассказать о том, как это было. Впрочем, это не совсем в сторону, потому что помогает понять, почему нравственно-философские проблемы, которые поднимал и исследовал в своих произведениях Быков, вызывали такое сопротивление у власть имущих: они понимали или чувствовали, что это литература рождает духовное сопротивление тоталитаризму, государственной демагогии и казенной бесчеловечности.
Нынче иногда говорят о прошлом — что поделаешь, такой была тогда действительность, такие были условия. Но можно ли забывать, что эти «условия», эти карательные мероприятия (как еще их назвать) создавали и раскручивали люди, у которых были фамилии, имя и отчество? Не само собой все делалось, были выслуживавшиеся исполнители — очень усердные, очень ретивые. И называть их следует, пусть не служит им прикрытием формула «такие были времена».
Когда в «Новом мире», который на высоких этажах властных структур преследовался как постоянный источник «крамолы», была напечатана повесть Быкова «Мертвым не больно», аспирант Академии общественных наук при ЦК КПСС Севрук написал для «Правды» статью, в которой повесть уничтожалась, статья была началом оголтелой зубодробительной кампании, объектом которой стал Быков. Была она явно «заказной», сделанной, несомненно, по «наводке» деятелей из КГБ и Старой площади (в «перестроечные» времена эти «секретные доносы» были опубликованы). Автор статьи был замечен и отмечен, его пригласили на работу в ЦК. Там он быстро рос (наверное, очень старался), выбился в большие начальники (если я не ошибаюсь, даже курировал главлит). Быков стал постоянным объектом возникших у этого деятеля в ЦК больших возможностей делать подлости: Севрук не забывал, что началом его карьеры послужила статья, громившая Быкова. Он был одной из самых злобных «птиц ловчих», как называл их Твардовский, которые свое дело ретиво делали, стараясь нагонять страх на «птиц певчих», а тех, кто упрямился, продолжал петь свою песнь, заклевывали. И чем талантливее был писатель, чем гуще была правда, которую несли его произведения (она, конечно, квалифицировалась «ловчими» как искажение жизни, как клевета), тем сильнее был на него натиск, тем больнее его били. Вот библиографический итог тогдашней собственноручной деятельности Севрука: только через одиннадцать лет после журнальной публикации стало возможно книжное издание повести «Круглянский мост», через восемнадцать — «Атаки с ходу», через двадцать три — «Мертвым не больно».
Закончу этот сюжет, обратившись к близким нам, сегодняшним временам. Лишившийся руководящего кресла на рухнувшем московском партийном Олимпе, а вместе с этим креслом сладостной возможности запрещать, отлучать, травить неугодных, непокорных, Севрук, когда в Белоруссии воцарился Лукашенко, откочевал туда и пришелся ко двору, стал влиятельным консультантом и советчиком в области литературы и культуры. И сразу же снова взялся за Быкова, опять же, видимо, идя навстречу желаниям и указаниям на этот раз минского руководства, которому Быков был как бельмо на глазу. Напечатал большой цикл статей, в которых на разные лады шельмовал Быкова, участвовал в той неблаговидной кампании, которая вынудила Быкова уехать из Белоруссии — сначала в Финляндию, а потом Германию и Чехию.
Вот наглядный пример того, что за неблаговидные дела ответственность не несут не только «время» и «обстоятельства», а персонально те люди, которые создавали эти «обстоятельства»…
Среди записей, которые делал для себя незадолго до смерти Алесь Адамович, известный писатель и исследователь литературы, один из ближайших друзей Быкова, внимательный его читатель, много раз писавший о его книгах, есть одна, посвященная новаторскому характеру творчества Быкова, его главному литературному достижению: «Существует понятие „быковская повесть“ — это уже не одному Быкову принадлежащая особенность и не одной лишь белорусской литературе…» Это верное и проницательное определение масштаба быковской прозы, разумеется, зрелой, партизанской (при этом нелишне, наверное, напомнить и о том, что Адамович в юности сам был партизаном и написал несколько очень сильных книг о партизанах — его определение поэтому имеет особую цену).
«Быковскую повесть» — именно в этом суть предложенного Адамовичем определения — отличает сосредоточенный интерес к общечеловеческим, экзистенциальным проблемам, максимализм в постановке и в решении сложных нравственных проблем, сильная и уверенная мысль, способная проникнуть в моральную и социальную суть экстремальной, предельной жизненной ситуации. Из произведений Быкова читатели много узнавали о трагедиях кровавой войны, о других тяжких испытаниях нашей полной драматизма истории, но еще больше они открывали для себя в человеке: в невообразимых обстоятельствах в людях обнаруживались такие высоты духа и бездны падения, которые в не столь катастрофических обстоятельствах закрыты, не проявляются отчетливо и зримо, добраться до них художнику трудно. Быкову удавалось. Вот что, видимо, имел в виду Адамович, говоря о «быковской повести» как об особом художественном явлении, открытии писателя.
Кажется, что героями Быкова все давно здесь, на партизанских тропах Белоруссии, хожено-перехожено. Но он снова и снова возвращался с ними сюда, в кровавую круговерть партизанской войны. Приверженность (точнее сказать, одержимость) Быкова этому материалу поражала. Можно ли с той остротой, с непритупившейся ни на йоту отзывчивостью в который раз переживать с героями невыносимые страдания — физические и душевные, неизбывную муку людей, загоняемых обстоятельствами войны и советского жизнеустройства в такой угол, в такой тупик, из которого если кому-то удается выбраться, то только чудом? Говорят, что время лечит раны, и, кажется, у многих писателей фронтового поколения, в ряду которых и начинал Быков, раны все-таки затянулись, их не меньше, чем война, стали интересовать близкие к сегодняшним временам заботы и тревоги. У Быкова рана не заживала, он все продолжал видеть действительность через войну, через партизанские и оккупационные драматические коллизии. Быков по своему мировосприятию художник трагический. Он сосредоточен на исследовании социально-нравственных ситуаций и драм, раскаленных добела тоталитарным режимом и тотальной истребительной войной, он стремится выяснить, что происходит в этих условиях с человеком. Сюжеты в повестях Быкова раскручиваются стремительно и непредсказуемо, как в реальной партизанской жизни и вообще на оккупированной территории, где человек не ведал, в какой крутой переплет, в какой капкан может попасть на ближайшей опушке леса или за поворотом ведущей к глухому хутору дороги. Быкова больше всего интересует поведение людей в предельно тяжелых обстоятельствах, он стремится докопаться до первопричин, корней, нравственной подоплеки тех или иных поступков, — верности и предательства, самоотверженности и слабодушия, человечности и злодейства, — проникнуть в обнаженную жестокими испытаниями глубинную суть характеров и обстоятельств. Это вечная и всегда новая для литературы проблема: человек и враждебные ему обстоятельства, иногда закаляющие его, пробуждающие стойкую энергию сопротивления, чаще уродующие, разрушающие.
Повести Быкова вполне самостоятельны, в каждом случае вполне завершенный сюжет, исчерпанная история. Но еще раз сошлюсь на высказанное в свое время наблюдение Адамовича: он заметил, что творчество Быкова не простая «сумма повестей», а хотя и сложное, но единство: «Когда-то соборы строили веками, несколько поколений мастеров сменялось, и все они должны были соотносить свою работу с уже сделанным — будущие формы просчитывали в уже вложенных камнях. И чем дальше продвигалась работа, чем больше наработано, тем зависимее были мастера от уже существующего. Это ли происходит, произошло и с Василем Быковым? Не думаю, что он с самого начала задумывал тот величественный цикл повестей, который состоялся и все еще сохраняет неистраченную энергию продолжения. Но чем больше нарабатывалось, тем сильнее удерживало писателя уже сделанное, творческая фантазия его несла и несет в себе, с одной стороны, строгий расчет, а с другой — одержимость исследователя: раскрыть еще одну грань, еще одну возможность человека, совершенно новую, иную… Каждая повесть живет и сама по себе, но имеет также силу как часть целого, цикла». Это верно: при всем различии — никаких внешних сюжетных сцеплений нет, произведения Быкова образуют цельный художественный мир. Они перекликаются, проблемы, замеченные автором в других своих вещах, но оставшиеся в стороне, потому что он был сосредоточен на других, затем разворачиваются, выходят на первый план для скрупулезного исследования. Но все вместе для того читателя, которого в былые времена называли вдумчивым, они складываются в цельное сооружение, о котором говорил Адамович. Конечно, их объединяет позиция автора — мировоззренческая, нравственная, эстетическая, она фундамент. Но меняются в разных повестях, как сказали бы в кино, «точки съемки», возникают новые герои со своими драмами, выдвигаются новые проблемы. Об этом говорил в одном из интервью и сам Быков: «Иногда к проблемам, которых я только коснулся в какой-то повести (они были для меня боковыми), я возвращаюсь позже, чтобы заняться ими основательно». Стоит запомнить эти слова писателя, они помогают понять логику его творческого пути.
Одна картина давно преследовала Быкова, давно не давала ему покоя…
Об этом в «Сотникове», в начале так страшно окончившегося похода партизан: «Он прошел еще сотню шагов, силясь увидеть сквозь заросли привычно оснеженные крыши усадьбы. Однако его ожидание не сбылось — хутора не было. Зато еще потянуло гарью — не свежей, с огнем или дымом, а противным смрадом давно остывших углей и пепла…» Уничтоженную деревню обнаруживают в «Волчьей стае» Левчук и Грибоед: «Подойдя ближе, они увидели за обросшими сорняком изгородями обкуренные остатки печей, местами обугленные, недогоревшие углы сараев, раскатанные бревна в заросших травой дворах. От многих строений остались лишь камни фундаментов. Близкие к пожарищам деревья стояли, засохнув, с голыми, без листьев, сучьями. Высокая липа над колодцем зеленела одной стороной — другая, обожженная, странно тянула к небу черные ветви».
Куда ни пойдешь — одно и то же.
Каждый из этих эпизодов содержал в себе как бы зародыш, зерно той ситуации, которая во всех подробностях изображена в «Знаке беды». Но чтобы написать эту страшную историю, писателю пришлось расстаться с прежними своими героями, партизанившими в лесах и болотах Белоруссии. Они обычно видели лишь следы злодеяний и трагедий, наверное, догадывались, что произошло, но чтобы выяснить, какая трагедия и почему тут разыгралась, кто стал ее жертвами, они не могли даже в мыслях своих задержаться — надо было выполнять боевое задание, приказ и партизанские тревоги вели их дальше. Вместе с ними уходил и автор.
А в «Знаке беды» он остался там, где некогда была просторная хуторская усадьба, от которой мало что оставил огонь, — разве что опаленную с уродливым стволом липу, на которую, видно, чуя «дух несчастья, знак давней беды», никогда не садились прилетавшие из леса птицы. Он не пошел на этот раз за своими прежними героями, он остался здесь, чтобы узнать, что за люди жили на спаленном хуторе, какая беда обрушилась на них.
Чем могли угрожать оккупантам эти пожилые одинокие люди, что могли им сделать? Но и против них гитлеровцы вели безжалостную войну, если можно называть войной убийство безоружных, беззащитных, слабосильных. Но не зря они именовали развязанную ими войну «тотальной» и «истребительной».
Разумеется, ничего хорошего Петрок и Степанида не ждали от вражеской армии, понимали, что предстоят им тяжкие дни, но действительность оказалась ужаснее самых мрачных предчувствий, бесчеловечность захватчиков не знала границ. Но еще больше сокрушает их то, что у фашистов оказались прислужники, нисколько не уступающие им в жестокости и изуверстве, что палачествуют, истязают, глумятся «свои», выросшие здесь, на их глазах.
Как могло это случится? Откуда они могли взяться, эти фашистские «бобики»? Что творится на свете? Боль эта жжет героев повести. «Как же так можно, мысленно переспрашивал себя Петрок, чтобы свои — своих? Ведь в деревне испокон веков ценились добрые отношения между людьми, редко кто, разве выродок только, решался поднять руку на соседа, враждовать или ссориться с таким же, как сам, землепашцем. Случалось, конечно, всякое, не без того в жизни, но чаще всего из-за земли — за наделы, сенокосы, ну и скотину. Но теперь-то какая земля? Кому она стала нужна, эта земля, давно всякая вражда из-за нее отпала, а покоя оттого не прибавилось… И ничего не боятся — ни божьего гнева, ни человеческого».
В «Знаке беды» Быков с особой настойчивостью ищет корни явлений, старается определить силу воздействия обстоятельств, времени на поведение людей, на их характеры, раскрыть природу возникающих нравственных деформаций. Никогда прежде он не уделял столько места и внимания прошлому героев.
У прежних, в большинстве своем молодых его героев груз прошлого был, естественно, не так уж велик. А Петрок и Степанида прожили длинную — да еще какую! — жизнь, горестями и суровыми испытаниями судьба их не обделила. Колесо большой истории не миновало этот хутор в глухомани, каждый его оборот отзывался в жизни Петрока и Степаниды тяжело достававшимся убогим достатком, а то и «галочным» «трудоднем пустопорожним», надеждами и горькими разочарованиями. И за простой жизнью, за обыденными заботами о земле, о хлебе, о детях — встает судьба народная. Повествование в «Знаке беды» обретает эпическую перспективу. Автору пришлось держать в поле зрения не один эпизод, а уже всю жизнь своих героев. Он изменил той «модели» повествования, которой владел уже с таким совершенством, ему потребовалось обширное временное пространство, чтобы выявить одну из главных идей произведения.
Многое пришлось пережить Степаниде, многих драм участницей или свидетельницей стать, прежде чем ей открылось как непреложное: «Просто страшно подумать, как много иногда зависит в жизни, в судьбах от одного только слова, руки, даже чьего-то невинного взгляда. Особенно в такое время. Каким надо быть рассудительным, незлым, справедливым! Потому что твое зло против ближнего может обрушиться — и еще с большей силой — назад, на тебя самого, тогда, ой как сделается больно».
Нарисованные в повести картины 20–30-х годов точны, их нравственная проблематика корнями своими уходит в социальную почву той поры, конфликты отражают происходившую крутую ломку жизненного уклада деревни. И многое в этом прошлом обнажили война, оккупация. То, что тлело под спудом, взорвалось, обернулось трагедиями.
Горемычная крестьянская доля… Судьба Петрока и Степаниды, сначала бедствовавших в батраках — без земли, без собственной хаты, а затем надрывавшихся на своем участке трудной и скупо родящей земли — не случайно его прозвали Голгофой — эта судьба заставила их поверить, что организуемые колхозы откроют им дорогу в новую, более справедливую жизнь. Степанида решается одной из первых вступить на этот неведомый путь. Она надеется, верит, что ждет ее лучшая доля. Но не только о себе думает, не для себя одной старается. К новой жизни ее пробудили идеи, принесенные революцией: равенства, справедливости, свободы, и она делает все, что может, чтобы эти идеи воплотились в действительности, отстаивает их со свойственной ее натуре прямотой и неукротимостью. Справедливости — вот чего жаждет ее душа, новая жизнь должна быть прежде всего справедливой, тогда все устроится. На этом Степанида стоит твердо, непоколебимо. Эта крестьянка, освоившая грамоту лишь в ликбезе, но за плечами которой полный курс жизненных университетов, — человек идейный в самом точном и высоком значении этого слова. По-людски, по совести, по справедливости — этим она не поступится ни за что, ни при каких обстоятельствах, что бы ей ни угрожало. Ни запугать, ни заморочить ее нельзя. Она резче всех выступает против «перегибов» во время раскулачивания, без всякой робости выкладывает начальству все, что делается не так, организует коллективное письмо в защиту по навету арестованного председателя колхоза. И так же бесстрашно и непримиримо по отношению к захватчикам и к их местным прислужникам она вела себя в войну, во время оккупации. Степанида за правду, за свободу идет на костер — сжигает себя. Есть в повести, так сказать, доказательство и от противного, но столь же убедительное, — судьба Колоденка. Бедняк из бедняков — и своего угла нет, и одеться-обуться не во что, этот паренек, казалось бы, тоже горой за советскую власть, за новые порядки, за то, чтобы не было, не стало обездоленных. Но лишь человеку постороннему его селькоровские заметки и «сигналы» могли показаться убедительными — односельчане им цену знали, в сущности, это были доносы, — и сторонились, остерегались его. И когда в войну Колоденок нацепил повязку полицая, с рвением выполняя палаческие обязанности, все стало на свои места: выяснилось, что он из породы хамелеонов, готов прислуживать любой власти. Никаких принципов, кроме стремления любым способ угодить тем, кто стоит наверху, выслужиться перед ними и таким образом отхватить кое-что себе у него не было и нет.
Действие в повести разворачивается в первые месяцы фашистской оккупации, автор показывает зарождение народного сопротивления захватчикам, ту почву, на которой оно возникало. И тут образ Петрока в идейно-художественной структуре произведения не менее важен, чем образ Степаниды. Человек добрый, из тех, о которых говорят, что мухи не обидит, робкий, привыкший в отличие от Степаниды не спорить с обстоятельствами, а приноравливаться к ним, давно примирившийся со своим зависимым — и от людей, и от сложившегося порядка вещей — положением. Петрок поначалу еще надеется, авось обойдется, удастся пересидеть на своем хуторе в глуши лихое время, затаиться, в крайнем случае как-то откупиться от немцев и полицаев. Ничего из этого не вышло. Жизнь становилась такой ужасной, такой бессмысленной, что лучше смерть, чем это рабство.
В финале повести пылающая в огне хуторская усадьба, которую подожгла Степанида, чтобы живой не попасть в руки полицаев, воспринимается как символ занимающегося пожара всенародного сопротивления. Символична и бомба, на которой в последние дни жизни сосредоточены все чаяния и мысли Степаниды. Это, разумеется, не обычная бомба, вернее, значение ее в образном строе произведения выходит за пределы бытовой реальности — ну, что могла с ней в самом деле сделать Степанида? Бомба символизирует тот заряд ненависти, который рано или поздно неизбежно обрушится на захватчиков.
Я уже говорил о том, что какие-то ситуации, наблюдения — «болевые точки», замеченные Быковым, потом в последующих вещах разворачиваются, внимательно рассматриваются, становятся объектом многостороннего нравственного, психологического и социального анализа.
В финале «Сотникова» герой, истерзанный в полиции заплечных дел мастерами, опираясь на спину Рыбака, с трудом взбирается на стоящий под виселицей чурбан — «теперь, в последние мгновения жизни, он неожиданно утратил прежнюю уверенность в праве требовать от других наравне с собой». Наверное, ему не давало покоя чувство вины перед старостой Петром и Демчихой, которых они подвели под петлю, быть может, пожалел он и Рыбака — не проклял, а пожалел, что неплохой в общем парень покатился в пропасть, не сумел умереть, сохранив честь и достоинство.
Это отзовется, будет выдвинуто на первый план в повестях, написанных после «Знака беды».
Вот как начинается повесть «В тумане»: «Холодным слякотным днем поздней осенью на втором году войны партизанский разведчик Буров ехал на станцию Мостище, чтобы застрелить предателя — здешнего деревенского мужика по фамилии Сущеня».
Надо сказать, что даже первые начальные фразы в повестях Быкова задают точный эмоциональный тон разворачивающейся истории. «Атака сходу», начинается так: «Мы наступали. Погода выдалась такая, что хуже не придумаешь: весь день шел дождь пополам со снегом, мутная вода залила канавы. Грязь по дороге перемешалась со снеговой кашей, в которой противно хлюпали наши промокшие ноги». А это начало «Сотникова»: «Они шли лесом по глухой, занесенной снегом дороге, на которой уже не осталось и следа от лошадиных копыт, полозьев или ног человека».
И каждый раз непонятно, что сулит, куда выведет такая дорога. Но, кажется, что на этих дорогах сам воздух пахнет смертью…
Сама будничная интонация фразы, с которой начинается повесть «В тумане», наводит на мысль о том, что жизнь человеческая мало чего стоит — туман кровавый. Так много жертв, так много льется крови, что привыкли и к тому, к чему вроде бы и привыкнуть невозможно.
Чем же провинился Сущеня? Бригада железнодорожных рабочих, которую возглавлял Сущеня, пустила под откос поезд. Сработано было не очень чисто, но немцев, сразу схвативших их и избивавших до полусмерти, видно, не слишком занимало, они или не они это сделали, за диверсию, чтобы другим был урок, кто-то должен быть беспощадно наказан, подозрение пало на них, и судьба их была предрешена. Но казнили троих, а Сущеню почему-то выпустили. Слух об этом дошел до партизанского отряда, и хотя никто из командиров никогда в глаза Сущеню не видел, там решили: раз выпустили, значит предал товарищей — история ясная, как может быть иначе, чего в ней разбираться? Да и инерция въевшихся представлений от действий «троек» НКВД толкала на путь таких скорых приговоров — кто тогда считался с тем, виноват ли или не виноват обвиняемый, осудили, и все. Привыкли к такому неправедному порядку вещей… Вот и Буров считает, что Сущеню приговорили справедливо. Но что-то ему мешало, не давало покоя. Дело в том, что он этого Сущеню знал по своим детским годам — его и послали, потому что он родом отсюда. И относился к нему с симпатией — тот был разумным добрым парнем. Но, наверное, он приказ бы выполнил. Но тут вмешался случай, как это бывало, рушивший планы. Войтик, посланный на задание вместе с Буровым, проморгал подъехавших полицаев. Те тяжело ранили Бурова, а Сущеня не бросил его, а тащил на себе, подальше от полицаев, надеялся спасти. И угасавший уже Буров поймет, что сомнения у него были не зряшные, что он мог бы убить ни в чем неповинного человека, взял бы тяжкий грех на душу. Погиб в схватке с полицаями и Войтик, который был напарником Бурова. И Сущеня понимает, что, хотя ему повезло, он, приговоренный партизанами к смерти, чудом остался жив, деваться ему некуда, кольцо недоверия ему разорвать не удастся, его будут считать виновным в гибели партизан, которых он старался спасти. «Жить по совести, как все, на равных с людьми он больше не мог, без совести он не хотел… Человек не все может. Иногда он не может ничего ровным счетом. Погибли же эти люди, партизаны и патриоты. Чем он лучше их? В их смертный час он был вместе с ними и, наверное, уже потому заслужил такую же участь… Его вольная воля — может, то единственное, что в нем осталось никому неподвластным. Все-таки он умрет по собственному выбору… Пусть хотя бы это утешит его в горький час. Другого утешения себе он не находил…» Этими размышлениями Сущени, покончившего с собой, завершается повесть «В тумане».
В повестях Быкова, о которых уже шла речь, и тех, к которым тянутся смысловые линии от повестей «Знак беды» и «В тумане», всегда есть еще один, кроме персонажей, герой, очень важный для автора, может быть, самый важный, — Время. Разными своими гранями, так или иначе оно воздействует на судьбу каждого персонажа, и чтобы понять их до конца, надо постичь его. Для Быкова очень важны закономерности времени, движение истории, творимой людьми и подминающей людей, но воспринимаемой ими как хаос обыденной сегодняшней жизни. Быков размышляет над атмосферой времени, незаметно подчинявшей себе людей, определявшей и ограничивавшей не только их возможности, но и их побуждения — даже тогда, когда его героям кажется, что они поступают по собственной воле, они находятся в зависимости от атмосферы времени, проникающей во все поры действительности.
Есть внутренняя связь между Степанидой из «Знака беды» и героем повести «Стужа»: одни и те же исторические обстоятельства ставят их перед выбором — как вести себя. Степанида действует по совести, наперекор тому, что требуется и одобряется. Азевич выбрал другую стезю — приспосабливался, выслуживался, делал все, что прикажут. И вот война… Действие в «Морозе» происходит в рано оборвавшую осень свирепую зиму проклятого сорок первого года. В такую злую холодину добрый хозяин и собаку из хаты не выгонит, а каково человеку, которого война лишила приюта и крова, каково ему под пронизывающим ледяным ветром в поле или скованном морозом лесу? Не только немцы и полицаи, но и эта стужа может загнать в могилу — не от пули, от простуды умирает бывший, районный прокурор, ставший комиссаром партизанского отряда. Вряд ли кто-нибудь из этого маленького отряда, состоявшего большей частью из местных руководящих работников, как тогда их именовали, из районного актива, уходя летом в первые дни войны в лес, думал, что это надолго, — верили, что Красная Армия вот-вот оправится от «вероломного» удара немцев, соберется с силами и через несколько недель, самое большее, через три-четыре месяца погонит захватчиков на запад, отобьет захваченную врагами землю, и они героями возвратятся в свои райкомы, райисполкомы, суды. В голову не могло прийти, в самом страшном сне привидеться, что фронт откатится до самой столицы. А может, и она уже у немцев, нынче здесь, в глухомани, даже не узнаешь толком, «где она, Россия, по какой рубеж своя». Да и отряду их к зиме пришел конец: кто погиб в схватках с немцами, кто попал в лапы полицаям, а кто, решив, что война проиграна и надо пока не поздно спасать свою шкуру, поладить с новой властью, подался в полицаи, стал фрицевским прислужником.
Вот так оно и случилось, что, похоронив комиссара, Азевич, бывший инструктор райкома, остался один в лесной землянке отряда. Что делать дальше? Еды не осталось ни крошки. Да и какая война в одиночку? Надо отсюда выбираться, может, если повезет, отыщет он какой-нибудь более удачливый отряд и прибьется к нему. Но к людям, в село или хутор, соваться опасно, можно головой поплатиться — он это понимает, уже были случаи, когда предавали. Азевич пытается это как-то объяснить себе — на ум сразу же приходит твердо усвоенное на курсах и семинарах, с тех пор навязшее на зубах: «Прежде чем к кому-либо наведываться, надо хорошенько подумать, припомнить, чем тот дышал в недавнее предвоенное время, в годы классовой борьбы, разоблачения врагов народа. Пусть тогда и вырвали многое с корнем, но, наверное, не все». И вроде бы ему все ясно, все просто. Вроде бы… Есть, однако, в скитаниях от села к селу по незнакомым дорогам, без какого-либо плана в надежде на счастливый случай все сильнее заболевающего Азевича одна странность, свидетельствующая, что не так уж он уверен теперь в правоте внушавшихся ему и затверженных им истин о «классовой борьбе» и «врагах народа», какой-то червь сомнений грызет его. Неподалеку — всего-то десяток километров — начинается его район, где прожил он всю свою жизнь, который изъездил, исходил вдоль и поперек, помнит каждый хутор, каждую рощицу, каждую тропинку, знает множество людей и его там хорошо знают. Казалось бы, что тут думать, яснее ясного, что надо отправляться туда. Но что-то останавливает Азевича, не дает ему повернуть в эту сторону. Он не додумывает, боится додумать до конца. Что же его не пускает, почему ему заказана дорога в родные места? Но в горячечном бреду одолевшей его простуды всплывают как кошмарный сон эпизоды его жизни, вытесненные в подсознание, потому что слишком тяжко было вспоминать об этом. Много зла там было сотворено при его прямом участии, его руками, во многие хаты, даже в собственный дом принес Азевич беду. Это он силой загонял в колхозы, выбивал план хлебозаготовок и всяких других поставок, забирая у селян последнее, обрекая их на голод, это он помогал разоблачать «врагов народа». Правда, не по своей воле и охоте Азевич все это делал — где-то в заоблачных высях верховной власти принимались решения, облеченные в жесткие, категорические, но сулящие светлое будущее слова, которым Азевич верил. Непосредственное его начальство отдавало строгие приказы, которых он не осмеливался ослушаться, старательно выполнял все, что требовалось. Но тем, на кого он обрушивался, кому от него доставалось, какое было дело, что действовал он не по своей воле. Для них он был тем топором, который крушил их жизнь. Вряд ли это забыли. Так что туда, в свой район, ему нечего соваться.
В районное начальство он попал волею случая. Впрочем, не такого редкого в ту пору: требовалось взамен выводимых в тираж стараниями НКВД свежие кадры, не отягченные самостоятельным жизненным опытом, с девственно чистыми анкетами, не рассуждающие, готовые к беспрекословному подчинению. Ну и он, простой крестьянский парень, послушный, исполнительный, безропотный, подвернулся. В общем глина, из которой без труда можно лепить то, что требуется. Не шибко грамотный — не беда, послали на курсы. Там научили произносить речи, составленные из газетных передовиц, а главное — проводить следовавшие одна за другой разные «кампании», выбивать все, что намечено в спущенных начальством «контрольных цифрах». Воспитанные в трудовой семье его патриархальные представления о том, что хорошо, а что плохо, были разъедены ядовитым туманом демагогии. «Обжиг» был завершен постоянно нависающим страхом. Азевич оказался там, где происходила главная «сшибка» между государственными повелениями и повседневными жизненными интересами и заботами простых людей. От него требовалось послушание и выполнение всех указаний, и стал он жить по принципу: куда денешься, если служба требует.
Один из консервативных деятелей девятнадцатого века призывал: Россию надо подморозить, чтобы крепко стояла, чтобы не было смуты, чтобы жили в страхе, не роптали, беспрекословно подчинялись властям. Цели этой достиг в двадцатом веке Сталин: такой жуткой стужи, от которой цепенело все живое, страна еще не знала. Название повести Быкова несет в себе двойной смысл — это не только суровые ранние холода сорок первого года, но и свирепая стужа правящего страной режима, заморозившая в обществе здравый смысл и совесть. И история Азевича в повести Быкова — это не просто история одной сломанной этим режимом судьбы, нравственного падения одного человека, за ней встает картина замороженного, изуродованного, нравственно деформированного диктаторскими порядками общества, в котором бесчеловечность и беззаконие приобрели государственный размах и государственный статус, проникли всюду.
Но для многих замороченных, запуганных, заледеневших трагические потрясения сорок первого все-таки были началом прозрения, пробуждения.
Как писал Борис Слуцкий:
Плохие времена тем хороши, Что выяснению качества души Способствуют и казни, и война, И глад, и мор — плохие времена.Вот и у Азевича, хлебнувшего отрезвляющих испытаний войны, стала оттаивать совесть, он задумался — раньше он отгонял эти мысли или глушил водкой — об ответственности своей и общей за то, что было, за то, что делали с людьми, как над ними измывались.
Этой теме проснувшейся совести, покаяния посвящена следующая повесть Быкова — «Карьер». Мерой писателю здесь служат общечеловеческие идеалы, сама жизнь как самая высшая абсолютная ценность. Кажется, ни в одной из его прежних вещей это не утверждалось так прямо, открыто и страстно. Он сам, не очень охотно комментирующий написанное им, говорил об этом: «Героизм, долг, ответственность, самоотверженность… Обычно критика, разбирая мои предыдущие повести, выделяла в них психологическую разработку именно этих, очень важных на войне и, разумеется, не менее существенных в мирной жизни нравственных понятий. В „Карьере“ я пытался взглянуть несколько дальше, обратиться к фундаментальным ценностям человеческого бытия. Непреходящая ценность, может быть, самая важная — человеческая жизнь. Об этом стоит помнить всегда».
Трагический конфликт «Карьера» уходит в те слои общественной атмосферы военного и предвоенного времени, которые затем не очень-то выставлялись напоказ литературой, старательно обходились в исторических трудах и тем более в учебниках. В «Карьере» рассматриваются эти трагические хитросплетения действительности. Полк героя повести Агеева, беззащитный перед авиацией и танками, в первые дни войны был разгромлен, а он сам, чудом уцелевший, чудом вырвавшийся из окружения, избежавший плена, с развороченной осколком ногой, добрел вместе с однополчанином до белорусского местечка, надеясь найти там какой-то приют, какое-то убежище, где можно залечить рану, а потом пробираться к линии фронта, к своим, чтобы занять место в армейском строю. Агеев никогда не стремился к легкой жизни, не боялся трудностей и невзгод, как человек военный был готов идти в бой, в огонь, но прежде ему все было ясно, во всех ситуациях, которые он только мог себе представить, он знал, как вести себя, что делать. Он ощущал себя частицей великого целого.
И вдруг рухнул незыблемый, не вызывавший никаких сомнений порядок вещей: немыслимо отступала, терпела одно за другим тяжкие поражения его армия, которая, ему это внушали и он в это верил, должна была побеждать — «малой кровью» «на чужой территории»; не укладывалось в сознании, но у фашистов оказались готовые на все прислужники и подручные и среди них — совсем невероятно — даже вчерашние командиры нашей армии. Уходила почва из-под ног — было от чего терять голову, приходить в отчаяние. Раньше, попав в сложный переплет, он мог уповать на прозорливость начальников, рассчитывать на помощь товарищей, стоящих рядом в одном с ним строю, наконец, руководствоваться уже сложившимся общим мнением. А теперь он должен был противостоять бедам, обступившим его со всех сторон, опираясь лишь на собственное мужество, разумение, прозорливость, совесть. Многое в сознании Агеева смещено, перевернуто, многое он принимал на веру, не задумываясь. Его, скажем, мало смущает несправедливые жестокие преследования священника Барановского, он привык считать, что это в порядке вещей: религия — опиум для народа, попы — коварные противники нового строя, готовые на все в борьбе с ним; он поражен, узнав, что Барановский был добрым и хорошим человеком, никому не делал и не желал зла, заботился о благе и просвещении прихожан, даже принял народную власть. Он бы нисколько не удивился, если бы вдова священника, вынесшая столько горя и обид от советской власти, встала на сторону фашистов, а она считает их злейшими врагами, всем, чем может, помогает тем, кто с ними борется. Агеева это поражает, он не может толком понять, что ею движет. Война поставила под сомнение многое из того, в чем он никогда не сомневался, — жизнь, в которой вроде бы все было ясно определено и заведомо известно, оказалась своевольной, сложной и запутанной, — не разглядишь, что там впереди, на каждом шагу можно оступиться, да так, что уже не встанешь. К этому Агеев не был готов, тут не годились многие из затверженных им истин, — иные оказались несостоятельными, а он не понимал, что направляют они не на путь истинный, а в тупик. Не попади Агеев в такой переплет, разве можно было предположить, что посеянная в его душе подозрительность обладает столь разрушительной силой, способна затуманить голову, толкнуть на поступки, глубоко чуждые его натуре? А в ситуации он оказался в самом деле безысходной: он рассказал товарищам по подполью, что ему пришлось дать полицаям подписку о сотрудничестве, надеясь, что они помогут ему (других связей у него нет) убраться куда-нибудь подальше от местечка, лучше всего в лес к партизанам. Но стоило им узнать об этой злополучной бумажке, как между ними и Агеевым выросла незримая стена. На нем поставили крест, не собираясь разбираться в этой непростой истории. Но ведь и он в этих обстоятельствах поступил бы точно так же. Это было для него самым страшным: логика, требовавшая, чтобы на нем поставили крест, была и его логикой. В страхе быть заподозренным и была настоящая причина нравственного слома Агеева. В сущности он подставил Марию — девушку, которую полюбил, послав ее с толом — так он хотел оправдаться, рассеять подозрения — все это кончилось бедой. Почувствовав на своей шкуре, каково приходится тому, к кому относятся с заведомой предвзятостью, кто возникшим подозрением заранее осужден, Агеев начинает осознавать, что порочный круг подозрительности нельзя разорвать, не изменив отношения к человеку, к цене его жизни — в этом суть: «Оставшись один, он стал думать, почему так устроены люди, что вот появляется маленькая неясность, и уже готовы усомниться, готовы поверить нескольким окольным фактам и не верить долгим годам дружбы, знакомства, совместной работы, наконец, испытанию смертью, которое они недавно совместно выдержали. Но неужели Молокович тоже усомнился в его честности, неужели подумал хоть на минуту, что он двурушник и может предать? Но ведь, наверно, подумал? Наверно, думать так было привычнее? Или проще? Или, возможно, практичнее, дальновиднее? Но если дальновиднее, как же тогда его человеческая судьба? Или в такой обстановке одна судьба ничего не стоит? Так сколько же судеб чего-нибудь стоят? Сто? Тысяча? Десять тысяч? Нет, видно, если ничего не стоит одна, так мало стоят и десять тысяч».
«Карьер», как и другие партизанские повести Быкова, написан спокойно, сдержанно — ни одной патетической или сентиментальной ноты, автор нигде не повышает голос — он не выдает своих чувств и тогда, когда Агеева и его товарищей по подполью осенней ночью расстреливают полицаи, и тогда, когда через столько лет его герой, чудом оставшийся в живых, приходит к обелиску, где покоятся те, с кем он был рядом в ту страшную ночь. Стиль Быкова аскетичен, интонация не педалируется, но при этом он глубоко проникает в суть проблем, которые наш безжалостный век ставил перед человеком. Тем сильнее его проза действует на читателя. Видно, все-таки не зря говорят, что тихие воды глубоки…
Тревога Быкова, его боль, родившие «Карьер», — понизившееся уважение к человеческой жизни. И было это при нас, происходило на нашем веку, на наших глазах. Кто на фронте не слышал, как о пехотинцах говорили: «спички». Прав быковский герой: если ничего не стоит судьба одного человека, то не будут жалеть и тысячи и десяти тысяч, количество нулей можно увеличивать и увеличивать, никаких нравственных преград для этого нет. Вырубая в свое время леса, люди не отдавали себе отчет, какие это может повлечь в будущем тяжелые экологические последствия. Как же бережно надо обращаться с человеческим лесом!
«Раскопки», которые ведет в своей памяти Агеев, — в сущности, это нравственный суд над собой, над своим прошлым. Но есть ли смысл в таком суде, в этом покаянии, дает ли он что-нибудь, нужно ли, как нынче говорят с осуждением, ворошить прошлое? Сыну Агеева все это кажется «псевдопроблемами», блажью, разрушительным нравственным «самоедством». «Для очистки совести», — отвечает Агеев сыну, недоумевающему, зачем это отец, немолодой и очень больной человек, надрывает сердце и силы в поисках того, что ушло в прошлое, превратилось в призрак. Сам этот словесный оборот — «для очистки совести» — с годами все больше утрачивал у нас свой прямой смысл, приобретая все чаще и чаще значение пустого, формального, перестраховочного занятия. И не может не радовать, что в последнее время слова «для очистки совести», «по совести», «суд совести» стали обретать свое истинное первоначальное содержание.
Нелегко дается Агееву расчет с прошлым, он ведь и прежде не лукавил, поступал так, а не иначе, полагая, что действует правильно. Время и пережитое, давшееся ему столь тяжело, заставило его переоценить некоторые из былых ценностей, ему стало ясно, что он жестоко ошибался. И какими бы благими намерениями, какими бы высокими соображениями — так они воспринимались им тогда — ни продиктованы эти его былые ошибки, он их сегодня простить себе не может, не может снять с себя вину. Оправдать себя, переложить на кого-то или на что-то ответственность, чтобы как-то поладить со своей совестью — для него значило предать и свое прошлое, и выстраданный трудный опыт. Каким бы мучительным ни был и для человека, и для общества расчет с прошлым, он целителен, без этого и думать нечего об иммунитете от тех болезней, что отравляли нам существование в былые времена и осложнения, которые мы ощущаем и ныне. Без этого не избавиться от повторения эпидемий в будущем.
Василь Быков — самый крупный, самый талантливый, всеевропейского масштаба белорусский писатель XX века. Его книги переведены на многие языки. Он прославил родной язык, родную литературу, свой народ. Наверное, в другой стране при других ее руководителях к такому писателю относились бы как к национальному герою, гордости народа, а не сживали бы со света. И как ни противились этому нынешние правители Белоруссии, похороны Быкова в Минске стали выражением народного признания, собрали многие сотни людей, народ чтил в нем апостола правды и совести. И хотя Быков не испытывал никакого интереса к монументальным выражениям чувств, я осмелюсь сказать, что придет время, когда это народное признание будет реализовано в памятнике, который, быть может, поставят неподалеку от Танковой улицы, где в маленькой квартире на десятом этаже он жил, где был его дом, в который ему так и не дали вернуться. Кто знает, может быть, эта пора уже не за горами…
Я надеюсь, что меня в Белоруссии не обвинят в имперской экспансии, если скажу, что Быков неразрывно связан с русской литературой, с русским литературным развитием, что великое множество русских читателей считает его своим писателем. Спора нет, он замечательное вершинное явление белорусской словесности. Писал он на белорусском, это был его «материнский» язык. Не раз говорил и писал, что переводы на русский давались ему труднее, чем первоначальный белорусский текст. Кстати, и переводить свои вещи на русский он стал, заметив, что некоторые переводчики сглаживают углы, приспосабливают текст к начальственным требованиям и пожеланиям.
Все это так. Но очевидно, что его проза как на фундамент опирается на русскую классику. Это подтверждают те страницы его последней мемуарной книги «Долгая дорога домой», где он рассказывает о прочитанных в школьные годы книгах. «Книжный мир стал для меня, — писал он, — не менее реальным, чем тот, в котором я жил, однако влияние на формирование души книги оказывали более важное, нежели реальность». Да, именно на «формирование души», хочу это подчеркнуть, на складывавшиеся его представления о добре и зле. Не случайно в критической литературе о Быкове так часто называют Толстого, Достоевского, Гаршина. Речь идет не только о верности эстетическим традициям высокой классики, но и о борьбе со злом и истоках человечности, которую защищал в своем творчестве Быков. Я уже приводил слова Алеся Адамовича, который говорил о том, что «быковская повесть» стала понятием, выходящим за пределы белорусской литературы. Разумеется, Адамович имел в виду прежде всего русскую литературу. Это подтверждает и Юрий Трифонов. Говоря о нашей литературе, о войне, он заметил, что писателям следует «идти дальше, в сегодняшний день, находить в военной теме болевые точки, которые болят до сих пор» — и в качестве примера, на который следует ориентироваться, назвал Быкова. В самом деле, начав как один из авторов «лейтенантской» прозы, задача которой была в том, чтобы показать, какими в действительности были война, фронт, окопы, Быков затем предложил литературе о войне новое направление, иные задачи — исследование вечной и всегда новой для литературы проблемы: человек и враждебные ему обстоятельства, иногда закаляющие его, пробуждающие великую энергию сопротивления, чаще уродующие, разлагающие, разрушающие душу. Быков одним из первых в литературе послесталинского времени очень определенно и последовательно отверг десятилетиями пропагандировавшееся как высшее достижение общественной истории и социального опыта так называемую классовую мораль (нравственно то, что служит пролетарскому делу и коммунистической партии, все остальное отбрасывается). Развенчанию этого идеологического фетиша, проникшего, подобно раковой опухоли, во все клетки нашей жизни, посвящено его творчество. Решительно отвергает Быков и такие «уточнения» понятия «гуманизм», как «революционный», «пролетарский», «социалистический», справедливо считая, что они представляют собой замаскированный государственно-политической демагогией отказ от подлинного гуманизма.
Книги Быкова — органическая часть русской литературы о войне, и в сознании русского читателя занимают такое место, что вырвать их оттуда можно только с мясом, с кровью — останутся ничем незаполненные зияния.
Много было в оставшихся за нашими плечами прожитых десятилетий тяжкого, но, кажется, самой большой бедой был дефицит человечности. Сейчас мы шаг за шагом это осознаем с особой остротой и болью, осознаем, что без нравственного суда над собой, без нравственного самоочищения, покаяния не может жить достойно ни человек, ни общество. Творчество Быкова несет в себе уроки последовательной, ничем незамутненной человечности. Непреходящие уроки — необходимые не только настоящему, но и будущему. «Жить по совести нелегко. Но человек может быть человеком, и род человеческий может выжить только при условии, что совесть людская окажется на высоте», — говорил Быков. Процитировав его, я вспомнил, что об этом столь же страстно говорил академик Лихачев: «Путь к раскаянию может быть долгим и трудным. Но как же украшает мужество признать свою вину — украшает и человека, и общество.
Тревоги совести… Они поддерживают, учат; они помогают не нарушать этических норм, сохранять достоинство нравственно живущего человека».
Они, известный ученый, так много сделавший в сфере наших гуманитарных наук, и писатель, беззаветно служивший правде, были людьми разных поколений, разного жизненного опыта. Но оба они одинаково жили тревогами совести, ее велениями. Не надо этому удивляться!
Ради жизни на земле (Сталинград в творчестве Василия Гроссмана)
В 1960 году Василий Гроссман напечатал статью о замечательном писателе, своем старом друге Андрее Платонове, который после того как Сталин в 1929 году заклеймил как кулацкую выходку его повесть «Усомнившийся Макар», стал сладострастным объектом официозной критики. Гроссман писал о том, что книги Платонова не переиздают, что многие из них лежат в рукописях, не увидев свет. Писал о высокой миссии литературы, которая превращает духовное богатство, сердце отдельного человека в достояние всех.
Начиналась эта статья так: «Известность писателя не всегда находится в полном и справедливом соответствии с его действительным значением и местом в литературе. Время — генеральный прокурор в делах о незаслуженной литературной славе. Но время — не враг истинным ценностям литературы, а разумный и добрый друг им, спокойный и верный хранитель». Не сомневаюсь, что Гроссман, когда писал эту статью, думал и о своей судьбе, которая была сродни судьбе Платонова — и его официозная критика била смертным боем: первый раз вскоре после конца войны за пьесу «Если верить пифагорейцам», второй после напечатанной в феврале 1953 года по указанию Сталина в «Правде» погромной статьи Бубеннова о романе «За правое дело», положившей начало развернувшейся кампании травли Гроссмана и шельмования его романа: редколлегии «Нового мира» пришлось писать покаянное письмо, осуждая себя за допущенную серьезную ошибку, такого же самоосуждения требовали от Гроссмана.
Когда печаталась статья Гроссмана о Платонове, рукопись только что законченной им «Жизни и судьбы» лежала в редакции «Знамени». И хотя была уже «оттепельная» пора, Гроссман понимал, что ничего хорошего его не ждет, даже если «Знамя», решится печатать его роман (в архиве литературы и искусства хранится двенадцать вариантов рукописи романа «За правое дело» — редактировали, не ленились!). Гроссман понимал что в самом лучшем случае впереди у него что-то подобное. Правда, уже прошел XX съезд партии, но незадолго до этого была проведена показательная устрашающая кампания травли Бориса Пастернака, завершившаяся исключением его из Союза писателей. Гроссман чувствовал нависшую опасность, но представить себе не мог, что рукопись романа у него конфискуют (ее потом, уже в «перестроечную» пору, не обнаружили ни в архиве ЦК, ни в архиве госбезопасности, скорее всего, ее уничтожили); за Гроссманом установили слежку, «жучки» записывали все разговоры, которые были у него дома (эти сообщения — доносы КГБ нынче опубликованы).
Кажется, такого оборота дела Гроссман все-таки не ожидал, хотя, понимая, что власти не церемонятся с теми, кого посчитают своим противником, некоторые меры предосторожности предпринял, благодаря чему «Жизнь и судьба» уцелела — можно сказать чудом уцелела! Через много лет после этого один бывший сотрудник ЦК, разговаривая со мной, дал мне понять, что решался вопрос — расправиться ли с самим Гроссманом или забрать и уничтожить рукопись его романа (похоже, что этот вариант в ЦК посчитали более «гуманным»). После ареста рукописи Гроссман послал гневное письмо Хрущеву. Он писал: «Эта книга мне так же дорога, как отцу его честные дети. Отнять у меня книгу — это то же, что отнять у отца его детище… Нет смысла, нет правды в нынешнем положении, — в моей физической свободе, когда книга, которой я отдал свою жизнь, находится в тюрьме, — ведь я ее написал, ведь я не отрекаюсь от нее». Это было отчаянное письмо, это был вызов — Гроссман словно бы набивался на арест, на тюрьму. Принявший его после этого письма Суслов приговор руководства Союза писателей и цековских чиновников подтвердил: рукопись не вернут.
Что говорить, трудно сложились жизнь и литературная судьба Гроссмана. А ведь начало складывалось не просто вполне благополучно — литературный дебют Гроссмана был блистательным.
«…Все мы, нынешняя литературная генерация, выпорхнули на свет из широкого горьковского рукава» — эта давняя фраза Леонида Леонова приобрела статус историко-литературной формулы. Многое она объясняет и в судьбе Гроссмана. В той литературной генерации, которую тогда пестовал и направлял Горький, Гроссман был одним из последних. В 1932 году к Горькому попала рукопись двух первых произведений Гроссмана — рассказа «Три смерти» и повести «Глюкауф». Сочинения эти Горький подверг довольно суровой критике, однако закончил свой отзыв словами, которые обнадеживали начинающего автора: «Человек он способный…» Гроссман после этого засел за серьезную переработку «Глюкауфа» и в апреле 1934 года представил редакции новый вариант.
Что было дальше, рассказал через много лет сам Гроссман: «Помню, что я отнес рукопись в редакцию альманаха во второй половине дня, а на следующий день мне сообщили, что Горький уже прочел мой роман. Рукопись была одобрена Горьким и принята им к печати в альманахе „Год XVII“. При втором чтении „Глюкауфа“ им было сделано несколько замечаний.
В апреле 1934 года в „Литературной газете“ был опубликован мой первый рассказ „В городе Бердичеве“, Горький прочел этот рассказ и в мае пригласил меня к себе в Горки.
Эта встреча (5 мая 1934 года) навсегда сохранится в моей памяти. Сперва Горький расспрашивал меня о моей работе, затем заговорил об общих вопросах — о философии, религии, науке. Помню, что говорил он также о том, как по-новому формируется характер людей в новых советских социальных условиях, приводил примеры.
Та встреча с Алексеем Максимовичем в большой степени повлияла на мой жизненный путь.
В это время я еще не был литератором-профессионалом. Алексей Максимович посоветовал мне всецело перейти на литературный труд».
Вот что к этому надо добавить. Горький был не единственным, кто заметил и отметил первый рассказ Гроссмана. Кроме него это сделали такие строгие судьи, как Бабель и Булгаков. Наверное, стоит напомнить и о том, что Горький был противником поспешной литературной профессионализации — для Гроссмана, видно, сделал исключение. Похоже, что встреча с Горьким произвела на Гроссмана большое впечатление — во всяком случае его самая большая предвоенная вещь — роман «Степан Кольчугин» (написаны были две части, после войны Гроссман не стал продолжать эту вещь) ориентирован на горьковскую традицию.
Так родился писатель. Пришел он в литературу из гущи жизни — провинциальной, шахтерской, заводской, хорошо знал, как живут рабочие, техники, инженеры. Он многое успел повидать в годы своей юности и молодости. Помнил гражданскую войну на Украине — эти впечатления отозвались в ряде его произведений. Родители Гроссмана принадлежали к той низовой интеллигенции (отец — инженер-химик, мать — преподавательница французского языка), которой в 20–30-е годы материально жилось очень нелегко: концы с концами сводились с большим трудом, в школе и в университете ему пришлось постоянно подрабатывать на жизнь. Он был и пильщиком дров, и воспитателем в трудовой колонии беспризорных ребят, нанимался на летние месяцы в Среднюю Азию во всевозможные экспедиции. В 1929 году Гроссман окончил химическое отделение физико-математического факультета Московского университета и уехал в Донбасс. Там работал в разных должностях в разных местах. Заболел туберкулезом, врачи рекомендовали ему переменить климат, он переехал в Москву, поступил на работу на карандашную фабрику имени Сакко и Ванцетти — был там старшим химиком, заведующим лабораторией и помощником главного инженера. Многое из того, что происходило тяжелого в стране, не минуло его: арестовали жену, на его руках остались два ее мальчика, он добивался ее освобождения.
В те годы Гроссманом был накоплен большой запас жизненных впечатлений, так или иначе отзывавшийся и в том, что он писал тогда, и в его более поздних произведениях. Но ни с чем не сравнимым испытанием и школой постижения глубин народной жизни стала для него война, которую всю он от начала до конца провел в качестве фронтового корреспондента «Красной звезды». Война, как и многим людям, ему принесла много горя: на всю жизнь осталась у него незаживающей раной смерть матери, уничтоженной гитлеровцами в еврейском гетто Бердичева. После войны вместе с Эренбургом он составил «Черную книгу. О злодейском повсеместном убийстве евреев немецко-фашистскими захватчиками во временно оккупированных районах Советского Союза и в лагерях Польши во время 1941–1945 гг.» Набранную и подписанную в печать книгу не выпустили, отпечатанные листы пошли под нож. Книгу вышла только в 1993 году. В Сталинграде погиб племянник Гроссмана Беньяш, командовавший там батальоном.
Война стала для Гроссмана главным событием жизни, определив и литературную задачу, которую он для себя считал самой важной. Пережитое и увиденное в те годы его не отпускало… В статье «Памяти павших», опубликованной «Литературной газетой» к пятилетию начала войны, 22 июня 1946 года, Гроссман вспоминал: «Мне пришлось видеть развалины Сталинграда, разбитый зловещей силой немецкой артиллерии первенец пятилетки — Сталинградский тракторный завод. Я видел развалины и пепел Гомеля, Чернигова, Минска и Воронежа, взорванные копры донецких шахт, подорванные домны, разрушенный Крещатик, черный дым над Одессой, обращенную в прах Варшаву и развалины харьковских улиц. Я видел горящий Орел и разрушения Курска, видел взорванные памятники, музеи и заповедные здания, видел разоренную Ясную Поляну и испепеленную Вязьму».
Здесь названо еще далеко не все — Гроссман видел и форсирование Днепра, и только что освобожденный нацистский лагерь уничтожения — Треблинку, и агонию Берлина. И всюду — огонь, дым, пепел…
Процитирую фронтовые записные книжки Гроссмана — они раскрывают, что стояло для него за теми местами, которые он только упоминал в статье. Это запись сорок первого года — Гомель: «Горящий Гомель. Выбежал человек и кричит: „Пожар!“ Все сидят на мостовой и молча смотрят, он оглянулся и тоже сел — горел весь город. Огромное здание склада сгорело — на стене сохранилась надпись: „огнеопасно“. Гомель горит, и когда рушатся дома, странно, точно лес вырастают сквозь рушащиеся стены и крыши розовые от жара трубы. Их много: тонких, высоких — лес».
А это сорок второй год — Сталинград, город сожжен немецкими бомбардировщиками: «Мертво. Люди в подвалах. Все сожжено. Горячие стены домов, словно тела умерших в страшную жару и неуспевших остыть… Среди тысяч громадин из камня, сгоревших и полуразрушенных, чудесно стоит деревянный павильон, киоск, где продавалась газированная вода. Словно Помпеи, застигнутые гибелью в день полной жизни».
Вспоминая в процитированной мною статье пережитое и увиденное на войне, Гроссман не случайно, пренебрегая хронологией событий, на первое место поставил Сталинград. Сталинград был в его фронтовой судьбе самой высшей точкой, самым трудным испытанием, многое открыл, помог понять.
Стоит напомнить о том, чем тогда был Сталинград, в котором шли невиданного ожесточения бои. Процитирую фронтовой дневник Симонова, он помогает это понять: «…Меня среди ночи вызвал Ортенберг (главный редактор „Красной звезды“ — Л. Л.), посадил напротив себя и сказал, что скоро полетит под Сталинград и чтобы я готовился лететь с ним. Во мне что-то дрогнуло. Кажется, я испугался поездки. Ортенберг, ожидавший от меня быстрого и положительного ответа, с удивлением посмотрел на меня. А я, понимая, что, конечно же, поеду, в то же время не мог задушить в себе тревогу. Не знаю, как кому, а мне Сталинград казался чем-то очень страшным. Мысли о нем связывались с мыслями о смертельной опасности…» Это писал о Сталинграде человек, которому до этого в первый год войны не раз приходилось выбираться из очень опасных ситуаций.
Гроссман попал в Сталинград в первые дни обороны города и был свидетелем и участником того, что там происходило потом — до самого конца. Сохранились его записные книжки той поры, они показывают что не понаслышке он знает, что и как там было, многое на себе испытал. Вот для примера запись о его переправе через Волгу: «Жуткая переправа. Страх. Паром полон машин, подвод, сотни прижатых друг к другу людей, и паром застрял, в высоте Ю-88 пустил бомбу. Огромный столб воды, прямой, голубовато-белый. Чувство страха. На переправе ни одного пулемета, ни одной зениточки. Тихая светлая Волга кажется жуткой, как эшафот». Этот путь Гроссману пришлось проделать не один раз: передать материал в редакцию, да и писать можно было только на левом берегу, а собирать материал — на правом. Судя по дневниковым записям, Гроссман побывал во многих местах Сталинградской битвы — на Мамаевом кургане и на тракторном, на «Баррикадах» и СталГРЭСе, в «трубе» — на командном пункте Родимцева, в дивизии Батюка, Гуртьева; встречался и откровенно (он ведь был не присланный на недолгое время, а свой, деливший вместе с ними все опасности и тяготы фронтового сталинградского существования) разговаривал — и не после, когда все было кончено, а тогда же, в разгар боев — со многими участниками сражения — и прославившимися военачальниками, и оставшимися безвестными офицерами и солдатами.
Сталинград стал кульминацией Великой Отечественной войны, пиком беспримерного народного сопротивления фашистским захватчикам. Это тогда же, в ходе боев почувствовал (и выразил это чувство в писавшихся в Сталинграде очерках), а потом осмыслил в своем романе Гроссман. Сталинград очень многое открыл ему и в достигшей своего апогея войне с фашистами, и в народной жизни — не только в войну, но и задолго до нее, и в нашем общественно-политическом строе, и в природе человека. В условиях достигших немыслимого упорства и ожесточения кровавых боев с особой резкостью проступило и то, что было нашей силой, сплачивало народ в борьбе с фашистским нашествием, и то, что подтачивало единство — подозрительность, беззаконие, бесправие. Проступало то, благодаря чему немцы на берегах Волги потерпели сокрушительное поражение, от которого оправиться не смогли, и то, что заставило нас отступать, тогда об этом мы говорили более резко и грубо — «драпать» до Волги и Кавказа, отдавая врагу огромные территории.
Так велико было давление этого материала, такой жгучей была внутренняя потребность осмыслить увиденное и пережитое, понять закономерности и причины — социально-политические, исторические, военные, нравственные, общечеловеческие — дурного и хорошего, благородного и подлого, мужества и трусости, — что по горячим следам событий в 1943 году в редкие свободные от обязательных требований газеты минуты Гроссман начал писать роман о Сталинградской битве. Первая книга была напечатана в 1952 году. Я уже писал о том, как она была встречена властями и официозной критикой. Но Гроссман все-таки продолжал писать вторую — «Жизнь и судьбу», которую закончил в 1960 году и с которой власти расправились, как с уголовным преступником — арестовали и приговорили к бессрочному заключению (руководящие коллеги по писательскому цеху сказали Гроссману, что его книгу можно будет напечатать через двести пятьдесят лет, главный идеолог правящего режима Суслов подтвердил этот срок). Две книги романа разделяет не только время написания. Первая писалась в мрачнейшую пору послевоенного сталинского закручивания гаек, завоеванная победа была омрачена рецидивом репрессий, новой волной бесчеловечности, уничтожающих проработок в науке, литературе, искусстве, захлестнувшей страну. Вторая после смерти Сталина, XX съезда, приподнявшего завесу молчания над преступлениями Сталина и его приспешников, в годы обнадеживающих «оттепельных» надежд. Проблематика этих книг тоже далеко не во всем совпадает, в известной степени они самостоятельны. Вместе они все-таки образуют уникальную по размаху жизненную панораму, в которой нет, однако, эпического спокойствия, внутреннее напряжение книги рождено великой любовью и великой болью автора.
Главная идея произведения, над которым он работал столько лет, была нащупана еще в дни сталинградской битвы. Свобода — ключевое слово в сталинградских очерках Гроссмана. Волгу он называет в одном из очерков «рекой русской свободы» и пишет, что «нельзя сломить воли народа к свободе». А это из другого сталинградского очерка: «Здесь сочеталось огромное стихийное столкновение двух государств, двух борющихся за жизнь и смерть миров с математической, педантически точной борьбой за этаж дома, за перекресток двух улиц; здесь скрестились характеры народов и воинская умелость, мысль, воля; здесь происходила борьба, решающая судьбы мира, борьба, в которой проявились все силы и слабости народов: одного — поднявшегося на бой во имя мирового могущества, другого — вставшего за мировую свободу, против рабства, лжи, угнетения».
Пусть не покажутся слова — «вставшего за мировую свободу, против рабства, лжи и угнетения» общим местом, риторической фигурой. Для Гроссмана они наполнены не банальным многозначительным смыслом, в них суть нравственной позиции, с которой он отваживается (дальше я скажу, почему тут необходим именно этот глагол) вершить суд над действительностью, в них зерно, из которого вырастала его книга. Мысль эта будет затем развита в авторских отступлениях романа. Уже в «За правое дело» Гроссман сформулирует некий «закон» войны, таящий «разгадку победы и поражения, силу и бессилия армий». Одним из проявлений открывшегося писателю «закона» было «чудо», происшедшее в Сталинграде, где бой в конечном счете шел за «присущую людям меру морали, убежденности в человеческом праве на трудовое и национальное равенство». Воспользуюсь здесь известной формулой из «Теркина» Твардовского: ради жизни на земле сражаются в Сталинграде. Конечно, не следует буквально понимать слово «закон», речь идет о метафоре, выражающей то, что в былые времена называли духом войска и населения, материя эта бесплотная, ее не измеришь, не взвесишь, не внесешь в донесение и не пометишь на штабной карте, но как много она значит, как часто от нее зависит исход войны! «…В Сталинграде была заключена душа. Его душой была свобода» — вот что там решило дело. Гроссман это почувствовал во время ожесточенных уличных боев в Сталинграде. В романе «За правое дело» эти сталинградские наблюдения осмыслены как «закон». В романе «Жизнь и судьба» писатель идет дальше в постижении исторической драмы, разыгравшийся в Сталинграде, — она рассматривается с точки всеобъемлющих категорий человеческого бытия. «Закон» войны выступает как «закон» жизни: жить — значит быть человеку свободным. Автор дает это понять на первой же странице произведения, описывая мертвенную геометрию строений в лагере уничтожения:
«Из тумана вышла лагерная ограда — ряды проволоки, натянутые между железобетонными столбами. Бараки тянулись, образуя широкие прямые улицы. В их однообразии выражалась бесчеловечность огромного лагеря.
В большом миллионе русских деревенских изб нет и не может быть двух неразличимо схожих. Все живое — неповторимо. Немыслимо тождество двух людей, двух кустов шиповника… Жизнь глохнет там, где насилие стремится стереть своеобразие и особенности».
Фашизм растаптывал право на свободу, на жизнь. «Фашизм и человек не могут сосуществовать. Когда побеждает фашизм, перестает существовать человек, остаются лишь внутренне преображенные человекообразные существа». Гроссман не только показывает злодеяния фашизма, его кровавую бесчеловечную практику, он изобличает идеологию, на которой все это покоится, которая это поощряет и оправдывает, которая отвергает нравственные преграды. Гроссман выступает против фашизма с общечеловеческих позиций — это зло, угрожающее роду человеческому. И он не делит зло на чужое, которое заслуживает безусловного осуждения, и свое, к которому можно быть снисходительным — все-таки оно свое, можно поэтому закрывать глаза на его бесчеловечность и жестокость. Надо ли рассказывать о наших лагерях, если лагеря были у гитлеровцев, надо ли писать о тоталитаризме сталинского режима, если тоталитарный строй был и у нацистов? Эти вопросы вставали, не могли не вставать перед писателем. И он ответил на них, не только сказав в одном из авторских отступлений: «Правда одна. Нет двух правд. Трудно жить без правды, либо с осколочками, с частицей правды, с обрубленной, подстриженной правдой, Часть правды — это не правда». Он ответил на них всем своим романом.
Объясняя, почему он начал «Войну и мир» рассказом о 1805 годе, Толстой писал: «В третий раз я вернулся назад по чувству, которое, может быть, покажется странным большинству читателей, но которое, надеюсь, поймут именно те, мнением которых я дорожу; я сделал это по чувству, похожему на застенчивость и которое я не могу определить одним словом. Мне совестно было писать о нашем торжестве в борьбе с бонапартовской Францией, не описав наших неудач и нашего срама. Кто не испытывал того скрытого, но неприятного чувства застенчивости и недоверия при чтении патриотических сочинений о 1812 годе. Ежели причина нашего торжества была не случайна, но лежала в сущности характера русского народа и войска, то характер этот должен был выразиться еще ярче в эпоху неудач и поражений».
Обычно на эти слова Толстого ссылаются, парируя доводы тех, кто не желает, чтобы литература обращалась к поре наших тяжких военных поражений. Но смысл их шире, речь идет вообще о нравственном отношении художника к предмету изображения, которое Толстой считал одним из обязательных свойств истинного художественного произведения.
Это нравственное чувство, верность правде, какой бы горькой она ни была, вели Гроссмана к изображению наших великих бед и нашего срама. И не только в дни войны. Многое из того, что рассказано в романе «Жизнь и судьба», было закрытой зоной, куда литературе вход был строго запрещен. Нужны были смелость и мужество (вот почему я употребил слово «отважился»), чтобы переступить через запрет. Не только потому, что за это можно было поплатиться (что и случилось с Гроссманом), но и для того, чтобы одолеть в самом себе внутреннего редактора, не принимать во внимание ставшие привычными табу, увидеть действительность без шор. Да мог ли бы он, не раскрепостившись духовно, написать о свободе как о необходимом условии человеческого существования? И о многом другом (тоталитаризме, личной диктатуре, попрании гуманизма, шовинизме, ксенофобии)?
В «Жизни и судьбе» предстает наша подлинная горькая и героическая история, совершенно не похожая на ту, что вбивалась в сознание не одному поколению «Кратким курсом». Это тяжкий путь, за который народу пришлось платить великими жертвами, миллионами загубленных жизней. Судьба не миловала персонажей романа, «не обошла тридцатым годом, — как писал Твардовский. — И сорок первым. И иным…» И если самого чудом не задело страшное колесо творившейся истории, то оно прошлось по кому-нибудь из родных и близких. И жуткий смерч сталинской «ударной» коллективизации, унесшей из жизни тысячи и тысячи; и страшный голодомор тридцать третьего года; и массовые репрессии тридцать седьмого, закончившиеся только после смерти того, о ком сочиняли песни, что «он каждого любит, как добрый отец»; и подставленная под удар гитлеровской военной машины обезглавленная и обескровленная в мирное время армия. Все это было реальной жизнью страны, реальной судьбой гроссмановских героев. Нужно ли распространяться о том, к каким духовным — и не только духовным — последствиям приводила жизнь, в которой официальная мифология поменялась местами с реальностью, вытесняла ее, какая создавалась питательная среда для бурного роста приспособленчества, раболепия, доносительства. В этом мире демагогии, мифов, гебешного и судейского произвола живут герои Гроссмана — одни удобно устраиваются в нем, других он ломает, третьи сопротивляются нравственному разрушению.
«Одно его слово, — характеризует власть Сталина в романе Гроссман, — могло уничтожить тысячи, десятки тысяч людей. Маршал, нарком, член Центрального Комитета партии, секретарь обкома — люди, которые вчера командовали армиями, фронтами, властвовали над краями, республиками, огромными заводами, сегодня по одному гневному слову Сталина могли обратиться в ничто, в лагерную пыль, позванивая котелочком, ожидать баланды у лагерной кухни».
«Феномен» личности Сталина не очень занимает Гроссмана, внимание его сосредоточено главным образом на сталинщине, на созданной по плану и под руководством Сталина системе личной власти, достигшей такой концентрации, такой силы, которая, наверное, не снилась Людовику XIV, произнесшему, как гласит легенда, знаменитую фразу: «Государство — это я». Сталин не отождествлял себя с государством, он превратил государство в слугу своего безудержного патологического властолюбия. «Свита играет короля» — так в театре добиваются необходимого впечатления. Гроссман выдвигает на первый план «свиту», озабоченный неэстетической выразительностью. В «свите» — секрет неограниченной власти диктатора, она являлась самой важной общественно-политической и государственной пружиной созданного в стране режима. Для Гроссмана сталинщина — это Гетманов, до войны секретарь одного из обкомов на Украине, аппаратная шваль, проныра, человек без биографии, без принципов, наловчившийся чутко улавливать и ревностно осуществлять намеченную вождем «линию», бдительно выискивать реальных и потенциальных «уклонистов». Это генерал Неудобнов — «сталинец» настоящий, заплечных дел мастер из подручных Ежова, «энтузиаст тридцать седьмого года», списками пускавший людей в расход. Это руководитель физического института Шишаков — интриган и бездарь, один из творцов ждановской «науки», державшийся на травле всего нового и талантливого — людей и идей. Это организатор тотального единомыслия, редактор газеты Сагайдак; его стараниями выкорчевывалась правда и насаждалась ложь, в начале тридцатых он, например, «писал, что голод в период сплошной коллективизации произошел оттого, что кулаки назло закапывали зерно, назло не ели хлеб и от этого опухали, назло государству умирали целыми деревнями, с малыми ребятами, стариками и старухами» — так создавались мифы, получавшие официальный статус реальности.
Все они шагнули в роман Гроссмана из жизни — ни малейшей карикатурности, ни тени романтического злодейства; страшны, но обыденны — серые заурядные служаки, хитрые, бессовестные.
Что говорить, изуверская жестокость расправ над неугодными или просто подвернувшимися под руку «опричникам», доносы и оговоры, «незаконные методы ведения следствия» или, просто говоря, изощренные зверские пытки — все это рождало ужас и оцепенение. И все-таки дело было не только в страхе, на одном страхе такая власть не могла держаться, во всяком случае, столь долгое время. Это стало возможным, показывает Гроссман, потому что общество было разъедено, отравлено ядовитым дурманом демагогии и все пронизывающей лжи. И до сих пор эти пронизавшие все поры жизни страх и демагогия не изжиты нами, дают себя знать.
Сталин не был богом, не обладал дьявольской силой, его всемогущим сделали все эти Гетмановы, Неудобновы, Шишковы и Сагайдаки. Правда, никто из них не был застрахован от гнева «всевышнего» — головы ведь катились налево и направо, но их усердие и восторг, подозрительность и яростный гнев чутких, как флюгер, к указаниям сверху, очень неплохо оплачивался. Становясь жрецами сталинского «храма», они получали такую власть — пусть она и была очень малой частью власти вождя — и такие привилегии, которые никогда бы не имели при другом, неавторитарном, правлении. Они были заинтересованы в обожествлении вождя, в незыблемости сооруженного по его плану «храма». Все они были людьми «тридцать седьмого года», на волне этой чистки им открылся путь наверх.
Оттеснено было ими от руководства обществом, в большей своей части отправлено в лагеря и физически уничтожено поколение тех, кто совершил революцию, кто защищал ее во время гражданской войны, кто голодал, мерз, работал до изнеможения, ликвидируя послевоенную и послереволюционную разруху. В «Жизни и судьбе» эту старую гвардию представляют Мостовской, Крымов, Абарчук, Магар (троих из них накрыла волна репрессий). Почему же бескорыстные, самоотверженные, пламенеющие не смогли противостоять приспособленцам, нерассуждающим, готовым на все исполнителям, докам по части устройства своих шкурных дел? А потому, что они, «старая гвардия», сами того не желая, во многом подготовили приход на командные высоты тех, кто затем расправлялся с ними, — во всяком случае открыли им туда путь. Разве уверенные в том, что защищают завоевания революции, они не искореняли той свободы и демократии, ради которых и совершали революцию, разве не считали они уважение к человеческой личности вредным либеральным слюнтяйством, разве не были убеждены, что общечеловеческой нравственности не существует, что во имя интересов революции и диктатуры пролетариата можно не считаться со справедливостью, поступиться человечностью? Их фанатизм неизбежно открывал дорогу бесчеловечности, принудительное единомыслие — тупости и раболепию, догматическая узость и склонность к скороспелым выводам — подозрительности и репрессиям. Таким образом позиции «старой гвардии» были нравственно не обеспечены, уязвимы, поэтому она не могла устоять под натиском людей, лишенных убеждений, но заучивших партийную фразеологию и готовых делать все, что им прикажут, движимых желанием не служить революции, а выдвинуться, получить более высокую должность, отхватить кусок жизненного пирога побольше и пожирнее. Это был процесс, захвативший так или иначе судьбы многих людей.
Возникшая опасная нравственная ржавчина калечила души и судьбы. Участник революции, в семнадцатом поднимавший солдат, многолетний работник Коминтерна Крымов сначала, подавляя сомнения, стал писать в своих статьях то, что от него требовали, потом отстранялся от товарищей, которым шили дела, — подыгрывая злой силе, он убеждал себя, что честно выполняет партийный долг. В Сталинграде Крымов напишет донесение — в сущности донос — о вражеских настроениях и разговорах в доме Грекова, хотя прекрасно видел, как дерутся с немцами отрезанные от своих защитники этого дома. И говорят они то, что и ему иногда приходило в голову, но он себе запрещал такие мысли и другим не позволит распространять крамолу. В результате им самим занялись следователи…
А Мостовской, один из создателей партии, прекрасно помнивший, что дух свободы поднял их на борьбу против самодержавия, ничего не предпринимал, когда расправлялись с товарищами, начинавшими революционный путь вместе с ним, проверенными в тюрьмах, в ссылке, на баррикадах, — он не заступился за них не потому, что опасался за свою жизнь, а потому, что, справедливо или несправедливо поступили с ними, такова, считал он, воля партии, которая для него была превыше всего. И когда в лагере военнопленных сотоварищи Гетманова и Неудобнова — трусливый и невежественный генерал Гудзь, которому и полка нельзя доверить, и бригадный комиссар Осипов, о котором было известно, что в тридцать седьмом он в Академии «беспощадно разоблачал десятки людей, объявляя их врагами народа», — отправили в Бухенвальд на смерть майора Ершова, потому что не могли позволить, чтобы во главе подпольной организации военнопленных, то есть над ними, оказался беспартийный, да еще с сомнительной с их точки зрения биографией — сын раскулаченного, Мостовской, понимая, что именно Ершов «был выразителем мыслей и идеалов лагерного сообщества» и по праву возглавил сопротивление, его ликвидацию все-таки принял как должное. «Он распрямился и так же, как всегда, как десять лет назад, в пору коллективизации, так же, как в пору политических процессов, приведших на плаху его товарищей молодости, проговорил: „Я подчиняюсь этому решению, принимаю его как член партии“».
Гроссман бесстрашно обратился к самым больным, самым темным, самым труднообъяснимым явлениям нашей истории. Они и в более поздние наши времена с большим трудом осваиваются историками, ставящими перед собой задачу определить политическую природу и структуру сталинщины, ее социальный фундамент, как и почему она могла восторжествовать и держаться столько лет. Художник все это видит через человека, раскрывая, как людям живется, что их мучает и радует, перед каким выбором ставит время. Если перед нами большой художник, он открывает то, что недоступно историкам, — духовный мир людей, повседневную жизнь, утвердившиеся нравы и общественную психологию. Когда-нибудь историки, наверное, более или менее точно подсчитают ужасное число жертв сталинского террора (уже известно, сколько было репрессировано высших командиров Красной Армии, сколько было уничтожено делегатов XVII съезда партии), но только художнику, как Гроссману в «Жизни и судьбе», дано поведать о великом страхе и великой демагогии, парализовавших разум и волю людей. Историк охарактеризует, опираясь на факты и другие данные, бюрократическое окостенение жизни, но только художник может показать, какие мытарства подстерегали человека, которому надо получить прописку, чтобы иметь крышу над головой и работу (что пришлось, например, вынести в романе «Жизнь и судьба» Жене Шапошниковой, чтобы прописаться в городе, где именем ее отца за его заслуги перед революцией названа улица). Историк на основе приказов, донесений, записей в журналах боевых действий и других архивных документов наших и противника сможет осветить ход сражений за Сталинград, но только художник, как это сделал Гроссман в романе, может показать, что дух свободы, за которую сражались защитники города, опрокинул планы немецкого командования.
Долгие годы перед войной сталинская политика была направлена на то, чтобы истребить, выкорчевать дух свободы — авторитарной власти нужны нерассуждающие, механически выполняющие полученные сверху приказы и указания исполнители. Строй вроде бы становился все более монолитным и могучим, но росла не мощь страны, а устрашающая, все подчинявшая власть вождя. Страна же и армия приходили в упадок, подтачивались, разрушались, словно пораженные саркомой внутренние «клетки» общественного организма. И нападение фашистской Германии, нанесенный ее войсками удар поставили страну на край гибели, выстоять, одолеть захватчиков нельзя было, не освободив скованные сталинщиной силы народа, не стряхнув духовное оцепенение, не преодолев вбитое в общественное сознание «Сталин знает, Сталин укажет, Сталин решит». И процесс — пусть неосознанный, пусть непрямой — «десталинизации» шел, захватывая так или иначе довольно широкий круг людей. Сама реальная действительность открывала им глаза, продемонстрировав, что все довоенные утверждения и заверения вождя не оправдались. Решать пришлось каждому, ответственность легла на всех. Защитить родину и свободу могли только свободные люди, осознающие свой долг, не рассчитывающие на мудрые повеления высокостоящих. Выяснилось, что в этих повелениях нет не только мудрости, но и трезвого здравого смысла. И мысль, которую, воспользуюсь словами Толстого, автор «Жизни и судьбы» любит в своем романе, — это мысль о пробудившемся в людях духе свободы, который помог им выстоять в невыносимо тяжелых испытаниях. Весь образный строй книги подчинен этой мысли, которая, что свойственно художественному произведению, конечно, богаче, сложнее, многозначнее моего определения. Она проступает в подробностях фронтового быта, обнаруживает себя в поведении героев, встает за их судьбами.
Мысль в романе может возникать — и часто возникает — как электрический разряд от соединения у читателя его судеб и явлений очень далеких, сплошь да рядом никак не связанных сюжетно, да и живущих словно бы в разных измерениях, разных слоях действительности. И здесь я снова сошлюсь на Толстого, он помогает понять образный строй романа Гроссмана, некоторые его особенности. «Во всем, почти во всем, что я писал, — говорил Толстой, — мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собой для выражения себя, но каждая мысль, выраженная словами особо, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю, а чем-то другим), и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя, а можно только посредственно — словами описывая образы, действия, положения».
Для примера — две сцены из романа Гроссмана, между которыми возникает такое сцепление, такая внутренняя связь. Собирается на войну сорокапятилетний колхозник Вавилов («За правое дело») — он понимает, как трудно будет его семье, знает, что ждет его:
«— Собрала мне, что говорил?
Она положила на стол мешок и сказала:
— В мешке веса больше, чем в вещах твоих.
— Ничего, легче идти будет, — примирительно сказал он.
И действительно, весу в мешке было немного: хлеб, скрипящие ржаные сухари, кусок сала, немного сахара, кружка, иголка с моточком ниток, фуфайка, две пары белья, две пары стираных портянок.
— Рукавицы положить? — спросила она.
— Нет. И фуфайку оставлю, пусть Насте будет, мне выдадут».
Другие сборы — отправляется в армию Гетманов, назначенный комиссаром танкового корпуса:
«— Береги себя, детей береги. Коньяк в чемодан положила?
Она сказала: — Положила, положила. Помнишь, года два назад ты так же на рассвете дописывал мне доверенности, улетал в Кисловодск?»
Какие разные люди, какая разная судьба! Но есть между ними то «сцепление», о котором говорил Толстой. Не потому ли так скудна и трудна была жизнь у Вавилова, добросовестного, трудолюбивого, безотказного работника, что правящие Гетмановы меньше всего думали о том, чтобы простые труженики жили по-человечески? И не потому ли призывают в армию немолодого человека, что из-за грубейших военно-политических просчетов и бесчеловечности обожествляемого Гетмановыми вождя и его соратников выбиты те, кто помоложе? Для Вавилова война — жестокое испытание, он знает, — только не щадя своей жизни, можно одолеть захватчиков. Для Гетманова — всего лишь новая должность (он беспокоится, соответствует ли она его рангу, вниз он идет или вверх), и его жена не случайно вспоминает, что точно так он уезжал в мирное время на курорт.
И вот что здесь важно, на что непременно следует обратить внимание. Говоря о самой близкой для него традиции в советской литературе один из талантливых писателей послевоенной поры, автор замечательной книги о войне «Нагрудный знак „ОСТ“» Виталий Семин назвал гроссмановскую, что в ту пору, в 1967 году, было непозволительной дерзостью, только Твардовский в «Новом мире» мог такое напечатать. Семин писал: «Гроссман по складу своего ума, несомненно, был писателем — историком (не историческим писателем), писателем-философом. Он любил широкие обобщения. Но его обобщения никогда не рождались в тех горних высях, „где во льдах абстракции замерзает мозг“. Он был историком шахтеров, философом металлургов. Он на ощупь, на вкус, на цвет знал их профессии — на вкус хлеба, заработанного в шахте. И когда он приводит нас в разрушенный, разоренный Сталинград, то показывает его нам не привычными к городскому пейзажу глазами горожанина, а глазами крестьянина Вавилова, который считает урон, нанесенный городу, не на дома, а на дефицитные гвозди и стекло, на количество разбитых кирпичей, которые так трудно было доставать колхозу». Понятно, что речь у Семина идет не об особенностях стиля, а о мировосприятии писателя.
Кульминацией сталинградских событий и высшим проявлением стремления народа к свободе в романе Гроссмана стала оборона дома «шесть дробь один», маленьким гарнизоном которого командует капитан Греков, это точка, где органически соединились главные смысловые мотивы повествования. Среди записей, сделанных Гроссманом в Сталинграде, есть такая: «…Гранатный бой, бой за этаж, бой за ступеньки, за коридоры, за метры комнат (вершки, как версты, человек — полк, каждый себе штаб, связь огонь». Эта самостоятельность каждого воина, не укладывающаяся ни в какие представления о боевых действиях армии, была тогда необъяснима. Гроссман вскрывает ее истинные причины. Не строгий приказ, как № 227 — «Ни шагу назад», не угроза сурового наказания за его невыполнение, а сознательная дисциплина общего кровного дела, ощущаемая каждым ответственность за исход боя и судьбу страны, дух свободы, которую надо было во что бы то ни стало защитить в боях, а потом утвердить в жизни, рождали такую самостоятельность и самоотверженность.
Никогда люди так много не думали и не говорили столь раскованно о прошлом, о том, что корежило их жизнь, как в Сталинграде. О том, что «нельзя человеком руководить, как овцой», не для того делали революцию. О «бедствиях и мучениях, выпавших крестьянству в период сплошной коллективизации», о «наркомвнудельцах, погубивших в 1937 году десятки тысяч невинных людей». И о будущем никогда не говорили с такой смелостью и надеждой: интерес к послевоенному устройству колхозов, к будущим отношениям между великими народами и правительствами был в Сталинграде почти всеобщим… Почти все верили, что добро победит в войне, и честные люди, не жалевшие своей крови, смогут строить хорошую, справедливую жизнь. Эту трогательную веру высказывали люди, считавшие, что им-то самим вряд ли удастся дожить до мирного времени, ежедневно удивлявшиеся тому, что прожили на земле от утра до вечера. Этой верой жили все защитники дома «шесть дробь один».
Этой глубокой верой жил народ — эхо свободы, за которую шли невиданного ожесточения бои в Сталинграде, разнеслось далеко. Его слышали даже за тридевять земель от Волги, от России, в Германии, в лагере военнопленных. Оно подтолкнуло узников к созданию подпольной организации антифашистов разных народов, которая должна была подготовить всеобщее восстание. Ершову, как и защитникам дома «шесть дробь один» ясно, что, «борясь с немцами, он борется за свободную русскую жизнь, победа над Гитлером станет победой над теми лагерями смерти, где погибли его мать, сестры, отец». Эхо свободы докатилось и до нашего тыла. В Казани, куда эвакуировали физический институт, Штрум, его коллега Соколов, их тамошние знакомые, как в доме Грекова, откровенно, без утайки разговаривают о наших бедах, о давящей всех атмосфере несвободы так откровенно, что окажись среди них один неверный человек, худо бы было всем. Велика сила свободы — не случайно Штрум нашел объяснение непонятным внутриатомным явлениям, когда «ум его был далек от мыслей о науке, когда захватившие его споры о жизни были спорами свободного человека, когда одна лишь горькая свобода определяла его слова и слова его собеседников».
Греков и Ершов, лейтенант артиллерист Батраков и военный моряк Коломейцев. Два молодых комбата из березкинского полка — Подчуфаров и Мовшович, Толя Шапошников и радистка Катя Венгрова, — их душевная независимость, распрямленность, неподатливость гипнозу демагогии, по-разному проявляющиеся, рождены одним и тем же — сознанием того, что свое дело на войне они делают как надо, ничего не перекладывая на плечи других.
Кровавая безжалостная война расставляла все по своим местам, разоблачала давно пущенные в оборот и прочно закрепившиеся ложные фальшивые ценности, возвращала и устанавливала подлинные, выдвигала новых людей, не прислуживающих начальству, не выслуживающихся, а толково и самоотверженно делающих свое дело («люди в окруженном доме, — пишет о грековском гарнизоне Гроссман, — были особо уверенными, сильными, и эта их самоуверенность успокаивала. Такая же убежденная уверенность есть у знаменитых докторов, у заслуженных рабочих в прокатных цехах, у закройщиков, кромсающих драгоценное сукно, у пожарников, у старых учителей, объясняющих у доски». Те, кому до войны слагали величальные песни как непобедимым — Ворошилов и Буденный, оказались неспособными управлять войсками, их репутации были дутыми, вместе со Сталиным они привели армию к тяжелым позорным поражениям, страну — на край гибели. Чтобы защитить родину, преградить нашествие захватчиков, потребовались совсем другие военные руководители — они пришли из огня сражений, там показали, на что способны, их выдвинула сама война (не худо напомнить, что некоторым из них — Рокоссовскому, Мерецкову, Горбатову — пришлось до войны побывать «в гостях» у Ежова).
В романе Гроссмана подлинных «лидеров», которых на разных уровнях, в разных местах выдвигала война, представляют полковник Новиков, назначенный командиром танкового корпуса и блестяще действовавший в наступлении, талантливый штабной офицер Даренский (на фронте он встречается с Неудобновым, который вел его дело и собственноручно на допросе выбил ему зубы), Греков, Ершов — всем им при существовавшей до войны кадровой «селекции» хода не было. Даренскому — потому что он из дворян, Ершову — потому что его отец был раскулачен, Новикову — потому что слишком был образован, слишком большое значение придавал современной военной теории (не под влиянием ли каких-то чужеземных образцов?), Грекову — потому что не проявлял себя как «общественник» (что это могло означать — не хлопал достаточно энергично, когда прославляли «родного, любимого», не обличал «врагов народа»?). Став в фашистском лагере главарем советских военнопленных командиров, «Ершов переживал горькое и хорошее чувство — здесь, где анкетные обстоятельства пали, он оказался силой, за ним шли. Здесь не значили ни высокие звания, ни ордена, ни спецчасть, ни первый отдел, ни управление кадров, ни аттестационные комиссии, ни звонок из райкома, ни мнение зама по политической части».
В среде Гетмановых новые назначения, которых властно потребовала война, вызывают недоумение, раздражение, почти нескрываемое недовольство. Что это такое? Командиром танкового корпуса назначают какого-то никому неведомого полковника — он не из номенклатуры, «выдвиженец» военного времени, до войны ничем особым не отличался, и, подумать только, теперь ему должны подчиняться они — бывший секретарь обкома Гетманов и генерал из госбезопасности Неудобнов. Гетманов и Неудобнов не умеют воевать (как они о себе стыдливо говорят, «военного опыта нет»), но разве прежде имело значение, кто что умеет или не умеет, назначат, и все — не боги горшки обжигают. Ведь они свои, проверенные кадры, всегда твердо проводившие «линию». Нет, «напутала война», зашатался привычный порядок, их право указывать и руководить поставлено под сомнение, «по чудному» все идет. И ждут они не дождутся конца этой «вольницы», уповая на то, что после войны все должно возвратиться на свои места — они снова будут у правящего руля.
В самые тяжкие дни ленинградской блокады зимой сорок второго года Ольга Берггольц писала:
В грязи, во мраке, в голоде, в печали, где смерть, как тень, тащилась по пятам, такими мы счастливыми бывали, такой свободой бурною дышали, что внуки позавидовали б нам.Ольга Берггольц с особой остротой, пожалуй, ощущала эту свободу — ведь ее в тридцать седьмом исключили из партии и посадили, выпустили в тридцать девятом — повезло. Когда в сорок втором печатался ее «Февральский дневник», строки о бурной свободе воспринимались как само собой разумеющиеся. Но из написанного сразу после войны в сорок шестом известного стихотворения Семена Гудзенко «Я был пехотой в поле чистом…» при публикации были сняты две последние строфы. Кончалось стихотворение так: «С каким весельем я дружил — огонь был не огонь. С какой свободою дружил — Ты памяти не тронь». Уже не поощрялась дружба со свободой — не соответствовала возрождающемуся политическому климату.
Здесь история совершила нежданный сражавшимся с захватчиками народом поворот, суть которого первым в нашей литературе осознал и отразил Гроссман. Победа в Сталинграде, ставшая переломом в ходе войны (впрочем, и вообще победа над гитлеровской Германией, рожденная могучим самоотверженным порывом народа к свободной жизни) была у народа отобрана, использована для его подавления, для укрепления тоталитарного лагерного режима в стране, для торжества сталинщины. Дух свободы, преследовался, истреблялся. Закручивались гайки государственной машины бесправия и подавления. Вскоре после разгрома немцев в Сталинграде появляются первые признаки возвращения к былому, к опостылевшим довоенным нравам и порядкам. Старый рабочий Андреев рассказывает в романе Гроссмана: «…Снабжения нет, зарплаты не выдают, в подвалах и землянках холодно, сыро. Директор другим человеком стал, раньше, когда немец пер на Сталинград, он в цехах — первый друг, а теперь разговаривать не хочет, дом ему построили, легковую машину из Саратова пригнали… Помните, Сталин говорил в позапрошлом году: братья и сестры… А тут, когда немцев разбили, директору — коттедж, без доклада не входить, а братья и сестры — в землянки». По доносу Гетманова отзывают в Москву Новикова — и кто знает, что его там ожидает. Строгий выговор и понижение получает директор СталГРЭС Спиридонов, всю оборону под обстрелами и бомбежками не покидавший своего поста. В физическом институте по известной схеме (добавился антисемитизм) организуется травля Штрума, а затем обласканного Сталиным Штрума заставляют подписать гнусное письмо против статьи, опубликованной в «Нью-Йорк таймс», в которой речь идет о репрессированных советских ученых и писателях. На Новикова, Спиридонова, Штрума каким-то образом падает зловещая тень дела Крымова, уже объявленного врагом народа. Никто из них совершенно не причастен к этому состряпанному делу. Новиков вообще никогда в глаза не видел Крымова, и все-таки раз какая-то, пусть даже призрачная ниточка связи существует, ее всегда могут ретивые сотрудники органов размотать, отыскать криминал — человек, как пешка на шахматной доске, оказывается «под боем». Следствие, лучше сказать расправа над Крымовым ведется по образцам тридцать седьмого года, ясно, что сердцевина сталинского режима сохранилась.
Отечество было спасено, враг повержен, а тем, кто выиграл войну, кто вынес на своих плечах ее главную тяжесть, вскоре после победы самым решительным образом дали понять, что их заслуги, пролитая ими кровь ровным счетом ничего не значат, что с фронтовым свободолюбием и независимостью будет покончено. Ряд высоких военачальников, прославившихся в войну, был наказан: кто понижен в должности, кого в лагерь, а некоторых к стенке. И если их не защитили высокие звания и громкие имена, то каково было людям простым, безвестным? И снова за случайно сорвавшееся слово — в лагерь, по клеветническому доносу на Лубянку. Тысячи военнопленных, настрадавшихся в фашистских лагерях, прямо в наши…
«Сталинградское торжество, — пишет Гроссман, — определило исход войны, но молчаливый спор между победившим народом и победившим государством продолжался. От этого спора зависела судьба человека, его свобода». Пробудившийся в испытаниях войны дух свободы еще можно было на какое-то время подавить беспощадными репрессиями, но уже нельзя было совершенно истребить. Еще можно было многих запугать, но уже нельзя было всех обмануть. При первой же возможности дух свободы должен был воспрянуть, пробить себе дорогу. «Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, — писал, заканчивая „Доктора Живаго“ Борис Пастернак, — не наступили вместе с победой, как думали, но все равно предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание». Эта историческая потребность, проявившаяся с такой остротой и определенностью в дни всенародной войны против фашизма, высокий дух свободы и человечности вызвали к жизни книгу Гроссмана о Сталинграде. И не только о Сталинграде, это книга об истории страны, революции, войны, трагического XX века. Каждый персонаж, выведенный писателем на авансцену повествования, втягивает в него новых и новых людей, и все они представляют для него самоценный интерес (потому так запоминаются), у каждого своя линия жизни и свои взаимоотношения со временем. Для Гроссмана каждый человек не только особый неповторимый мир, но и его связи с другими людьми, его нельзя понять, не зная, каким он предстает перед ними и каким они видят его, что он делает для них хорошего и дурного и что они значат, что делают для него. И революция, и сталинщина, и война, и фашизм — все это люди, и только через них открывается история и смысл бытия.
Гроссман был верен гуманистическим и демократическим традициям русской классики. Кажется, не было критической статьи, посвященной роману «Жизнь и судьба», в которой не говорилось бы, что Гроссман продолжает толстовскую традицию, что «Война и мир» служила ему важным ориентиром на пути освоения и художественной организации жизненного материала Великой Отечественной войны в книге о Сталинградской битве. Это действительно так: и размах эпической панорамы, и многолюдье действующих лиц, и масштаб мысли, которой доступен сложный скрытый ход истории, свидетельствуют об усвоенных автором уроках Толстого.
Гроссман с огромным уважением относился к Толстому — художнику и мыслителю. Но гораздо ближе ему был Чехов. Это отдельная, очень большая тема, я не буду о ней писать в этих записках, посвященных сталинградской теме у Гроссмана. Замечу только, что когда после ликвидации цензуры появилась наконец возможность напечатать «Жизнь и судьбу», одновременно вышел том его поздней прозы, произведения, которые не из-за цензурно-редакторских запретов при жизни Гроссману не удавалось напечатать. Это не только превосходная проза, это чеховская проза: лаконизм, лирическое подводное течение. И все-таки при этом для него первостепенную роль играет не замечательная чеховская школа повествовательного искусства, а позиция Чехова — нравственная, гуманистическая. С годами это его отношение к чеховскому наследию становилось все более последовательным и всеобъемлющим, распространяясь на последние вопросы, коренные проблемы человеческого бытия — современные и вечные. Не случайно герои Гроссмана часто говорят о Чехове. Я сошлюсь здесь на большую сцену в романе «Жизнь и судьба». Вот что они там говорят: «Ведь Чехов поднял на свои плечи несостоявшуюся русскую демократию. Путь Чехова — это путь русской свободы. Полвека назад ослепленные партийной узостью люди считали, что Чехов — выразитель безвременья. А Чехов — знаменосец самого великого знамени, что поднято в России за тысячу лет ее истории, — истинной русской доброй демократии, понимаете, русского человеческого достоинства, русской свободы» Я процитировал эти слова, потому что не сомневаюсь, что так думал Гроссман. Не сомневаюсь, потому что в этом пафос и его сталинградской книги: она утверждает демократию, человечность и свободу.
Прошло полвека после того, как была написана «Жизнь и судьба». Генрих Белль в 1984 году — тогда роман только что вышел в немецком переводе (в Советском Союз «Жизнь и судьба» будет напечатана в журнале «Октябрь» в начале «перестройки», через двадцать восемь лет после того, как был написан, автора давно не было в живых — и все-таки это не те двести пятьдесят лет «изоляции», к которой книга была приговорена властями), в своих заметках «Способность скорбеть», посвященных роману Гроссмана, писал: «Этот роман — грандиозный труд, который едва ли назовешь просто книгой, в сущности это несколько романов в романе, произведение, у которого есть своя собственная история — одна в прошлом, другая в будущем. Сколько эссе и монографий, а также споров и возражений оно вызовет, впервые появившись в полном объеме теперь, через двадцать лет после того, как Гроссман поставил последнюю точку?» Так оно и случилось — иначе не могло быть… Высший суд времени состоялся. На нем роман Гроссмана оценен так, как он того заслуживает: это книга, завоевавшая себе право стоять в том ряду произведений, которые мы называем классикой. Гроссман был не только верен высоким традициям русской литературы, он обогатил их жизненным и художественным опытом трагического XX века.
Гроссман — беспощадный художник. Он видел жизнь и людей такими, какими они есть, без всяких прикрас, не боялся говорить самую суровую, самую безжалостную правду о человеке, о том зле, которое он способен творить, о его изуверской жестокости.
Гроссман — бесконечно добрый художник. Переживший столько ударов судьбы, столько несправедливостей и разочарований, столько горя, он не утратил веры в способность человека одолеть зло, творить добро.
Уже после того, как у него изъяли рукопись «Жизни и судьбы» и никакой надежды на то, что он увидит напечатанной книгу, которую считал самым большим своим достижением, незадолго до смерти (смертельная болезнь его, что бы ни говорили на этот счет врачи — я уверен, была следствием того удара, который нанесли ему власти), он все-таки с неколебимой убежденностью писал: «Самое прекрасное что есть в мире, — это живое сердце человека. Его способность любить верить, прощать, жертвовать всем ради любви прекрасна».
Негаснущий свет этой любви, человечности и свободы несут книги Василия Гроссмана.
Как бы ни была горька… (О повестях Даниила Гранина)
В предисловии к своим первым рассказам о войне Даниил Гранин укорял себя: «У меня не было тогда даже записной книжки. Я не старался ничего запомнить, специально увидеть. Солдатское дело ясное — стрелять, поесть, поспать… Я видел только, что можно из окопов, где мы сидели под Пушкиным, и то, что видно в триплекс. Мои товарищи… Я не смотрел на них, как на будущих героев моей книги. Конечно, с профессиональной точки зрения я провел эти годы расточительно. Сколько замечательного можно было бы сохранить в памяти, если б знать… Наверное, и того, что помнишь, предостаточно, и все же, разумеется, что-то очень важное забылось навсегда».
Я не знаю, как назвать эти первые произведения Гранина о войне — рассказами, воспоминаниями? Через много лет, к шестидесятилетию Победы по телевидению транслировали рассказы Гранина о блокаде. Он опирался главным образом на материал, который они с Алесем Адамовичем собрали, готовя «Блокадную книгу». Но одна передача была посвящена его собственной войне — выяснилось, как много он запомнил, как много потом отозвалось в его книгах… Наверное, поэтому устоявшиеся жанровые определения не прикрепляются к тому, что писал Гранин о войне — не только к первым рассказам. «Наш комбат» называют повестью (я в том числе). Верно ли это? В «Прекрасной Уте» Гранин, вспоминая свой сорок первый год, пишет: «Накануне отъезда я ходил по тем местам со своим комбатом. Мы разыскивали старые, заросшие землянки». Что он имеет в виду, поездку, которая подтолкнула его написать «Наш комбат» или само это произведение? Не знаю, повестью в содержании сборника Гранина, который я сейчас держу в руках, называют «Прекрасную Уту», хотя это эссеистика, впрочем, может быть, в ней есть эпизоды, рождением своим обязанные художественному вымыслу.
Это небольшое литературоведческое отступление мне понадобилось для того, чтобы сказать, что читатель в данном случае имеет дело с довольно сложной, неоднозначной художественной структурой. Один литературный ориентир все-таки стоит отметить — на него указывает сам Гранин — это «Путевые картины» Гейне. В «Прекрасной Уте» Гранин пишет: «„Путевые картины“ мне кажутся идеалом прозы — в них свобода, о которой всегда мечтаешь, — свобода от сюжета, от хронологии, от географии. Эта проза свободнее, чем стихи. О чем она? В том-то и секрет ее, что она ускользает от подобного вопроса. Обо всем, но это не пресловутый поток сознания, а скорее поток жизни, поэзии, размышлений, фантазии; поступки и воспоминания, описания и исповедь».
Для писателя с такой фронтовой биографией, как у Гранина, он поздно начал писать о войне. Как-то, уже в послевоенные годы, он признался: «Прошло много лет, прежде чем я решился писать о войне. Почему-то раньше не хотелось. Молчать легче, чем забыть». Что подтолкнуло взяться за перо? Появившиеся книги участников войны, та «окопная правда», которую они рассказывали. «Оказалось, — признавался Гранин, — что у солдатской жизни на фронте кое-какие преимущества видения войны, и, раз так уж получилось, надо их использовать. То, что прожито, прожито самим, поэтому не нужно ничего сочинять, можно писать про то, как это было с тобой и теми, кто был рядом. Про свой танковый экипаж, про свой взвод. Про своего комбата».
«Молодая война» — так назвал Гранин свой первый цикл: герои его повести «Наш комбат» — совсем молодые люди, в сущности мальчишки — это надо помнить, чтобы правильно понимать их, ясно представлять себе, что они понимали и знали, а о чем понятия не имели.
Первые военные вещи Гранина появились, когда нас от Победы отделяли уже два десятилетия, а это были непростые годы, на многое у нас открылись глаза, мы поняли то, что в лучшем случае смутно чувствовали. Мне кажется, что Гранин искал свою тему, свой взгляд на происходившее, даже на то, что было с ним самим. Нелегко они давались. Это память. Но это не только то, что в ней хранилось о тех свинцовых годах, хотя, как он сам признается, хранилось «предостаточно». Это более позднее отношение к памяти, каким оно становилось, как складывалось. Как и почему изменялось, что из военного прошлого подтверждало, что уточняло, отрицало, отбрасывало как заблуждение, пробиваясь к истине.
В первом военном рассказе Гранина «Смерть интенданта» возникает эта очень важная для него мысль:
«Был такой интендант, — сказал Саша, — героический командир. Некоторые умилялись.
— Это я, что ли умилялся? — сказал я.
— Забыл! Забыл, как всех воодушевлял, когда по лесу шли? В пример ставил. Во исполнение приказа — живым в плен не сдаваться».
С удивлением слушает герой рассказ своего однополчанина, ничего он этого не помнит, стерлось, забылось. Но и его товарищ — однополчанин, оказывается, тоже помнил не все, кое-что и он забыл:
«— Сознайся, когда мы в болоте застряли, ты тоже небось подумывал, — сказал Саша.
— С чего ты взял?
— С того, что я сам об этом подумал.
— Ты? — сказал я. — Думал? Ты кричал, а не думал.
— Чего это я кричал? — спросил Саша Алимов.
— Всю дорогу ты ругался и кричал, что не желаешь больше. Что раз так, ты не желаешь…
— Странно, — сказал Саша.
И он так сказал, что я не стал говорить, как он плакал».
И вот вывод, это уже современный вывод — о чудовищном приказе и застрелившемся тогда в начале войны интенданте. Его делает третий участник беседы — инвалид войны: «От такого приказа больше драпали».
В написанной через год Граниным повести «Наш комбат», которая с трудом пробивалась в печать (ее осмелился напечатать только выходивший в Петрозаводске журнал «Север», у которого были потом из-за этого неприятности) тот же мотив, та же мысль — как же было в действительности, как и почему запомнилось иначе — звучит еще настойчивее, еще основательнее, еще серьезнее.
Сначала эпизод из этой повести. Один из ее персонажей рассказывает — с юмором, со множеством смешных подробностей — о приключениях в разведке, о том, как лихо они действовали тогда — не только взяли «языка», но и прихватили с собой приготовленные немцами к рождественскому ужину яства. Был в этой разведке и герой, от имени которого ведется повествование. И вот что он по прошествии времени об этой истории думает: «Мне-то казалось, что все было бестолковее и консервов было всего несколько банок, и фрица я вроде не видал. Но кому нужна была точность? Так было куда интереснее — это была одна из тех легенд, которые бродили по фронту, сохранялись никем не записанные, отшлифовывались из года в год, припоминались в дни Победы, когда всплывают происшествия смешные, невероятные, и прошлое притирается, обретает ловкий овал».
История, которая легла в основу повести «Наш комбат», вроде бы вполне заурядная — трое однополчан решили поехать туда, где в страшную зиму сорок первого — сорок второго года их батальон оборонял четыре с половиной километра. Так почти ностальгической нотой начинается эта повесть. Позиции батальона были под Пулковым — от Ленинграда на машине или автобусе, наверное, езды минут сорок, а вот выбрались туда только через три десятка лет. Да ведь послевоенные годы далеко не у всех были гладкими, благополучными, — не так все сложилось, получилось, как виделось, предполагалось тогда в войну. Рассказывают по дороге о других своих однополчанах кто что знает: «Костя был героем батальона. Его взвод закопался в семидесяти метрах от немцев. У нас тогда все измерялось тем, кто ближе к противнику. Начхим, который обитал во втором эшелоне, — он директор, а Костя Сазотов агент по тапочкам и сандалиям». А их «особист» Баскаков — кто-то его видел — в большом порядке. Это он доложил, что в разговоре с комбатом комиссар предложил в случае прорыва немцев разбить батальон на несколько отрядов для ведения уличных боев внутри Ленинграда. Комиссару пришили пораженческие настроения, понизили в звании и отправили на «пятачок», где он сложил голову. Один из участников этой поездки в Пулково — он был тогда политруком второй роты — заступился за «особиста»: «Мы делали общее дело. Конечно, отдельные нарушения были»; «В тех условиях не следовало, особенно политработнику, допускать и мысли такой… Мы должны были укреплять дух. Баскаков обязан был. У него свои правила. Представляешь, если бы мы заранее ориентировались на поражение…» У самого этого бывшего политрука мирная жизнь тоже не заладилась, со службами ничего хорошего не получилось, жена бросила, болел, болеет, ушел на пенсию, стал одним из «профессиональных» ветеранов и, может быть, ввязался в эту поездку, чтобы чем-то оживить свои выступления о «героическом прошлом».
А самое главное — их комбат. Что случилось, что повернуло его судьбу? И повернуло ли? «Наш комбат обязан был оправдать наши надежды. От него ждали блистательного будущего, траектория его будущего, его жизни из той страшной зимы сорок первого угадывалась вознесенной к славе полководца, командующего армиями, к золотому сиянию маршальских звезд, или что-то в этом роде. На наших глазах он выдержал испытания и стойкостью и мужеством, он стал нашей гордостью, нашим кумиром. Уж ему-то предначертано было достигнуть, а вот подвел, не достиг, и ведь не считает, что не достиг, вот что возмущало». Да, стал не военачальником, а учителем, предпочел не командовать, а учить. Впрочем, прочитав повесть, нетрудно догадаться, чему учит школьников…
Они во время поездки вспоминают многое из того тяжелого времени, что неопровержимо свидетельствует, что не зря считали его своим кумиром, он действительно был незаурядным человеком, замечательным командиром — им повезло. А он бестрепетно разрушил их ветеранскую ностальгию, прежде всего смахнув тот пьедестал, который они мысленно выстроили для памятника ему. Здесь нужно добавить, что и себе таким образом тоже. Рассказчик, от имени которого ведется повествование в «Нашем комбате», — то ли журналист, то ли писатель — рассказывает о комбате: «С годами он становился для меня все лучше и совершеннее, я написал очерк о нем, вернее — о нашем батальоне, и о Володе, и о себе, но главным образом я имел в виду комбата. В этом рассказе все были хорошие, а лучше всех был комбат. На самом деле среди нас были всякие, но мне было неинтересно писать плохое о людях, с которыми вместе воевал. Через них я изумлялся своей собственной силе. Очерк мне нравился». А комбату, видно, очерк не понравился, хотя автора он не хотел обидеть, сказал только: «Ты не виноват… Ты тут ни при чем». Что он имел в виду?
Так начала раскручиваться эта сложная, запутанная, как и многие другие, военная история. И сделал это комбат…
Немцы уже не наступали. Но фронт держали крепко, видимо, рассчитывая, что в блокаде жители города либо перемрут, либо от безнадежности сдадут город. Но все попытки выбить их с «аппендицита», который врезался в наши позиции, к успеху не приводили, оборачивались большими потерями. Выяснилось, что все, что происходило тогда в батальоне, комбат помнит и знает лучше, чем все вместе его нынешние спутники. И еще выяснилось, что он здесь бывал и прежде — отпуск на это убил, что-то важное его приводило, толкало сюда.
Все тогда считали, что немцы так успешно отбивают наши атаки потому, что у них доты, броневое прикрытие. Выяснилось — это он комбат выяснил, приезжая сюда, — что никаких дотов, никакого прикрытия не было. Если бы знали, что тут было на самом деле, немцев бы отсюда выкурили бы. Но не знали, не понимали, и главную вину за это несет он, их комбат. Конечно, уже не перевоюешь, не переделаешь, но, как сказал комбат, «передумать-то можно». Нельзя жить полуправдой, прятаться от правды, на следующем подстроенном жизнью «аппендиците», — а они непременно будут возникать, не стремясь отважно к правде, снова споткнешься.
Понятно — повторю это: война есть война — были с этим проклятым немецким «аппендицитом» разного рода привходящие обстоятельства, которые были для них, для их комбата данностью, от которой некуда деваться. У них были плохие карты. В последней своей военной повести «По ту сторону» Гранин об этом напишет: герой его рассматривает немецкую карту от Пулково до Синявино и думает: «Господи, если б досталась ему эта карта тогда!.. Сколько сил он положил, чтобы разведать, нащупать их точки, сколько народа положил». (Осмелюсь тут в подтверждение сказанного опереться на одно собственное воспоминание. Мы наступали после Сталинграда, появились первые трофеи. Мне принесли немецкую карту Калмыкии, где перед этим шли у нас бои. Карта была много лучше, точнее нашей (как они это смогли сделать, не знаю), поэтому и запомнил ее. Сам комбат жестко отвергает этот довод: «карта — не оправдание».
И еще одно — политрук предложил тогда взять «аппендикс» к 21 декабря — подарок товарищу Сталину ко дню рождения: «Моральный подъем какой получился». А когда что-то делалось к дате да еще такой ответственной, тут уж давай, давай, ничего в расчет не принималось, ни с чем не принято было считаться… Сколько положили народа!
Комбатом, когда он решил выяснить, что тогда было на самом деле, двигала не дававшая покоя совесть, она подсказывала — что-то он делал не так, ошибался, и надо выяснить, что и почему, только так можно успокоить свою совесть, только правдой — как бы горька ни была эта правда. Но дело не только в былой ошибке. Что-то более важное толкало его. Рассказывая своим бывшим подчиненным об ошибке — ведь винит он главным образом и больше всего себя, ни кого другого, он понимал, что они будут не в восторге от его признания, что он разрушает греющий их сердце миф, который они вольно или невольно водрузили на место не радующей их правды. Один хотел, чтобы помнили «только веселое». Другой твердил об идейном воспитании, которым они вместе с «особистом» занимались — это было важнее всего. Лишь рассказчик смог понять значение того, что сделал комбат, его редкое мужество: «Видно было, до чего ему сейчас трудно. Может, труднее, чем в ту зиму. Сам он мог говорить о себе что угодно, он один мог судить себя. Одного из тех, которые талантом своим творили победу. Снова он полз по дну оврага. Седеющая голова его была в снегу, пули нежно посвистывали где-то в вышине. Он оглядывался, а мы залегли, оставили его одного…» И он скажет на последней странице повести встречавшей его жене: «Господи, да если б я мог стать таким, как комбат. Если б мне хватило сил…»
И дальше — это тоже, наверное, стоит иметь в виду — Даниил Гранин делиться своим собственным опытом писателя, которого нещадно били за рассказ «Собственное мнение» — безыдейный, антихудожественный, вредный — его в числе других обвинений предъявили Твардовскому, снимая его с поста главного редактора «Нового мира». И надо было продолжать делать свое дело, не отступить, не поддаваться официальной трепке и руководящим указаниям, опирающимся на утвердившиеся мифы: «Я позавидовал его одиночеству. Давно я не оставался в таком одиночестве. Отвык и от его неуютных правил — делать свое дело по совести, не объясняя своей правоты, не ища сочувствия». Рассказывая через двадцать лет после Победы о ленинградском народном ополчении, в которое он попал, Гранин вспомнил нескольких писателей — тоже ополченцев: «Я запомнил их мужество и шутки — и запомнил странное мое убеждение, что писателям так и следует себя вести себя, на то они и писатели. Это было наивно, и потом я улыбался, вспоминая себя, а теперь мне опять кажется, что тогда, в сорок первом, я был прав». Не стоит ли за этим «теперь» опыт писателя, которому надо было выстоять, когда шла идеологическая атака на него?
В последней фразе «Нашего комбата» «тревожно посвистывали пули». Это уже пули нашего времени, которые не остановили комбата, но которые не хотели замечать его бывшие подчиненные…
Проблема войны и памяти о ней, как проблема прошлого и настоящего — что было истинным, а что уводило от истины, так остро поставленная Граниным в «Нашем комбате», не уходила из поля его зрения и в более поздних его вещах о войне. Изменялась, обнаруживались новые грани, новые конфликты между прошлым — войной и настоящим — памятью о ней. В сущности, речь шла о нравственном суде, который человек, общество вершат над собой или которого требует накопившийся жизненный опыт, где не все ладно, где таятся опасные противоречия. Все это с кровавой резкостью обнаруживает война. Вот почему память о войне становилась такой острой, такой больной нравственной проблемой.
Как же так получилось, что память незаметно, вроде бы ненамеренно трансформировала фронтовые воспоминания: что-то сгладилось, что-то выступило рельефнее, чем было в действительности, что-то подогнано под сегодняшние расхожие стереотипы или вообще забылось? Как же так вышло, что правда расплылась, растворилась, уступив место удобной, огибающей поступки, которые сегодня не красят — тогда они казались в должном порядке вещей — полуправде?
Ответ на этот вопрос вынужден искать герой следующей после «Нашего комбата» повести Гранина «Еще заметен след», от имени которого ведется рассказ, Антон Максимович Дударев. Он ветеран войны, немолодой человек, задерганный постоянным авралом на службе, оставшийся словно бы в пустоте после смерти жены. Ему не хочется возвращаться в прошлое — без этого хватает забот.
Тем более что поиск ответа на вдруг возникшие вопросы о военном прошлом требует мужества, может быть, и суда над самим собой.
К Дудареву обратилась незнакомая женщина — разыскала его, специально приехала из Тбилиси в Ленинград. Когда-то в дни войны она переписывалась с двумя его однополчанами. Она надеется, что он расскажет ей об одном из них — Волкове, которого она знала только по письмам. Дудареву поначалу все это кажется каким-то нелепым недоразумением, он не помнит Волкова, которым интересуется эта очень напористая дама; какой тут Волков, если он запамятовал даже номер своей полевой почты. Да и вообще немногое осталось в памяти от такой уже далекой весны сорок второго года: «…Пустяковины бренчали в моей опустелой черепной коробке. Значки той поры. Как он съежился — круг, освещенный коптилкой. Со всех сторон подступал полумрак, в нем двигались какие-то тени, безымянные призраки».
Но Жанна — так зовут эту женщину — не отступает. Она дает Дудареву письма, полученные ею с фронта, — там поминается и он — поэтому она его и разыскала. И эти письма наконец пробудили и заставили работать его память. Круг, слабо освещенный коптилкой, начал расширяться — стало проступать, можно было уже различить то, что раньше находилось в неразличимой тьме; тени «материализовались»; безымянные призраки обрели фамилии и имена, превратились в живых людей — с одними он был дружен, других не очень жаловал, одних он понимал очень хорошо, других — нет. Да и себя самого, двадцатилетнего лейтенанта Тоху, как звали его товарищи, помнил не очень четко: видимо, там, на войне он был не совсем таким, каким представлял себя по прошествии десятилетий, пожалуй, от того лейтенанта он, сегодняшний, гораздо дальше, чем привык думать…
Дударев не лукавил с Жанной, он и в самом деле не сразу и с трудом вспомнил Волкова. Вспомнив, с неохотой и настороженностью приступил к чтению его писем — все в нем «напряглось, как в детстве, в ожидании наказания»: вдруг в письмах говорится о нем то, чего он уже не помнит и что ничего приятного ему не сулит. И действительно, с Волковым была связана история, которая почти выветрилась из его памяти, отправлена была в очень далекие «запасники»; но в глубине души Дударев ощущал какую-то смутную вину перед этим человеком — может быть, поэтому и забыл, чтобы не отягчало душу, не мучило.
Конечно, это не было сознательной установкой — вытравить из памяти, скорее, тут действовал инстинкт. Дударев не был дурным человеком — выполнял свой долг честно, не выслуживался, воевал храбро, был верным товарищем, ни злобы, ни двуличия, ни желания кому-то угодить в нем не было, а вот по отношению к Волкову поступил плохо. Впрочем, не только он — «нас вызывали по очереди, расспрашивали, и мы не щадили Волкова — и за прошлые разговоры и за этот…» Может быть, и в этом было дело, в том, как легко люди подчинялись «общему» мнению. Дудареву тогда и в голову не приходило, не могло прийти, что воспитанная у него привычка непременно поступать, как «все», способна толкнуть его к поступку нечестному, неблаговидному. Если «все» — значит правильно. И действительно это «все», это единство было основой нашего сопротивления в трудную пору, в отчаянных ситуациях врагу, который был очень силен. Я уже ссылался в статье, посвященной фронтовым дневникам Константина Симонова, на его очерк «Задержано доставкой…» Снова процитирую его: «Любой из нас, предложи ему перенести эти испытания в одиночку, ответил бы, что это невозможно, и не только ответил бы, но и действительно не смог бы ни физически, ни психологически всего этого вынести. А у нас сейчас миллионы людей это выносят именно потому, что их миллионы. Чувство огромности и всеобщности испытаний вселяет в души самых разных людей до этого небывалую и неистребимую коллективную силу, которая может появиться у целого народа только на такой огромной настоящей войне». Об этом говорил в одном интервью и Гранин: «Мы выиграли войну исключительно потому, что она была справедливая. Мы обороняли свою землю от оккупантов. Защищались от расизма, от желания считать нас людьми второго сорта. Справедливые войны всегда приводят к победе». Но Гранин говорит и об опасности, которое таит в себе единомыслие, обязательная идеология для «всех»: «Идеология предполагает единое мышление. Что вообще чрезвычайно опасно. Мы знаем к чему привела фашистская идеология, знаем, какой была коммунистическая идеология». Но это знание, понимание возникло много позже, после войны. Наверное, Дудареву оно далось лишь после того, как его проработали за то, что он в своей «фирме» выступил против «туфты», конечно, не такое, как Волкову, но неприятности были. Запомнились…
Читая нынче письма Волкова, вспоминая его разговоры, Дударев не может понять, что же их настораживало, что рождало их недоверие. Они не сомневались в своей правоте, и все-таки от этой истории осталась у Дударева душевная заноза, не все там было ладно, что-то они сделали не так, нехорошо. Потом это ушло из памяти, и вот письма Волкова через столько лет, когда казалось, что все уже быльем поросло, вызвали его на очную ставку с молодостью, заставили мучительно думать о том, что он делал так, а что, как в той истории с Волковым, не так. И кое-что он нынче вспоминает уже со стыдом. Как случилось, почему, чем руководствовался?
В «Нашем комбате» есть такое место:
«Великое дело восстановить правду войны, — рассуждал Рязанцев… Правда войны… восстановить правду». Кто бы мог подумать, что это на долгие годы — вплоть до сегодняшнего дня станет проблемой — и исторической, и психологической, и нравственной. И оказалось, что решать эти проблемы очень непросто. Во всяком случае надо ли напоминать, что таким судьбам, как Волкова или комиссара из «Нашего комбата», которому «пришили» пораженческие настроения, доступ в «правду войны» был категорически запрещен?
«Многого я теперь не понимаю в себе молодом», — удивляется герой повести «Еще заметен след». Он вспоминает о своих письмах с фронта: «…Дать мне почитать те письма, да еще перепечатанные на машинке, вряд ли бы узнал, что они мои собственные. Многие фронтовые подробности читались бы как чужие».
И как нелегко порой добираться до истины, особенно, если она не соответствует нашим нынешним понятиям, — нужно бесстрашие, чтобы взглянуть в глаза правде, сегодня не устраивающей нас, чтобы не отмахнуться от нее.
Один только пример, помогающий понять психологическую и нравственную почву того, что происходит, разматывается в повести «Еще заметен след».
Во фронтовых дневниках Константина Симонова «Разные дни войны» есть такой эпизод — дело происходит незадолго до конца войны, уже не на нашей территории.
«— Среди остающихся тоже есть сволочи, — говорит Дударев (по случайному совпадению однофамилец гранинского героя), — Фольксдейче. Один такой сегодня утром убил моего начальника связи. Шел мимо дома, а из винтовки с чердака — и наповал. Ну мы его вытащили, и я сказал, чтобы расстреляли к черту…
— А кто у него там был в доме из семьи?
— Никого из семьи. Только одна жена.
— А что вы с ней сделали? Надо было ее расстрелять, — говорю я.
— Почему?
— Для устрашения, чтобы больше не повторялись такие случаи убийства офицеров.
— Нет, почему же расстрелять, — не соглашается Дударев. — Ведь она женщина. Мы с женщинами не воюем».
Это было записано Симоновым сразу же, по горячим следам. А вот его комментарий из более позднего времени, когда дневник готовился к публикации:
«Спустя тридцать лет, не всякий раз до конца влезешь в собственную душу, не всегда поймешь себя тогдашнего.
Перечитывая записанное тогда, захотелось поставить отточие и пропустить этот разговор с генералом Дударевым. Мне трудно сейчас поверить, что я мог сказать то, что я сказал тогда, что жену этого убийцы надо было тоже расстрелять для устрашения, чтобы таких убийств не повторялось…
Горжусь Дударевым, стыжусь своих слов, но оставляю их такими, какими они были тогда…»
Восстанавливая в повести «Еще заметен след» прошлое, Гранин избегает такого рода «отточий». Он ничего не хочет опускать — ни того, чем можно гордиться, ни того, что горько и стыдно вспоминать. Когда речь идет о действительности вообще, вроде бы не так трудно это осознать. Неизмеримо сложнее разобраться в хитросплетениях противоречивых поступков одного человека, понять их логику. Гранин снимает с прошлого своих героев патину, возникшую с годами, он выясняет, чем они были сильны в юности, а где оступались, что давалось им без труда, а что было камнем преткновения, как и что у них с возрастом менялось, что они обрели, а что утратили, что из этих потерь и обретений было благом, а что иссушало душу — все в жизни переплеталось: обстоятельства и характеры, судьбы людей и движение истории.
Я уже говорил, что в своих первых рассказах о войне и в «Нашем комбате» Гранин писал о «молодой войне». Такой он видел свою войну. В повести «Еще заметен след» война не только молодая. Волков — к нему повернуто повествование, загадку его личности, его судьбы старается разгадать Жанна, а вслед за ней вспомнивший его Дударев. Волков был старше своих однополчан — молодых офицеров. Ему было лет тридцать пять, за его плечами была большая и нелегкая жизнь, он был человеком со зрелыми нравственными принципами, самостоятельными суждениями. Люди этого поколения уже многое видели и понимали по-иному, чем двадцатилетние. Замечали и видели то, на что молодые совершенно не обращали внимания, что их не задевало, никак не затрагивало.
Гранинский Волков — фигура очень интересная и открывающая в том трудном времени пласты, вперед не выступавшие, в глаза не бросавшиеся. Он был прекрасным сапером — это все знали в полку, но по-настоящему его возможностей не представляли: окажись он в каких-то специальных инженерных частях, ему, талантливому изобретателю, руководителю конструкторского бюро, цены бы не было — наверное, и должность и чин у него были бы другими, куда более высокими. Но он, не дожидаясь призыва, добровольцем ушел в ополчение и среди офицеров полка оказался белой вороной. Он был не только старше их, его отличала более высокая культура, иные духовные запросы, он знал гораздо больше, видел дальше. Его интеллигентность казалась им старомодной. Думали, не из «бывших» ли он?
А он вышел из «низов», тому, чего добился в жизни, был обязан только себе — своим способностям, упорству, трудолюбию, стремлению к высоким целям. Быть может, поэтому он упорно стоял на своем, не дипломатничал, не отступал под нажимом. Его проницательный и смелый взгляд на происходящее, «талант сомнения», как кто-то точно о нем сказал, привычка не уклоняться от трудных вопросов и договаривать все, что думает, до конца настораживали, его соображения и резоны не всегда были понятны — казалось, что он оригинальничает, фрондирует. То и дело он высказывал свое особое мнение по вопросам, которые, на их взгляд, обсуждению не подлежали.
А Волков не только говорил — он был человеком твердых правил, слово у него не расходилось с делом, — но и поступал по-своему, ни с чем не считаясь. Он — единственный из офицеров полка — отказался принимать положенные зимой сто граммов водки. Демонстративно отказался, его пробовали высмеивать, для большинства из них это была не только утвержденная деталь фронтового быта, к тому же деталь в общем приятная. «Он принцип выставил: мол, во время первой мировой войны русские солдаты сражались без всякой водки и хорошо воевали, водка — не помощник, и так далее. Был в этом как бы упрек нам. Многие возмутились: не чересчур ли берете на себя товарищ лейтенант, приказ наркома не по вкусу? Предлагали ему выменивать водку на табак, на шпроты, в конце концов, не хочешь пить — отдай желающим. Найдутся. Ни в какую, уперся в принцип. Хорошо, что комиссар, мудрый мужик, перевел проблему на калории…»
А когда он в другой раз уперся в принцип, не нашлось никого, кто бы мудро перевел разговор на другое, дело кончилось для Волкова скверно. Было это уже в Эстонии, во время наступления; приехал генерал вручать награды, потом, как положено, их наскоро обмывали, и генерал заговорил с немолодым лейтенантом — в нем была какая-то значительность, всегда обращавшая на себя внимание. «Волков отделывался односложными ответами, хмуро, зло, кроме того, он не выпил. Генерал не привык к такому невниманию. Не помню уж, как и чем поддел он Волкова, заставил разговориться о нашей операции, за которую мы получали награды. Волков сказал, что форсировать реки и выйти к железной дороге можно было без всяких потерь. Генерал возразил, но Волков зачеканил, не давая себя прервать. Голос его медно звенел… Начальство еще не успело ничего сказать, мы сами навалились на Волкова, поскольку ясно — нам вперед рвать надо. А не потери надо считать, с фашистами надо драться, а не на наших штабников нападать. Нам казалось, что он принижает наш подвиг, развенчивает его в глазах начальства, которое так хорошо отозвалось о наших действиях. Не наше дело думать о потерях, наше дело выполнять приказ. Мы разозлились на него, и он сорвался и бог знает что наговорил…» Так сломалась судьба Волкова. Если комиссара из «Нашего комбата», пришив ему пораженческие настроения, понизили в звании и отправили на гибельный участок, где он сложил голову — это был сорок второй год, шла война, она и решила судьбу комиссара, война Волкова уже была на исходе, они сами, руководствуясь въевшимся правилом — «все так думают», «все так должны думать», не понимая, что делают, помогли отправить в лагерь.
Тогда Дударев считал, что все это со стороны Волкова, наверное, было вспышкой выведенного из себя человека, — в тех боях погиб единственный из офицеров, с которым Волков дружил. Вот он и сорвался, наговорил такое, чего говорить не полагалось. Теперь, когда Волков и эта давняя история предстали перед Дударевым в новом свете, он подумал, что Волков «решил высказать свое мнение, чего бы это ни стоило», знал, чем это ему грозит, и «заранее принимал беды, которые грянут над ним». Да, они тогда, обличая Волкова, не сомневались в своей правоте, — они были людьми своего времени, молодого поколения, плохо разбиравшегося в том, что к чему.
Но от этой истории все-таки потянулся след, неожиданный для них, они не всегда отдавали себе отчет, откуда он идет, чей это урок, но даром он не прошел. И для Дударева: «О самом Волкове я никогда не вспоминал, а вот мысль о потерях запала в душу и все последние месяцы войны не отпускала в коротких наших танковых боях, в засадах, особенно же когда нам на броню сажали пехоту…» и для бывшего командира полка (видно, что он хлопотал, чтобы Волкову смягчили наказание), который после войны вспоминал: «Прав был тот лейтенант-сапер… неэкономная была операция, давай, давай! Азарт наступления подмял требования тактики».
И не протянулся ли этот след совсем далеко, в послевоенную пору, когда Дударев, всего-навсего руководитель группы, восстал против туфты, начал в своей «фирме» «битву за качество»? Конечно, времена уже были другие, более «вегетарианские» и ему не грозят те беды, которые обрушились на Волкова; но и теперь непросто выступать против общего мнения и мало радости выслушивать, что ты не «патриот своего производства», даже если эти слова не подкреплены оргвыводами. И не случайно, как видно, сдружился Дударев с «единственным из заказчиков, который не боялся… в глаза бранить нашу продукцию». Не осторожничал, выкладывал правду, о которой «никто не смел заикнуться». И если нынешнего Дударева отправить чудесным образом в военное прошлое, наверняка он был бы на стороне лейтенанта Волкова, а не лейтенанта Дударева…
Кто знает, попал бы в поле зрения Гранина такой человек, как Волков, если бы не работа над «Блокадной книгой», встречи с блокадниками, их дневники с особой наглядностью обнаруживали самую тесную связь и зависимость между подлинной интеллигентностью и мужеством, совестью и самоотверженностью. Волков — человек незаурядный, пожалуй, автор даже с излишней щедростью наградил его всевозможными талантами и достоинствами: он и замечательный инженер, и тонкий ценитель живописи, и блестящий знаток архитектуры Ленинграда, и прекрасно пишет, и т. д. Я сказал «с излишней» не потому, что так в жизни не бывает: в жизни всякие люди встречаются; а потому, что для решения той художественной задачи, которую ставил перед собой автор, этот избыток не нужен, он мешает, может затуманить картину. Не создастся ли у читателя из-за этого ложное впечатление, что та нравственная высота, которой достиг Волков, доступна была лишь ренессансно одаренной личности? А ведь суть здесь — в отношении к правде, в стремлении видеть жизнь без шор, в твердом отстаивании своих принципов, в чувстве человеческого достоинства — именно в этом.
В большинстве книг писателей военного поколения, в которых возникают два времени — «сороковые роковые» и послевоенная, нынешняя пора, либо именем героического фронтового прошлого вершится нравственный суд над настоящим, либо из нынешнего дня рассматриваются события войны; современность обычно вынесена в сюжетное обрамление, лирический комментарий, пролог или эпилог — у нее функции своеобразной «подсветки». В повести «Еще заметен след» военным прошлым поверяется сегодняшний день, а современностью — былое, они для автора равнозначны. Гранин ищет истинное и человечное и там и там, стремится отделить истинные вечные ценности от мишуры, от ложного, от предрассудков и догм. Эта постоянная съемка с двух точек, параллельный монтаж, когда оба воссоздаваемых жизненных ряда взаимосвязаны, но художественно вполне равноправны, — счастливая находка писателя, опробованная им в «Нашем комбате». Это вовсе не «чистый прием» — можно так, а можно и по-иному, — он содержателен, он выражает авторский взгляд на историю и человека.
Отвечает ли человек, изменившись с годами, за свое прошлое, какой смысл копаться в нем, когда переделать ничего нельзя? Допрашивать его с пристрастием? «Где-то там был и я в кожаных штанах, стянутых с убитого старшины, нахальный… Выходит, и я должен отвечать за поступки того парня? С какой стати? Он жил в другое время и по другим законам, я не имею права его судить» — это мысли героя в «Нашем комбате». «Птицы не занимаются воспоминаниями, — думал я, — они поют, переговариваются, поглощенные счастьем и насущными заботами, и крот знает лишь настоящее и будущую зиму. Они куда мудрее человека, всегда по пояс погруженного в свое прошлое», — это Дударев сетует на судьбу человеческую. Все у Гранина направлено на опровержение этих слабодушных рассуждений — герои сами убеждаются, что не могут жить минутой, беспечно, как птицы, и слепо, как кроты, в духовном оцепенении, в эгоистической отрешенности от нравственных требований и забот.
А прошлое? Никто не может отнять у них того, что принадлежит им по заслугам, — они ведь не щадили своей жизни, вынесли столько бед, что в мирные времена, наверное, на три поколения хватит, они одолели очень сильного и страшного врага, — никому не дано не отнять, не принизить того, что они сделали. Но были они не ангелы, а живые люди — и ошибки совершали, и не во всем бывали на высоте — у каждого свои зарубки, свой счет. Закрыть на это глаза, списать все на время, отобрать из своей жизни лишь то, что годится для музея, для выступлений на молодежных собраниях, а остальное — раз не нравится сегодня — вычеркнуть из памяти, чтобы не платить по нравственному счету? Что ж Дудареву тогда возмущаться, что Акулов, которого они в сорок втором исключили из партии за трусость, нынче выступает от их имени и рассказывает, «какие мы были герои под водительством нашего командира, как мы освобождали, громили, какое чистое и честное время было».
Не кто-то, а мы сами, если не играть с самим собой в нравственные прятки, должны разбираться в нашем прошлом, не кто-то, а мы сами должны решать, что делали хорошо, а что плохо, в чем были правы, а в чем виноваты. К этой мысли приводят повести Гранина — и относится это не только к военному прошлому. Только так можно сохранить ту нравственную высоту, на которую когда-то возносила самоотверженная готовность, не щадя себя, выполнять свой долг. Правды, неприкрашенной и неурезанной, требует уважение к победе, которая была завоевана очень дорогой ценой. Правда не унижает героическое прошлое, если оно было на самом деле героическим, она подсказывает при этом, как надо поступать сегодня и жить завтра.
Дударев никак не может взять в толк, зачем Жанна разыскивала его? Наверное, «спросить ответа за Волкова, за его судьбу» думает он, кажется, кроме него, уже никого не осталось из тех, кто был вместе с Волковым на фронте, кто причастен к той давней, вдруг ожившей и не дающей и нынче покоя истории, «значит с меня весь спрос». Это хорошо, что он так судит себя двадцатилетнего. Но цели Жанны он не понял, в своей догадке ошибся: она не собиралась предъявлять ему счет, она вершила другой суд — над собой. Она не пришла на помощь к Волкову, когда ему так нужна была поддержка, человеческое участие. В этом не было ее прямой вины, она не знала толком ни где он, ни что с ним. И все-таки простить себе этого она не может. Не знала, но и не старалась узнать — слишком была занята собой. Пробудившаяся совесть жгла ее (кстати, это тоже след Волкова — его духовное влияние): в глазах Волкова она могла выглядеть предательницей, и она судила себя за равнодушие, обернувшееся предательством. А однополчан Волкова она разыскивала, чтобы им, как самой высокой нравственной инстанции в этом деле, сказать, что виновата и осознает свою вину, вот какого суда требовала ее совесть. А иначе, как смотреть в глаза людям, как жить дальше. И если Дударев еще не до конца понял это, то поймет, непременно поймет, как важен суд совести. Неожиданное путешествие в молодость, открывшее ему глаза и на себя самого, и на обстоятельства, которые преподносило время, многое перевернуло в его представлениях.
Занявшись памятью о войне как нравственной проблемой, Гранин не мог не обратиться к самой тяжелой и сложной проблеме — мы и немцы. Между нами была жестокая война — они явились к нам как захватчики: кровопролитные бои, миллионы жертв, разрушенные города и сожженные деревни, блокада Ленинграда, родного города Гранина, из которого он ушел в ополчение, обреченные немцами на смерть от голода жители этого города. Кровь и трагедии были между нами. Потом мы разгромили гитлеровскую армию, пришли в Германию, в Берлин. Вот что лежало между нами — раскаленная свинцом войны добела память, плохо, с великим трудом остывавшая, с большим трудом поддававшаяся здравому смыслу, лучше, точнее сказать, человечному анализу и осмыслению. Как жить с этой памятью о горе и крови, на какой основе строить отношения? Что хранить как урок, а что преодолеть, отбросить? Вот круг проблем, к которым Гранин одним из первых, если не первый в нашей литературе обратился в «Прекрасной Уте». Здесь к чему ни прикоснись, все болит, все кровоточит — это даже не шрамы, а еще не закрывшиеся раны.
Рассказчик (он был в Германии в войну и нынче, в мирное время, там уже не в первый раз) думает о том, что сказали бы сейчас о нем его однополчане-танкисты: «Зачем я один, ночью, посреди Германии стою безоружный, вроде бы свободный, не в плену? Я в Германии и не на танке? Что скажут в полку? Что скажут мои ребята, мой экипаж? Если бы они увидели меня сейчас, они бы меня заподозрили и стали бы допрашивать. А как бы я мог объяснить им? Почему я не стреляю? Чего я тут ищу?»
Но не только им, товарищам фронтовой поры, ему трудно это объяснить, он и сам с великим трудом ищет ответ на мучающие его вопросы и не всегда их находит. Рассматривая замок, построенный в 1326 году, переживший многие войны и многие поколения, он все-таки с «военной» снисходительностью вспоминает, как дырявятся даже такие, вроде бы на века сделанные стены от стопятидесятимиллиметровых снарядов. Его потрясла в наубергском соборе скульптура «Прекрасная Ута»: «Я стоял в холодном соборе, замирал от восторга, чувствуя себя счастливым и ничтожным перед этой красотой…» Но даже тут его настигает военная память: «Сердце мое сжималось от страха, я боялся, что кто-нибудь из моих ребят или я сам бабахнем по этому собору, и Ута разлетится в пыль. Потому что тогда, в сорок четвертом, никакая Ута на меня бы не подействовала. Я видел, как они разрушали пушкинские дворцы, обстреливали Эрмитаж». Вот мирная, почти идиллическая сцена, которую он наблюдает в маленьком, почти игрушечном, вылизанном до туристического блеска немецком городке Лойтенберге. Кузнец подковывал лошадь. Возчик ждал, когда он кончит работу. Из булочной вышел мальчик с корзиной рогаликов и остановился, чтобы посмотреть на работу кузнеца. Все они обменялись дружелюбными репликами. А это комментарий рассказчика: «Я вдруг подумал — а чем занимались этот кузнец и этот возчик во время войны? Я ничего не мог поделать с собой — всякий раз, встречаясь с немцем старшего возраста, я мысленно спрашивал: а что он делал тогда, в те годы?.. Яд этих вопросов отравлял меня». Эти вопросы сегодня ему кажутся ядовитыми, но они не могли не возникнуть, не из воздуха были взяты. Их диктовала память о войне.
Его интересуют немцы, прежде всего те, кто участвовал в войне: что они думают о ней нынче, как относятся к нам. Разговаривая с немецким летчиком, бомбившим Ленинград, он словно бы ощущает в своем кармане пистолет: наверное, надо его застрелить — это оживает его память о войне. Но он разговаривает с бывшим летчиком, выясняет у него некоторые подробности, в том числе его, летчика, жизни и начинает понимать, что этот человек, послушный в прошлом солдат, изменился, многое понял, пересмотрел. Но ведь параллельно и в нем самом, в нас (стоит здесь обратить внимание на то, как у Гранина, когда речь заходит о войне, единственное число — «я» естественно, без специальных оговорок сменяется множественным «мы») шел тот же очень непростой процесс, он старается разобраться в том, «как менялись мы и наши чувства. Наше чувство к Родине наше понимание ответственности за судьбу мира, как менялось наше отношение к немцам. Ведь оно было разным в первый месяц, потом осенью, потом зимой сорок первого и другим после Сталинграда и другим после Курска. И когда мы вошли в Германию» (об этом разговор впереди — в связи с последней повестью Гранина о войне «По ту сторону»).
Сопоставление двух этих опытов, двух памятей — немецкой и нашей — очень трудная и, похоже, не решаемая простыми однозначными определениями задача: «Вряд ли мы сумеем до конца преодолеть то, что стоит между нами, пишет Гранин. — Так это останется при нас, с тем мы, наверное, и уйдем из жизни».
И все-таки стремиться к этому надо. Весь вопрос в том, как разбирать оставшиеся после войны исторические и духовные руины, рожденные взаимной ненавистью: нашей, потому что они на нас напали, их, потому что мы их одолели.
Этот период истории у нас и у немцев оказался общим — свела в смертельной схватке два государства, два народа, долгая, невиданно жестокая война, превратившая города в руины, села — в пепелища, выкосившая миллионы людей — и солдат, и мирных жителей, В этой общей истории уже несколько десятилетий стараются разобраться и русские, и немецкие писатели — для них и для их читателей это все еще рана. Кстати, именно поэтому такой интерес у русских читателей вызывали книги о войне Генриха Белля, Гюнтера Грасса, хотя это разные по авторской позиции произведения.
Чтобы не вдаваться в подробный анализ, обозначу эти позиции вполне представительными цитатами из написанного ими.
В своем последнем произведении, в сущности завещании, «Письме моим сыновьям» Генрих Белль писал: «У меня нет никакого основания жаловаться на Советский Союз. То обстоятельство, что я там несколько раз болел, был там ранен, заложено в „природе вещей“, которая в данном случае зовется войной, и я всегда понимал: нас туда не приглашали… Вы всегда сможете различать немцев по тому, как они называют 8 мая: днем поражения или днем освобождения. Мы ждали наших „врагов“ как освободителей. Один из выживших из ума генерал-фельдмаршалов потом это назвал не „поражением“, а „утраченными победами“».
Иная позиция у Гюнтера Грасса. В «Траектории краба» — книге, написанной одновременно с повестью Гранина «По ту сторону», он, отбросив «освобождение», занялся истолкованием «поражения» и стал искать скелетов в чужом, нашем шкафу, выдавая созданную картину за объективное расследование. Послушаем, что он говорит: «Поразительно, как поздно и со все еще продолжающимся оттягиванием вспоминают о страданиях немцев во время войны. Последствия войны, проводившейся преступно и без зазрения совести, то есть разрушение немецких городов, смерть сотен тысяч гражданских лиц от ковровых бомбардировок и изгнание с родины 12 миллионов немцев из восточных земель — все это было темой на дальнем плане. Даже послевоенная литература лишь в малой степени сохранила в памяти множество погибших при ночных бомбардировках. Одно бесчестие вытеснило собой другое. Достойным укоризны стало сравнивать одно с другим не говоря уже о поисках виновных».
Что говорить, немцам действительно пришлось хлебнуть лиха во время войны, особенно когда она докатилась до Германии. Но почему об этом Грасс говорит так, словно война длилась всего несколько месяцев сорок пятого года и лишь на территории Германии, а не разоряла и выжигала в течение нескольких лет почти всю Восточную Европу. И разве не немецкая авиация крушила Англию и сожгла Сталинград? И разве не немецкая армия обрекла сотни тысяч ленинградцев на голодную смерть? И разве тысячи и тысячи «остарбейтеров» не отправляли силой в Германию? Таких напрашивающихся вопросов можно задать множество. И на весах истории, как ни старайся, в этом вопросе равенства не установишь, даже если без особой укоризны относиться к тщетным попыткам нечто подобное сделать. И о каких «поисках виновных» идет речь? Главные виновники помрачения, развязанного военного разбоя, в том числе и те, кто тосковал и тоскует по «утраченным победам» (тогда бы, считают они, немцы в третьем рейхе благоденствовали вечно и осчастливливали покоренные народы, дисциплинированно трудящиеся для их блага), хорошо известны. Что здесь выяснять?
«Вечно вчерашние», как называют их в Германии (хорошо бы нам заимствовать это точное определение для характеристики собственных «твердокаменных»!), стремятся представить войну как цепь преступлений, ставящих противников на одну доску, уравнивающих их — все, мол, одного поля ягоды, одним миром мазаны, злодеяния нацистского режима сильно преувеличены, нечего во всех грехах винить только немцев, у них тоже есть свой большой счет к союзникам и прежде всего к Красной Армии.
Действительно есть у нас большие грехи. Гранин касается их в «Прекрасной Уте». Им посвящена повесть «По ту сторону». Об этой проблеме он подробно говорит в одном из интервью. Процитирую это интервью — сказанное здесь писателем может служить ключом к двум его последним вещам о войне: «Военная тема давала возможность приоткрыть бесчеловечные стороны сталинского режима. Война — дарованный историей конфликт. Кроме смертельной схватки, литература сумела показать борьбу, что шла внутри армии. Противник подразумевался как данность, несущая смерть, как безусловный знак зла. Немцы, с которыми мы воевали, не имели различия: существовал безликий фашист, и он подлежал уничтожению. Во всех газетах, от дивизионных до фронтовых, сверху печатался один и тот же лозунг: „Смерть немецким оккупантам!“ Ненависть считалась необходимым подспорьем войны. Пропаганда, как делается в каждой войне, раздувала ее, тем более что расстрелы мирных жителей, виселицы, политика фашистского геноцида давали этому чувству достаточно фактов. Ненависть к фашизму перешла в общую ненависть к немцам и прочно въелась в народную душу». Это стало традицией в нашей литературе о войне. Гранин называет повесть Вячеслава Кондратьева «Сашка» как редкий пример произведения, в котором наш солдат проявляет «симпатию, человечность к немецкому солдату». Я могу в этой связи вспомнить еще рассказ «Одна ночь» и две повести «Мертвым не больно» и «Полюби меня, солдатик…» Василя Быкова. Могу еще вспомнить некоторые стихи Бориса Слуцкого об этом: «Немецкие потери», «Себасьян».
Но особая роль здесь принадлежит Гранину — «Прекрасной Уте» и «По ту сторону». Эти его книги заставили задуматься над тем, что наша литература о войне, которая много сделала для утверждения правды, не смогла увидеть в неприятеле человека, не смогла по разным причинам усвоить этот очень важный толстовский пример человечности.
Гранин справедливо считает, что разборку руин войны, а она, такая разборка, необходима, надо начинать с того, что отыскать и убрать скелеты в своем собственном прошлом, которые тщательно скрывались, говорить о которых не полагалось, было запрещено. Если мы хотим честно смотреть в глаза своему прошлому, по-настоящему заботясь о настоящем и будущем, начинать надо с самокритики (позволю себе это, кажется, уже нечасто употребляющееся слово). Тогда и немцам, избавляющимся от того идеологического дурмана, который когда-то привел их на нашу землю, будет легче разбираться со своим прошлым, им не покажется привлекательным и справедливым «расчет», предлагаемый Гюнтером Грассом.
Кстати, именно этим привлекли Гранина «Записки о войне» Бориса Слуцкого (я уже говорил о них), он даже написал к этой книге, опубликованной через пятьдесят лет после того, как она была написана, предисловие, что делал нечасто. Гранин писал в этом предисловии: «У нас установилась и долгое время торжествовала солнечная картина триумфального марша наших войск по Европе навстречу Победе. Освободители! Как нас любили — цветы, поцелуи, ликующие толпы болгар, словаков, словен, чехов, счастье долгожданной победы дурманило наши головы. Рассказы, фильмы о той поре обрели обязательный трафарет, сладкий до приторности вкус самоупоения… Суровый воин в запыленной плащ-накидке поднимает на руки немецкого ребенка — статуя в берлинском Трептовпарке утверждена была как герб, как итог, присужденный навеки победителям. Мы не заметили, как красивая легенда стала трескаться. Ржаветь. Как была истрачена любовь к нам — освободителям от фашизма». И о книге Слуцкого: «„Записки“ Бориса Слуцкого отличаются от всего, что было написано: они не обличают. Нет в них и похвальбы победителя. Спокойно, чуть иронично свидетельствует он о том, как мы входили в Европу, что там творили хорошего и плохого. С какой-то отстраненной мудростью изображает он, чем кончаются войны. Любые, самые справедливые, оправданные, необходимые». И здесь надо сказать, что многое в «Записках» Слуцкого оказалось близко к тому, как война запомнилась Гранину и как он пишет о ней в своих последних повестях…
Героя повести «По ту сторону» Шагина как прорвало — видно, давно накапливалось недовольство тем, что происходило, и самим собой — он человек в бою храбрый, смершевцев боялся, старался не говорить того, к чему они могли прицепиться. Страх этот долгие годы жил в нем, не давал распрямиться. И, глядя на ухоженное кладбище советских солдат, он вдруг сказал — вырвалось (быть может, вспомнил своих друзей, которых загребли по «ленинградскому делу» и ему грозила та же участь, еле уцелел): «Лучше здесь быть покойником, чем в другом месте живым».
Разговаривая с немцами, которые участвовали в войне, Шагин вспоминает свою войну, вспоминает то, что вспоминать не хотелось, тянуло через это каким-то образом перескочить, то, чего он в глубине души стыдился. Он судит и себя — жестко, безоговорочно. За то, что кое-что утаивал, врал, чтобы картина была посветлее, а она из-за этой лжи подрывала веру и в то, что было правильным, справедливым. «Я считал, что нам все позволено. Как же — освободители, спасли Европу!.. Наряду с той войной, о которой он обычно рассказывал — с цветами, что бросали им под ноги, с объятиями и слезами освобожденных узников лагерей, — была и другая война, ее изнанка. Он вспомнил, как укладывал к себе в постель немок за банку тушенки. Его солдаты обирали немецкие дома, тащили занавеси, белье, посуду, шубы из какого-то дома принесли русские иконы, громили винные погреба — и он покрывал своих, спасал от СМЕРШа».
Многое из того, что вспоминает Шагин и о чем рассказывает Гранин в своих повестях, правда. Это горькая правда, она задевает, ее трудно слушать. Но не надо бояться этой горечи. Она целительна, она оздоравливает. А ложь, как бы она респектабельно ни выглядела, ведет в нравственные тупики, такие, из которых очень часто потом невозможно выбраться.
Вскоре после конца войны, в июне сорок пятого года Илья Эренбург предостерегал: «Мало уничтожить фашизм на поле боя, нужно уничтожить его в сознании, в полусознании, в том душевном подполье, которое страшнее подполья диверсантов». Опьяненные долгожданной, оплаченной такими жертвами победой, мы тогда были уверены, что это относится только к немцам, подписавшим акт о безоговорочной капитуляции. Увы, мы были не правы. Но понадобились годы, чтобы мы поняли, что в сознании и полусознании многих наших соотечественников не все благополучно. А ведь это не где-то, а у нас было: и раскулачивание, и «голодомор», и рабский колхозный труд за «галочки», и «расстрельные списки» по указанным «квотам», и чуть было не проигранная война, за которую заплачено миллионами загубленных жизней (сколько погибло, никто точно не подсчитал) и т. д. Всего тяжелого и бесчеловечного, что выпало на нашу долю в двадцатом веке, не перечислишь. К этому относится и то, что описывает в своих повестях Гранин, что творила наша армия, превращаясь из освободительницы в завоевательницу, для которой не существует морального счета, творит, что хочет. Я хочу сказать, что повести Гранина не только о нашем отношении к побежденным немцам, они о нашей судьбе. В конечном счете Гранин утверждает простые истины: необходим суд совести, покаяние, милосердие. Эти понятия в безжалостном двадцатом веке выветрились из нашего обихода (составители словарей могут поставить после них комментарий — устаревшие). Но все острее ощущается необходимость им следовать — иначе занесет нас неведомо куда…
В преддверии знаменательной даты Неюбилейные заметки к шестидесятилетию Победы
***
В сберкассе, где получаю пенсию, увидел свежее объявление: «Участники и инвалиды Великой Отечественной войны — без очереди».
Вот она сила инерции! Объявление стало для меня очевидной приметой начинающейся кампании по подготовке к празднованию шестидесятилетия Победы. И воскрешало наше еще не совсем забытое прошлое — как это у Пушкина: «Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика».
В последние годы уже редко вспоминают эту прежде распространенную формулу особого внимания к инвалидам и участникам «ВОВ» (неуклюжее это «ВОВ» — в целях экономии печатных знаков — в ходу). А ведь она четверть века неизменно встречала нас в парикмахерских, прачечных, на вокзалах, в магазинах. Нет, оказывается, наше прошлое забыли не все, но в памяти у разных людей осталось разное. Некоторые и сегодня с укором дню нынешнему вспоминают, что колбаса тогда была за два двадцать. Но почему-то не помнят, что эту колбасу можно было получить, «достать» (слово «купить» тогда как-то вышло из обихода), выстояв не один час в бесконечной очереди, конечно, если колбасу до этого не «расхватают» (тоже привычное словечко той поры), что сплошь и рядом случалось. Причем это было в Москве, где колбасу время от времени все-таки «выбрасывали», провинция же о ней вообще забыла.
Я вспомнил обо всем этом потому, что ничего не стоившая властям, не требовавшая никаких обременительных для бюджета затрат (разве что на тиражирование этого указания во всех тех местах, где бывали или могли быть очереди) «льгота» защитникам родины — «без очереди», хотя среди них немало было калек, инвалидов, которые не в силах были долго стоять на ногах, породила, не могла не породить унизительные оскорбительные скандалы. Сколько раз мне приходилось слышать в тех доведенных до исступления очередях:
— Он-то живой и прется без очереди, а мой муж лежит неизвестно где…
— Ну и что, что с палочкой. Много их таких! Кто его знает, отчего хромает.
— Хватит, лезут и лезут, пускать только через десять человек…
До драк дело доходило…
Нет, избавь нас бог от таких льгот. А в сберкассе я могу и в очереди постоять, столпотворений там я сейчас не замечал.
Пишу об этом, потому что мысль подобным образом «выделить» участников войны, оказать им такой «почет», как я слышал, обсуждается в тех чиновничьих кругах, где подготавливаются юбилейные мероприятия.
Наша пропаганда много и в самых пышных выражениях твердила о воспитании уважения к защитникам Отчизны, проводились «вахты памяти», торжественные «линейки» и «сборы» в школах, но могло ли возникнуть уважение к людям, которых наделили «льготой», раздражавшей стоявших в очередях (а в очередях, что скрывать это, стояла почти поголовно вся страна)? А ведь еда была нужна всем: и фронтовиками, и меченным вражескими пулями и снарядами калекам, и простым смертным…
И еще одна заметная примета начинающейся юбилейной кампании: за последние недели телевидение несколько раз показало короткие сюжеты о «поисковиках». Эти люди занимаются благородным, можно сказать, святым делом, честь им за это и хвала! Но почему наши СМИ об этом вспоминают лишь тогда, когда приближается знаменательная дата? Один увиденный недавно сюжет не идет у меня из головы: в Воронежской области «поисковики» отыскали останки погибших в войну, но лежат все эти скорбные находки в сарае у одного из них, потому что тамошние начальники никак не предадут земле погибших — то ли денег на это не отыскали, то ли охоты не было себя утруждать, поскольку прямых указаний свыше не получали. Скорее всего, и то и другое. Одиночный ли это случай? Власти наши давно относятся к поискам останков павших на поле боя как к самодеятельности доброхотов — мол, кто хочет, кому охота пусть занимается. Не государственная это забота. И армия считает, что это не входит в круг ее обязанностей — в лучшем случае, когда дело все-таки доходит до похорон, обеспечат салют, выделят дежурный взвод. Армия занята другими, более важными задачами: судя по время от времени появляющейся в печати информации, она много сил отдает строительству начальнических дач. А замы по воспитательной работе не устают в солдатских казармах твердить о патриотическом воспитании, о верности ратным традициям…
Кстати, не потому ли возникали криминальные мародерские банды, о которых в свое время довольно много писали, что государство и армия тут умыли руки, пустили все по воле волн? Нетрудно представить, во что это может превратиться сейчас, когда ухитряются для сдачи в утиль срезать даже провода высоковольтных передач?.. (Замечу тут в скобках: уже после того, как эти мои заметки были напечатаны в журнале, в 2006 году, Министерство обороны сообщило, что создан батальон, который занимается поиском останков погибших воинов и их захоронением — хватились наконец! Но не распустят ли его при очередном сокращении Вооруженных Сил?).
Сила давно возникшей инерции! Можно не сомневаться, в ближайшее время в газетах и журналах, на радио и телевидении появятся материалы под рубрикой «Награда нашла героя». Так уж по давней традиции (наш железный принцип: не человек для субботы, а суббота для человека) принято: награды почему-то находят героев непременно в предъюбилейные и юбилейные дни… Стоит все-таки сейчас напомнить, что самым молодым участникам войны нынче восемьдесят, вышли они уже на последнюю, финишную прямую и могут так и не дождаться обычно отодвигаемых к юбилейным празднествам наград, заслуженных шестьдесят с лишним лет назад.
Судя по всему, похоже, что в качестве праздничного блюда нам собираются предложить слегка подогретые, бог знает когда изготовленные щи суточные, давно набившие оскомину. «И повторится все, как встарь»: «вахты памяти», поездки «по следам боевой славы», вручение «наград, которые нашли героев», «зарницы» под новым пышным светозарным названием, организованные каким-нибудь очередным хватким и хорошо улавливающим направление начальственного ветра «организатором молодежи», которой выдадут одинаковые майки и т. д. и т. п.
Впрочем не так трудно угадать, что нас ждет, ведь наша юбилейная традиция имеет за своими плечами такие большие достижения, как празднования столетия В. И. Ленина, пятидесятилетия Победы и других знаменательных дат. Но можно не заниматься гаданием, как будет, — все это уже началось, самые расторопные уже двинулись по до блеска наезженной благодатной юбилейной колее. На НТВ уже быстренько соорудили даже что-то вроде документального «сериала» с многообещающим названием «Рождение победы» — отличное название для отчетов о проделанной большой работе. Соорудили без долгих творческих усилий, как говорится, подручными средствами. Телевизионная «картинка» (то ли заимствованная из какой-то давней справедливо забытой ленты, то ли нынче изготовленная на беззастенчиво любительском уровне) должна воскресить для зрителей скудный послевоенный квартирный интерьер и быт (легко догадаться, что на ней появляются одинокие грустные девушки, танцующие под патефон, — таким образом зрителям дают понять, что ровесников девушек, молодых людей нет — они в армии, на фронте). На таком простеньком примитивном фоне какие-то нынче более или менее известные люди (кого удалось залучить на эти представления, что, наверное, было непросто) делятся смутными, сбивчивыми, в общем пустыми ребячьими воспоминаниями о войне и послевоенной поре. Будущим рецензентам телевизионной передачи могу посоветовать сравнить эти бессодержательные выступления, плохо связанные и с войной, и с победой, с тем, что рассказывают дети войны в известной книге Светланы Алексиевич «Последние свидетели». Но так как затея эта все-таки юбилейная, надо ее хотя бы стилистически приподнять, настроить зрителей на торжественный праздничный лад, — и им каждый раз объявляют, сколько дней осталось до знаменательной даты, до шестидесятилетия (по колодке старого анекдота, герой которого отправил телеграмму, состоящую из одного слова — «Волнуйтесь»). Короче говоря, на НТВ отметились, включились — изготовлена типичная «галочная» продукция.
Думаю, что не ошибусь, если скажу, что уже сочиняются проекты решений и приказов: предоставить в первую очередь участникам войны жилье и телефоны. Сколько себя помню, к круглым и полукруглым датам такие решения обязательно принимались, слово в слово повторяя предыдущие. Повторяли, потому что предыдущие не выполнялись. Дальше вселяющих в очередной раз надежду слов, как правило, дело не шло…
В «Известиях» — тоже к юбилею — дважды напечатаны целые страницы писем-воспоминаний участников войны. В письмах реальная война, хранящаяся в памяти людей переднего края, та самая «окопная правда», которая третировалась и вытравлялась главпуровскими и цензурными надзирателями. Долгое время все эти воспоминания пролежали в архиве газеты. О том, чтобы их печатать, и речи не могло быть в доперестроечную пору. Сейчас, когда возвращение к «сороковым свинцовым» не только допустимо, но даже вроде бы подстегивается приближающимися торжествами, посчитали, что пришел их час. Важное дело сделала газета: это правдивые свидетельства, запечатлевшие грозное, трагическое время. Мы не избалованы такого рода материалами — в былые времена писать, а тем более печатать их было небезопасно, можно было нажить крупные неприятности.
Что же скрывалось, замалчивалось, о чем говорить было запрещено? Процитирую опубликованные в «Известиях» письма. Они посвящены началу войны, которое сразу же показало, чего стоили произносившиеся перед войной с самых высоких трибун нашими руководителями сверхбодрые прогнозы и звонкие заверения в нашей непобедимой силе. «Мы не боимся угроз со стороны агрессоров и готовы ответить двойным ударом на удар поджигателей войны, пытающихся нарушить неприкосновенность советских границ», — внушал Сталин, выступая в 1939 году на XVIII съезде партии. По всей стране гремело: «И врага мы на вражьей земле победим малой кровью, могучим ударом».
А вот каким, по свидетельству людей, на которых обрушился первый удар гитлеровской армии, в действительности было это неожиданное, страшное, кровавое начало.
«Наша 17-я стрелковая дивизия, мой 271-й стрелковый полк базировались близ Полоцка. В мае-июне был приказ перейти на летние лагеря. И когда началась война, комдив воскликнул: „Чем же я буду воевать, подушками что ли?!“ Приказ основывался на словах Сталина „Не поддаваться на провокации“. В результате ни один патрон, ни один снаряд не был отправлен вместе с нами, все осталось на складах. Не то что воевать — застрелиться было нечем!»
«За две недели до войны нас собрали в доме комсостава на лекцию: „Германия — верный друг Советского Союза“. Танки поставить на консервацию, боеприпасы сдать в артсклад. Я прибежал в парк в 00 часов 30 минут. В небе гудят самолеты. Настроение у всех веселое: начались маневры! Первый бомбовый удар — по складу. Крики: „Это учебные цементные бомбы!“ Второй заход — и удар по соседнему батальону. Крики: кого-то убили, кому-то оторвало ноги… Только тогда мы поняли, что это — война.
Я видел в эти первые жуткие дни стреляющихся в висок, плачущих бойцов и командиров, детей, ползающих вокруг убитых и раненых матерей, брошенные санитарные части с еще живыми ранеными».
«Перед самой войной прибыло новое оружие: самозарядные винтовки с ножевым штыком. На отделение полагалась одна, выдавали самому рослому. Остальные завидовали, а счастливчики гордились, считали себя непобедимыми. В первых же боях новое оружие оказалось непригодным — магазин, засорившись песком, не срабатывал».
Эти немногочисленные свидетельства участников первых боев уцелели в общем по воле случая. Конечно, этих свидетельств могло быть, должно было быть много больше, если бы власть имущие не рассматривали память как затаившегося опасного противника, которого надо во что бы то ни стало обезвредить, заставить молчать.
После того, как Константин Симонов снял большое интервью с маршалом Жуковым для фильма «Если дорог тебе твой дом…», он, считая такого рода воспоминания чрезвычайно важными историческими свидетельствами, предложил запечатлеть на пленке, хотя бы для хранения в архиве, рассказы о войне известных военачальников, руководителей оборонных наркоматов и т. д. Конечно, предложение писателя из соображений идеологической безопасности было благополучно замотано — кому, мол, это нужно, для чего (а то большое интервью с Жуковым, которое было сделано при съемках фильма «Если дорог тебе твой дом…», зрителям удалось посмотреть, когда уже не было в живых ни Жукова, ни Симонова). Замечу кстати, что когда после кончины Симонова его очерк «К биографии Г. К. Жукова» был опубликован в «Военно-историческом журнале» неистовые ревнители патриотизма и ратной доблести из этого журнала, призванного изучать войну, при одобрительной поддержке ГлавПУРа, столь же твердо хранящего пропагандистскую стерильность в подходе к истории (к тому же — что усиливало их пыл и рвение — отношения Советского Союза с США в очередной раз были напряжены), решили «отредактировать» не посчитавшегося с охранительными «установками» маршала, выбросив из его рассказа два абзаца, где он говорил о той помощи, которую нам оказывали союзники.
И вот еще то, что имеет прямое отношение к цитируемым мною письмам из архива «Известий». После работы над документальными телевизионными фильмами «Шел солдат» и «Солдатские мемуары» Симонов, понимая историческую ценность непосредственных свидетельств участников войны, обратился в январе 1979 года в ЦК с предложением создать при Центральном архиве Министерства обороны в Подольске специальную секцию или отделение, куда бы фронтовики могли бы отправлять на хранение свои воспоминания — для тех, кто в будущем будет обращаться к событиям войны, это огромная ценность. Симонов судил об этом не понаслышке: ему пришлось прочитать десятки, если не сотни такого рода материалов, кроме этого, он несколько десятилетий подробно беседовал со множеством ветеранов и немало их рассказов записал. Это позволило ему, выступая в Минске на конференции, посвященной 30-летию Победы, произнести фразу, которую в силу ее точности множество раз потом цитировали: «Никто не имеет права сказать, что знает войну досконально. Войну в целом знает народ, и народ надо расспрашивать о ней».
А вот финал этой истории с предложением Симонова — недавно выяснилось, как реагировали на него те, кто считал, что обладает монопольным правом на доскональное знание и истолкование событий войны. В 1993 году были опубликованы руководящие документы по этому поводу. Они интересны. Все было сделано в соответствии с теми установками и правилами, которыми руководствовались в ту пору в министерстве и ЦК. Письмо Симонова было из ЦК направлено в Главархив СССР, который идею писателя сначала поддержал, а потом, после отзыва Генерального штаба и ГлавПУРа, высказавшихся резко отрицательно, изменил свою точку зрения. Начальник генштаба Огарков и начальник ГлавПУРа Епишев заявили в письме в ЦК, что каждая из предлагаемых для хранения рукописей «в силу субъективного, нередко неполного представления о том или ином событии не может рассматриваться как документальный источник», «бесконтрольное использование собранных таким путем материалов, а контроль в этом деле будет установить невозможно, может привести к таким нежелательным последствиям, как отступления от достоверности в описании событий и фактов». В ЦК, конечно, согласились с Огарковым и Епишевым, документ, похоронивший предложение Симонова, подписали заведующие трех отделов и секретарь ЦК Зимянин. Пометка на этом документе: «О результате рассмотрения тов. К. М. Симонову будет сообщено после выздоровления и выхода из больницы». И дата — 22.08.79 г. Об этих результатах Симонов не узнал — он умер через неделю.
Они не только как могли закрывали дорогу в печать всему, что выходило за пределы раскручиваемой ими мифологии, сама возможность собирать и хранить в архиве материалы, не подвергшиеся их бдительной цензуре, казалась им возмутительной крамолой.
Процитирую еще одно письмо, недавно напечатанное в тех же «Известиях», — уже сегодняшнее. Автор его пишет: «Да, я желаю знать, как началась Великая Отечественная война и почему она началась? Почему страна, которая тратила на вооружение до 50 процентов ВВП и в которой было танков, самолетов и другого вооружения больше, чем в любой другой стране мира, в том числе и в фашистской Германии, встретила войну так, что к осени 1941 года в плену оказалась значительная часть ее кадровой армии? Почему к осени 1942 года враг оказался на Волге? Почему в войну погибли 27 миллионов наших сограждан, а немцев — около 9 миллионов?»
Из девяти членов семьи автора этого письма в войну погибли пятеро. Не надо удивляться таким цифрам… Они — скорбная реальность великой войны. Фронт был далеко от Белозерска, небольшого городка в Вологодской области. Перед войной там были две с половиной тысячи мужчин призывного возраста; на памятнике, который в Белозерске сооружен, восемьсот восемьдесят шесть, погибших в войну.
Повторю. В одной семье погибли пятеро из девяти. В Белозерск с войны не вернулись восемьсот восемьдесят шесть человек из двух с половиной тысяч. Это вполне обычные цифры наших потерь, в каких-то случаях они, быть может, были чуть меньше, но, как правило, еще больше, гораздо больше.
Наверное, фильм Стивена Спилберга «Спасение рядового Райна», о котором много писали и у нас, затрагивает гуманные струны в сердцах американцев. Но подобного рода сюжет на материале нашей войны немыслим, воспринимался бы как прекраснодушная сказка — слишком велика разница между нашими и американскими военными потерями, очень уж разным было отношение к человеческой жизни у нас и у них.
За вопросами, которые ставит в своем письме в «Известия» современный читатель, встает общая проблема — давняя, но не утратившая и ныне своей остроты и непреходящей боли: цена победы.
Кто из нас не помнит вызывающие, рожденные гневным неприятием официозного вранья строки из «Теркина» Александра Твардовского:
А всего иного гуще Не прожить наверняка — Без чего? Без правды сущей, Правды, прямо в душу бьющей, Да была б она погуще, Как бы ни была горька?Стоит напомнить, что строки эти были написаны в сентябре сорок второго года, когда шли кровавые, невиданно жестокие бои в Сталинграде, исход которых невозможно было предсказать, до выигранных сражений, хоть как-то снимавших тяжесть с души, было еще очень далеко. И даже тогда, в полные тревоги дни, острая нужда в правде — какой бы тяжелой, «горькой» она ни была — осознавалась как непременное условие того, без чего мы не сможем выстоять.
Вольно или невольно, переходя в ведомство истории, война становится для идущих вслед нам поколений противоборством политиков и государственных притязаний, приказами военачальников и стрелами на генштабовских картах. Сколько в последнее время я прочитал статей, для которых история войны сводится к тому, кто кого перехитрил — Гитлер Сталина или Сталин Гитлера, кто кого обвел вокруг пальца — Риббентроп Молотова или Молотов Риббентропа. Внимание переключалось на противоборство диктаторских амбиций и решений. В действительности Отечественная война была не «разборкой» между двумя кровавыми диктаторами, как это в последнее время нам внушают некоторые бойкие, склонные к изобретению сногсшибательных сенсаций литераторы. Какие бы цели ни преследовал Сталин, советские люди защищали свою землю, свою свободу, свою жизнь — на это посягнули фашисты. Война была народная. В одной из статей 1943 года Илья Эренбург писал: «Война сложна, темна и густа, как непроходимый лес. Она непохожа на ее описания, она и проще и сложнее. Ее чувствуют, но не всегда понимают ее участники. Ее понимают, но не чувствуют позднейшие исследователи». Мог ли тогда Эренбург думать, что многие послевоенные исследователи или те, кто посягает на это звание, будут войну не только не чувствовать, но и не понимать, и, увы, это большей частью не добросовестное заблуждение, а вполне сознательные манипуляции, цель которых сокрытие правды. Незаметно выветривалась, улетучивалась, исчезала ее конкретная — тяжкая и кровавая — повседневная реальность, то, чем она изо дня в день была для миллионов ее участников на фронте и в тылу.
И им мы во многом обязаны тем, что современные молодые люди плохо представляют себе повседневную фронтовую реальность. Сказываются годы со школьных лет внушавшейся им официозной мифологии. Им уже кажется, как писал один из самых крупных (может быть, самый крупный) поэтов фронтового поколения Борис Слуцкий в пронзительном стихотворении, что «это было так давно, что как будто не было и выдумано. Может быть, увидено в кино, может быть, в романе вычитано». Нынче иногда в шутку, иногда полусерьезно говорят (впрочем, что греха таить, и читать мне что-то в этом роде тоже приходилось): если бы не немцы, а мы потерпели бы поражение, то сегодня жили бы, как они, припеваючи, пили бы прекрасное пиво и закусывали великолепными сосисками. Нет, ничего этого нам — и не только народам Советского Союза, но и всем народам Европы, покоренным гитлеровцами, — не светило. Тем, кого не сожгли бы в лагерных печах, была уготована участь рабов — какие уж тут пиво да сосиски. Абсолютное большинство народа нашего — и те, кто сражался на фронте, и те, кто до изнеможения работал в тылу, — отдавали себе отчет в том, что хотят сделать с нами фашисты, какое будущее нас ждет в случае поражения. Именно поэтому мы все-таки выиграли так страшно начавшуюся для нас войну, выбрались из той ямы, в которой оказались благодаря Сталину и его сподвижникам. И вправе гордиться великой и тяжело давшейся нам победой. Хотя горько и обидно, что не удалось воспользоваться ее плодами, победу у нас отобрали, присвоили Сталин и его приспешники, лишив нас завоеванной свободы, заковав в тоталитарные цепи, не дав устроить на отбитой у захватчиков родной земле человеческую жизнь.
И, наверное, стоит в праздничные дни, изобилующие, что поделаешь, так принято, торжественно-парадными мероприятиями и фанфарной риторикой, как-то напоминать о фронтовой реальности — ран, крови, невыносимого блиндажного и окопного быта, каменной усталости от маршей, от рытья траншей, потому что именно из нее, этой неприглядной, «неромантизированной» реальности, и выросла Победа.
Процитирую один давний, написанный в апреле 1944 года, а напечатанный у нас через тридцать пять лет очерк Константина Симонова. Хочу сразу же подчеркнуть, что речь в нем идет о времени нашего успешного наступления, а не о той трагической поре, когда «драпать» приходилось нам, и мы оставляли врагу одну за другой области, республики — гитлеровцы оказались на расстоянии пушечного выстрела от Москвы, взяли в смертельное блокадное кольцо Ленинград, видели Волгу в Сталинграде, прорвались на Кавказ. И не о том повествует автор очерка, что происходит в бою, что переживает пехотинец, поднимаясь под пулеметным огнем в атаку, или наводчик «сорокапятки» на открытой позиции, когда на него прет танк.
Речь идет всего-навсего о фронтовой дороге во время весенней распутицы. В популярной песне военных лет этому вполне заурядному явлению солдатской жизни посвящены были почти элегические строки: «Дует теплый ветер. Развезло дороги, и на Южном фронте оттепель опять. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге, — эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать». В действительности же это выглядело так:
«Как бы ни приходилось мокнуть, дрогнуть и чертыхаться на дорогах нашему брату — военному корреспонденту, — писал Симонов, — все его жалобы на то, что ему чаще приходится тащить машину на себе, чем ехать на ней, в конце концов просто смешны перед лицом того, что делает сейчас самый обыкновенный рядовой пехотинец, один из миллионов, идущих по этим дорогам, иногда совершая переходы по сорок километров в сутки. На шее у него автомат, за спиной полная выкладка. Он несет на себе все, что требуется солдату в пути. Человек проходит там, где не проходит машина, и в дополнение к тому, что он и без того нес на себе, несет на себе и то, что должно ехать. Он идет в условиях, приближающихся к жизни пещерного человека, порой по нескольку суток забывая о том, что такое огонь. Шинель уже месяц не высыхает на нем до конца. И он постоянно чувствует на плечах ее сырость. Во время марша ему часами негде отдохнуть — кругом такая грязь, что в ней можно только тонуть по колено. Он иногда по суткам не видит горячей пищи, ибо вслед за ним не могут пройти не только машины, но и лошади с кухней. У него нет табака, потому что табак тоже где-то застрял. На него каждые сутки в конденсированном виде сваливается такое количество испытаний, которые другому человеку не выпадут за всю его жизнь».
Цена победы — это у многих из нас, доживших до ее шестидесятилетия, и сегодня не зажило, не зарубцевалось. Честно выяснить ее требует от нас прежде всего скорбная память о наших товарищах, о наших однополчанах, которые лежат в земле сырой, и у нас, куда ни глянешь, от бывших западных границ СССР до Москвы, Воронежа, Сталинграда, Новороссийска, и не только у нас, но и «в пяти соседних странах зарыты наши трупы», — писал Борис Слуцкий. И мы, чудом недобитые, разве мы можем забыть, что не разделили их участь лишь в силу счастливо сложившихся обстоятельств.
Война продолжалась четыре года. Сейчас, отмечая шестидесятилетие Победы, могут даже сказать: всего четыре года. Но кажется, что те четыре года вобрали в себя полжизни, если не больше, прожитого нами. И не кажется, так и есть. Мы вынесли с фронта непреходящую, неистребимую ненависть к войне, к кровопролитию, к фашизму, который заставил нас взяться за оружие. Укрепились в своих представлениях о свободе, гуманизме, человеческом достоинстве. И поэтому победа стала главным нашим жизненным достижением, звездным часом.
***
Когда-то, в середине шестидесятых, Виктор Некрасов говорил мне: «Все, хватит вспоминать о войне. Больше о ней писать не буду. Надо с ней кончать». Так говорят, когда хотят освободиться от того, что камнем лежит на душе, мешает жить. Но можно ли, как бы этого ни хотелось, освободиться от нелегкого груза военных воспоминаний, отбросить пережитое на фронте? Вот через много лет написанные Некрасовым строки в его последней очерковой книге «Из дальних странствий возвратясь…» Их пишет писатель, вытолкнутый в эмиграцию, лишенный советского гражданства, отрезанный от родины, от своего прошлого, в том числе военного, которым можно только гордиться. Это пишет писатель, чье имя вычеркивала цензура, чьи книги, в том числе и самая знаменитая «В окопах Сталинграда», были изъяты из библиотек. Некрасов рассказывает о своей поездке на Гавайи: «Я обнаружил все то, что красиво рисовалось мне, когда я по каким-то причинам задумывался о земном рае. Солнце, тепло, море, ласковый ветерок, пальмы немыслимой стройности, закаты, равных по красоте которым нет в мире, бронзовые красавцы туземцы и туземки. Ну и та самая беззаботность, которой, как не было в свое время в Киеве и Москве, не обрел я сейчас и в Париже». И в этом земном рае, в этом царстве беззаботности и безмятежной неги Некрасова вдруг (вдруг ли?!) настигают воспоминания о войне, горькая мысль о непомерной цене, которую мы заплатили за Победу? «Стоит ли так уж орать на весь мир о цене, которую мы заплатили за Победу? Первые месяцы, дни, даже часы войны показали, чего стоят все эти „Если завтра война“ и „Чужой земли не хотим, но и своей земли, ни одного вершка своей земли не отдадим никому“».
И с тяжким вздохом: «Надо ли вспоминать о войне? Попробуй не вспоминай».
Цена победы — это многих из нас, доживших до ее шестидесятилетия, жжет и сегодня. Целые поколения оказались вырубленными под корень (фронтовиков 1923–1925 годов рождения вернулось 3 процента). Убитым назвал это поколение Василь Быков. Печальные строки посвятил своим ровесникам еще один поэт-фронтовик — Давид Самойлов:
Они шумели буйным лесом, В них были вера и доверье. А их повыбило железом, И леса нет — одни деревья.Вспоминая войну, с неунимающейся болью думаешь об этом. Знаем ли мы, сколько человек сложили свою голову в боях? Знаем ли мы, сколько испытали ужасы плена, сколько там в муках погибло и как уцелевших потом встретили дома? Знаем ли мы, сколько вернулись после ранений калеками, инвалидами?
Цена победы оказалась так велика, так ужасна, что многие десятилетия ее строжайшим образом от нас скрывали как самый важный государственный секрет. Теперь это, не испытывая стыда, признают даже те, кто был причастен к такого рода неблаговидным манипуляциям. В предисловии к выпущенному в 1992 году «статистическому исследованию» (так «научно» обозначен жанр книги, посвященной потерям Вооруженных Сил СССР, которая самим названием своим «Гриф секретности снят» должна была демонстративно подчеркнуть достоверность сообщавшихся в ней сведений и расчетов) говорится: «До недавнего времени (очень тянет спросить: какого?) статистические данные о военных потерях находились под грифом „Секретно“». Опять же хочется спросить: почему, что хотели скрыть? Видно, предвидя этот неизбежно возникающий вопрос, авторы, как это принято в такого рода явно сомнительных случаях, прикрываются неназванными «другими странами», которые почему-то должны были стать для них примером и оправданием: «Практика временного засекречивания этих сведений была принята во многих странах мира». Впрочем, робко добавляют: «Однако процесс снятия закрытости у нас „затянулся“». Опять же хотелось бы, чтобы командующий этими военными «статистиками» и «историками» генерал-полковник Г. Ф. Кривошеев объяснил, почему «затянулся», что и с какой целью не хотели «открывать».
Надо прямо сказать, что до сих пор точной цифры погибших мы не знаем, она менялась без зазрения совести. Вскоре после войны сверху была «спущена» (иначе тут не скажешь) цифра потерь: семь миллионов человек. В 1965 году она превратилась в двадцать миллионов. А в 1990 году в двадцать семь, а потери Вооруженных Сил составили 8 миллионов 668 тысяч 400 человек. Особенно меня поразила и восхитила эта последняя цифра — 400 человек. Подумать только, какова степень точности… К цифре потерь наших Вооруженных Сил я еще вернусь, потерь же мирного населения не буду касаться: не на что опереться для критического анализа. Дальше в моих заметках будет довольно много цифр, не хотелось бы за это просить прощения у читателей — они должны понять, что за этими цифрами тысячи и тысячи павших.
Сначала несколько общих соображений. Если общее количество потерь — 27 миллионов — соответствует истине, это означает: один погибший то ли на восемь, то ли на девять человек. Приблизим эти цифры к нашему житейскому опыту. Можно тогда сказать, что почти нет у нас семей, где после войны не досчитались бы своих родных. В первую мировую войну — эти данные почерпнуты мною в переведенной у нас в 1972 году документальной книге «Августовские пушки» Б. Такман, приведу их для сравнения. Самые большие потери понесла Франция — 1 погибший на 28 человек населения, Англия — на 57 человек, Россия — на 107.
Скрупулезный подсчет и анализ потерь немецкой армии во время второй мировой войны был проведен в Германии давно, очень давно. Мы тогда нашими потерями и не думали заниматься. Некоторые наши военные историки годами твердили, что нет возможности более или менее точно подсчитать потери, потому что в 1941–1942 годах при отступлении большое число документов было утрачено, во многих случаях никакого учета потерь вообще не велось. Но для компетентных и добросовестных исследователей это вполне преодолеваемая трудность. Мешало на самом деле другое — установка властей во что бы то ни стало утаить горькую правду.
Что с подобными трудностями вполне можно справиться, меня убедила попавшая ко мне в конце 70-х годов книга немецкого историка Кристиана Штрайта. Название ее можно перевести как «Несолдаты» или «Солдатами их не считать» (крохотными порциями главы из нее под названием «Они нам не товарищи» печатались в «Военно-историческом журнале» в 1992–1994 годах).
Тема ее раскрывается в подзаголовке «Вермахт и советские военнопленные в 1941–1945 годах». В основе книги — обширнейший фактический материал, добытый в архивах ФРГ. Хочу указать на одно, с моей точки зрения, очень важное ее достоинство — здесь все на виду, все можно проследить: как велись подсчеты, какие источники использовались, какие архивы обследовались. В каких случаях в руках автора были прямые данные, в каких он опирался на косвенные и т. д. Этим книга выгодно отличается от уже упомянутой мною первой нашей работы такого рода «Гриф секретности снят. Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах». Книга «Гриф секретности снят» подготовлена коллективом авторов под общей редакцией кандидата военных наук, генерал-полковника Г. Ф. Кривошеева. Но в ней знакомят читателей с конечными результатами, их читатель не имеет возможности перепроверить. Он должен верить на слово авторскому коллективу, которым командует генерал-полковник.
До книги К. Штрайта нам было известно из письма Розенберга Кейтелю, опубликованного у нас в сборнике «Преступные цели — преступные средства. Документы об оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР (1941–1944 гг.)», что из 3 миллионов 600 тысяч советских военнопленных (некоторые советские историки считали, что в это число включалось и какое-то количество гражданских лиц — не очень значительное, но какое точно, никто из них не знает и выяснить не пытался) сохранили работоспособность всего несколько сотен тысяч (эту формулу — «работоспособность» — употребил Розенберг, которого интересовала, конечно, не судьба уничтожаемых людей, а возможность использовать рабский труд, которую он не хотел упускать).
По данным К. Штрайта, из 5 миллионов 700 тысяч советских военнопленных погибли — расстреляны, замучены, умерли от истощения, болезней, невыносимых условий — 3 миллиона 300 тысяч (или 57,8 процента от общего числа). Стоит для сравнения привести и такие цифры из той же работы «Августовские пушки»: английских военнопленных погибло 1,15 процента, французских — 1,58, американских 0,3. И еще один ряд цифр, из этой же работы, подталкивающих к серьезным размышлениям. В первую мировую войну в немецком плену русских был 1 миллион 434 тысячи 500 человек, из них погибло 5,4 процента. Это выше, чем смертность военнопленных других стран и в других странах (она составляет приблизительно 3,5 процента), но не идет ни в какое сравнение с тем, что было с советскими военнопленными во вторую мировую войну.
А теперь вернусь к цифре наших потерь в войну. Даже последняя ошеломляющая цифра не вызывает доверия. Уже хотя бы потому, что высокого ранга военачальники, полагающие, что им подчиняются не только нынешние военнослужащие, но и наше фронтовое прошлое, видимо, чтобы задним числом потери наши и наших противников стали хоть как-то соразмерны, сопоставимы, принялись разъяснять, что двадцать миллионов погибших — это мирные люди, армия же потеряла лишь семь миллионов. Таким манером нас хотят в сущности вернуть к цифре, провозглашенной в сталинские времена. Вот какие нескладные сказки нам рассказывали и рассказывают, чтобы мы, не дай бог, не осознали до конца, что и сталинская политика, и сталинская «наука побеждать» строились на костях, на крови, что человеческая жизнь и в грош не ставилась.
Сочиненные в недрах Министерства обороны цифры — двадцать и семь миллионов, из них потери армии семь миллионов — вызывают самые серьезные сомнения: как известно, в немецком плену из пяти миллионов семисот тысяч погибли три миллиона триста тысяч, и тогда получается (простая арифметическая задача), что на поле боя мы потеряли чуть больше пяти миллионов. Это меньше, чем общее число наших военнослужащих, попавших в немецкий плен. Хорошо знаю, что многие фронтовики к этим выкладкам подчиняющихся армейским начальникам «статистиков» и «историков» относятся с большим недоверием — слишком они расходятся с их воспоминаниями о реальной войне. Даже мой, само собой разумеется, ограниченный лейтенантский опыт говорит, что погибших на поле боя все-таки было гораздо больше, чем попавших в плен. Остаться пехотинцу целым и невредимым после более или менее продолжительных боев — очень уж редкое явление, и это печальный опыт многих «окопников». В документальном фильме Константина Симонова «Шел солдат…» пехотинец, кавалер трех орденов Славы Владимир Финогенов рассказывает: «Я все остаюсь живой и живой! Вместе с ребятами иду в наступление, берем село, взяли село — а я остаюсь живой! Вместе со всеми солдатами иду со своей ротой, перебежками забираем все это село, окапываемся, идем дальше, а я остаюсь живой!» Это простодушное удивление солдата-пехотинца, его извиняющаяся интонация — ведь он считает невероятным чудом, что пули и осколки его миновали, что остался жив, ведь почти все ребята, что были рядом, полегли тут или маются где-то в госпиталях, — это естественное удивление. Понятное каждому, кому пришлось воевать в пехоте, оно ставит под сомнение предложенную военными историками цифру.
Конечно, воспоминания — вещь субъективная, их не переведешь на цифры, могут сказать мне. Поэтому обращусь к данным более основательным. В марте 1995 года состоялась научная конференция «Людские потери СССР в период второй мировой войны», по итогам которой в том же году был выпущен сборник статей. В этой конференции приняли участие и возглавляемые генералами Гареевым и Кривошеевым историки Министерства обороны, которые повторяли то, о чем уже шла речь в моих заметках. Но в докладе, с которым выступили М. Ларин и В. Банасюкевич, сотрудники НИИ документоведения и архивного дела, говорилось следующее, что решительно расходилось с данными, представлявшимися военными историками: «На сегодняшний день в ЦБД (Центральный банк данных — Л. Л.) введено около 19 млн. персональных записей о погибших, пропавших без вести, умерших в плену и от ран в годы Великой Отечественной войны. Формирование Банка данных еще не закончено, по нашим примерным оценкам, исходя из объема оставшихся необработанных документов, в ЦБД необходимо ввести еще около 500 тыс. записей, и тогда общее их число достигнет 19,5 млн». Надо ли удивляться, что никто из специалистов по потерям из военного ведомства не осмелился спорить с авторами этого доклада?..
Пушкин в десятой главе «Евгения Онегина», вспоминая «грозу двенадцатого года», писал, что спасли Отечество «остервенение народа, Барклай, зима иль русский бог». Можно наложить эту пушкинскую формулу на нашу войну. Зима (особенно жестокая в сорок первом — сорок втором годах) и «русский бог» (хотя сильно потесненный в пору советской власти на обочину истории, но в войну все-таки призванный в ряд защитников Отечества) были, как выражался тогда наш будущий генералиссимус, «основными факторами» сопротивления захватчикам.
Роль же Барклая (или Кутузова) была отдана в послевоенные годы Сталину, он был объявлен выдающимся полководцем всех времен и народов, отцом великой Победы благодаря десяти полководческим «ударам» в 1944 году — сразу после войны наша флюгерная пропаганда и тут же объявившиеся тоже державшие нос по ветру пуровские «историки» войны окрестили их сталинскими — враг и был разгромлен.
Когда после XX съезда пропагандистский пьедестал, на котором возвышалась фигура Сталина, потерпел основательный ущерб, на это символическое место был возведен маршал Жуков, он стал внедряться как единоличный творец Победы, почему-то таким образом отделяемый от других военачальников (Василевского, Рокоссовского, Черняховского), вольно или невольно противопоставленный им, хотя они по справедливости должны были бы стоять рядом. Но по давно сложившейся традиции широко распространенных общепринятых представлений, всячески поддерживаемых и питаемых бойкой пропагандой: спаситель Отечества должен быть один и непременно возвышаться над всеми, кто был рядом. Не об этом ли (имея в виду, конечно, не только войну) писал Булат Окуджава: «И все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему, и мы до сих пор все холопами числим себя».
Но не забудем об «остервенении народа» из пушкинской формулы или «дубине народной войны», как выразил это в «Войне и мире» Толстой, — война была действительно народным противостоянием захватчикам и благодаря «остервенению народа» остановили гитлеровскую армию в пригородах Москвы, вынесли нечеловечески страшную блокаду Ленинграда, не сдали Сталинград. Об этом у того же Окуджавы: «Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим, а нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим».
Десять лет назад Василь Быков дал интервью (хочу на всякий случай для ясности сказать: в русской, а не в белорусской печати — там бы тогда вряд ли напечатали), которое, видимо, вспоминая строки Твардовского, назвал «Горький привкус победы». Вот цитата из него: «Безусловно, мы любили родину и не щадили жизни для ее свободы. Но Сталин, вероятно, по собственному опыту знал, что как в мирной жизни, так и на войне принуждение — средство куда более эффективное, чем показной советский патриотизм… На том строилась вся детально разработанная система военного командования, политорганов, особых отделов, прокуратуры, штрафных рот и штурмовых батальонов — вся эта репрессивная структура периода войны, запрограммированная исключительно на принуждение.
Именно это обстоятельство объясняет печальный для войны парадокс, когда многие полки и дивизии месяцами бессмысленно атаковали одни и те же рубежи и высоты, клали возле них тысячи людей. Атаковать была установка сверху, и дело подчиненных было ее исполнять, не заботясь о результатах…»
Великая победа — действительно великая — имела очень горький привкус, это Быков точно сказал.
В войну хорошо ли, плохо ли — творили историю, не до объяснений с ней и о ней было. Проблема эта со всей остротой и драматизмом возникла сразу же после победы, когда с мучительным трудом «считать мы стали раны, товарищей считать». Тяжелые вопросы, суть которых — я возвращаюсь к тому, о чем говорил, — к цене победы, повисли в воздухе, требуя ответа. Отвечал Сталин на приеме в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии 24 мая 1945 года. Немецкая армия была разгромлена, Германия капитулировала, и он уже не обращался, как 3 июля 1941 года к соотечественникам и защитникам Отечества с заискивающим «Братья и сестры!.. Друзья мои!..» — и стакан с нарзаном не дрожал в его руке. Тон был торжественно державным. И все-таки в его речи было одно место, которое могло выглядеть как «покаянный» ответ на те больные вопросы, что висели в воздухе. Он сказал: «У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941–1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала потому, что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой».
Но не надо обольщаться, в этом заявлении Сталина был еще один свойственный его иезуитской политической манере смысл (вспомним хотя бы написанную им в марте 1930 года в разгар коллективизации статью «Головокружение от успехов», которая выводила верховную власть из-под удара, переадресовывая ее вину за безобразия, творившиеся в стране, местным руководителям, или его активную поддержку пьесы Корнейчука «Фронт», в которой его ответственность за поражения в первый период войны, целиком перекладывалась на военачальников «первоконной», ворошиловской и буденновской кройки, совершенно не подготовленных к современной войне, к которым он прежде, как нынче говорят, «всю дорогу» благоволил, которые его стараниями не по уму и знаниям были вознесены в высшее армейское руководство). Нет, я не случайно взял в кавычки слово «покаянный». Выступление Сталина на самом деле содержало предостережение тем, кто вздумал бы заняться настоящим исследованием причин и обстоятельств пережитой народом трагедии, расплачивавшегося за политическую и военную несостоятельность руководителей страны. В этом была его главная суть, таким образом тут ставилась точка, дальше никто не имел права идти. Я не помню, чтобы оно и при жизни Сталина и в первое время после его смерти хоть однажды было процитировано. Тема закрывалась — решительно и бесповоротно. О цене победы не то что говорить, заикаться было нельзя. Мы, однако, этих слов об ошибках и просчетах руководителей страны, об отчаянном положении, в котором оказались из-за этого, не забыли, не могли забыть, потому что именно так оценивали то, что пришлось пережить…
Странные, больно задевавшие нас вещи стали происходить сразу же после Победы. Впрочем, сказав «после Победы», я не совсем прав, не совсем точен. Еще шли последние свирепые бои, когда 1 мая 1945 года Сталин уже стал внушать советским людям, что «наша социалистическая экономика укрепляется и растет, а хозяйство освобожденных областей, разграбленное и разрушенное немецкими захватчиками, успешно возрождается». На самом деле страна пришла к победе на последнем дыхании, разоренной, обезлюдевшей — почти полностью были скошены целые поколения, ужасные зияния бросались в глаза, куда ни глянешь, они были повсюду — в каждой деревне, в каждом школьном классе, в каждой семье. А возрождалось очень активно и целеустремленно и отношение к итогам только что окончившейся войны и к только-только наступающей мирной жизни, нищей и трудной, возрождалось то государственное самодовольство и самохвальство, которое было одной из причин наших катастроф в начале войны. Все громче стало звучать державинское «Гром победы, раздавайся, веселися, храбрый Росс!» А оснований в те дни для веселья было мало — разве что перестали на поле боя гибнуть люди…
Нет, я не хочу и в малой степени умалять значение победы над гитлеровской Германией и для нашей и для мировой истории. Когда на празднование шестидесятилетия открытия «второго фронта» нас позвали в качестве бедных родственников, это стыдно. Стыдно не для нас, а для наших тогдашних союзников, у которых, впрочем, что скрывать, есть и свой, и немалый, счет к нам — вспомним хотя бы наши дружеские отношения с немцами, когда их авиация нещадно бомбила Англию.
Похоже, что у Сталина не было никакого желания вспоминать войну. Сколько бы ни трубили тогда государственные фанфары о том, что он великий военачальник всех времен и народов, как бы ни возносили его беспримерный полководческий гений, сколько бы ни курили ему фимиам — все это, разумеется, по команде и сценариям вышколенных им пропагандистских и идеологических служб, — он не забыл пережитого страха и унижения, особенно в первый год войны. Смертельной угрозой висела тогда опасность военного поражения…
И вот еще что… Сталин, убравший к началу тридцатых годов из руководства страной и партией большинство потенциальных оппонентов, мало-мальски независимых людей, уничтоживший затем почти все высшее командование Красной Армии (кто-то подсчитал, что от пуль и снарядов фашистов генералов погибло втрое меньше, чем военных такого ранга в застенках НКВД), всесильный диктатор, автор сковавшего страну жуткого оцепенения, которое называют «тридцать седьмым годом», он давно привык ни с кем не считаться, не ценить ничьих заслуг и достоинств. Но, видимо, не забыл совершенно для него невыносимого чувства своей зависимости во время войны. Когда по-настоящему приперло, как в первой половине войны, ему пришлось с военачальниками считаться, с их знаниями, с их способностями, принимать во внимание их мнение, порой поступаться своим. К тому же многие из них выдвинулись в тяжелейших обстоятельствах поражений и отступления, в огне ожесточенных сражений показали, на что способны. Нет, разумеется, в большинстве случаев они выдвигались тогда не вопреки его воле. Но по его кадровым установкам, принятым в мирное время, большинству из них путь к столь высоким должностям был закрыт. В «премьеры» намечались другие, его «выдвиженцы», которые смотрели ему в рот, всегда рады были стараться и старались угадать его мысли и желания, им и в голову не могло прийти иметь свою, не совпадающую с его точку зрения. Говорит вождь и учитель: Германия на нас не нападет — значит так оно и будет, полагали они, надо ему верить, а не фактам. А война потребовала генералов, готовых брать на себя всю полноту ответственности за развернувшиеся в сложных, нередко катастрофических для нас обстоятельствах сражениях. Напомню, что будущие командующие фронтами Черняховский и Баграмян начинали войну полковниками, Рокоссовский, Василевский, Петров, Толбухин, Малиновский — генерал-майорами, а некоторым военачальникам, чьи имена гремели в войну — назову для примера того же Рокоссовского, Мерецкова, Горбатова, — пришлось до этого отведать тюремную баланду. Моему давнему приятелю — журналисту, с которым мы одно время вместе работали, пришлось, когда Рокоссовский вернулся из Польши после сталинской «командировки» туда, часто встречаться с маршалом. Он рассказал мне, что как-то спросил у маршала, что он думает о Сталине как военачальнике. Рокоссовский ответил коротко (похоже, он для себя давно знал ответ на этот вопрос): «До Сталинграда не понимал ничего, после Сталинграда начал советоваться…»
Видно, Сталин не мог забыть того, что ему пришлось с кем-то считаться, к кому-то прислушиваться… Первый тревожный удар колокола, означавший, что с военными заслугами можно не считаться, ничего они уже не значат, прозвучал в марте 1946 года: был смещен со своих постов Жуков, который совсем недавно, в мае 1945 года в Берлине от имени нашей страны и Красной Армии принял безоговорочную капитуляцию поверженной гитлеровской Германии, а в июне в Москве Парад Победы. А затем пошли слухи (позднее они подтвердились), что посадили группу военных из окружения маршала по принципу — кошку бьют, невестке наветку дают.
А дальше пошло-поехало… В тюрьму и лагеря — маршалов авиации Новикова, Ворожейкина, наркома авиационной промышленности Шахурина, маршала артиллерии Яковлева, адмиралов Алафузова и Галлера, их начальника адмирала Кузнецова — в «суд чести» с разжалованием в контр-адмиралы, а маршала авиации Худякова — к стенке. Генерал-лейтенанта Лукина, командовавшего группой армий во вяземском окружении и тяжело раненным попавшего там в плен, после Победы освобожденного из немецкого лагеря, отправили в заключение и полгода у него выясняли, почему оказался в плену. Потом было состряпано так называемое «ленинградское дело», судили руководителей этого города-мученика во время блокады — опять расстрелы и лагерные сроки; постановлением ЦК был даже закрыт Музей обороны Ленинграда как рассадник вредоносной памяти. Можно ли забывать такое, вернее делать вид, что ничего этого не было?
Интересно, помнят ли те, кто нынче выходит на митинги как с новоявленными иконами с портретами Сталина в форме генералиссимуса, как бывший главнокомандующий отблагодарил тех, кто, не жалея себя, одолел врага? В 1947 году был отменен День Победы как государственный праздник. Прекрасно понимавший, сколь важен ритуал для создания и поддержания в стране авторитарного казарменного порядка (в ту пору — характерный факт! — многие ведомства учреждали форму), Сталин в данном случае пренебрег этим обстоятельством, для него куда важнее было, чтобы в мыслях своих люди пореже обращались к войне, чтобы для этого поменьше было поводов. Потому что в памяти о войне был тот счет, которого он боялся. Помню, что эта акция нас больно задела. Гораздо больше, чем отмена тех очень небольших наградных, которые выплачивались за ордена и медали (кажется, рублей двадцать в месяц за орден), и ежегодного льготного железнодорожного билета, который тоже полагался награжденным. Денег и бесплатного билета нам было (может быть, по молодости лет) не так уж жалко, но устанавливавшееся пренебрежительное отношение к военному фронтовому прошлому оскорбляло. Думаю, что для Сталина важна была не экономия денег, а девальвация фронтовых заслуг. Именно об этом все проводившиеся мероприятия такого толка недвусмысленно давали понять. В стихотворении, иронически названном «Хозяин» (так по-домашнему, по-семейному величали «отца народов» в «придворных» кругах), Борис Слуцкий писал о возникшем противостоянии вождя и народа и предъявлял вершителю судеб счет от имени вернувшихся с войны:
А мой хозяин не любил меня — Не знал меня, не слышал и не видел, А все-таки боялся, как огня, И сумрачно, угрюмо ненавидел.Не это ли настроение горькой обиды родило замечательное стихотворение Михаила Исаковского о «слезе несбывшихся надежд» вернувшегося с войны солдата, стихотворение, ставшее в самом прямом смысле народной песней? Ну и досталось автору за несбывшиеся надежды полной мерой…
И распространялось все это — «вы не нужны» — и на вполне житейские дела, отзывавшиеся ежедневной болью и унижением. Недавно мне попалась на глаза частушка, записанная в русском селе в Башкирии сегодняшней школьницей:
Здравствуй, милая моя, здравствуйте, родители. Пришли втроем на трех ногах фашистов победители.Частушка, конечно, сочинена в первые послевоенные годы. А дожила до наших дней — такие глубокие незаживающие раны оставила в памяти народа война… Читая эту частушку, я вспомнил последний госпиталь, в котором во время войны, осенью сорок третьего, лежал три с лишним месяца. Госпиталь был по основному профилю «ножной», у многих «ранбольных» (так нас медики называли) ампутации, перед выпиской их старались поставить на протезы. Это была мука-мученическая — протезы никуда не годились. И кого тогда можно было за это попрекать, возможностей у ведущей тяжелую изнурительную войну страны было немного: делали прежде всего оружие, не до протезов было. И очень многие лежавшие со мной в госпитале калеки выписывались из госпиталя не на никуда не годных протезах, которые они так и не смогли освоить, а на костылях, как герои частушки.
С той поры много воды утекло. Кончилась война, медленно, с великим трудом страна приходила в себя. Но деньги и силы по-прежнему вкладывались в оружие (создали атомную, а потом водородную бомбу, ракеты, множество танков и самолетов, атомные подводные лодки), а протезами не занимались, кому нужен уже «использованный», «бесперспективный» человеческий материл, это лишняя обуза, деньги на такую, как считалось вроде бы чисто «благотворительную» деятельность выделялись по «остаточному» принципу, что удавалось по мелочи наскрести да еще в самых скудных бюджетных сусеках. Когда начали показывать по телевидению сюжеты о лежащих в госпиталях «афганцах», я вновь увидел сюжеты с протезами, печально знакомые мне по нашей войне. Рассказывали как о большой, неожиданно свалившейся удаче, что для наших калек какие-то зарубежные сердобольные организации обещали сделать хорошие протезы. Мы же удобоносимые протезы так и не научились, не смогли изготовлять. Власти не видели в этом государственной задачи, их это не беспокоило — никто не спросит, разве что, быть может, слегка пожурят в печати. На этом все и кончится.
Тогда, в послевоенные годы, мы многого, конечно, не знали. Маршал Василевский вспоминал через много лет после Победы: «Первые мемуары о войне были написаны вскоре после ее окончания. Я хорошо помню два сборника воспоминаний, подготовленных Воениздатом, — „Штурм Берлина“ и „От Сталинграда до Вены“ (о героическом пути 24-й армии). Но оба эти труда не получили одобрения И. В. Сталина. Он сказал тогда, что писать мемуары сразу после великих событий, когда еще не успели прийти в равновесие и остыть страсти, рано, что в этих мемуарах не будет должной объективности».
Было бы крайней наивностью думать, что Сталин был озабочен объективностью мемуаров. Просто он не хотел, чтобы занимались ей, — мемуары (даже те, что посвящены победоносному периоду войны, — о них шла речь в его разговоре с Василевским), если рассказчик добросовестно воспроизведет то, чему был свидетелем, могли так или иначе поколебать тот официальный миф о войне, в основу которого были положены составившие тощенькую книжечку некоторые выступления и приказы Сталина военных лет. Некоторые… Конечно, в этом руководящем сборнике вождя, сборнике, которому предназначалась роль евангелия только что закончившейся войны, не было ни приказа сорок первого года № 270 о карах тем, кто попадает в плен, и их родственникам, ни приказа сорок второго года № 227 (во фронтовом обиходе его называли «Ни шагу назад!»), в котором речь шла о тяжелейшем летнем отступлении, когда немцы захватили Крым, загнали нас в Сталинград и на Кавказ, о создании заградотрядов, штрафных рот и батальонов. И хотя эти приказы тогда, в войну, читали перед строем, потом, после нее, несколько десятилетий доступ к ним был закрыт грифом секретности, цитировать их можно было лишь выборочно — то, что разрешала бдительная цензура (полностью они были опубликованы под нажимом общественности только в 1988 году, уже в «перестроечные» времена).
Да, о том, что сказал Сталин о военных мемуарах Василевскому, мы тогда, конечно, понятия не имели, правда, кому надо, можно не сомневаться, донесли его соображения, которые выполнялись как самый строгий приказ. У меня в памяти только одна тогдашняя книга нелюбезного вождю жанра — «Люди с чистой памятью» Петра Вершигоры, больше ничего не могу вспомнить…
Я коснулся литературных дел, но только потому, что они проливают ясный свет и на нечто более общее и важное — атмосферу времени, воздух, которым все мы тогда дышали.
Очень быстро дискредитирующие фронтовиков мероприятия стали привычным, обыденным порядком вещей, повседневной житейской прозой. Одно звено соединялось с другим, образовывалась какая-то цепь. Смутно чувствовались общая режиссура, единый замысел. Но тогда только чувствовались… Я говорю о тех далеких годах еще и потому, что многое потом повторялось, этот дух и методы утверждались как бы навсегда, превращались в государственный канон…
Недавно впервые полностью опубликовано выступление Сталина на заседании Оргбюро ЦК ВКП(б) 9 августа 1946 года, где обсуждались журналы «Звезда» и «Ленинград», где клеймили Ахматову и Зощенко. В воспоминаниях тех, кто присутствовал на этом судилище, рассказывается, как разделывались с Ахматовой и Зощенко. Почти никто тогда не обратил внимания на то, что в выступлении Сталина был еще один сюжет, который прямо не был связан с главными «объектами» критики, выглядел неожиданным, случайным, поэтому, наверное, и не задержался в памяти. Сталин вдруг с нескрываемым раздражением обрушился на фронтовиков — «мало ли что военный, чинов много имеет, ранги имеет», «пусть вам будет известно, что ЦК вас будет только хвалить, что вы обрели в себе силу критиковать даже таких людей, которые имеют много чинов, много рангов», «вы не думайте, что там (на войне — Л. Л.) не было хныкающих людей», «разве можно предположить, что все они были ангелами, настоящими людьми», и т. д. Читая сегодня это выступление Сталина, я понял, что вся эта цепь разных мероприятий, отодвигающих войну в уже не могущее представлять настоящий интерес прошлое, превращающих ее в дело, уже приговоренное на забвение, совершенно не нужное и даже мешающее дню нынешнему, во всяком случае не дающее права ее участникам на какие-то заслуги и почет, была спланирован. Это не был случайный всплеск вдруг возникшего сиюминутного раздражения. Здесь уместно снова напомнить, что за несколько месяцев до этого выступления Сталина был смещен со своих постов Жуков…
И если жестоко расправлялись с теми военачальниками, кто обрел в войну громкое имя, то обычных ее участников и в грош не ставили — кто они такие, пусть и не подумают что-нибудь требовать, на что-то претендовать.
Да, страна была в трудном положении, но и при всех тяжелых обстоятельствах пенсии инвалидам все-таки были совсем нищенскими, существовать на них было невозможно. А ведь многие калеки не могли из-за увечий вернуться к довоенным профессиям, молодые, в сущности попавшие на фронт прямо со школьной скамьи, никакой профессии вообще не имели. Но на государственном уровне никто толком не занимался их жизненным устройством, на самотек это было пущено. И пошли в пригородных поездах и электричках калеки с протянутой за милостыней рукой. Их было много, очень много. Никогда не забуду несчастного без обеих рук, который держал в зубах козырек кепки, куда бросали мелочь. А коляски-самоделки на подшипниках для безногих — впрочем, в один прекрасный день «колясочников» выставили из Москвы и Ленинграда, чтобы не омрачали своим видом начальство. В бюрократическое измывательство превращен был сам процесс получения пенсии инвалидами — многие повторили судьбу гоголевского капитана Копейкина: не думай, что у тебя есть какие-то права, тебя могут, если повезет, милостиво облагодетельствовать тем, что на самом деле тебе и так полагается, а могут тебе и по шее дать — и ничего тебе не поможет, не найдешь даже кому и на кого жаловаться… В первые послевоенные годы был установлен такой порядок освидетельствования инвалидов: все, даже те, кто потерял на фронте руку, ногу, глаз, должны были каждые полгода — словно они могли отрасти — проходить ВТЭК. Без этого пенсия не возобновлялась. А каково было калекам, живущим в селах, добираться к определенному дню в районные центры, где заседала ВТЭК!
Нет, не понаслышке мы знаем, что в реальности представляла собой сталинская неустанная «забота» о ветеранах войны, о которой нынче произносят громкие пылкие речи на митингах «патриотов» и «левых».
Не хочу быть ложно понятым: я вспомнил о прошлом не для противопоставления дням нынешним. О сегодняшнем положении дел, о том, что и как оно повторяет из того безрадостного прошлого, когда к участникам и инвалидам войны относились как к быдлу, с которым можно не считаться, от которого разными способами надо избавляться, речь впереди…
Стоит, однако, выяснить, почему Сталин (здесь, пожалуй, точнее было бы говорить сталинский режим) с таким подозрением и страхом относился к фронтовикам. Ведь это были люди, которые не на словах, на деле, не щадя себя, защищали родину. Сейчас очень часто говорят, что страх у наших властителей вызывало то, что участники войны увидели, что во многих странах, которым мы должны были нести освобождение от фашистов, живут лучше, чем мы. Наверное, как это поразило освободителей, которым долгие годы внушали, что мы живем прекрасно, а за рубежом сытая жизнь только у помещиков да капиталистов, какие породило настроения, с тревогой докладывали «наверх». И тут одна из причин того, что вскоре начавшаяся кампания борьбы с «низкопоклонством» сразу же достигла своей тупостью и мракобесием геркулесовых столпов, породив великое множество анекдотов, часть которых, не потеряв актуального смысла, дожила до наших дней. Понятно, что этот зарубежный опыт армии сыграл свою роль, определяя отношение властей к фронтовикам, но в «зарубежном» походе участвовали не все, кто воевал, было немало и тех, кому пришлось из-за ранений кончить армейскую службу раньше. И в некоторых странах — в разоренной войной и оккупацией Польше, в бедняцкой Румынии — положение немногим отличалось от нашего, разве что «колхозного» опыта у них не было.
Я хочу этим сказать, что у властей была и другая, как мне кажется, более важная причина настороженно относиться к людям, вернувшимся с войны. Вспоминая самую тяжелую пору вражеского нашествия, Илья Эренбург в своей мемуарной книге свидетельствовал: «Обычно война приносит ножницы цензора; а у нас первые полтора года войны писатели чувствовали себя куда свободнее, чем прежде». Здесь речь идет не только о присмиревшей в тяжелое время цензуре: правды жаждал сражавшийся за свою независимость и свободу народ. Она была ему нужна как воздух, как нравственная опора, как духовный источник сопротивления. Вот и цензура с этим вынуждена была считаться… И не только писатели почувствовали себя свободнее, то было возникшее мироощущение людей, осознавших, что защищают, за что сражаются. Ощущение обретаемой, осознаваемой в ходе ожесточенных сражений свободы возникло у многих, очень многих людей. Василь Быков писал, что во время войны мы «осознали свою силу и поняли, на что сами способны. Истории и самим себе мы преподали великий урок человеческого достоинства». Этот важный итог пережитого в трудную годину бедствий изменил мироощущение многих (я бы осмелился даже сказать народа).
Глубинным источником того общественного подъема, который потом условно маркировался XX съездом КПСС и долгое время считался как бы свалившимся откуда-то с неба или следствием спонтанного «волюнтаризма» Хрущева, была происходившая, особенно в первый период войны, стихийная неосознанная десталинизация. Вера в непогрешимую мудрость и ясновидение вождя была тогда основательна подорвана нашими тяжелыми и постыдными поражениями. Воевавшие в ту пору на себе, на своей шкуре почувствовали, каким обманом были сталинские предвоенные лозунги и пророчества. И не забыли, не могли забыть этих большой кровью оплаченных уроков. Ту кровавую кашу, в которую влипла страна (это вершившие судьбой государства, возведенные в почти обожествленный ранг мудрецы и прозорливцы завели нас бог знает куда, в почти непроходимую историческую трясину), придется нам самим расхлебывать. Надеяться надо не на это высокое начальство, надеяться надо прежде всего на себя — вот чему учила война. То был дорого стоивший опыт, но он послужил началом освобождения от психологии «винтиков», «манкуртов».
Вот поэтому они, видевшие пот и кровь войны на своих гимнастерках, надышавшиеся в смертельных боях свободой, дорожившие этим чувством, рассматривались Сталиным, а потом и его «наследниками» как главная опасность режиму. Не случайно Сталин в том выступлении 24 мая 1945 года, которое я уже цитировал, благодарил народ за терпение. Таким они хотели править народом — терпеливым, молча, безропотно подчинявшимся вождям.
Конечно, и фронтовики не все единым миром мазаны. Надо ли скрывать это? Были среди нас и те, кто после войны от невеселой жизни стал сильно «закладывать за воротник», спиваться. Были и те, кто приспосабливался, выслуживался, кому открылась «стезя» — сначала в разные партийные школы, потом в «начальство», правда, как правило, не в самое высокое (в вершинных эшелонах власти послевоенных десятилетий фронтовиков почти не было). Возникли и те, кто постарался свое «ветеранство» превратить в профессию, занимаясь пропагандой приукрашенного часто повторявшегося «героического прошлого». И не из-за них ли молодые люди стали в презрением говорить «участники Куликовской битвы»?
***
С приходом после смещения Хрущева к власти Брежнева началась тихая, на первых порах скрытая, но неуклонная ресталинизация, которая активно поддерживалась многими деятелями, занимавшими командные посты высокого ранга, открывшимися после истребительного тридцать седьмого года вакансиями, во время «оттепели» припрятавшими до поры до времени свои симпатии к сталинским порядкам. Был проделан ловкий маневр: народную память о войне, которая при Сталине находилась в загоне, но не могла быть истреблена, Брежнев решил поставить на службу подорванной при Хрущеве, сильно пошатнувшейся партийного-государственной идеологии. Был восстановлен как государственный праздник День Победы, с большой помпой отпраздновано ее двадцатилетие. На торжественное заседание был приглашен дважды побывавший в опале — при Сталине и при Хрущеве — маршал Жуков (что не помешало цековским и главпуровским деятелям самым наглым образом корежить его книгу воспоминаний, даже вписывая туда упоминание о Брежневе как о судьбоносном военном деятеле). Выпущена была специальная юбилейная медаль, которая вручалась участникам войны (потом, если я не ошибаюсь, такие медали выпускались к каждой юбилейной дате). История войны, если воспользоваться формулой Герцена, была «сведена на дифирамб и на риторику подобострастия». Во всю свою мощь заработала хорошо отлаженная государственная машина бездарной, казенной, лживой пропаганды. На роль главного героя Великой Отечественной назначили избранного вместо Хрущева нового руководителя партии и государства. Полковник, бывший начальник политотдела 18-й армии получил в 1966, 1976, 1978 и 1981 годах четыре золотые звезды Героя и высший полководческий орден «Победа», в 1976-м стал маршалом. Даже нельзя сказать, что было это задним числом, не могу подыскать подходящего слова для холуйской лавины наград; «малую землю» объявили решающей, поворотной битвой Великой Отечественной. Бесстыдству не было предела… Надо ли удивляться тому, что возникла большая серия анекдотов о выдающемся полководце Брежневе и «малой земле», сломавшей хребет гитлеровской армии? Анекдоты выражали мнение фронтовиков, мнение народа. Но не подумайте, что историей полковника, ставшего после войны четырежды Героем Советского Союза, может заниматься в наше время разве что телевизионная передача «Вокруг смеха». Только что в газете прочитал корреспонденцию из Новороссийска, в которой сообщается, что там в сентябре установили памятник Брежневу. В корреспонденции говорится, что идея создания этого памятника горячо поддержана ветеранами Отечественной войны, почетными гражданами города, бывшими ответственными работниками горкома и райкомов партии; правда, шли споры о том, где поставить памятник, в городе или на «малой земле», где Брежнев «воевал» (привычная целенаправленная подмена понятий — вместо «побывал», о чем свидетельствуют даже написанные от имени памятникообразующего персонажа мемуары, ставят героизированное «воевал»).
Должен заметить, что вообще, как недавно принято было выражаться, «процесс пошел»: в Петрозаводске таким же образом увековечили Андропова — но, конечно, не как многолетнего председателя КГБ СССР и краткосрочного генсека (это из серии наших первых школьных арифметических задачек: два пишем, семь в уме), а вроде бы за то, что был «с первых дней Великой Отечественной войны активным участником партизанского движения в Карелии» (так во всяком случае скромно характеризует его военные заслуги энциклопедия «Великая Отечественная война»). Из этой же серии задачек: два пишем, семь в уме… В Дзержинске поставили памятник Дзержинскому, и опять же, как утверждал один из руководителей тамошних властей, не как «чекисту, а прежде всего благотворителю, который создал здесь первую коммуну для беспризорников». И чтобы успокоить «налогоплательщиков», сообщалось, что деньги на памятники Брежневу и Дзержинскому пожертвовали какие-то добровольцы — состоятельные пылкие энтузиасты, не беспокойтесь, из бюджета, мол, заимствована самая малость… Свежо предание! Возбужденный открытием памятника в Дзержинске глава нашей Академии художеств заговорил (он был, однако, не первым, до него с таким предложением выступал мэр Москвы) о восстановлении памятника Вучетича на Лубянской площади. Это надо сделать, объясняет Зураб Церетели далеким от искусства людям, потому что «политика меняется, настроения общества меняются. А искусство остается». Вучетич же, убежден Церетели, который по роду занятий и должности президента академии вроде бы в скульптуре должен разбираться, создал «шедевр», в котором «все совершенно», в чем-то его Дзержинский даже превосходит «Давида» Микеланджело… Вот так!
Памятники — это в данном случае, как принято говорить в наших правоохранительных учреждениях, лишь «вещдоки», но они наглядно свидетельствуют о том, что мы двинулись вспять. Зловещие тени ЧК, Сталина, Брежнева, Андропова не оставляют нас в покое…
В «застойные» времена стали возводит непроницаемые заградительные барьеры правде. История войны была тем участком нашей духовной жизни, где поднявшая голову сталинщина начала наступать особенно активно и яростно. Сигналом для атаки послужил показательный — в качестве наглядного урока правдоискателям — разгром книги Александра Некрича «1941. 22 июня», внушалось, что она признана зловредной, подрывной «на самом верху». Что было равносильно приговору, который не подлежал обжалованию. Ни по материалу, ни по выводам эта добросовестная популярная работа не содержала ничего вызывающего, в ней не было никакой крамолы. Организованная по давно разработанной методе расправа — за отрицательной оценкой последовали свирепые «оргвыводы» (крупные неприятности обрушились не только на автора: Некрича исключили из партии и выгнали с работы, ему пришлось покинуть страну, но и на издателей — «просмотрели», и на тех историков, которые осмелились защищать книгу. Все это означало, что исследованию истории войны кладется конец, путь науке и добросовестным исследователям сюда закрыт.
Разрыв между образом войны, жившим в памяти народной, запечатленным в лучших произведениях литературы, и тем его освещением, которое предлагалось официальной историографией и пропагандой, резал глаза, становился нестерпимым — это были две совершенно разные войны. При ГлавПУРе создали специальную комиссию, которой на откуп отдали мемуарные книги о войне, она решала, что можно, а что нельзя вспоминать. Некоторые проходившие через это горнило авторы рассказывали, что комиссия эта тупоумием и перестраховочным ражем превосходила Главлит. Это, конечно, нелегко себе представить, но так действительно было, о чем свидетельствовала серия мемуаров военачальников, выпускаемая под присмотром этой комиссии Воениздатом, мемуары были как надраившие до блеска форму солдаты, занимающиеся строевой подготовкой перед предстоящим парадом. Эти унылые лишенные серьезной информации рассказы, причесанные на один манер, тощие брошюры и пухлые монографии, многотомные истории и учебники для средней школы были пронизаны пустопорожней риторикой, угодничеством, лестью и подхалимством. В шестидесятые годы XIX века, в пору тогдашней «оттепели», критик Дружинин писал о казенно-парадной историографии николаевской поры, посвященной Отечественной войне 1812 года: «Вред, нанесенный ею, был чрезвычайно велик и до сих пор еще не оценен достаточно. Благодаря панегирикам, унижению врага, скрытию своих неудач и ошибок, придирчивости лиц и корпораций славнейшие периоды нашей военной истории улетучились без следа…» Не странно ли, что это можно повторить, говоря об утвердившейся в «застойную» пору официозной историографии Великой Отечественной войны. Именно такой она была, нацеленная на то, чтобы скрыть неудачи и ошибки, бездарность и головотяпство, а главное — угодить обличенным нынче властью. В выпущенных к сорокалетию Победы энциклопедии «Великая Отечественная война. 1941–1945» и словаре-справочнике с тем же названием даны биографии (с портретами) всех тогдашних членов Политбюро, немалую часть которых во время войны отделяли от фронта многие сотни километров и так называемая «броня». И они потом, после войны, не стесняясь, учили нас «патриотизму» (правда, с действенной помощью специальных и других влиятельных служб). Видно, почувствовав, как бы это сказать, некоторую неловкость, что ли, составители словаря решили добавить каждому из этих «видных советских и государственных и партийных деятелей» весьма своеобразных военных заслуг: «Тема Вел. Отеч. войны занимает значительное место в выступлениях и статьях…», далее следует нужная фамилия.
Все это нельзя забывать…
Конечно, отодвинуть куда-нибудь на задворки, как при Сталине, материал войны уже не представлялось возможным, напротив, обращение к нему, разумеется, если соблюдались установленные начальством ограничительные рамки, даже поддерживалось и поощрялось. Но был взят курс на то, чтобы «обезвредить» этот все еще взрывчатый материал, поставив под строгий неусыпный контроль: о поражениях сорок первого — сорок второго годов — самой быстрой скороговоркой, об их подлинных причинах — ни слова, о репрессиях, подорвавших боеспособность наших Вооруженных Сил, — ни полслова, о гигантских потерях, об огромном количестве попавших в плен — тоже молчок. Сталина лучше не упоминать, а если упоминать, то «объективно» (что, разумеется, означало с одобрением).
Могут сказать, что все это давно было и уже быльем поросло. Если бы так… Со Сталиным и сталинщиной не кончено и сейчас, в наши дни. Те зерна беспардонного вранья (могу выразиться деликатнее — мифов) и демагогического запугивания (дадим по рукам хулителям нашего героического прошлого!), которые были посеяны при Сталине и для его возвеличивания, а затем всячески «окучивались» при Брежневе, Суслове и Андропове, прорастают и сегодня — под теплом нет-нет, да и возникающих благоприятных идеологических лучей. И это не только бурьян, который легко выполоть, но и тот особый сорт конопли, содержащий опасный дурман, с которым бороться трудно, он и в малых дозах опасен.
Нас все еще стараются убедить, что мифы на самом деле были подлинной жизнью, и они должны быть примером того, как нам надо жить. Вот свеженькие, на этих днях произнесенные здравицы мудрому вождю и учителю, разорившему страну, доблестному полководцу, не разу не выезжавшему на фронт. Это высоким стилем, обращаясь к библейским и евангельским образам, вещает автор военно-политических сочинений (наверное, так их надо называть), очень раскручиваемого недавно «Господина Гексогена», главный редактор газеты «День», переименованной в газету «Завтра», Александр Проханов: «Победа в Великой Отечественной войне должна быть приравнена к сотворению Адама, избавлению земной жизни в ковчеге Ноя, пришествию на землю Христа… Поля великих сражений — Москва и Смоленск, Сталинград и Ленинград, Курск и Одесса, Киев и Минск — топонимика Святых мест, как Вифлеем, Назарет, Гифсиманский сад, Голгофа, делающие Россию Святой землей, а русский народ, исполнивший победный божественный промысел, — народом-Богоносцем. Мистические парады 41-го и 45-го — суть иконы Победы, на которые молимся, исполняясь благодатью. Вождь Победы, святоносный выразитель народной веры и воли, ставший во главе священного воинства, генералиссимус Иосиф Сталин — святой, чье имя просияет среди спасителей России и мира».
В ином стиле, хотя и не так велеречиво и пышно, как Проханов, но по сути то же самое (это можно было бы напечатать в «Правде» сталинских времен) преподносит Александр Зиновьев — бывший эмигрант, обличитель советского режима, автор имевшей в свое время успех книги «Зияющие высоты», совершивший после этого поворот, который лучше всего характеризовать словами классика — «И я сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал»: «Главным — решающим — фактором победы были советский коммунистический социальный строй, т. е. реальный советский коммунизм, и возглавлявшееся Сталиным высшее руководство страны. Какими бы они ни были, какие бы недостатки вы им ни приписывали, войну выиграли прежде всего советские коммунисты во главе со Сталиным».
Думаю, что больше цитат — их могло быть больше — не требуется. Все вроде бы ясно. Увы, не всем. В автобусе слышу — одна женщина с ностальгической интонацией говорит своей спутнице: «А при Сталине никаких террористов не было». Вот еще один случай избирательной памяти. Террористов действительно не было, но террор был фундаментом сталинской государственной политики, никто не чувствовал себя защищенным от него.
А вот бывший заместитель, а потом глава КГБ, один из организаторов ГКЧП Крючков на презентации своей книги «Личность и власть», которая, нет сомнений, будет «раскручиваться», как «брадобрейское» изделие Коржакова, поделился пережитыми им во время работы над своим сочинением «творческими муками»: «Когда я задумывал главу о Сталине, решил: фигура он неоднозначная и надо попытаться это отразить. Наверное, подумал я, напишу 60 % позитива и 40 % негатива, а когда работа была завершена, получилось 100 % позитива». Видно, сила чувства к светлому прошлому и к Сталину как его олицетворению — чтобы всегда был такой железный порядок, который он навел в стране, взяла свое.
Крючков с тоской вспоминает былое. А один из руководителей только что созданной новой партии ВКП(б) (последняя буква в ее названии означает «будущее») мечтает, опираясь на эту новую партию, его возродить: «вернуться к первоисточникам, „к практическому и теоретическому опыту Сталина“».
Конечно, даже звонкоголосые трубадуры фальшивых идолов и казарменного (лучше сказать лагерного) порядка, понимают — в мавзолей снова не положишь останки диктатора, но можно, сказав Победа, за которую из-за его ошибок и преступлений заплачено было сверхдорогой ценой, миллионами зря загубленных жизней, рядом, в одной связке ловко помянуть его. Владимир Карпов изготовил увесистый двухтомник «Генералиссимус», в котором восхищается полководческим искусством Сталина. Правда, очереди читателей за этим сочинением я не наблюдал, но ведь нашлись организации и люди, не пожалевшие денег на его издание и переиздание, наверное, рассчитывавшие если не на коммерческий, то на пропагандистский успех. Недавно в магазине я видел переписанный на кассету фильм «Падение Берлина» — значит кому-то это нужно, кто-то в этом заинтересован. В моей памяти этот раболепный бездарнейший фильм — государственный киношлягер той поры, создатели которого, разумеется, получили свою очередную Сталинскую премию, связан с историей, которую мне когда-то рассказал покойный Юрий Давыдов. У него был товарищ по тюрьме и лагерю храбрый фронтовой разведчик, слушатель военной академии, которого посадили после просмотра «Падения Берлина». Разведчик этот был парнем остроумным, увидев, как в финале картины Сталина в ослепительно белом костюме на берлинском аэродроме встречает ликующая толпа, пошутил: «Что-то мы этого ангела там не видели». Среди слушателей академии, которые вместе с ним смотрели фильм, нашелся неленивый — доложил куда надо было. Бывший разведчик получил весьма внушительный срок.
Уже не первый раз возникает кампания сегодняшнего второго пришествия Сталина с помощью переименования Волгограда в Сталинград. Недавно президент распорядился заменить названием «Сталинград» название «Волгоград» у могилы Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. В распоряжении президента подчеркивается, что данное решение есть важный государственный акт, приуроченный к 60-летию Победы — «принимая во внимание значение Сталинградской битвы, ознаменовавший коренной перелом в Великой Отечественной войне, отдавая дань уважения героизму защитников Сталинграда и в целях сохранения истории Российского государства». Казалось бы, все здесь правильно: город, битва за который ознаменовала коренной перелом Великой Отечественной войны, назывался Сталинград. Но если бы на этом была поставлена точка… В чем я очень сомневаюсь. Боюсь, что решение президента наследники Сталина воспримут как протянутый им властями палец, как возникшую при высокой поддержке возможность заставить сиять заново имя Сталина, который опять должен перед народом предстать «во всем белом», как в «Падении Берлина». В прошлом году к шестидесятилетию сталинградской битвы воевавшим на Сталинградском фронте было выдано что-то вроде денежной премии, не знаю, как точно ее назвать. На это событие в одной из газет отозвался писатель Юрий Бондарев: «Я считаю, что эти средства нужно было направить на восстановление памятника Сталину в Сталинграде, который был снесен, и на восстановление исторического имени города. Такое решение одобрили бы все участники Сталинградской битвы». Замечу между прочим, что историческое название Волгограда все-таки не Сталинград, как утверждает Бондарев, а Царицын, Сталинградом город стал в 1925 году. Конечно, Бондарев волен думать, как ему заблагорассудится. Но больно широко он размахнулся, считая, что его точку зрения разделяют все участники Сталинградской битвы. Я, как и он, воевал в ту пору на Сталинградском фронте, но не припомню, чтобы мы тогда говорили, что ожесточенные бои идут потому, что мы сражаемся за город, который носит имя Сталина, свою задачу мы видели в том, чтобы не дать немцам пробиться к Волге, оседлать великую нашу реку, — это было бы тяжелейшим ударом. Однако память, я уже говорил об этом, не верный свидетель, она может и обманывать, вбирая в себя и наши более поздние впечатления и соображения. И я решил проверить себя, проверить свои воспоминания: перечитал очерки Константина Симонова и Василия Гроссмана, написанные в пылающем, растерзанном смертоносным металлом Сталинграде. Ни разу в них не поминается Сталин. Правда, один из очерков Симонова кончается патетическим пассажем, но связан он не с именем Сталина, что было бы закономерно, если бы в основе предложений Бондарева на самом деле лежали воспоминания о фронтовой реальности сталинградской битвы, патетика эта ориентирована на традиции русской военной славы. Вот эта концовка: «Безымянна еще эта земля вокруг Сталинграда. Но когда-то ведь и слово „Бородино“ знали только в Можайском уезде. Оно было уездным словом. А потом в один день оно стало словом всенародным… В степях под Сталинградом много безвестных холмов и речушек, много деревенек, названий которых не знает никто за сто верст отсюда. Но народ ждет и верит, что название какой-то из этих деревенек прозвучит в веках, как Бородино, и что одно из этих степных широких полей станет полем великой победы».
Вернусь к упомянутой мною энциклопедии «Великая Отечественная война», вернусь потому, что она была квинтэссенцией воцарившегося в «застойные» времена государственно утвержденного мифа, в основе которого стремление переиграть на бумаге в гладком, отполированном — без сучка и задоринки — виде то, что было в действительности кровавым, ужасным.
Этот огромный том (почти сто девяносто листов, 830 страниц), изданный тиражом в полмиллиона экземпляров — во многих учреждениях его торжественно дарили участникам войны, был типичным ведомственным «изделием», я бы даже сказал генеральским (главным редактором был генерал армии Козлов, в редакционной коллегии еще несколько генералов; том подготовил Институт военной истории Министерства обороны СССР, «активное участие в работе над книгой принимали сотрудники Военной академии Генерального штаба, Военно-политической академии имени В. И. Ленина». Генерал армии Гареев (сейчас он возглавляет Академию военных наук) как-то даже обосновал этот ведомственный, генеральский подход к изучению истории Великой Отечественной войны: «Видимо, не каждый генерал способен стать хорошим военным историком. Но все же в принципе о военной стороне исторических проблем можно более компетентно судить с высоты современных военных знаний, и любой генерал, будучи профессионалом военного дела, может лучше разобраться в этой области, чем человек не имеющий специальной военной подготовки». Это неверно уже хотя бы потому, что речь в томе идет о Великой Отечественной войне, а не только о боевых действиях Красной Армии против гитлеровского вермахта, а это, как говорил Пушкин по другому поводу, «дьявольская разница». Великая Отечественная была не просто суммой удачных и проигранных сражений, а потому великой, что это была народная — всего народа — война за свободу и человеческую жизнь. Можно написать исторический очерк о каком-нибудь ведомстве, в данном случае о военном, но немыслима ведомственная общая история, создаваемая под эгидой или в недрах этого ведомства и, естественно, выставляющая это ведомство в самом лучшем, в самом приятном для себя свете, поэтому ошибки и поражения обходятся, замалчиваются, затушевываются — словно их не было. История не принадлежит военачальникам, какие бы у них ни были высокие звания и должности, и становящимися перед ними по стойке «смирно» их подчиненным. Она принадлежит народу, и заниматься ею должны настоящие, не глядящие в рот начальству специалисты с соответствующей подготовкой и образованием, не зависящие от маршальских приказов и генеральских мнений. Когда-то один очень неглупый государственный деятель заметил: война — слишком серьезное дело, чтобы доверить его военным. Быть может, это мнение можно оспорить. Но бесспорно, что к занятиям, а тем более к руководству таким сложным и серьезным делом, как история, военных нельзя допускать и на пушечный выстрел. Иначе мы и не заметим, как они назначат в Ключевские и Вольтеры «любого генерала» с зычным голосом, раз и навсегда заученными уставными представлениями о войне и очень смутными о ходе истории.
Энциклопедией книга, о которой идет речь, являлась разве что по названию и объему, в действительности же «энциклопедичность», научность ей были совершенно несвойственны. В сущности она представляла горячо одобряемую руководством со Старой площади и военными — точку зрения тех армейских деятелей, которые, размахивая кулаками после драки, надеются таким образом исправить, изменить в соответствии со своими сегодняшними устремлениями и задачами уже состоявшиеся шестьдесят с лишним лет назад события. Конечно, кое-кого из читателей могла обмануть видимая солидность тома. Но далеко не всех, при чтении его у более или менее грамотного, интересующегося историей войны читателя возникало очень уж много убийственных вопросов… Хочу подчеркнуть, тогда возникало, не теперь, когда мы узнали немало важных сведений и документов, долгие годы тщательно скрывавшихся. Чтобы не быть голословным в качестве примера назову несколько работ, в которых были введены в научный и читательский оборот многие документы, на долгие годы закрытые грифом «Совершенно секретно»: это двухтомник «Зимняя война. 1939–1940» (очень интересен второй том «Сталин и финская кампания», который представляет собой стенограмму совещания при ЦК ВКП(б) начальствующего состава по сбору опыта боевых действий против Финляндии 14–17 апреля 1940 года); двухтомник «1941 год» в серии «Россия, XX век. Документы», в котором увидели свет шестьсот очень важных документов, проливающих свет на то, как шла в стране подготовка к приближающейся войне, документов, без которых невозможно понять истоки многих трагедий военного времени; монография О. Сувенирова «Трагедия РККА. 1937–1938», в которой на большом тщательно выверенном материале показывается сталинский разгром командного состава армии, ставший глубинной причиной наших поражений; в связи с этой книгой О. Сувенирова стоит напомнить о том, что говорил об этом кошмарном годе маршал Василевский: «Без тридцать седьмого года, возможно, и не было бы войны в сорок первом году. В том, что Гитлер решился начать войну в сорок первом году, большую роль сыграла оценка той степени разгрома военных кадров, который у нас произошел».
Да, многое мы узнали в годы «перестройки». Вот что мне сразу вспомнилось… Десять лет назад я побывал на выставке, приуроченной к 50-летию Победы. Проводилась она в не очень подходящем для этого месте, почему-то в Третьяковке, может быть, это означало, что она носит как бы «частный», а не общегосударственный характер. На этой выставке были представлены чрезвычайно важные, судьбоносные для народов и стран документы, демонстрировавшие тайные дипломатические ходы тогдашних правителей Советского Союза и Германии, их зверские бесчеловечные приказы, постановления, распоряжения. В том числе подлинники секретных дополнительных протоколов к советско-германскому договору от 23 августа 1939 года, карта раздела Польши, тогда же подписанная Сталиным и гитлеровским министром иностранных дел Риббентропом. Существование этих позорных документов даже в начале «перестройки» ставилось под сомнение нашими партийно-государственными деятелями (особенно старался тогдашний секретарь ЦК КПСС Фалин, вскоре после этого отваливший в ФРГ и там устроенный в качестве большого ученого) и некоторыми сервильными, на все готовыми историками советско-германских отношений. Перерыли, мол, все архивы, нет таких документов, ну нет как нет, а те, что давно опубликованы на Западе, скорее всего фальшивка. Хотя и вдумчивому школьнику было ясно, что такие документы существуют, спрятаны в каком-то архиве, поскольку неопровержимо подтверждаются разбойными действиями и гитлеровской Германии, и сталинского Советского Союза. В Третьяковке документы эти были выставлены для всеобщего обозрения — конечно, они отыскались, топор оказался там, где он всегда находится — конечно, под лавкой, где еще ему быть…
Узнали мы не только об этом секретном протоколе к советско-германскому пакту 1939 года. Узнали о жуткой кровавой катынской истории (польских офицеров расстреляли не немцы, как мы твердили, а перед войной по приказу руководства страны палачи из государственной безопасности). Официальная цифра 20 миллионов погибших превратилась за это время в 27 миллионов, в Ленинграде во время блокады погибла не 641 тысяча жителей (как сообщалось тогда в энциклопедии и во всех других официальных источниках), а только по первое июля 1942 года были похоронены 1 миллион 93 тысячи 625 человек (это докладывал начальник коммунального обслуживания города на бюро горкома) и т. д. и т. п.
Спешу тут же сделать оговорку: я вовсе не хочу сказать, что мы теперь узнали все, что давно должны были знать. Нет, работающие в архивах историки и литераторы жалуются, что в последнее время там снова разными способами стали вставлять палки в колеса — наверняка не без соответствующих указаний начальства. А ведь все мыслимые сроки давности (даже если к ним прибавить столь свойственный нам в таких случаях изрядный перестраховочный «остаток») миновали. И надо хотя бы к шестидесятилетию Победы общезначимым государственным повелением открыть все архивы, где хранятся материалы, связанные с войной. Да так, чтобы «на местах» — в архивах и хранилищах — не осталось лазеек под какими-то предлогами не выполнять это повеление…
В начале года я получил последний номер журнала «Источник», издание, в котором ряд лет публиковались очень важные документы (подписчикам, в том числе и мне, уже оплатившему подписку на 2004 год, сообщали, что у редакции нет денег на издание журнала). Если бы власти были заинтересованы в исторической правде, такому изданию непременно была бы оказана помощь. А я вспомнил об этом еще и потому, что в последнем полученном номере «Источника» сообщается, что в следующем номере (который не вышел) должна быть обнародована подписанная Жуковым справка о судьбе наших военнопленных. В выпущенный в 2001 году в серии «Россия. XX век. Документы» том, посвященный Жукову, она почему-то не вошла. Не знаю, так ли это, но мне говорили, что против публикации этого документа решительно возражало Министерство обороны. Будет ли теперь справка напечатана — кто знает?
Кстати, в связи с судьбой наших военнопленных у меня в свое время был неожиданный контакт с редакцией энциклопедии. И об этом, пожалуй, стоит рассказать. За год до ее выхода я участвовал в «круглом столе» в одном малотиражном издании (говорю об этом, потому что в другом мое выступление могла зарубить цензура). Незадолго до этого я прочитал уже упоминавшуюся мною работу немецкого военного историка К. Штрайта, посвященную нашим военнопленным. Почерпнутые в этой работе фактические данные я в своем выступлении привел. Так как в нашей печати тогда всех этих данных не было, мое выступление стали цитировать. И какая-то из этих публикаций, видимо, попала на глаза ответственному секретарю энциклопедии. Получаю от него письмо. Он пишет, что у них, в энциклопедии, таких данных нет. Это правда, откуда им было взяться, в энциклопедической статье «Военнопленные» рассказывалось главным образом о солдатах противника, попавших к нам в плен, об антифашистском воспитании и перевоспитании их, о наших же говорилось, что «в нач. войны в условиях тяжелых оборонит. боев, когда нек-рым соединениям Сов. армии приходилось сражаться в окружении, в плен к врагу попадали и сов. воины, гл. обр. тяжело раненные, в бессознательном состоянии». И в финале заметки: «В 1945 все сов. В. были освобождены и вернулись на Родину». Затем ответственный секретарь меня строго спрашивал, откуда у меня данные о советских военнопленных. Я вежливо назвал ему журнал, в котором печатался, и где был указан источник. Но не отказал себе в удовольствии в конце письма заметить, что если он по такому вопросу обращается ко мне, литературному критику, а не в Институт военной истории, это свидетельствует о том, чего стоит этот институт.
Еще одна история на близкую тему. Константин Симонов рассказывал мне, что, когда работал над романом «Живые и мертвые», встретясь с маршалом Жуковым, спросил у него, какой источник достоверных данных о первом годе войны маршал может рекомендовать. Жуков дал Симонову переведенную, но еще неизданную у нас рукопись военного дневника генерал-полковника Гальдера, который с 1938 года по сентябрь 1942 года был начальником генерального штаба сухопутных войск Германии. Жуков не случайно рекомендовал Симонову дневник Гальдера — в сущности это были рабочие деловые заметки для себя — вранья в них не было, себе не станешь врать — одного из очень толковых штабных генералов. Когда дневник наконец был издан у нас, я с большим вниманием и интересом прочитал его. Но сопровождающие текст Гальдера комментарии воениздатовских специалистов (наверное, из того же института военной истории) смехотворны, как и полученное мною письмо от ответственного секретаря энциклопедии. Каждый раз, когда после крупной операции Гальдер записывает число захваченных немцами пленных, читателей в комментариях предупреждают: цифра преувеличена. Однако ни разу называемым Гальдером цифрам не противостоят другие, наши собственные — похоже, что и своих цифр, если у нас они были, мы боялись не меньше, чем немецких.
У обращавшихся к энциклопедии наших читателей возникали, не могли не возникать вопросы, в сущности перечеркивающие это издание, нельзя им пользоваться — наполнено враньем. Почему старательно обходятся, замалчиваются все острые места, все ситуации, где мы себя проявляли, мягко говоря, не лучшим образом? Почему есть статьи об успешных операциях и нет отдельных заметок о киевском котле, о керченской катастрофе, о харьковском окружении, судьбе 2-й ударной армии и о многом другом — поражениях, после которых мы с великим трудом приходили в себя? Вопросы эти возникали один за другим — и не было им конца.
В недавнем выступлении министр обороны Иванов говорил о том, каким грандиозным будет парад, который состоится в 60-летие Победы. Если я его правильно понял, план парада уже есть, начинается к нему подготовка. Не сомневаюсь, парад удастся (надеюсь, на этот раз хватит ума не привлекать в качестве его участников ветеранов; большинству им это уже не по возрасту и не по силам, а самое главное, по идее этого торжества они должны не маршировать, а принимать парад). Но парад все же дело одномоментное, каким бы внушительным и ярким он ни был, как бы ни поражал, прошел и все тут…
А отмечаемая дата, кажется мне, требует некоторых более долговечных мероприятий, которые должны по-новому представить эту героическую и трагическую страницу нашей истории, вычеркнуть стойкие остатки сталинской мифологии. Прежде всего необходимо серьезное правдивое справочное издание, которое будет противостоять разрушительной исторической лжи все еще находящейся в употреблении энциклопедии. Конечно, она далеко не одинока в этой тлетворной деятельности, но я в данном случае ее рассматриваю как знаковое явление. Могут сказать, что мало времени для создания нового справочного издания. Но ведь выпустили же том «Россия», пренебрегая алфавитным порядком создаваемой новой Энциклопедии. В общем была бы только охота. В этом весь вопрос: есть ли она, охота? Или власть имущих устраивают те сказки и страшилки, которые рассказывались много лет, перекрывая пути к правде.
Можно ли не видеть, как от года к году нарастало недоверие к официозной мифологии. В сущности она потерпела крах. Но только на разрыхленной, бросавшейся в глаза неправдой, почве — одна ложь рождает и питает другую — могло возникнуть такое зловредное образование, как «суворовщина» (я имею в виду автора «Ледокола», раскрученного предприимчивыми издателями и телевизионщиками и пользующегося большим успехом у падких на сенсации читателей). В общем-то ничего нового в этой книге Суворова нет, в основе своей она повторяет то, что сказал своему народу фюрер, объясняя, почему начинает войну против Советского Союза, с которым был связан добросердечными отношениями известного пакта. Гитлер говорил, что Советский Союз изготовился к тому, чтобы напасть на Германию и необходимо нанести превентивный удар… Конкретные же доказательства, которые приводит Суворов, повторяя это, годятся разве что для самой низкопробной бульварной литературы. А книга его обратила на себя внимание только потому, что с вызывающей дерзостью противопоставляла себя официозному вранью, которому многие читатели давно уже не верили. Раковая опухоль «суворовщины» очень быстро дала метастазы — оказалось, что любые фантазии — лишь бы были скандальны — могут идти в дело. Чего только мне ни приходилось читать — к сожалению, нередко даже в толстых журналах с солидной репутацией. И то, что процессы против военачальников в тридцатые годы были мудрой заблаговременной сталинской акцией, таким образом была расчищена дорога для тех военных, которые затем выдвинулись в ходе войны. И то, что какие-то советские генералы, нарушая приказ Сталина, саботировали укрепление новой границы, так как рассчитывали в союзе с гитлеровской армией ликвидировать советский строй. И то, что генерал Власов хотел спасти евреев от Холокоста. И то, что Сталин и Гитлер перед войной тайно встречались в Беловежской пуще. И так далее и тому подобная чепуха…
В газетах и журналах экономии ради ликвидировали отделы проверки, авторы же сплошь да рядом не утруждают себя элементарной проверкой сообщаемых читателям фактов. Недавно один из моих коллег по литературному цеху удивил меня, в уважаемой газете он написал: «августовский приказ № 337», имея в виду, конечно, известный приказ № 227. Может быть, это была описка, но в редакции не нашлось ни одного человека, кто бы обратил внимание на столь грубую ошибку и исправил ее. И почему автор пишет «августовский», у этого приказа есть точная дата — 28 июля. Далее он же цитирует некоторые данные из справки о деятельности заградительных отрядов Сталинградского и Донского фронтов, но почему-то считает, что справка эта 1943 года, хотя она написана во второй половине октября 1942 года. И хочешь — не хочешь у читателя этой статьи возникает мысль, что автор пишет о событиях, которые знает понаслышке, в лучшем случае получены они из вторых рук. Такого рода безмятежно вольное обращение с фактами стало сущим бедствием сегодняшней журналистики, посвященной темам войны.
Некоторые издательства охотно перешли на положение печатных устройств — то ли принтеров, то ли ксероксов — отказываются от ответственности не только за точку зрения автора, что естественно, но и за сообщаемые им факты — так им жить проще и дешевле. В только что выпущенной книге, посвященной истории нашей армии, читаю уведомление: «За сведения и факты, изложенные в книге, издательство ответственности не несет». Глядишь, и возникнет содружество «Издательства без ответственности»…
В последнее время я (наверное, и некоторые другие ветераны фронтовики) в День Победы получаю поздравление от президента. Что говорить, такое государственное внимание нашему брату, конечно, приятно, радует сердце, с благодарным чувством читаешь добрые слова и пожелания. Но в житейской прозе эти слова и пожелания далеко не всегда реализуются. А многое делается и вразрез с ними.
В пылу недавней кампании по отмене льгот и привилегий законотворцам в голову не пришло, что некоторые льготы лишь приложение к наградам, самостоятельной ценности они не имеют, не могут иметь. Не знаю, сколько у нас сейчас в стране Героев Советского Союза и России, похоже, что не очень много. Но как оценить закон, в котором подвиг переводится в заурядный, пусть даже внушительный, чистоган? Это могли сделать только люди с атрофированным нравственным чувством. Таким образом в сущности было ликвидировано само понятие героя — оказывается, важна лишь сумма выписываемых и получаемых денег…
Недавно меня поразило выступление одного из депутатов нашей Думы. Желая в безудержном демократическом порыве слиться с массой населения, лишаемого права на бесплатный проезд в городском транспорте, он самоотверженно предложил лишить этого права и депутатов Государственной думы — других депутатских льгот он почему-то не касался. Таким образом неожиданно выяснилось, что у нас есть депутаты, которые добираются до Государственной думы на метро и троллейбусах. Мне это и в голову не приходило — наверное, интересное зрелище… Впрочем, представить себе такую картину нетрудно, ее когда-то замечательно описал Александр Бек в множество раз запрещенном властями и так и не увидевшим свет при жизни автора романе «Новое назначение». Правда, происходила описанная им история в советские времена: тогдашние «ответработники», государственные деятели по воле случая оказываются в метро, и выясняется, что они толком не знают, как пользоваться этим видом транспорта, не знают даже, сколько стоит билет. Отважных наших депутатов, рискнувших оказаться в подобном положении, хочу только предупредить, что с той поры в метро стало еще многолюднее…
И еще одна история. Я сомневался, стоит ли мне о ней писать, так как она касается и меня. Но все-таки решился, потому что в ней проявилась характерная черта нашей нынешней жизни. В газете, опубликовавшей в 1995 году распоряжение Президента России Б. Н. Ельцина, было сказано: «В связи с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне, а также за особые заслуги перед Российской Федерацией Президент России Б. Н. Ельцин издал распоряжение установить деятелям культуры, литературы и искусства — участникам Великой Отечественной войны (по списку согласно приложению) дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (каждому) в сумме 10-кратного минимального размера оплаты труда, предусмотренного законодательством РФ». В этом списке было восемьдесят с лишним человек. В 1997 году я вдруг получил письмо начальника управы социальной защиты, в котором говорилось: «Из-за дефицита федерального бюджета и несвоевременного поступления средств на эти цели из федеральных органов, выплата дополнительного пожизненного материального обеспечения будет проводиться отдельно от пенсии, по мере поступления денежных средств в органы социальной защиты населения Москвы. Мы надеемся, что эта мера носит временный характер, и прежний порядок выплаты доплаты (одновременно с пенсией) будет восстановлен при стабилизации экономической обстановки страны». Меня это письмо и огорчило (наверное, могу не объяснять, почему), но и обрадовало. Обрадовало — все-таки это был знак уважения к нам. Сообщали причину. Потом, видимо, стабилизация произошла, и нам продолжали платить президентскую пенсию. Но в один прекрасный день она неожиданно усохла — это уже был не десятикратный минимальный размер труда, а существенно меньшая сумма… И, главное, никто, пусть даже неведомый мне начальник управы, нам не написал, кто и по какой причине пересмотрел решение президента. Конечно, я понимаю, что с бюджетом у нас плохо, тем более что возникла (об этом в последнее время много писали и говорили по телевидению) острая необходимость повысить в целях борьбы с коррупционными поползновениями чиновников им зарплату. Вот кое-что, наверное, наскребли и за наш счет. Как не пойти навстречу столь насущным государственным нуждам! Но должен заметить, что за эти годы из восьмидесяти человек, названных в распоряжении президента, двадцать пять (если не больше) отправились в те края, где им уже не нужна не только президентская, но и обычная пенсия. А если подождать еще год-другой, глядишь, их количество может существенно вырасти, напомню снова, что все мы, участники войны, вышли на финишную прямую. Вот и чиновникам, склонным к коррупции, можно будет повысить зарплату еще больше. Это внезапное снижение президентской пенсии, решение о котором принято где-то в неведомой и не посчитавшей нужным хотя бы поставить нас в известность бюрократической выси, очень напоминало сталинское послевоенное прошлое, когда в один прекрасный день были ликвидированы наши «наградные» деньги. При всех громких заявлениях, что нужно уделять особое внимание ветеранам-фронтовикам, к нам по-прежнему относятся как к быдлу. Впрочем когда-то такого рода мероприятия объяснялись фарисейской формулой: «Идя навстречу пожеланиям трудящихся…» Она мне слышалась, когда разные деятели объясняли, как много выиграют участники и инвалиды войны после отмены льгот.
Подобного рода сюжеты в разных формах повторялись. Я пишу здесь и о том, что было со мной, но потому, что точно знаю, что все это испытали на себе многие люди моего поколения и моей судьбы. Поэтому и рискнул писать о себе.
Когда пришел час оформлять пенсию, мне сказали, что я должен получить в военкомате справку о том, сколько времени я прослужил в действующей армии — год на фронте засчитывался за три. (Потом, правда, выяснилось, что все это мне было ни к чему, моего и так называемого трудового стажа с большим избытком хватало для максимальной пенсии.) Отправился я в военкомат. Вежливая симпатичная девушка, выписывавшая мне, сверяясь с моими документами, справку, проводя подсчеты, предупредила меня: «А пребывание в госпитале в связи с ранением по инструкции в военный стаж не засчитывается».
Признаюсь, я долго считал про себя, чтобы успокоиться, чтобы не обрушить на ни в чем не повинную милую девушку то, что надо бы высказать тем высоким чинам, которые составляли и утверждали бездушную бесчеловечную инструкцию.
Вот что рассказывал о госпитале и «ранбольных» в пятидесятые годы девятнадцатого века один подпоручик горнострелкового взвода, участвовавший в обороне Севастополя (примерно в этих должностях и званиях воевали в нашу войну лейтенанты — артиллеристы Василь Быков и Григорий Бакланов и я, командовавший ротой, — всем нам пришлось провести в госпиталях немало времени, и мы прекрасно знаем, что эти невеселые дни — прямое следствие нашего пребывание на «передке», мы не по собственной воле и желанию попадали в госпиталь): «Только что вы отворили дверь, вид и запах сорока и пятидесяти ампутационных и самых тяжело раненных больных: одних на койках, большей частью на полу, вдруг поражает вас. Не верьте чувству, которое удерживает вас на пороге залы, — это дурное чувство, идите вперед, не стыдитесь того, что вы как будто пришли смотреть на страдальцев…» Только здесь, заканчивает Лев Толстой свой рассказ о госпитале, вы «увидите войну в настоящем ее выражении — в крови, в страданиях, в смерти».
Те, кто сочинил инструкцию, о которой я узнал в военкомате, наверняка никогда не вступали на порог госпиталя, не видели настоящей войны и, конечно, не могут сочувствовать страдальцам — они для них нечто статистическое, что надо втиснуть в какие-то заранее установленные цифры и нормативы…
***
Мои заметки были посвящены памяти о Великой Отечественной войне. Заканчивая их, хочу сказать, что общей такой памяти нет. Есть память, основы которой заложили Сталин и сталинский режим. Она преподносилась как государственная. Она была как бы продолжением библии сталинизма известного «Краткого курса», который все должны были знать назубок, за отклонения карали. Сразу же возникли трубадуры и сладкоголосые певцы этой памяти. Их отмечали, награждали, им дано было право диктовать, что надо и что нельзя писать о войне. Я уже вспоминал о фильме «Падение Берлина». Сценарий этого дифирамба Сталину сочинил Петр Павленко. Он же написал в ту пору лизоблюдскую повесть «Счастье». Такого же рода изделием был и роман Михаила Бубеннова «Белая береза». Но этой памятью продолжали руководствоваться, на нее опирались — она была главным ориентиром — и в послесталинские времена — назову «Блокаду» и «Победу» Александра Чаковского, «Войну» Ивана Стаднюка (не стану расширять этот ряд, хотя для этого есть возможности).
Они — Бубенновы и Чаковские, поддержанные и уполномоченные властями — пуровскими и со Старой площади, преследовали, третировали литературу, которая опиралась на другую память о войне, память, которая жила в народе, на своих плечах вынесшем ее жертвы, кровь и беды. Но совсем вытравить эту память им не удавалось, все-таки это была память народа, так или иначе она прорывалась. Но они очень старались. Громили, шельмовали «окопную правду», опиравшуюся именно на эту память. Их, Бубенновых и Маковских, имел в виду Виктор Астафьев, когда писал: «Я был рядовым бойцом на войне, и наша солдатская правда была названа одним очень бойким писателем — „окопной“, высказывания наши — „кочкой зрения“. Теперь слова „окопная правда“ воспринимаются только в единственном, высоком их смысле». Уродливые шрамы от опустошительной деятельности мифотворцев долгое время бросались в глаза. Тяжело доставалось от них правдивой литературе, они ее преследовали, травили, сживали со света. Стоит об этом напомнить: ведь уродства плохо держатся в памяти. Но забывать о них нельзя, опасно.
В моих заметках речь шла о прошлом и о настоящем, которое, к сожалению, все еще часто оглядывается на то прошлое, которое не может, не должно служить ему примером. Шла речь о том, какой дорогой ценой было заплачено за победу в действительно великой народной войне. И о том, с каким трудом правда об этой цене пробивалась через официальные заградительные барьеры, преодолевая утвержденные государственными структурами и пропагандой мифы, все-таки пробивалась. И о том, как плохо хранится память о тех, кто лежит в братских могилах и занесенных землей траншеях и окопах на бескрайних полях сражений. И о том, как нелегко складывалась после войны жизнь у тех, кто вернулся с нее живыми, но очень часто искалеченными пулями и осколками, как нынче они доживают свой близящийся к концу век. И о чиновничьем бездушии и тупосердии. И о дефиците здравого смысла и человечности.
Все это очень горькая правда. Поэтому она обычно не бывает желанной гостьей во время юбилейных торжеств. Но иной, радующей глаз, припудренной и принаряженной для праздников, она не может быть. Тогда она перестает быть правдой. Поэтому я в преддверии знаменательной даты и написал эти «неюбилейные» заметки…
И закончить их, имея в виду, что и война, и наши дни, когда мы отмечаем приближающееся шестидесятилетие Победы, — это только часть истории, которая не знает конца, хочу словами из прекрасной статьи Дмитрия Сергеевича Лихачева «Служение памяти»: «Историческую память народа формирует нравственный климат, в котором живет народ.
Может быть, следует подумать — не основывать ли нравственность на чем-либо другом: игнорировать прошлое с его порой ошибками и тяжелыми воспоминаниями и быть устремленными целиком в будущее, строить это будущее на радующих основаниях самих по себе, забыть о прошлом с его темными и светлыми сторонами.
Это не только не нужно, но и невозможно».
Л. Лазарев (биографическая справка)
Лазарь Ильич Лазарев родился 27 января 1924 года в городе Харькове (Украина). После окончания школы в 1941 году, в первые дни войны ушел добровольцем в армию, воевал на Ленинградском, Сталинградском и Южном фронтах командиром взвода и роты — стрелковой и разведки, был несколько раз ранен, инвалид войны, имеет военные награды.
После войны учился на филологическом факультете Московского университета, там же в 1954 году защитил кандидатскую диссертацию. С 1955 по 1961 год работал в «Литературной газете» — специальным корреспондентом, а затем заместителем редактора по отделу русской литературы. После этого работал в журнале «Вопросы литературы» — ответственным секретарем, заместителем главного редактора, в 1991 году выбран главным редактором.
Член Союза писателей с 1960 года. Печататься начал в 1949 году.
Автор ряда книг — среди них: «Поэзия военного поколения» (1966), «Военная проза Константина Симонова» (1974), «Это наша судьба. Заметки о литературе, посвященной Великой Отечественной войне» (1978, 1983), «Василь Быков. Очерк творчества» (1979), «Константин Симонов. Очерк творчества» (1985), «То, что запомнилось… О Викторе Некрасове и Андрее Тарковском» (1990), «Шестой этаж. Книга воспоминаний» (1999), «Память трудной годины. Великая Отечественная война в русской литературе» (2000), «Записки пожилого человека. Книга воспоминаний» (2005). Составил два десятка разного рода антологий и сборников, написал главу о литературе Великой Отечественной войны в школьном учебнике для 11 класса, предисловия к книгам К. Симонова, В. Гроссмана, И. Эренбурга, В. Некрасова. С. Гудзенко, Б. Слуцкого, А. Бека, А. Адамовича, В. Быкова, В. Кондратьева, Г. Бакланова, Э. Ремарка, Г. Белля и др. Автор мемуарных очерков и нескольких сотен литературно-критических статей и рецензий, печатавшийся в разных журналах и газетах.
Некоторые работы в переводе опубликованы в США, Германии, Италии, Польше, Венгрии, Чехословакии, Болгарии, Китае.
* * *
Лазарев — инвалид Великой Отечественной войны, фронтовик, командир разведроты… Великую Отечественную войну он видел своими глазами, знает ее лучше меня…
Константин Симонов* * *
Мне было с ним легко и просто как, больше ни с кем другим: мы принадлежали к одному поколению, у нас был примерно одинаковый опыт, который мы приобрели на войне. Разве что он отвоевался раньше меня — тяжелое ранение привело его к госпиталям в то время, как я продолжал сражаться с немецкими танками. Но он и начал раньше — под Сталинградом, дошел до украинской земли, где мы оба пролили кровь. Лазарь был неравнодушен к водной стихии, когда-то учился на моряка, воевал в пехоте, а на жизнь зарабатывал литературой. Такая же пестрая, крученая судьба, что и у меня. Но, очевидно, такой она была у всего нашего расстрелянного войной поколения.
Василь Быков* * *
Л. Лазарев — один из лучших, серьезнейших советских критиков. Я его давно знаю и все, им написанное, всегда читаю с большим интересом. Умный, честный, пишет не о пустяках, а о том, что действительно задевает его.
Виктор Некрасов* * *
…Мы обязательно придем к тому, что делает критик Л. Лазарев в эти же годы в литературе об Отечественной войне… Такие книги, как монография Л. Лазарева, написанные по праву знания и любви, помогают и писателю самого себя видеть впереди — в той вещи, над которой он сейчас работает.
Алесь АдамовичПримечания
1
Акт о безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне был подписан 8 мая 1945 года. // — прим. верст.
(обратно)2
Гефлинг — узник, пленный. — прим. верст.
(обратно)
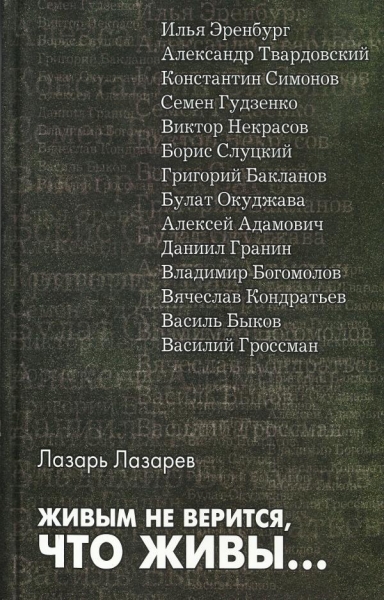

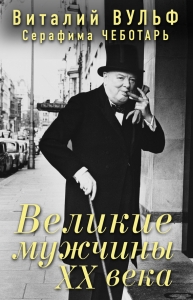
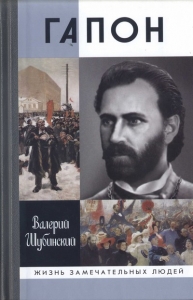

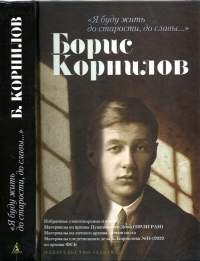

Комментарии к книге «Живым не верится, что живы...», Лазарь Ильич Лазарев
Всего 0 комментариев