Моров А.Г.
Трагедия художника
Слово о Михаиле Чехове
Все, кто любит театр и кого интересуют судьбы актеров, с волнением прочтут повесть Алексея Морова о трагической судьбе одного из прекраснейших актеров, воспитанника Московского Художественного театра — Михаила Александровича Чехова.
Россия всегда была богата актерскими талантами. Образы, созданные нашими актерами в театре и кино, часто заставляют зрителя восторгаться и глубиной разработки образа, и его философским звучанием, и высокой профессиональной техникой исполнения.
Молва о «славных станиславцах» — эпитет, которым зарубежный зритель наградил наших актеров, стал синонимом всего подлинно прекрасного в искусстве, даже если исполнители и не являются прямыми учениками Константина Сергеевича.
Актер становится в нашей стране великим, когда свое высокое призвание, свой талант и свое отточенное мастерство он подчиняет идеалам своего поколения, своего народа, и когда вместе с ним беззаветно, не жалея сил, вдохновенно, как признанный и обласканный художник, творит во имя будущего.
Таким Великим Гражданином своей Родины должен был стать (по своему огромному дарованию, трудоспособности) и актер Михаил Чехов. Но в силу закравшихся сомнений в правильности творческого пути своего театра (Второй МХАТ), мифических, надуманных обид и ложно уязвленного самолюбия — не стал. Он уехал искать «свободу творчества вольного художника», а попал в тиски непонимания. Он старался удивить мир новыми ролями, а топтался на месте, зарабатывал пропитание около уже наработанного дома (Гамлет, Мальволио, Хлестаков, Фрезер), Во многом, что случилось с этим на редкость одаренным, умным и любящим свою страну артистом, повинны его друзья, не остановившие его от рокового шага.
Литератор и страстный любитель театра Алексей Моров талантливо, в увлекательном рассказе, шаг за шагом пристально анализируя все происшедшее, раскрывает перед нами годы скорбных блужданий Михаила Чехова. Блужданий, полных человеческого и гражданского унижения, по чуждым и для его таланта и для его чуткого сердца зарубежным сценам, где он зависел от корыстных антрепренеров или мягкосердечных, но неделовых меценатов.
«Трагедия художника» — так А. Моров назвал свою документально-правдивую повесть. Это подлинная трагедия замечательного русского актера, покинувшего Родину и, как образно пишет автор, унесшего на своих корешках кусочки родной земли, когда для жизни и творчества нужен весь родной чернозем.
Трагедия художника, которую с такой печальной убедительностью раскрыл для нас автор книги, не есть только трагедия артиста Чехова — это трагедия и Шаляпина и Рахманинова, Бунина и Добужинского и других великих русских дарований, покинувших Родину, судьбы которых, о чем нам повествует автор, тесно переплетались.
Будучи подлинно русскими, они горячо любили свою Родину, взрастившую их, воспитали в себе чувство сыновней гордости за талантливый русский народ; они упивались величием и красотами русской природы, которая всегда вдохновляла трепетную душу художника. Рожденные и окрепшие в народе, их таланты развивались. Они были окружены любовью, их баловала судьба, и, творя в ореоле славы, они не заметили, не почувствовали, как оторвались от своего народа.
Они не поняли самого жизненно важного момента в творчестве художника — быть всегда вместе со своим народом.
Они старались, по возможности, не очень-то замечать, что родина — это не только красота природы, цветение вишен, журчание ручейков и глубина звездного неба, и что, воспевая «святое величие родины», нельзя не связывать это величие и красоту с человеком, с трудом, радостью и горем того самого народа, который их породил.
Мне кажется, что эти великие таланты, жившие в конечном итоге только собою, очарованные своим даром доставлять людям радость и счастье, мало что видели вокруг, кроме своего искусства, и даже окружающую природу воспринимали и любили как внешнюю, декоративную красоту своей Родины. Недаром потом во всех своих дневниках и письмах они, тоскуя, подробно описывают природу чужих стран, которая напоминает им «такие родные и дорогие нам русские пейзажи...».
Живя бок о бок со своими земляками, трудовым людом, они не очень-то пытались влезть в их шкуру: «Мы артисты, а не политики». И вот когда рабочие и крестьяне захотели, чтобы вся земля, все ее богатства, все красоты Родины служили Трудовому Человеку, то они, «артисты, а не политики»,испугались...
«Все рушится, коверкается — и во имя чего, о господи! — неизвестно». И они решили бросить «гибнущую» Родину и отсидеться «там».
Они ушли с родного места разбитые, раздираемые противоречиями — их еще связывала родимая пуповина, с одной стороны, а с другой — уж кто-то упорно и соблазнительно шептал: «Нет, ни для поэзии, ни для красоты, ни для творческого экстаза сейчас вам здесь не будет места... Вас не поймут! Отсидитесь за рубежом — там свободный мир вас оценит!» — и они поверили.
А потом (вот в этом-то и есть, как мне кажется, самое страшное и трагическое) они, осознав весь грех своего падения, всю глубину вины перед Родиной, второй раз испугались. Побоялись вернуться. А ведь не все побоялись. Вернулся Александр Куприн. Вернулся Алексей Толстой. Вернулись и многие другие.
Жизнь у тех, кто остался на Западе, сложилась по-разному: у одних лучше (были дома и дачи), у других хуже; но все они бродили по свету как гости, иногда желанные, иногда терпимые, но всегда безродные, ища то, что оставили на Родине. Душу, вдохновляющую на новые творческие высоты. Любовь людей, для которых они были свои, родные, дорогие, желанные. Не было любви — не было и вдохновения, жили старым; и «чем дальше от русской границы, тем тоскливее становилось русскому человеку», — записывает Михаил Александрович Чехов в своем дневнике.
Потерпев поражение и не найдя поддержки у меценатов для создания своего театра, он мечется, хватаясь за любую, порой даже не совсем чистую, соломинку, чтобы выпросить себе право быть «свободным художником».
А. Моров вскрывает и показывает читателю в своей любопытнейшей и глубоко гуманной повести всю несостоятельность поиска этой надуманной «синей птицы» за рубежом своей Родины, когда она была в руках здесь — дома.
Надо очень любить, знать и чувствовать актера, чтобы так понимать суть его творчества. Анализируя, надо уметь раствориться в актере, чтобы, как это сделал А. Моров, с такой достоверностью показать весь творческий процесс, происходящий в актере в моменты зарождения, цветения и плодоношения образа.
М. Чехов уехал из Советского Союза, когда его талант начинал набирать полную силу, когда его окружали доверие и любовь зрителя. Сейчас мы можем только представить себе, каких творческих высот он мог бы достичь. При его работоспособности и творческой жадности сколько создал бы он непревзойденных образов и спектаклей на радость любителям театра.
Михаил Александрович Чехов был для меня не только любимейшим актером, но и негласным учителем, которому я подражал, которого я изучал и который ставил меня часто в тупик неожиданностью и парадоксальностью своих талантливых находок. Он раскрывал в образе такие далеко не исчерпанные возможности, что только оставалось диву даваться — откуда это у него? Каким надо обладать запасом жизненных наблюдений, знаний человеческих поступков, психологических ходов и характерных особенностей человека, скрытых от неискушенных и нетренированных взглядов, чтобы потом своим сверхвидением, своей необузданной и неуемной фантазией превратить все нажитое в образы — живые, человечные, острые, одним словом, невиданные доселе. И если не все в его исполнении бывало бесспорно, то почти все было сверхталантливо и всегда убедительно.
Его техника была виртуозна, но она никогда не была самоцелью и никогда не душила его вдохновение. Наоборот, она (техника) раздувала эту искру (вдохновение) в великое и неугасимое пламя творчества.
Однажды во время съемок картины «Человек из ресторана», где мы оба играли официантов, я показывал Чехову, как надо ловить «ершей», то есть таскать деньги из карманов шуб богатых клиентов. Я делал жест рукой от кармана шубы к карману своих штанов, сопровождая его поясняющим звуком «бззз... бззз... бззз...». Чехову это показалось смешным, и он, сморщив нос, стал, заикаясь, хохотать. Съемки остановили. Сняли несколько дублей, но как только доходило до «бззз... бззз», режиссер Я. Протазанов кричал:
— Стоп! Чехов смеется!
Съемку перенесли на завтра. А вечером, по приглашению Чехова, я сидел в первом ряду Второго МХАТа на спектакле «Дело» Сухово-Кобылина, где Михаил Александрович играл Муромского.
Как Чехов играл эту роль, рассказать немыслимо — это надо было видеть. Ибо восстановить словами потрясающее воздействие, полученное от игры, недоступно, все равно пропустишь какую-нибудь деталь жеста, рожденную в результате внутреннего волнения персонажа, или взгляд его круглых испуганных глаз, глаз затравленного человека, которые по своей силе и выразительности говорили иногда больше, чем произнесенное слово.
Как описать весь каскад выразительных средств, вводящих вас в жизнь образа, я не знаю. Зритель следил за каждым вздохом Муромского и, увлеченный вместе с ним, нес весь груз страшных переживаний. При всей эксцентричности фигуры Муромского (маленький человек на кривых ножках утопал в парадном мундире и высоких лаковых сапогах с козырьками) все было в нем подлинно, правдоподобно, жизненно и искренне выражено. И вдруг в заключительной сцене, когда Муромскому наносят последний страшный удар и зал, потрясенный переживаниями Муромского, замирает, Чехов подходит к авансцене, трясущимися руками (жестом, который я делал утром на съемке) расправляет длинные бакенбарды и трагически произносит: «Значит... бззз... бззз... бззз!», поворачивается и на разбитых, согнутых, заплетающихся одна за другую ногах медленно уходит. Потрясенный зал молчит, а петом разражается шквалом рукоплесканий.
Так Чехов, даже внеся в игру элемент озорства (в данном случае специально для меня), усилил трагедийный конец роли. Это мог позволить себе только он, блестящий импровизатор.
Мастерство, достигнутое упорным и систематическим трудом, плюс природные данные, щедро отпущенные щуплому и невзрачному на вид человеку, заставляли трепетать его поклонников, а им становился всякий, кто хоть раз видел этого замечательного актера на сцене.
Повесть Алексея Морова я прочел с огромным интересом. Уверен, что образ печального рыцаря сцены встанет как живой перед теми, кто еще помнит Михаила Чехова, и познакомит тех, кто его не знал, с малоисследованной страницей жизни и гибели актера, потерявшего не только свою Родину, но и имя.
Книга А. Морова «Трагедия художника» выходит в издательстве ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» и, следовательно, обращена к молодежи. Мне кажется, это очень правильно и нужно!
Народный артист СССР МИХАИЛ ЖАРОВ
Жизнь коротка, но как это длинно — от рождения до смерти.
Жюль Ренар
Москва — Лос-Анджелес
У входной двери — узенькая металлическая табличка. На ней по-английски имя и фамилия: «Майкл Чехов».
Я когда-то знал этого человека. Теперь его нет в живых. Давно нет. Он умер в тысяча девятьсот пятьдесят пятом году. В доме живет его вдова.
Домик небольшой, скромный. Да и улица не главных. Одна из многих дальних улиц Лос-Анджелеса.
Звоню. Дверь открывает сама хозяйка. Представляюсь ей. Она смотрит на меня и — вижу — верит и не верит.
— Вы из России?
— Да, месяца полтора назад.
— Откуда?
— Из Москвы.
Женщина взволнована. Живя здесь, она уже много лет не встречала людей оттуда. Взволнованная, потому что муж этой женщины - Майкл Чехов, но не Майкл, а Михаил. Михаил Александрович Чехов. Один из самых больших актеров, каких знала русская сцена.
...Помнится, когда я впервые увидел в Студии Московского Художественного театра «Двенадцатую ночь» Шекспира, спектакль этот уже десять лет не сходил со сцены. Сказать по правде, постановка, в общем, показалась мне малоинтересной. А главное — устарелой, старомодной. Помню, трудно было отделаться от чувства досады при виде сукон, заменявших декорации. Сукна казались ветхими, грязными, штопаными-перештопаными. Что же касается проблесков режиссерской изобретательности, может быть острых и интересных в свое время (спектакль был поставлен еще в первые месяцы после Октябрьской революции), то они к моменту, о котором я вспоминаю, тоже изрядно потускнели.
И только один актер спасал положение. Спасал безоговорочно, оправдывая этот слабый спектакль. Он играл Мальволио.
В спектакле у него всего лишь несколько выходов. Но он развертывал скупой материал своих немногих сцен так широко, играл — без малейшего холодка найденных -приемов — с такой изобретательностью, что, нарушая всякий план драматургической и режиссерской постройки, с первого же своего выхода становился как бы главным персонажем комедии.
Как был смешон Мальволио! Как прекрасно нелеп с его лакейской самонадеянностью, с его мечтами выскочки, с его упоенной глупостью прислужника! И как при всем том сильно звучала какая-то скрытая грусть, вечная боль и ущемленность в комической фигуре Мальволио! В том, что делал актер в этой роли, было столько великолепного мастерства, столько неповторимого аромата искусства, что он оставлял по себе впечатление незабываемое.
Звали этого актера — Михаил Чехов.
Ученик Станиславского, друг и соратник Вахтангова, он к тому времени был одним из тех, чье имя на афише привлекало всеобщий интерес. Он играл мастера игрушек Калеба в диккенсовском «Сверчке на печи», несчастного короля Эрика в трагедии Стриндберга «Эрик XIV», разорившегося биржевого маклера Фрезера в бергеровском «Потопе», Хлестакова в «Ревизоре». Роли разные, характеры несхожие. Но все эти образы, созданные Михаилом Чеховым, всегда бесконечно своеобразные, оригинальные, занимали в вашем сознании и сердце свое особое место. Та или другая пьеса, в которой участвовал. Чехов, могла нравиться либо не нравиться. Но такого Калеба походя не встретишь, это было ясно. И не существовало, конечно, ни до, ни после него такого Фрезера. Наделенного юмором, но ничтожного, даже гнусного, если хотите, и в то же время обладавшего какими-то глубоко человеческими чертами. Ибо был он у Чехова греховный малый, каких много в жизни. Такой же, как они, за жизнью рвущийся, завидующий, страдающий, способный на гадость и на добрый порыв.
Не было на сцене до Чехова и такого Эрика.
Задавшись целью поставить «Эрика XIV», Первая студия приняла на себя задачу труднейшую. Автор пьесы Август Стриндберг был драматург (особенно в России) малопопулярный, притом из северных писателей самый суровый. У Ибсена брови и глаза гораздо суровее его творчества. Стриндберг же суров сердцем. Драматург такой силы, конечно, интересен. Но если высоки его удачи, глубоки также его провалы. А поставленный им в центре пьесы образ короля Эрика, этого шведского Павла I, с точки зрения художественной — слабый образ. Он статичен и в однообразии своем запутан. В его словах и действиях — явное безумие, но характер этого безумия вполне не открыт. В Эрике угадывается некоторое начало доброты, но и оно до крайней степени безлично и зыбко.
Однако в интерпретации Вахтангова, который был постановщиком спектакля, образ Эрика был более полнокровным, чем создал его автор. Он «то гневный, то нежный, то простой, то протестующий, то покорный, верящий в бога и сатану, то безрассудно несправедливый, то гениально сообразительный, то беспомощный и растерянный, то молниеносно решительный, то медлительный и сомневающийся... — он, сотканный из контрастов, стиснутый контрастами жизни и смерти, неотвратимо должен сам уничтожить себя». Ибо тема пьесы, как видел ее режиссер, — «королевская власть, в существе своем несущая противоречие себе, рано или поздно должна погибнуть». А Эрик не историческая фигура, а обобщение королевской власти.
Создал ли Михаил Чехов именно такой образ? Это не подлежит никакому сомнению. В течение всего спектакля зрительный зал ни на одну минуту не отводил глаз от стройного, легкого, порывом носимого, безволием парализуемого, жалкого, трогательного, минутами жуткого и несчастного короля. Внутреннее проникновение в роль достигало той степени, когда создаваемый образ становился как бы естественной природой Чехова, его нутром и кожей. Тут была какая-то беспрерывность свободного движения от одного первоначального толчка, данного себе в момент первого выхода на сцену, и до конца, до финального занавеса.
Но окончательно покорил Михаил Чехов всех, кто видел его в ту пору, своим Хлестаковым.
Как известно, сам Гоголь хорошего Хлестакова не дождался. Первый исполнитель этой роли, артист Александрийского театра Николай Дюр, привел автора в отчаяние тем, что «ни на волос не понял, что такое Хлестаков». А уже после Дюра на многие десяти летия установилась известная традиция изображения мнимого ревизора на сцене. И по той традиции Хлестаков был франт и светский человек. Михаил Чехов первый отверг это заблуждение. Его Хлестаков не стал ни водевильным шалуном, ни светским франтом. Он не «ломал комедию» и не играл, как это вошло в традицию, роль той важной персоны, за которую его по ошибке приняли. Ни сознательно, ни бессознательно ее не играл. Он просто жил на подмостках, от начала и до конца оставаясь только самим собой, то есть ничтожеством, пустышкой, человеком «без царя в голове», как говорил о Хлестакове Гоголь.
И как жил!
Народный артист СССР Михаил Жаров любит рассказывать один эпизод, приключившийся с Чеховым на представлении «Ревизора». Эпизод с виду пустячный, но очень, очень характерный для него.
Когда Чехов — Хлестаков, объясняясь в любви, стоял на коленях перед дочерью городничего, у него на узеньких, до предела обтянутых брючках оборвалась штрипка. Что делать? Как выйти из положения? Не притворяться же, будто ничего и не произошло. Что же делает Чехов? Он пристально рассматривает оторвавшуюся штрипку, потом с кокетством взглядывает на Марью Антоновну и снова на штрипку. Потом изящным жестом отрывает штрипку и смешной походкой, с одной задранной штаниной, идет к окну и на стебельке стоящего там цветка (кажется, герани) делает из этой штрипки бантик.
Зрительный зал благодарит Михаила Чехова бурными рукоплесканиями. За что? Не надо быть на спектакле, чтобы понять: за то, что и всегда, — за виртуозность. За то, с какой импровизационной непосредственностью и находчивостью строил он задуманный образ.
«Елистратишка», — презрительно определяет своего барина Осип. То есть не человек, а человечишка. Маленький. Жалкий. Ничтожный. «Вертопрах», — говорит позднее прозревший от злости городничий. И эти два слова-определения Чехов смело кладет в основу роли, нарушая установившиеся каноны. Он раскрывает духовную малость Хлестакова. Показывает его мелким, абсолютно бездарным, лишенным даже намека на какие бы то ни было умственные или душевные способности. Существом, заслуживающим презрения, и только. Он никогда не знает сам, что сейчас сделает, что скажет.
В сцене опьянения Чехов — Хлестаков не только не вдохновенен, он говорит без всякой связи. Мысль у него то вспыхивает, то погасает. Он не знает ни где он, ни что с ним. Осоловело смотрит, иногда совсем засыпает. Спрашивает, есть ли в городе клубы, и, получив ответ, что их нет, уже не слушает больше. Зажегшийся на миг интерес пропал. Он откидывается и закрывает глаза. И дальше тоже все идет скачками. Опьянение растет. Что-то бредовое роится в безумной голове. Начиная говорить, Чехов — Хлестаков явно не знает, чем он кончит. Говорит о тридцати пяти тысячах курьеров, но, сказав «тридцать пять», делает длинную паузу и вопросительно всех оглядывает: не довольно ли? И только потом заканчивает «тысяч». Но он мог остановиться и на тридцати пяти, и легко мог сказать — тридцать пять миллионов.
Фантастическая бездумность его принимает еще более яркие формы в эпизоде со взятками. Он и тут еще не понимает, почему ему так охотно дают деньги. Почему каждый спрашивает, нет ли распоряжений по тому или иному ведомству? Какие будут распоряжения? Нет никаких распоряжений. И если после первой, нерешительной еще взятки Чехов — Хлестаков уже прямее приступает к делу, даже совсем перестает церемониться, то не потому, что он догадался, наконец, за кого его принимают — об этом и теперь у него весьма смутная догадка, — а просто потому, что, по его убеждению, попал он в странное место, где уж так водится. И все кругом хорошие люди — и «судья — хороший человек, и почтмейстер — хороший человек»... И нужен Осип, чтобы чеховский Хлестаков понял, наконец, что происходит. Осип его убеждает. Осип для него все — советник, руководитель, оплот в реальной жизни. И надо было видеть у Чехова этот постоянный, обращенный на Осипа боязливый и беспомощно вопрошающий взгляд. Эту совершенную веру, что Осип и поймет, и устроит, и прикроет, и защитит.
Есть еще одна сцена, где бездумность Чехова — Хлестакова доходила до последних пределов, — это когда Анна Андреевна застает его на коленях перед Марьей Антоновной. В этот момент он поворачивает к городничихе голову. Можно ждать, что он растеряется. Ничуть не бывало. Дальше он ведет себя так, словно вообще тут ни при чем. Отходит на задний план. Мирно усаживается и, как посторонний зритель, даже с большим интересом, следит: а ну, что здесь выйдет?
Но, может быть, именно потому, что он такой, ни на кого не похожий, и мыслим обман, в который впадают такие видавшие виды люди, как городничий. И именно благодаря такому решению все в самой роли, как и в пьесе, как никогда раньше, встало на место. Притом на фоне подобного Хлестакова ни на минуту не затемнялся, а еще как-то более отчетливо выделялся весь длинный ряд «свиных рыл» царского режима. Блестящая игра Чехова, его трактовка образа собирали внутренний смысл спектакля (его поставил на сцене Московского Художественного театра К. С. Станиславский) не на Хлестакове, а на городничем, на смотрителе училищ, на судье, на попечителе богоугодных заведений, на всем ансамбле.
Так пришла зрелость. И то исключительное мастерство, которое, поднимаясь до потрясающей силы, приковывало к себе внимание зрителей на протяжении всего спектакля, когда в нем участвовал Чехов.
В пьесе Андрея Белого «Петербург» он играл мрачного дикаря в министерском кресле, влиятельного царского сановника Аблеухова. Рушится под натиском жизни империя. Рушится все, что казалось и кажется этому человеку верным, твердым, навек устроенным. Но сам он не меняется. Он стар и испуган, этот человек в футляре государственного мужа, бросающий жуткий свет на несчастья страны, которой управляют подобные люди.
У Чехова — Аблеухова пустые, потухающие глаза на мертвенно-бледном лице и автоматические движения. Он сознает свою отграниченность от общей жизни, но не знает, не видит путей к тому, чтобы преодолеть ее. Он обречен, как и весь старый порядок, во имя которого прожит его век. Для обрисовки этого образа в чеховской палитре все оттенки сатирических красок — от шаржа, через гротеск, к самой необузданной буффонаде. И только моментами, стряхивая со своего героя какой-то бездушный автоматизм, казенную размеренность мыслей и поступков, Михаил Чехов раскрывал его человеческую тоску. Показывал опустошенную суть одинокого старика, которому некуда податься жизнь его исчерпана.
Потом на смену «Петербургу» Андрея Белого в коллектив, выросший из Первой студии Художественного театра, пришел Петербург А. Сухово-Кобылина: МХАТ-2, которым руководил Михаил Чехов, поставил «Дело». Сам он играл Муромского. Играл виртуозно, потрясающе! Такого богатства переживаний, слитых в одном мощным талантом вылепленном образе, сцена давно не видела.
Сперва этот новый чеховский старик — на сей раз такой ласковый, сердечный, уютный — казался комичным. И вид его, и образ мыслей, и поступки поначалу вызывали даже смешок в зрительном зале. Но вот непостижимая для старика интрига поставила на карту честь дочери. Муромский пытается отвести угрозу — и не может. Как в паутину, затягивает его машина подлой николаевской действительности. Чехов показывает растерянность и беспомощность своего героя, взрыв его горя и последнюю попытку вырваться.
Вырваться во что бы то ни стало! Старый воин, кавалер Отечественной войны 1812 года, он натягивает на ноги, давно уже привыкшие к валенкам, свои офицерские ботфорты, надевает мундир с регалиями и идет искать защиты у одного из могущественных правителей жизни. Ноги плохо слушаются, реденькие седые бакенбарды трясутся. Но проходит какое-то время, и перед вами уже другой Муромский. Нравственная и моральная сила распрямляет сутулые плечи, гневом протеста закипают помолодевшие глаза. Ему говорят что-то о «патентах», которых у него будто нет, чтобы рассуждать так, как он. «А вот они!» — показывает Чехов — Муромский на свои седые волосы. «Да вот мое сердце!» И то, как произнесены эти слова, потрясает. В последнем отчаянном усилии человек поднялся на защиту своего попранного достоинства. Он кричит о палачах и их жертвах, о том, что закон в руках палачей — это кнут. И в крике его — вся боль униженных...
Десятилетия прошли со времени премьеры. Но те, кто видел Михаила Чехова в роли Муромского, не забыли и не забудут его, как не забудут другой его работы на советской сцене — Гамлета. И как всегда — необычного, не такого, как у других исполнителей. Гамлета, лишенного безволия и рационализма. Не только любящего и презирающего, но и протестующего, Гамлета, активно борющегося.
...Влюбленным в театр юношей приехал я в Москву двадцатых годов. Старался не пропустить ни одной значительной премьеры. Бывал у Мейерхольда и Таирова, у Вахтангова и мхатовцев. Но больше всего, признаюсь откровенно, бегал «на Чехова». Да разве я один?
Михаил Чехов был кумиром, любимцем театральной публики. И был им по праву. Почти каждая его роль становилась событием, праздником в театральной жизни тех лет.
Прошли годы и годы, а у меня и сейчас как живои стоит перед глазами его «Эрик XIV», его несчастный король, герой трагедии Стриндберга. Как удивительно по силе психологической правды раскрывал в этой роли актер глубину человеческой души! Как он потрясал зрителей картиной обнажающихся перед ними человеческих страданий! Особенно в той неповторимой сцене, где Чехов — Эрик узнает о похищении детей и плачет над их игрушками.
А разве можно забыть, как голодный Чехов — Хлестаков ходит, не находя себе места, по маленькой комнате в гостинице и глотает слюну? Или то, как, играя сановитого чиновника Аполлона Аполлоновича Аблеухова в «Петербурге», Михаил Чехов проходит мимо толпы гостей и пустыми глазами глядит в публику? Или просто походку Чехова — Аблеухова, рисунок его спины в этой роли, оттопыренные уши Аполлона Аполлоновича, его заостренную голову, мешки под глазами и его знаменитое «видишь-те ли» от привычки всем говорить «ты».
Или только один безмолвный поворот глаз Чехова — Гамлета, прячущего слезы, и после напряженной тишины взрыв его гнева, бичующий короля и мать? Или сцену в саду из «Двенадцатой ночи» Шекспира, где Чехов — Мальволио разговаривает с Фабианом, сэром Тоби и сэром Эндрю, уверенный, что говорит сам с собой и принимая их реплики за свои собственные мысли? Или другую, уже не комедийную, а снова потрясающего захвата трагедийную сцену из «Дела» Сухово-Кобылина, где Михаил Чехов — Муромский бросает навстречу тупой машине бюрократизма и взяточничества царских чиновников свое страдающее, истекающее кровью и взывающее о справедливости отцовское сердце.
В ту пору блистательного расцвета его дарования мне довелось и лично встречаться с Михаилом Чеховым. Молодой журналист приходил к нему для бесед о Втором МХАТе, которым Чехов тогда руководил, о его творческих планах, о традициях русского театра. Чехова влекли спектакли высокой значительности, большие образы. Он говорил о любви к людям, человечеству, которую всегда стремился передать со сцены в зрительный зал.
Потом произошло то, что сломало жизнь Михаила Чехова. В конце лета тысяча девятьсот двадцать восьмого года, перед началом нового театрального сезона, разнесся слух, что Чехов ушел почему-то из своего театра и уехал из Советского Союза. Слух подтвердился. На страницах советской печати появились письма-объяснения Чехова, написанные уже из Берлина. Он сообщал в них, что давно чувствовал потребность в изучении своеобразной техники немецкой сценической речи. Почему? Потому, мол, что русский и немецкий актеры в известном смысле являют собой полную противоположность. Немецкий — в силу особенностей своего языка — выработал в себе способность владеть зрительным залом, но утратил способность владеть самим собой. Русский же, наоборот, владеет самим собой, но не умеет (так утверждал Чехов) господствовать в зрительном зале. По мнению Чехова, тончайшие и сложнейшие причины этого интересного факта лежат в особенностях того и другого языка. И он — так говорилось в одном из писем — задался целью усвоить немецкую технику сценической речи и перенести ее в русскую речь.
Такое объяснение многое оставляло неясным: почему, например, при всем том надо было уйти из МХАТ-2? Чехов отвечал и на это. Он, мол, предполагал создать в Москве новый театр. Такой, в котором будет ставиться только классический репертуар, проработанный при помощи новой актерской техники. А изучение немецкой сценической речи явится последним звеном в цепи его исканий. Сколько времени потребуется для такого изучения? Примерно год. По истечении его, заявил Чехов, он обязательно вернется в Москву.
Он не вернулся.
Анатолий Васильевич Луначарский, предвидя губительные для Чехова последствия, предупреждал: «...те артисты, которые воображают, будто так легко отчалить от родного берега и поискать буржуазных пышных садов, где высокие гонорары и широкая артистическая свобода, глубоко заблуждаются. Горек и черств хлеб русского актера за границей. Разве только пошловатый человек, которого могут удовлетворить внешние удобства западной жизни, может легко мириться со своей долей. Но разве среди этих пошловатых людей могут быть настоящие таланты? Променять на западную чечевичную похлебку гигантское право быть участником ведущей части человечества и ведущего в настоящее время театра — это значит для подлинного дарования подписать собственный приговор медленного, а может быть, и быстрого умирания».
Он словно в воду глядел. Но Чехов его не услышал.
Как он жил «там», какой поворот получила его творческая судьба, мне не было известно. Но вот недавно, будучи в Соединенных Штатах Америки, я узнал, что жена Чехова, Ксения Карловна, живет в Лос-Анджелесе. Мой путь лежал туда, и я взял ее адрес. Теперь мы встретились...
— Что привело вас ко мне? — осторожно спросила Ксения Карловна.
— Воспоминания.
Я рассказал ей о спектаклях, в которых видел ее мужа. О том, что в последние годы много читал о его творчестве в книгах и статьях таких видных мастеров советской сцены, как Алексей Попов, Рубен Симонов, Игорь Ильинский, Михаил Жаров, Алексей Дикий, Софья Гиацинтова, Серафима Бирман. Рассказал, что в журнале «Театр» была опубликована старая анкета Михаила Александровича по психологии актерского творчества.
Журнал с анкетой Ксения Карловна имела — ей переслали его из Москвы. Но многое в моем рассказе было для нее новым и интересным. Она, в свою очередь, познакомила меня с некоторыми материалами из своего семейного архива. Тут были фотографии Михаила Чехова в жизни и в ролях (Эрик, Гамлет, Хлестаков, Мальволио и другие). Было множество разных заметок, газетных и журнальных вырезок, письма.
— А это что? — спросил я, обратив внимание на лежавшую в сторонке тут же на столе аккуратно переплетенную не то книжку, не то тетрадь.
— Это записки Михаила Александровича.
У меня перехватило дыхание.
— Какие? — спросил я как можно спокойнее.
— О жизни, о встречах.
— И какой период они охватывают?
— Да вы сами посмотрите, — любезно предложила хозяйка.
Я открыл переплет — и боюсь, что с этого момента перестал быть для нее интересным собеседником. Я читал. После длительного перерыва я снова встретился с Михаилом Чеховым. Он рассказывал...
Ушел я в тот раз от Ксении Карловны не скоро. Потом приходил еще и еще...
Из писем, из рассказов людей, знавших его за границей, из газетных и журнальных вырезок, опубликованных там в разные годы, из записок Михаила Чехова передо мной встала картина того периода жизни и творчества его, что до сих пор была совершенно не исследована. О том, что я узнал, — мое повествование.
Встреча с Западом
Летом тридцать второго года поселился на Рижском взморье, в пансионе «Шлосс ам мер», человек с бородой. Часто его можно было увидеть в старинном парке с аллеями, цветниками и прудами, расположенном невдалеке от пансиона. Он сидел где-нибудь на скамье под высокими соснами с тетрадкой или альбомом, в котором что-то чертил. Одет он был обычно в полосатую — синюю с белым — пижаму, на голове носил легкую шапочку «американку». Борода у человека была седоватая, лицо обыкновенное, обывательское. Однако многие из проживавших тут знали, что это актер. В здешнее уединение он приехал ради тишины и бороду отпустил для опрощения.
Пансион «Шлосс ам мер», что в переводе с немецкого значит «Замок у моря», чем-то оправдывал свое горделивое название. Он стоял на горе и имел открытый выход к заливу. Внизу, под горой, виднелись каменистые гроты. На окнах первого этажа нижнего здания мрачно поблескивали решетки. Для полного антуража «Замку у моря» не хватало разве только подъемных мостов.
По вечерам обитатель пансиона любил бродить по берегу, у самой воды. Иногда останавливался и подолгу глядел в даль моря, словно ожидая, что оттуда придут ответы на беспокоящие его вопросы. Потом он возвращался в дом. Как все, играл в бридж и читал что-нибудь на сон грядущий. А утром купался, гулял, работал. Время от времени он удалялся в один из гротов нижней террасы замка, проверял сделанные куски роли, даже пел. Акустика в гроте была чудесная.
— Как вы думаете, — спросил он однажды хозяйку пансиона, — не разбегутся ваши жильцы от моего пения?
— О что вы, господин! — воскликнула хозяйка. — Наоборот, все рады услышать, как поет знаменитый Чехов!
Знаменитый Чехов! Актер внимательно посмотрел на женщину. Нет, она не смеялась над ним. А сам он? Не посмеялся ли он сам над своей славой, над своим именем?
Около четырех лет назад он приехал на Запад и подписал контракт с немецким театральным деятелем и режиссером Максом Рейнхардтом. Было это так.
...В праздничном настроении, с маленьким томиком «Гамлета» на немецком языке (он уже выучил первый акт и половину монолога «Быть или не быть?») вошел Чехов в берлинскую контору известного антрепренера, ценителя искусства. Тот приветливо встретил Михаила Александровича и, усадив в кресло, чуть было не смутил слишком откровенным комплиментом:
— Не каждый день приезжают к нам из России Чеховы, — сказал он.
Маленькую паузу, наступившую вслед за этим, артист истолковал как вступление к важной, радостной беседе. Он глядел на антрепренера с любовью человека, добровольно отдающего себя во власть другого.
— Ну-с, — сказал наконец антрепренер, — мы будем с вами делать хорошие дела!
Чехов слегка поклонился и красиво развел руками (дескать, весь к вашим услугам) и тут же почувствовал, что нечаянно сымитировал Константина Сергеевича Станиславского в минуту, когда тот, сознавая свое величие, хотел быть простым и приятным.
«Александр Моисси1 приезжал с «Гамлетом» в Москву, — подумал Чехов, — а я вот в Берлин. Ответный как бы визит».
— Танцуете? — спросил вдруг антрепренер и, подождав несколько секунд ответа, повторил свой вопрос, для ясности «попрыгав» руками в воздухе.
— Я? — удивился Чехов.
— Вы.
«Какие же в «Гамлете» танцы? соображал артист. — Фехтование есть... пантомима... Какая неприятная ошибка! Он должен бы знать».
— Зачем танцевать? — спросил он с улыбкой.
— Мы начнем с кабаре. Знаете Грока? Известного швейцарского клоуна? Ну так вот — я сделаю из вас второго Грока. На инструментах играете? Поете? Ну хоть чуть-чуть?
— Простите, — перебил его Чехов, холодея. — Я, собственно... Я приехал играть Гамлета...
— Гамлет неважно, — отмахнулся антрепренер. — Публике нужно другое. Условия мои таковы. Годовой контракт. Такой-то месячный оклад. Имею право продавать вас по своему усмотрению. В том числе и для участия в фильмах. Abgemacht?2
«Не то пауза наступила, — рассказывает Михаил Чехов, — не то я провалился куда-то».
Живя на родине, он плохо представлял себе условия театральной жизни за границей. Верил в созданный буржуазной пропагандой миф о «вольных художниках», о «свободе творчества». Ему казалось — и это было главной причиной, которая привела его сюда, — что в России он этой свободой в полной мере не обладал. А здесь? Теперь? Что сулил ему Берлин в лице первого же встреченного им театрального деятеля «свободного мира»?
Михаил Чехов как-то даже растерялся. Он не мог сразу оценить, что произошло. Да, конечно, дома с ним порою спорили (или, как он сам считал, «боролись»). Споры вызвал, в частности, «Гамлет». Но ведь никому и в голову не приходило уничтожить его труд, снять постановку, отказать в возможности играть роль, о которой он давно мечтал. Между тем тут единым словом человек уничтожал мечту, смысл и цель!
«В чем его сила? — спрашивал себя Чехов. — В деньгах? Что же, это и есть капиталистический строй?»
Вся его театральная жизнь, с ее исканиями, накоплением идеалов, верой в публику, встала перед ним. Станиславский, Шаляпин больше двадцати лет своим примером воспитывали в нем веру в великую миссию театра. В Москве на «Гамлета» ходили с благоговением...
— Но ведь не вся же публика хочет кабаре, — сказал он вслух, — многие хотят и «Гамлета».
— Два десятка полоумных шекспироведов! Сядут в пустой зал с книжечками в руках и будут, уткнув носы, следить: верно ли вы произносите текст. Это не «дело». Поверьте мне, милый друг, антрепренер отечески дотронулся до чеховского рукава, я знаю публику лучше, чем вы!
Михаил Чехов встал.
— Подумайте, — сказал антрепренер.
— Подумаю, — сказал артист.
И они расстались.
Через два дня Чехов снова сидел в конторе известного антрепренера. Тот телеграфировал Максу Рейнхардту о его приезде и теперь показывал Чехову ответ из Зальцбурга — города, славного именем Моцарта и давнишних театральных традиций. Ответ был обстоятельный и, как все телеграммы Рейнхардта, был похож скорее на письмо. Метр «радовался» приезду Чехова и приглашал его в свою зальцбургскую резиденцию погостить и переговорить о предстоящей работе.
— Поздравляю, — говорил антрепренер, хохоча и тряся чеховскую руку. — Мои условия таковы...
И он изложил свои новые условия в связи с приглашением Макса Рейнхардта.
Вслед за первой из Зальцбурга последовала другая телеграмма. Она извещала, что дела заставляют метра экстренно выехать в Берлин, где он и надеется встретиться с Михаилом Чеховым.
И вот он приехал. Чехов описывает обстановку и встречу.
Роскошная квартира. Громадные залы, напоминающие дворец. Макс Рейнхардт вышел к нему навстречу и, не выпуская руки, подвел к большому письменному столу. Усадив гостя, сам он сел напротив. Его большие глаза, смеющиеся, умные и проницательные, глядели на Чехова. Тот смутился. ч
— Я знаю, — сказал Рейнхардт, — какую роль вы хотите играть. У меня самого была когда-то затаенная мечта. Тоже шекспировский герой. Только никто не знал об этом.
Макс Рейнхардт назвал этого героя. Чехов окончательно смутился.
После двух-трех общих фраз немецкий режиссер спросил о Станиславском и манере его работы. Узнав, что в Московском Художественном театре пьесы репетируются месяцами, и только две-три новые постановки включаются ежегодно в репертуар, он опустил глаза и печально покачал головой.
— У нас, у немцев, другой метод.
Жалел ли он при этом русских или немцев — Чехов не понял.
— Eine wunderbare Rolle!3 — воскликнул вдруг Рейнхардт, переходя к своему деловому предложению.
Его хитрый, интригующий взгляд говорил: «Понимаю, вы в восторге и ждете, что я скажу вам дальше». Чехов невольно подчинился его обаятельному взгляду и с нетерпением просил режиссера рассказать о роли, которую тот ему наметил.
Рейнхардт предложил Михаилу Чехову сыграть роль Скайда в «Артистах» Дж. М. Уотерса и Артура М. Хопкинса. Скайд — клоун. Роль трагикомическая. В Берлине ее с успехом играл бывший актер Московского Камерного театра В. А. Соколов. Рейнхардт хотел, чтобы в Вене, куда перебиралась его труппа, Скайда играл Чехов. Он должен был ехать туда немедленно, чтобы еще до приезда метра заняться с его ассистентом исправлением немецкой речи и учиться клоунским трюкам. А с Гамлетом что же? На это ответа не было. Уходя, Чехов спросил Рейнхардта, почему он не ставит больше классической драматургии.
— Не время, — ответил метр. — Публика у нас не хочет этого сейчас. Но театр еще увидит классиков.
Как? Когда? Макс Рейнхардт не уточнял. Он проводил гостя до двери, все так же проницательно следя за каждым его движением.
Уроки немецкой речи
И вот Михаил Чехов в Вене. Маленький, четырехугольный, уже не молодой доктор S. (так все время называет его артист), ассистент Макса Рейнхардта, принял его вежливо, но сухо и строго.
— Герр профессор информировал меня, что вы есть известный артист. Очень приятно, сказал он по-немецки и немедленно приступил к исправлению чеховской речи.
Стоя рядом с артистом, он поправлял каждое его слово таким громким гортанным голосом, что у того разболелась голова. Через полчаса ассистент Рейнхардта уже не столько исправлял его речь, сколько навязывал свои интонации. Чехов было запротестовал. Однако тот сказал:
— Но вы плохо вслушиваетесь, либер Тшекофф. Это обязательно так должно быть сказано.
И снова стал вкрикивать в него свои гортанные звуки. Чехов начинал ненавидеть его.
— Но дорогой, дорогой герр Тшекофф, — настаивал доктор S., — вы никак не поймете! Это ведь не Шекспир! Не «Гамлет»!
Михаил Чехов насторожился. Ассистент Рейнхардта предложил ему прослушать и сравнить шекспировскую речь и ту, которую он старался вбить в него. Вскинув руки кверху, он закричал: «O schmolze doch dies allzufeste Fleisch!»4
От крика он налился кровью. Когда его напряжение дошло до крайних пределов, он стал изгибаться, отчего его коротенькая четырехугольная фигурка стала еще меньше. Он бил себя сверху кистями рук по голове и задыхался от недостатка воздуха.
«А не уехать ли мне назад?» — подумал в эти минуты Чехов, стараясь не слышать голоса доктора S.
Но ехать «назад» не позволяло самолюбие, и Чехов отогнал нахлынувшие на него мысли.
— Вот это Шекспир! — сказал мокрый и красный ассистент Макса Рейнхардта. — Слушайте теперь...
Он стал быстро и однотонно произносить длинные немецкие фразы Скайда, внезапно повышая голос на последнем слове перед запятой или понижая его перед точкой. При этом коротенький указательный палец его то взлетал вверх, то опускался вниз. Мучил он Чехова четыре часа. Наконец, доведя и его и себя до мигрени, угомонился.
На другой день начались уроки акробатики. Скоро они изнурили Чехова и физически. Прыгая через собственную ногу (которую он держал одной рукой), Чехов мучился от стыда и боли в мускулах. Отчаяние помогало ему вскакивать на стол без разбега и «рыбкой» перелетать через предметы. «С приездом Рейнхардта, — надеялся он, — начнутся репетиции, и судьба моя изменится к лучшему». Но труппа приехала без Рейнхардта, и его ассистенту было поручено ввести Михаила Чехова в пьесу.
Клоун Скайд
Со дня приезда труппы и до премьеры в Венском театре оставалось всего восемь дней. Скайд, главная мужская роль, проходит через все четыре акта, и в каждом из них Скайд говорит помногу и подолгу. Чужой для Чехова язык, интонации доктора S., акробатика и ужас перед надвигающейся премьерой мешали заучиванию текста.
В приехавшей из Берлина труппе оказалась молодая актриса, так же, как и Михаил Чехов, впервые выступавшая в «Артистах». Ассистент Рейнхардта начал заниматься и с ней, и Чехову стало немного легче. Актеры на репетициях скороговоркой болтали надоевшие им роли, и он с трудом улавливал реплики.
За несколько дней до премьеры приехал Макс Рейнхардт, и начались «настоящие репетиции». Они проходили по ночам на квартире метра. Под утро, когда наступало нервное возбуждение, актеры оживлялись, и все выходило, как они считали, превосходно, «ausqezeichnet». К изумлению Чехова, метр не спешил и не для того назначал ночные репетиции, чтобы сделать больше в оставшиеся несколько дней. Нет, они назначались с целью вызвать под утро то возбуждение, которое и делало репетицию «ausqezeichnet». Это был прием, которым Макс Рейнхардт часто пользовался в своей работе. Часов в шесть утра, когда было уже совсем светло, актеры шумной толпой высыпали на пустынные улицы Вены и долго бродили по городу, обмениваясь впечатлениями ночи. В центре шел доктор S. в длинном, тяжелом, квадратном, как он сам, пальто.
— Мужайтесь, мужайтесь, дорогой герр... герр...
— Тшекофф, — подсказывал артист, стараясь произнести свою фамилию с акцентом.
— Мужайтесь, дорогой герр Тшекофф, — ободряли его актеры.
Но мужества у него не было давно. Он чувствовал, что летит в пропасть. Ему было стыдно, и он то злился, то впадал в апатию.
Как завидовал Чехов новой актрисе! Не зная роли и, по-видимому, не отдавая себе ясного отчета в том, что она играет, повторяла актриса все ту же серию знакомых театральных приемов, нанизывая их как бусинки на тонкую ниточку. А когда эта ниточка разрывалась, она, мило вертя юбочкой и хохоча, трепала по щеке доктора S.
— Но, милостивые государи, — бормотал, смущаясь, ассистент Рейнхардта и еще усерднее начинал заниматься с ней.
Наконец настал день генеральной репетиции накануне премьеры. В первый раз представление шло в костюмах, гриме, при нужном освещении и полных декорациях. По сцене бегали рабочие, два красных и раздраженных помощника режиссера. С достоинством ходил доктор S., и суетились полузагримированные, полуодетые актеры. Чехов плохо узнавал их, и ему начинало казаться, что среди них есть новые лица, до сих пор не принимавшие участия в репетициях. Приглядевшись, он заметил целую толпу новых персонажей, загримированных и одетых, как и все другие. Это были настоящие клоуны и артисты кабаре. Рейнхардт пригласил их, чтобы создать атмосферу цирка и позабавить публику.
С тоской и нежностью вспомнил тогда Михаил Чехов далекий любимый Московский Художественный театр. Станиславского, на цыпочках ходящего за кулисами. Немировича-Данченко, всегда строгого, но такого доброго и ласкового в дни генеральных репетиций. Трепет и волнение актеров. И ту особую, незабываемую тишину этого единственного в мире театра...
Весело покрикивая и смеясь, акробаты, жонглеры и клоуны вертелись, скользили по полу, не передвигая ног, падали не сгибаясь, складывались в комочки, спотыкались в воздухе, легко подкидывали тяжелые предметы и не могли сдвинуть с места легких. И все это красиво, смешно и четко.
«Боже мой, — думал Чехов, — что же будет с моим неуклюжим прыжком через ногу и жалкими «рыбками» среди этой блестящей компании!» Но он был так утомлен и подавлен, что у него не хватило энергии просить Рейнхардта об отмене «трюков».
Бестолковая, нервная репетиция началась. Макс Рейнхардт появлялся то на сцене, то за кулисами, то в зрительном зале. Он волновался и раздражался не меньше других, но искусно прятал свое возбужденное состояние под маской холода и покоя. Даже двигался он медленнее, чем обычно. Репетиция прерывалась каждые пять минут. На игру никто не обращал внимания. Свет, декорации, костюмы, вставные номера клоунов и акробатов заняли все время. Первый «трюк» Чехова: прыжок на стол без разбега. Он с грохотом летит на пол. Испуганный крик партнерши, крик Рейнхардта в зрительном зале, боль в содранных коленях и локтях. Только тут руководитель постановки, заметив, что носки чеховских клоунских сапог в полтора фута длиной, отменил все его «трюки».
Репетиция кончилась на рассвете. Вечером премьера.
«Не напиться ли?» — подумал Чехов...
Премьера. С тупым равнодушием вышел он на сцену. Циркачи и акробаты имели шумный успех. Прошли первый и второй акты. В третьем — центральная сцена клоуна Скайда. Он произносит эффектный трагикомический монолог.
Чехов начал. Странно прозвучали для него самого несколько первых фраз Скайда. «Совсем не гортанно, не по-немецки... сердечно... Должно быть, это и есть то, что немцы называют «russische Stimme», то есть «русская речь», — пронеслось в его сознании. «И как просто он говорит, совсем не так, как на репетиции. Это, должно быть, оттого, что я не играю. Надо сделать усилие... Нет, подожду еще минуточку, сил нет... монолог такой длинный».
Скайд говорил, и Чехову стало казаться, что он в первый раз по-настоящему понимает смысл его слов, его неудачную любовь к Бонни, его драму. Усталость и равнодушие сделали артиста зрителем его собственной игры.
«Как верно, что голос у Скайда такой теплый, задушевный. Неужели оттого и создалась такая волнующая, напряженная атмосфера на сцене? Зрители насторожились, слушают внимательно. И актеры слушают. И Бонни. На репетициях она занималась только собой. Как же я не видел, какая она славная... Конечно, Скайд любит ее!»
Чехов чутко следил теперь за Скайдом. Бонни запела у рояля грустную песенку. Чехов «взглянул» на сидевшего на полу Скайда, и ему показалось, что он «увидел» его чувства, его волнение и боль. Скайд то внезапно менял темпы, то прерывал свои фразы паузами. Неожиданными, но такими уместными. То делал нелогичные ударения, то причудливые жесты...
«Клоун-профессионал», — подумал Чехов. В первый раз он увидел в партнерах живой интерес к своим словам и к душевной драме Скайда. С удивлением заметил он, что начинает угадывать, что произойдет через мгновение в его душе. Тоска росла. Ему стало жалко Скайда. И в эту минуту из глаз клоуна брызнули слезы. Чехов испугался. «Это сентиментально, не надо слез, останови их!» Скайд сдержал слезы, но вместо них из глаз его вырвалась сила. В ней была боль, такая трагичная, такая близкая и знакомая человеческому сердцу... Скайд встал, странной походкой прошелся по сцене и вдруг стал танцевать. По-клоунски одними ногами, смешно, все быстрее, быстрее. Слова монолога, жаркие, четкие, острые, разлетались по залу, уносились в партер, к ложам, на галерею.
«Что это? Откуда? Я не репетировал так!»
Партнеры встали с мест и отступили к стенам павильона.
«И они не делали этого раньше!»
Теперь Чехов мог руководить игрой Скайда. Сознание его раздвоилось. Он был как бы и в зрительном зале, и около самого себя. И он узнал, что чувствует, чего ждет каждый из его партнеров.
«Слезы! — подсказал он танцующему Скайду. — Теперь можно!»
Усталость исчезла. Легкость, радость, счастье! Монолог подходит к концу... Как жалко! Так много еще можно высказать. Такие сложные, неожиданные чувства поднимаются в душе. Так гибко, послушно становилось клоунское тело... И вдруг все существо его и Скайда наполнилось страшной, почти непереносимой силой. И не было преград для нее — она проникла всюду и могла все. Чехову стало жутко. Сделав усилие воли, он снова стал самим собой и по инерции договорил две-три оставшиеся фразы монолога.
Действие кончилось. Опустили занавес. Публика, Макс Рейнхардт и даже сам доктор S. щедро вознаградили его за мучения последних дней. Чехов был благодарен и растроган.
Пренебрегши всем, что ему здесь вдалбливали, он вернулся к истокам воспитавшей его русской школы и, что называется, «нашел роль». Мука прошла, и Михаил Чехов все с большим удовольствием стал играть своего клоуна.
Конец одной «дружбы»
Возвращаясь однажды с доктором S. со спектакля, Чехов заметил, что тот был грустен.
— Зайдите ко мне, либер Тшекофф, — сказал ассистент Рейнхардта. — Дома темно. Жена и дочери уже спят. Входите.
Хозяин дома поставил на стол бутылку хорошего коньяка. Сам выпил несколько рюмок. Четырехугольная голова его опустилась на руки и повисла над столом. Прошло минут десять.
«Не спит ли он? — подумал гость. — Может быть, мне лучше тихонько уйти?»
На полированном столике заблестели две капли. По щекам хозяина катились слезы. По-немецки, ударяя на каждом слоге, он тихо сказал:
— Я люблю ее.
И всхлипнул.
Вспомнив, как она, вертя юбочкой, трепала на репетициях ассистента Макса Рейнхардта по щеке, гость понял, о ком идет речь. На реплику хозяина он ответил неопределенным восклицанием и, выждав приличную паузу, заговорил о метре, руководившем их театром. Не поднимая головы и не отирая слез, хозяин дома дал ему понять, что он сам не хуже Рейнхардта. Только тому, мол, везет, а ему, доктору S., нет. Михаил Чехов завел разговор о театральном искусстве, об актерах и режиссерах. Хозяин дома сказал, что любит режиссуру потому, что она дает ему власть над другими работниками театра. Чехову стало жалко его. Вспомнился Вахтангов, считавший, что тех, кто любит ответственное положение ради удовольствия держать других в подчинении, лучше совсем не ставить в такое положение.
Поговорили еще о том, о другом. Потом доктор проводил Михаила Александровича до дому, и как-то так получилось, что они с тех пор даже вроде «сдружились». Но когда, уже в Берлине, ассистируя Максу Рейнхардту в другой его постановке, доктор S. начал проявлять власть над старым седым актером, игравшим лакея, Чехов устроил ему скандал тут же на сцене.
На том «дружба» их кончилась.
Макс Рейнхардт
Новый метр Чехова был знаменит и, что называется, знал себе цену. Бегло излагая историю театра новых времен, он вполне серьезно, без улыбки сказал однажды Михаилу Чехову:
— Был Икс. Петом пришел Игрек. Его сменил Зет. Потом пришел Я.
Постановки свои он продумывал в одиночестве, у себя в кабинете. Записывал мизансцены, общий план постановки, детали игры. По его указаниям доктора-ассистенты вели подготовительную работу с актерами. Затем появлялся сам профессор (всегда поздно, почти к концу репетиции). Доктора-ассистенты отходили на задний план, а актеры, хотя и утомленные, бодрились и работали еще много часов. Правда, это не мешало некоторым из них, в особенности пожилым и почтенным, в каждую «свободную» минуту решать кроссворды и читать газеты, которыми были набиты их карманы. Но все же общая атмосфера репетиции поднималась. Рейнхардт обычно говорил мало, но актеры сами вычитывали в его выразительном (и всегда чуть смеющемся) взгляде либо похвалу, либо осуждение себе.
Наблюдая за ним, Михаил Чехов заметил: профессор не только смотрел на актеров и слушал их. Он непрестанно играл и говорил за них внутренне. Актеры чувствовали это и старались угадать, чего хочет герр профессор от них. Это возбуждало их актерское честолюбие, желание достигнуть того, что могло бы удовлетворить Рейнхардта. Они делали внутренние усилия, и роли их подчас быстро росли. Так молча режиссировал Рейнхардт одним своим присутствием, одним своим взглядом и порой достигал больших результатов.
Чехов поражался интуиции Макса Рейнхардта, его богатой фантазии и театральной выдумке. Профессор умел, если нужно, блестяще сыграть перед актером его роль, проговорить его текст. Он увлекал своих подопечных умением каждое произнесенное им слово наполнить особой выразительностью. Умел придавать своей речи упругость и пластичность, пользоваться словами то как живописец красками, то как музыкант звуками, сочетая их в мелодии. Это было всегда ярко, разнообразно, талантливо.
Но передать силу своего таланта нельзя, можно передать только школу. А школы Макс Рейнхардт не создал. Дать актеру объективные знания сценических законов, снабдить его техническими средствами для решения художественной задачи, как это сделал Станиславский, Рейнхардт не смог.
Сам будучи актером, Михаил Чехов знал: его коллеги по искусству любят «ловко» произнесенные слова. Но в большинстве своем они сами не знают, чем достигается этот эффект. В силу своего таланта Рейнхардт мастерски владел даже отдельными звуками речи и был способен прочесть актеру слова его роли так, что, казалось, укажи он пути к развитию этого искусства выразительного слова, и начнется новая эра в театре. Но он не указал этих путей. У Макса Рейнхардта имелись, как понял Чехов, на основе своих почти трехлетних наблюдений, свои собственные, рейнхардтовские, приемы и привычки, которыми он пользовался, сам не постигая их значения. Чехов высоко ценит его талант, называет последним представителем театра «милостью божьей». Но тут же говорит:
— Какую самоуверенность надо иметь современному актеру, чтобы, отказавшись от школы, от знаний, от упорной работы, полагаться, как Рейнхардт, на гений, на случайные вспышки интуиции!
В письме к другу-актеру и художнику МХАТ-2 М. В. Либакову Михаил Александрович пишет: «Рейнхардт очень занятен. Все мужчины (Чехов имеет в виду актеров) влюблены в него». И тут же решительно подчеркивает: «Я — нет».
Самая манера работы Рейнхардта была чужда Михаилу Чехову. Особенно в первое время. Потом он привык к ней. Привыкать вообще приходилось ко многому...
Поначалу Чехов не знал (а когда узнал, то было потеряно уже слишком много), что, некогда мятежный, всегда в поисках, всегда новый, Макс Рейнхардт уже значительно охладел к своим? былым творческим мечтам. Что он постепенно, но неукоснительно уходит от всего, что требует усилий, и предпочитает терниям искусства комфорт бархатной директорской ложи. Что он забросил рожденное им детище «Народный театр» («Volksbuhne»), перешел в район нуворишей и в своих четырех-пяти одновременно действующих предприятиях, монополизировавших театральную жизнь Берлина и отчасти Вены, культивирует жанр незатейливой комедии и мелодрамы, довольствуясь лаврами «эффектного» режиссера.
«Юзик»
Михаил Чехов приехал - сюда с думой о классике. Рейнхардт для него после «Артистов» Уотерса и Хопкинса поставил «ЛОзика». Под этим названием у него в берлинской «Камершпилле» на улице Шумана шла несколько измененная и подчищенная, но попрежнему полная сахарной водицы вместо лирики старая пьеса Осипа Дымова «Певец своей печали».
В «Камершпилле», театре для избранной публики, потолки, стены, кресла — все из красного дерева. Немецкие буржуа любили приезжать сюда «отдохнуть», переварить свой обед. Обстановка «Камершпилле», как и ее немудрящий репертуар, вполне отвечала их представлениям о том, что есть «красиво». К тому же здесь было только четыреста просторно расставленных мест, и в каждом из обитых штофной материей кресел можно сидеть развалясь. Значит, тут не только «красиво», но и «удобно».
Герой Осипа Дымова — бедняк и поэт в душе. Поэзию свою он изливает в игре на скрипке и в письмах, которые для заработка пишет на заказ. Юзик влюблен, но - конечно же! — избранница его сердца любит другого, и тому, другому, бедный поэт пишет от ее имени письма. А потом, когда одних слов, хотя бы и красивых, оказывается мало (у невесты нет приданого, и к тому же она всего только прислуга), Юзик отдает свой крупный выигрыш в лотерее, чтобы устроить счастье девушки с этим другим. В финале, снабженном всеми атрибутами самой дешевой символики, вторично обедневший герой подносит любимой свое сердце и умирает. Ужас как эффектно!
Поставлен был «Юзик» весьма тщательно. Как отмечали немецкие критики, некоторые участники спектакля играли совсем неплохо. И конечно Михаил Чехов — Юзик. «Непонятно только, — писали журналисты, — как вообще умудрился он наполнить эту пустую, никчемную роль».
Чехов, конечно, вышел из рамок текста и, насколько возможно, сделал из Юзика фигуру, которая и не снилась автору. Зрители запомнили его высокий лоб, обрамленный длинными белокурыми волосами, глубокие горящие глаза поэта — безумца, влюбленного в мечту и одержимого одним чувством. Остались в памяти его метания, нервные и в то же время мягкие, как и вся игра Чехова. Сильнее всего был он, конечно, когда не связывал себя дымовским текстом, когда отдавался фантазии, придумывая своего героя. И все же, все же нельзя было не увидеть, глядя на Чехова в «Юзике», что это породистый арабский конь, везущий бочку с водой.
Михаил Чехов играл по-немецки. И хотя выговор, несмотря на все усилия, был у него, как утверждают, не «перфект», хозяин остался им доволен. Он печатно объяснялся в любви к Чехову, называл его «дорогим другом», всячески привечал. Но удовлетворить Михаила Александровича он не смог. Не смог и потому, что Юзик не заменил Чехову Гамлета, о котором он мечтал, и потому, что ни в одном театре Рейнхардта не было, по сути дела, ансамблевой труппы. В «Юзике» с Михаилом Чеховым играли одни партнеры, в «Артистах» (кроме Карин Эванс) — другие. Исполнителей (по американскому образцу) чаще всего приглашали на постановку одной какой-нибудь пьесы. Не успев привыкнуть друг к другу, актеры расходились по разным театрам, чтобы снова, едва наладив и какие-то человеческие связи, и ансамблевую работу, разбрестись в стороны. Уже одно это делало спектакли случайными; и, как ко всему случайному, к ним нельзя было предъявлять серьезных требований.
Михаил Чехов не решался признаться в этом даже самому себе. Но, вероятно, его совершенно не удивило, когда на одном из представлений «Артистов» занавес вдруг стал опускаться раньше, чем актер закончил решающий всю его роль монолог. Чехов бросился вперед, к авансцене, руками уперся в падающую тяжелую деревянную рейку занавеса, стараясь удержать ее и выкрикивая в зрительный зал недоговоренные слова. С грехом пополам закончил он свой монолог. Но, боже, как гадко, должно быть, было у него в тот вечер на душе, как не по себе!..
В чеховском дневнике нет рассказа об этом эпизоде. И о том, что он играл роль Юзика, тоже. И о многом другом, с чем он встретился здесь, столь не похожем на то, что было дома, в России!
Знаменательная встреча
На короткое время появился в Берлине Станиславский. Константин Сергеевич ездил на немецкий курорт Баденвейлер, где лечился его больной сын, и теперь спешил в Москву. Макс Рейнхардт, склонный к эффектным жестам и внешней помпе, решил не упустить случая. На совещании, которое у него состоялось, было решено поднести Станиславскому художественный золотой жетон. Рейнхардту этого показалось мало. Надо было поразить гостя. Но чем? Немецкий режиссер решил, что сделать это можно, подарив Станиславскому роскошный автомобиль.
В честь Константина Сергеевича был дан торжественный ужин. Приглашенных не больше десяти человек, среди них Михаил Чехов. Несколько напряженная обстановка ожидания. Множество фотографов. С изысканным вкусом накрытый стол во «дворце» Рейнхардта.
Чехов не на шутку боится встречи со Станиславским. Боится вопросов, на которые (он хорошо понимает это) нет и не может быть ответов, могущих удовлетворить учителя. И как часто в трудную минуту, не выдавая своего подлинного состояния, он скрывает его за забавной историей: рассказывает, как происходила встреча его нового метра с Константином Сергеевичем.
Благодаря личному обаянию и поистине королевской манере держаться Макс Рейнхардт производил на окружающих величественное впечатление. Никому и в голову не приходило, что он мал ростом и некрасив лицом. И Михаил Чехов не думал об этом раньше. Но сейчас! Выдержит ли немецкий театральный деятель сравнение? Станиславский — гигант с львиной головой и Макс Рейнхардт, едва достигающий до его плеча, встанут рядом. Что будет?..
Маленький Макс Рейнхардт в ожидании встречи сидел в большом кресле. Боже мой, как мал казался он Михаилу Александровичу в эти минуты! Как хотел Чехов, чтобы никто, никто, кроме него, не заметил этой несносно большой спинки, с резной короной где-то высоко-высоко над головой Рейнхардта! Она делала Рейнхардта удивительно похожим на старинный портрет, сползающий вниз в своей золоченой раме. Громадный пустой зал еще больше подавлял маленького, «распятого» на кресле Рейнхардта.
В соседней комнате послышались голоса и шаги. Приехал Станиславский. Макс Рейнхардт наконец встал (нет, мал, видел Чехов, ужасно мал!)... и медленно, очень медленно пошел к двери. Лакеи раздвинули тяжелые портьеры, и показалась фигура седовласого гиганта. Он остановился в дверях, щурясь и улыбаясь, еще не зная кому. Наступила пауза. А Рейнхардт, разыгрывая сцену встречи, вероятно заранее продуманную в одиночестве у себя в кабинете, все шел и шел! И одну руку при этом держал в кармане.
Уже присутствующие, не выдерживая паузы, улыбались и неуверенно изгибались в полупоклонах. А Макс Рейнхардт, не прибавляя шага, все шел и шел. Он уже подходил. Вдруг Станиславский разглядел его. Быстро зашагал навстречу Рейнхардту, стал жать его руку и, не зная немецкого языка, бормотал очаровательную бессмыслицу. Левая рука профессора грациозно выскользнула из кармана и красиво повисла вдоль тела. Правая вдруг вытянулась, Рейнхардт отклонился назад. Образовалась дистанция. Рейнхардт поднял голову и взглянул вверх на Станиславского. «Но как! — вспоминает Чехов. — Как смотрят знатоки в галереях на картины Рафаэля, Рембрандта, Леонардо да Винчи. Не унижаясь, не теряя достоинства. Наоборот, вызывая уважение окружающих, которые любуются «знатоком», пожалуй, не меньше, чем картиной».
Позднее, описывая этот эпизод в письме к М. В. Либакову, Михаил Чехов удовлетворенно говорил о Рейнхардте: «Когда я видел его рядом с Ка Эсом (то есть с Константином Сергеевичем Станиславским. — А. М.), то поразился, как он при своем малом росте (он ниже меня даже) сумел «сохранить достоинство и не был ниже Ка Эса!»
Чехов был хоть этим доволен. Несколько молчаливых минут отсчитало его бьющееся сердце. На его глазах, казалось ему, совершалось чудо. Макс Рейнхардт стал расти, расти и вырос для него в прежнего, величественного, исполненного королевского достоинства профессора! Он повел своего гостя через залу, и оба были прекрасны. Один в своем смущении и детской открытости, другой — в уверенном спокойствии «знатока».
Засуетились фотографы, отодвинули кресло (теперь такое красивое и безопасное) и поставили обоих режиссеров вместе. Рейнхардт протянул руку и поставил Михаила Чехова рядом с собой. Он хотел, чтобы сняли их троих, очевидно желая проявить внимание к Константину Сергеевичу тем, что оказывает честь его актеру. Но фотографы имели на этот счет свои соображения. Они снова задвигали кресло, перешептываясь наспех, засуетились около Станиславского и Рейнхардта и, легко оттеснив Чехова в сторону, защелкали аппаратами.
Потом был ужин и речи. Еще во время торжественной церемонии Чехов шепнул Константину Сергеевичу о том, какой сюрприз ожидает его. На лице Станиславского выразился испуг. Не желая, однако, огорчать Рейнхардта, он сделал вид, что ничего о предстоящем ему подарке автомобиля не знает.
Вечер закончился. Один из директоров рейнхардтовских театров, говоривший по-русски, проводил Станиславского вниз. Увидев «свой» автомобиль, Константин Сергеевич растерялся: он не был уверен, «знает» ли он уже о сюрпризе или «еще нет». Шофер распахнул дверцу, и директор, сняв шляпу, «преподнес» Станиславскому автомобиль от имени Макса Рейнхардта.
Константин Сергеевич развел руками. Когда церемония окончилась, утомленный и несчастный Станиславский сел в автомобиль. Он попросил Чехова доехать с ним до гостиницы. С тоской и испугом он сказал:
— Боже мой, боже мой, что мне делать с этим?
— С чем? — спросил Чехов.
— Да вот, с этим... мотором? Все это очень хорошо и трогательно, но куда же я его дену? Оставить тут тоже... как-то... Не знаю. Ужас, ужас! И зачем он сделал это?..
Подъехав к гостинице, Константин Сергеевич с растерянным выражением лица, прижимая руку к груди, несколько раз поклонился шоферу и, простившись с Чеховым, скрылся в дверях.
В этот приезд Станиславского в Берлин Михаил Чехов встречался с ним несколько раз. Константин Сергеевич, в частности, читал ему отрывки из своей книги, которую писал тогда («Работа актера над собой»), В одно из свиданий (то была их последняя встреча) разговор зашел о системе Станиславского. Два определения Константина Сергеевича вызвали у них разногласия.
Станиславский находил, что воспоминания из личной жизни актера, если сосредоточиться на них, приведут к живым, творческим чувствам, нужным актеру на сцене. Чехов не соглашался. Он полагал, что истинно творческие чувства достигаются через фантазию. По его понятиям, чем меньше актер захватывает свои личные переживания, тем больше он творит. Он пользуется при этом очищенными от всего личного творческими чувствами. Душа его забывает личные переживания, перерабатывает их в своих подсознательных глубинах и претворяет их в художественные. Прием же «аффективных воспоминаний» Станиславского не позволяет душе забыть личные переживания. Чехов подтверждал свое мнение еще и тем, что «аффективные воспоминания», как он считал, часто приводят актеров (а еще больше актрис) в нервное и даже истерическое состояние.
В связи с этим первым пунктом разногласий находился и второй. Он касался того, как актер должен фантазировать, или, по выражению Константина Сергеевича, «мечтать» об образе своей роли. Если актер играет, например, Отелло, то он должен вообразить себя в обстоятельствах Отелло. Это вызовет в нем чувства, нужные ему для исполнения роли Отелло, утверждал Станиславский. Чехов возражал. Он считал, что актер должен забыть себя и представить в своей фантазии Отелло, окруженного соответствующими обстоятельствами. Наблюдая Отелло (но не себя самого) в своем воображении как бы со стороны, актер почувствует то, что чувствует Отелло. И чувства его в этом случае будут чистыми, претворенными. Образ шекспировского -героя, увиденный в фантазии, воспламенит в актере те таинственные творческие чувства, которые обычно и называются вдохновением.
Ни Станиславский, ни Чехов не уступили в этом споре, происходившем в берлинском кафе на Курфюрстендамм, хотя, встретившись в девять часов вечера, они разошлись только в пять часов утра. И все же Михаил Чехов с бесконечной признательностью вспоминал потом эти часы, подаренные ему Константином Сергеевичем. И не только эти. Он любил Станиславского, и память услужливо возвращала его к невозвратно ушедшим дням его актерского становления под руководством великого художника.
Станиславский был требовательный режиссер. Как-то во время репетиции «Ревизора» И. М. Москвин, О. Л. Книппер-Чехова и готовивший роль Хлестакова Михаил Чехов что-то перепутали в тексте много раз уже прогонявшейся сцены и вдруг услышали из зрительного зала, где сидел руководитель постановки, холодный и строгий голос:
— Стоп! Тринадцать раз извольте повторить текст!
Все, как школьники, стали повторять. А Константин Сергеевич, отстукивая пальцем по столу, громко считал до тринадцати.
Зато как он очаровывал всех, когда показывал актерам, как надо играть ту или иную сцену! Тут Станиславский давал свободу своему воображению. Иногда фантазия, незаметно для него самого, уводила Константина Сергеевича далеко от текста. И даже о г темы. Он начинал в таких случаях показывать сцены, вовсе не существующие в пьесе. Но было это всегда так хорошо и талантливо, что никто не решался ни остановить его, ни вернуть к теме.
Когда «Ревизор» вышел, Станиславский много раз сам ходил на этот спектакль. Сидя в зале, он громко смеялся. Иногда раньше, чем следует: он ведь знал, что сейчас произойдет. Или позже других: это он выжидал реакцию публики. Из педагогических соображении он после каждого действия заходил к Михаилу Чехову в гримировочную, и если тот играл хорошо, то говорил:
— Ужасно! Никому не нужно! Три копейки! Надо все сначала репетировать.
Но когда Чехов играл плохо, Константин Сергеевич входил к нему с неестественной улыбкой и, не глядя в глаза, восторгался:
— Очень, очень хорошо! Просто хорошо. Роль растет. Поздравляю!
Он одинаково боялся, чтобы актер «не зазнался» или «не упал духом». Чтобы Михаил Чехов «не зазнавался», Станиславский сказал ему однажды после успешного выступления в роли Гамлета:
— Вы, Миша, не трагик. Трагик плюнет — и все задрожат. А вы плюнете — и ничего не будет.
О Хлестакове много писали и говорили. Чехову часто приходилось слышать разговоры на улице о себе. Но вот кто-то сказал, что если он будет так же играть и дальше, то непременно сойдет с ума. Что это должно было значить и почему было сказано, актер не вдумывался. Но фраза врезалась в сознание. Михаил Александрович почувствовал, что теряет душевное равновесие, и начал бороться с этой фразой, как с живым существом. Через некоторое время под влиянием находивших на него иногда болезненных ощущений он стал заикаться. Тогда он пошел к Станиславскому и сказал, что играть, по всей вероятности, больше не сможет. Константин Сергеевич выслушал его. Встал с кресла, на котором сидел, и сказал:
— В тот момент, когда я открою окно, вы перестанете заикаться.
Так оно и случилось.
Чехов продолжал играть.
Но бывали у него с Константином Сергеевичем и серьезные столкновения.
Смолоду жил в Михаиле Чехове, по его собственному признанию, этакий позыв к непокорности с сильным уклоном в примитивную мораль. Иногда это прорывалось наружу и, как правило, вело к нежелательным последствиям.
Однажды (то было в первый год его работы в Московском Художественном театре) довелось Чехову вместе со всей тогдашней молодежью театра (Готовцевым, Вахтанговым, Сушкевичем, Чебаном, Алексеем Диким и другими) участвовать в интермедии, которую К. С. Станиславский придумал к своей постановке комедии Мольера «Мнимый больной». Главная задача, которую режиссер поставил перед участниками этой интермедии, заключалась в том, чтобы быть смешными. Причем Станиславский предоставил им полную свободу в отыскании средств, которые могли бы насмешить публику.
Задача увлекла всех. Молодые актеры изощрялись в изобретении смешных приемов речи, в смешных интонациях. Был даже устроен тотализатор. Ставили по двадцать копеек на того, кто в тот день больше всех насмешит публику.
Казалось, все средства были вскоре использованы. Но вот Михаил Чехов изобрел заикающегося доктора. Все, кто ставили на него, выиграли. К следующему спектаклю на Чехова было сделано наибольшее число ставок. Но только он, заикаясь, произнес свои слова, заговорил Алексей Дикий. Да так, что все покатились от хохота. Собрав воедино все, что придумывали до него другие, Дикий заговорил с необыкновенным темпераментом и быстротой, кашляя, чихая и заикаясь. Глядя на него, смеялись и публика в зале, и театральные рабочие за кулисами, и актеры на сцене. Это был воистину рекорд. Аюбои попытки развить и продолжить сделанное Диким можно было ждать уже не иначе как с большой тревогой.
Станиславский запретил продолжать изощряться в том же духе. На том бы все и кончилось, но как раз в это время в молодом Чехове, как видно, и проснулся этот самый бунтарь-моралист.
Он собрал своих новых товарищей и стал внушать им «вольнодумные» идеи. «Стыдно! — говорил он им.
Вы позволяете угнетать себя. Бессловесно носите по сцене какие-то клистиры. Вы, взрослые люди, художники, позволяете обращаться с собой как со статистами в опере. Где ваше человеческое достоинство? Где артистическая гордость? Может быть, у некоторых из вас есть жены и дети. Как же вы можете смотреть им в глаза, не краснея? Качаловы и Москвины играют все, что хотят. Захватывают себе лучшие роли. А вы молчите и трусливо кланяетесь им в коридорах театра. Проснитесь! Протестуйте!»
Вдруг отворилась дверь... Перед Михаилом Чеховым во весь рост неожиданно предстал Константин Сергеевич.
Воцарилась зловещая тишина. Подойдя к молодому актеру, Станиславский долго и молча рассматривал его побелевшее, задранное кверху курносое лицо. Затем грустно, со вздохом сказал: «Вы язва нашего театра», — и не спеша вышел.
Гораздо позже, когда Михаил Александрович уже и сам занял в Художественном театре определенное положение, Станиславский, желая удержать его (в частной жизни) от неправильного поступка, сказал Михаилу Чехову несколько сердечных слов. Тот ответил ему какой-то пошлостью, и Константин Сергеевич с сожалением и легким презрением взглянул на него. Взгляда этого Михаил Чехов никогда забыть не мог.
Когда Станиславский сердился на Чехова, то называл его уже не Мишей, как обычно, но официально — Михаилом Александровичем.
Вернувшись из поездки в Европу, где он насмотрелся на многочисленные свидетельства кризиса утратившего гражданские идеалы буржуазного искусства, на принижение достоинства сцены, на поругание того Театра с большой буквы, в который верил сам и которому служили на Родине все истинные деятели, все труженики искусства, Станиславский писал:
«Когда собирают тысячную толпу, чтобы ее позабавить занимательной фабулой, голой женщиной, режиссерским трюком или большим талантливым актером на маленькие вещи, — это тоже театр. Такой театр... я ненавижу...»
Не верится, чтобы в неоднократных встречах, которые у него происходили в Берлине с Михаилом Чеховым, вопрос этот ни разу не возникал между ними. Михаил Александрович, конечно, знал точку зрения своего учителя.
«"Потоп" есть трагедия...»
Приезд Станиславского невольно напомнил былое — Москву, Первую студию.
Студия была детищем «художественников», их молодостью и надеждой. Константин Сергеевич всячески поощрял молодежь, объединившуюся в Студию, нечасто сам принимал участие в их работе. Но жила и действовала Студия Художественного театра самостоятельно. Ее вдохновителем был Леопольд Антонович Сулержицкий.
В здании, которое занимала Студия, была на третьем этаже небольшая узкая и длинная комната с одним окном и довольно скудной мебелью. Она служила кабинетом, а зачастую и жилыми «апартаментами» Сулера как любовно называли студийцы Леопольда Антоновича. Для каждого из них было радостью войти в эту комнату. Несмотря на свою неприглядную внешность, она благодаря ее хозяину была полна теплой, дружеской атмосферы и казалась даже уютной, не так уж плохо обставленной.
Сулержицкий вспоминается Чехову маленьким, подвижным человечком с бородкой. Глаза смеются, брови печальны. Казалось, войдет он в комнату, и не заметят его. Но Сулер входил, и все, кто знал и не знал его, все оборачивались, все глядели на Леопольда Антоновича, не то ожидая чего-то, не то удивляясь чему-то. И чем скромнее держался Сулержицкий, тем пытливее делались взгляды. И Чехову казалось: вот Сулер маленький, скромный, а вот Сулер большой, удивляющий, значительный и даже (нехотя) имеющий власть над людьми.
И двигались эти два Сулера различно. Маленький, с бородкой кривился набок, конфузливо покачиваясь, втягивая кисти рук в длинные рукава, и слегка дурачился, представлял простака (чтобы спрятаться). Другой, большой Сулер, держал голову гордо (при этом высокий лоб его становился заметен), кисти рук открыто появлялись из-под рукавов, и жесты становились завершенными, красивыми.
Как актер Михаил Чехов придает жестам особое значение. Он знает: человек может говорить красивые слова, а по рукам, по жестам его можно’ увидеть, как он угрожает вам, оскорбляет, толкает вас. Случалось, что Сулержицкий сердился, кричал, угрожал. А жесты выдавали его. Они говорили: «Все вы мне милы, я люблю вас, не бойтесь». Он любил детей и особенно младенцев в люльках. Часами просиживал он над люлькой своего младшего сына и хохотал над чем-то безудержно и до слез. А когда среди взрослых он бывал весел и смеялся, то жесты его, по замечанию Чехова, были жестами младенца в люльке. Ладони раскрыты, руки беспредметно двигаются в воздухе вверх, вниз, кругами. Словом, как в люльке.
Запомнился Михаилу Чехову и Сулер тоскующий.
Вот стоит Леопольд Антонович в своей комнате на третьем этаже Студии. Стоит у стены, плотно прижавшись к ней боком и лбом. Глаза закрыты. Он слегка, еле слышно, напевает неизвестный, вероятно, им самим сочиненный мотив. А рука его легко отбивает такты и ритмы по той же стене. Ритмы меняются, слышны тоскливые ноты, фермата, вот стаккато, легато, вот пауза — долгая, грустная. Вот темпо растет. И видно: Сулер несется куда-то под заунывное мурлыканье песенки. А то, бывало, он, неловко улыбаясь какой-то особенной, доброй улыбкой, прищурит глаза и двигается медленно, словно нехотя. Днями не сходила эта улыбка с его лица. Студийцы знали: Сулер тоскует. Но когда он был весел, сколько строгости умел он напустить на себя! Он был страшен — так думал он, — и это забавляло студийцев.
Завел Сулержицкий книгу, куда каждый из студийцев мог записывать мысли об искусстве вообще и о спектаклях, которые у них шли. Книге этой Леопольд Антонович придавал большое значение. Лежала она на особо устроенной наклонной полочке около двери его кабинета. Сулер часто заглядывал в нее и, хотя наизусть знал все, что в ней было, все же читал каждый раз сосредоточенно и серьезно. В один из дней Чехов, зайдя наверх, на третий этаж, открыл книгу и нарисовал в ней карикатуры на Леопольда Антоновича, на Вахтангова и на себя самого. Нарисовал и побежал вниз. Почти тотчас же сверху раздался крик:
— Кто это сделал? Кто осмелился? Господи, что ж это такое!
В зале внизу шла репетиция. Все приостановились и стали прислушиваться. Голос Сулержицкого приближался. Послышались его быстрые шаги по лестнице. Он кричал все грознее и страшнее. Через соседний зал он уже бежал. Распахнув двери, запыхавшийся и бледный, он прокричал:
— Я должен знать немедленно, сейчас же, кто позволил себе нарисовать что-то там такое, в книге?! Говорите сейчас же, кто?
Чехов встал.
— Это я, Леопольд Антонович.
— Ну так что же, что вы? — выговорил он, не задумываясь и все еще тяжело дыша. — Ну хоть бы и нарисовали, что ж тут такого! — Он широко расставил руки. — Подумаешь, какое преступление! Как идет репетиция? А ну, покажите-ка мне!
И через минуту он уже весь был поглощен работой.
Он мог взять метлу, вспоминает Чехов, и начать подметать в зале, когда там было много студийцев. Это означало, что нехорошо чувствовать себя господами, что всякий труд достоин уважения и, коли собравшиеся здесь действительно любят свою Студию, то не мешает им иногда и пол в ней подмести.
Когда в Студии шла работа над «Сверчком на печи», Сулержицкий (как художественный руководитель, он принимал участие во всех постановках) раскрыл коллективу душу этого произведения. Не речами, не объяснениями, даже не трактовкой пьесы, сделанной по повести Диккенса, но тем, что сам на время работы как бы превращался в Калеба Пламмера, мастера игрушек. Вероятно, сам он не сознавал в себе эту перемену. Она произошла в нем сама собой, правдиво и естественно, как все, что он делал. И одно его присутствие на репетициях создавало ту атмосферу, которая так сильно передавалась актерам-исполнителям. Вот сидит Сулержицкий — Калеб на низеньком трехногом стульчике перед своей слепой дочерью Бертой и поет ей веселую песенку. Слеза бежит по его щеке. Рука сжимает кисть с красной веселой краской, спина согнулась, шея вытянулась, как у испуганного цыпленка. Песенка кончена, слепая Берта смеется, смеется и Сулер — Калеб, украдкой вытирая мокрую щеку. На щеке остается большое пятно от тряпки, пропитанной красками.
В этом спектакле роль Калеба Пламмера предстояло играть Михаилу Чехову. Он смотрит на Сулержицкого, и в душе его растет уверенность, что он сыграет Калеба, что он уже любит этого игрушечного мастера (и Сулера) всем своим существом, всем сердцем.
А вот Сулержицкий уже не Калеб, а фабрикант игрушек Текльтон. Он входит на сцену прищуренным глазом. Злой, мрачный, жестокий, сухой. Произносит две-три фразы и... вдруг слышит сдержанный смех. Он останавливается, ищет глазами смеющегося и находи г Вахтангова, который готовит в спектакле эту роль. Виновато прижимая руки к сердцу, Вахтангов сквозь смех старается оправдаться перед Сулером, объяснить ему что-то. Но Леопольду Антоновичу не нужно объяснений, он и сам хохочет. Долго, закатисто, до слез. Он не умеет изображать злых и отрицательных людей без того, чтобы они не были смешны. Текльтон Сулера смешон в его злобности, но Вахтангов играет Текльтона без юмора. Он у него действительно зол и жесток.
Репетиция закончена, надо уходить, но уйти невозможно. Уже поздно, но Леопольд Антонович предлагает устроить чаепитие. Завтра рано вставать, но этот чай, эта атмосфера зачаровывает всех участников «Сверчка», и они сидят, сидят... Дольше всех остается Михаил Чехов. Он привык не спать по ночам, любит ночные часы; и когда все расходятся, Сулержицкий и он идут в декоративную мастерскую и вырезают, клеят, красят игрушки для бедной калебовскои комнаты. Сулер разложил на полу мешок и старательно выписывает серой краской надпись на шершавой поверхности будущего пальто старика Калеба. Надпись придется как раз на спине, как это сказано у Диккенса. Пальто должно быть старым и грязным. Леопольд Антонович разводит жидкий кофе и «рисует грязь». Он зевает, трет глаза кулаками и снова рисует или делает куклу с удивленными глазами, либо паяца, такого «страшного», что сам он, глядя на него, начинает хохотать.
Совсем иным, чем в период «Сверчка на печи», был Сулержицкий во время работы Первой студии над «Праздником мира» Герхарта Гауптмана. Острый, нервный, проницательный, он вместе с Вахтанговым разбирал запутанную психологию «больных людей», вводя студийцев в атмосферу пьесы. И другим он был во время постановки «Потопа» Бергера. «Потоп» репетировался долго и нелегко давался. Пьеса не имела ясно выраженного стиля и не выявляла индивидуальности автора. Актеры не знали, следует ли играть ее как драму или как комедию. И то и другое было возможно. Решили играть как комедию. Но юмор скоро иссяк, и репетиции проходили бледно, безрадостно. Пришел Леопольд Антонович и заявил:
— «Потоп» есть трагедия. Со всей искренностью и серьезностью мы будем репетировать каждый момент, как глубоко трагический.
Через полчаса на сцене стоял хохот. «Потоп» как трагедия оказался невероятно смешон. Сулержицкий торжествовал — он вернул актерам юмор «Потопа». Скоро пьеса была показана публике.
Студийцы не раз имели возможность убедиться, как глубоко ценил К. С. Станиславский Сулержицкого-художника, как искренне любил он Сулержицкого-человека. А когда сам Станиславский был однажды опасно болен, Леопольд Антонович ночи просиживал у его постели.
Никогда не щадил себя Сулер, если его помощь нужна была другим. Михаил Чехов вспоминает эпизод, относящийся ко времени первой мировой войны. В качестве призывного он, Чехов, должен был пройти медицинское освидетельствование. Выйдя на рассвете из ворот своего дома, чтобы явиться на призывной пункт, он, к удивлению своему, увидел Сулержицкого. Тот ждал его, чтобы проводить до места, где происходило освидетельствование. В казармах Чехова продержали весь день. Из окна ему было видно, как дождь мочил толпу женщин, старых и молодых, ожидавших своих братьев, мужей и сыновей. Медицинский осмотр продолжался до позднего вечера, и Чехов прошел его одним из последних. Когда он вышел, было уже совсем темно.
— Ну как? — услышал он тихий, ласковый голос.
Михаил Чехов обернулся. Подле него стоял Леопольд Антонович Сулержицкий, промокший от проливного дождя. Он весь день ожидал его у призывного пункта...
Вахтангов
Все это было так не похоже на то, что происходило в Вене и в Берлине. И атмосфера в Студии и в театре, и рабочая обстановка, и отношения людей друг с другом. Михаил Александрович не мог этого не чувствовать, не мог не понимать. И чем больше понимал и чувствовал, тем больше уходил в свои воспоминания о прошлом.
Вспомнились гастроли Первой студии Художественного театра на юге. Обычно они останавливались на квартире или в гостинице вместе с Вахтанговым. В свободные от спектаклей вечера оба — Евгений Богратионович и сам он — любили импровизировать различные сценки и образы. Особенно хорошо, признается Михаил Чехов, удавалось это Вахтангову. Бывало, начинает он свою импровизацию без всякого предварительного плана. Импульс его фантазии давало первое случайное действие. Он видел, например, карандаш на столе. Брал его в руку. И то, как он делал это, становилось для него первым звеном в цепи последующих действий. Рука неуклюже брала карандаш, и немедленно лицо его и вся фигура изменялись — это уже стоит простоватый парень. Он смущенно глядит на свою руку, на карандаш. Медленно садится к столу и выводит карандашом инициалы... е е имени. Простоватый парень влюблен. На лице его появляется румянец. Он конфузливо глядит на инициалы. Снова и снова обводит их карандашом, пока инициалы не превращаются в черные, бесформенные кружки с завитками. Глаза парня полны слез, он любит, он счастлив, он тоскует по ней. Карандаш ставит большую точку, и парень идет к зеркалу, висящему на стене. Вся гамма чувств, проходящих в его душе, отражается в глазах, в губах, в каждой черте лица, во всей фигуре Вахтангова... Парень любит, сомневается, надеется, хочет выглядеть лучше, красивее, еще красивее... Слезы текут по его щекам, лицо приближается к зеркалу, он уже не видит себя, он видит ее, только ее одну. И парень в зеркале получает горячий поцелуй от парня перед зеркалом.
Так импровизирует Вахтангов дальше и дальше, пока это его забавляет. Иногда он берет определенную задачу. Пьяный пытается надеть галоши, опустить спичку в бутылку с узеньким горлышком, закурить папиросу или надеть пальто с вывернутым наизнанку рукавом. Изобретательности и юмору Вахтангова в таких шутках нет предела. И не только он, изображающий пьяного, смешон, но и сами предметы, с которыми он играет, — спичка, папироса, галоши, пальто — становятся смешными, оживают в его руках и приобретают что-то вроде индивидуальности. И еще много дней спустя юмор Вахтангова как бы остается на предметах, которые он «оживил», и при взгляде на них становится смешно.
Конечно, бывало всякое. Как-то Михаил Чехов с огорчением заметил, что Вахтангова раздражает его новое страстное увлечение йогами и их способом внутреннего развития. А когда к тому же Михаил Александрович подобрал на улице бродячую собаку и водворил ее в их общую комнату, Вахтангов просто не выдержал — йогов, Шопенгауэра и собаки. Отношения между ними стали портиться. Раздражение Вахтангова передалось и Чехову. Внешне сохраняя дружеские отношения (они даже продолжали играть дуэты на мандолинах), оба все же стали искать случая разрядить атмосферу. И вот сама собой у них образовалась игра в «ученую обезьяну». По утрам «обезьяна» должна была вставать раньше «хозяина», варить кофе, двигаться с обезьяньими ужимками и безропотно сносить все хозяйские прихоти. На другое утро, когда роли менялись, вчерашняя «обезьяна» могла отомстить за все перенесенные обиды. Но вот однажды «ученая обезьяна» взбунтовалась, и между ней и «хозяином» завязался жестокий бой.
Подрались Вахтангов и Чехов не на шутку. Подрались, но не поссорились. После «боя» они заботливо ухаживали друг за другом, залечивали свои раны, и их добрые отношения установились навсегда. Как утверждает Михаил Чехов, Вахтангов стал даже интересоваться йогами и простил ему собаку.
Они любили подшутить друг над другом. Вахтангов не раз говорил Чехову:
— Если бы у тебя не было знаменитого дяди5, ты никогда бы не сделал карьеры в театре.
Он знал, что тема эта выводит из себя Михаила, и потому любил ее особенно. Вахтангову доставило огромное удовольствие, когда он узнал, что после одного из спектаклей «Вишневого сада», где Чехов (в очередь с Иваном Михайловичем Москвиным) играл в Художественном театре Епиходова, какой-то купчик из публики, тыкая в Михаила пальцем, прокричал во весь голос:
— Вот он! Нет, вы подумайте: сам же пишет и сам же играет!
В одном из южных городов Михаил Чехов отстал от труппы. На вокзале он взял извозчика и сказал ему адрес гостиницы, в которой остановились его товарищи.
— Вы не племянник Антона Павловича Чехова будете? — спросил извозчик.
— Да, — ответил Михаил Александрович с изумлением.
Подъехав к гостинице, он хотел расплатиться с извозчиком, но тот сказал, что с племянника Антона Павловича Чехова он денег не возьмет.
Едва Михаил Александрович успел сойти с извозчика, как швейцар гостиницы спросил его:
— Вы не племянник Антона Павловича?
— Я!..
На лестнице стоял улыбающийся лакей. Он задал все тот же сакраментальный вопрос. Потом почтительно провел Михаила Чехова в лучший номер гостиницы. Там сидел Вахтангов и от души смеялся. Все это подстроил он.
На репетициях, раскрывая актерам, с которыми он работал, образы героев пьесы, Евгений Богратионович умел заставить исполнителей жить своим, вахтанговским, миром. Для Михаила Чехова это всегда была радостная необходимость. Ибо собственный его мир при всей оригинальности чеховского художественного мышления почти совпадал с миром Вахтангова. Встречаясь в совместной работе, они удивительно дополняли друг друга, мастер-режиссер и мастер-актер, соперничая в силе и размахе своего таланта и возбуждая друг друга одержимостью творчества.
Исследователи не раз подмечали, как безоговорочно, беззаветно отдавал Михаил Чехов всего себя-актера в распоряжение Вахтангова-режиссера. А Евгений Богратионович, в свою очередь, принимал гибкость актерского материала Чехова, чтобы слиться в едином творчестве с лучшим актером, с которым он встретился на своем пути. Так было в «Потопе» Бергера, так было в «Эрике XIV» Стриндберга.
И не только в своих, но и в «чужих» постановках Вахтангов жил работой Чехова. Он бывал глубоко взволнован и тем, как репетировал Михаил своего Хлестакова, и тем, как он его играл.
Во время первых спектаклей «Ревизора» на сцене Художественного театра Вахтангов даже пропускает свои репетиции и уроки, чтобы только быть на спектаклях Чехова. И не раз в день исполнения «Ревизора» за кулисами МХАТа можно было застать Вахтангова, как бы невзначай проходящего по сцене, чтобы припасть к какой-нибудь щелке в декорациях и, притихнув, снова и снова следить за каждым движением и жестом, вслушиваться в каждую интонацию Чехова — Хлестакова.
И так же пристально, с живым, непотухающим интересом следил за творчеством Евгения Богратионовича Михаил Чехов.
Среди множества миниатюр, которые Вахтангов использовал в своей студийной работе с молодыми актерами, была и «Свадьба» А. П. Чехова. Режиссер разбил занятия на два этапа. Первый — педагогический, когда Евгений Богратионович репетировал «Свадьбу», как реалистическую бытовую комедию. Потом он предложил студийцам новый художественный прием: играя то же самое, они должны были ощущать себя на сцене не людьми, а куклами, которые смотрят, говорят, едят и т. д.
Один из участников репетиции спросил: «4то же, эту кукольность надо донести до зрителя? Он должен воспринимать исполнителей не как людей, а как кукол?» Вахтангов ответил: «Нет. Это только прием. Зрители должны воспринимать персонажей пьесы как живых». Только от исполнителя роли капитана Ревунова не требовалось кукольности.
Стали репетировать, и спектакль получил новое внутреннее содержание. Тогда Вахтангов поставил другую задачу: когда кто-нибудь на сцене начинает говорить, другие действующие лица не должны двигаться. Одни потому, что заинтересовываются тем, о чем говорит их партнер, другие еще почему-либо. Но все должно быть сценически оправданно.
Так и сделали. Эффект получился колоссальный: этот прием удивительно наглядно вскрыл мертвую сущность действующих лиц.
Особенно сильное впечатление оставлял финал, где оплеванный, оскорбленный капитан Ревунов (его играл О. Н. Басов) просит: «Человек, выведи меня!», и никто не трогается с места. Капитан смотрит на пьяные, неподвижные лица и во второй раз кричит: «Человек!»
Вахтангов долго добивался от исполнителя, чтобы этот возглас звучал не как призыв к лакею, а как вопль человека, чувствующего, что он гибнет. Тут возникала пауза. Тихонько играла музыка, и на этом фоне раздавались слова акушерки Змеюкиной:
«Мне душно! Дайте мне атмосферы! Возле вас я задыхаюсь».
На спектакле публика в большинстве своем вначале смеялась. Но чем дальше, тем больше, захваченные силой, с которой на их глазах вскрывалась квинтэссенция изображенного автором мещанства, люди становились все серьезнее. Смех прекратился.
Михаил Чехов, который был среди публики, раньше других понял, почувствовал, осознал происходящее. Наблюдавший за ним воспитанник Студии отметил, что Чехов ни разу на протяжении спектакля не улыбнулся. Потом он сказал Вахтангову:
— Женя, это страшно, что ты сделал.
Евгений Богратионович потрясал его силой и размахом своего таланта.
Неутомимый работник, Евгений Богратионович, кроме Первой студии Художественного театра, много времени, естественно, уделял своей Третьей6 студии. По возвращении из гастролей в Москву, несмотря на развивающуюся у него серьезную болезнь, он с удвоенной энергией продолжал работать. Чехов был убежден: бессознательно чувствуя приближение смерти, Вахтангов спешил. Он как бы не замечал, что пожелтело и осунулось его лицо, что похудели руки и ноги, заострились плечи. Физическую боль он игнорировал и не соглашался ни на отдых, ни даже на уменьшение часов работы. Он ставил «Эрика XIV» и сам собирался играть заглавную роль в очередь с Михаилом Чеховым.
Только страшная слабость и невыносимая боль заставляли его иногда пропускать репетиции. Но стоило боли отпустить его, как Вахтангов снова с полной самоотдачей бросался в работу. Как и Михаил Чехов, он играл Фрезера в «Потопе» и однажды захотел выйти в этой роли вне очереди. Играл великолепно. Его партнеры буквально любовались им. Однако все сознавали, что это последний спектакль Вахтангова.
«Почему он играл так прекрасно в тот вечер? — задавал себе вопрос Михаил Александрович. — Не потому ли, что отстаивал свою жизнь?..»
Додумывать эту мысль было страшно. Но как он ни гнал ее, продолжавший ее вопрос напрашивался сам собой:
«Ну, а сам я? Как я распорядился своей?..»
Приезд Станиславского в германскую столицу только подчеркнул то, в какой творческой пустыне оказался Чехов, как, по сути дела, он здесь одинок.
К тому же был Константин Сергеевич в этот раз, как никогда, обаятелен, хотя по присущей ему рассеянности делал и говорил порой странные вещи. Так однажды пришел к нему Михаил Чехов в то время, когда Станиславский ожидал какого-то графа, которого видеть не имел никакой охоты и интереса. При появлении Чехова лицо Константина Сергеевича выражало по этой причине полную растерянность.
— Садитесь, Миша, — сказал он и, посмотрев на часы, прибавил: — Сейчас еще один дурак придет...
Мейерхольд
Весной тридцатого года на гастроли в Берлин приехал Всеволод Эмильевич Мейерхольд со своим театром. Он показал здесь постановки гоголевского «Ревизора» и «Леса» А. Н. Островского, две новые советские пьесы — в их числе «Командарм-2» Ильи Сельвинского и комедию-гротеск бельгийского драматурга Ф. Кроммелинка «Великодушный рогоносец».
Интерес, проявленный немцами к спектаклям известного советского режиссера, был огромен. В зале, что называется, яблоку негде было упасть. Не спадающему от начала до конца гастролей успеху мейерхольдовского театра не помешали ни брюзжание крайне правой немецкой печати, задетой тем, что советский коллектив явно ориентируется на демократические слои населения, ни откровенно грубые нападки проживавших в Германии белоэмигрантов.
Так называемая «русская пресса» в Берлине из кожи лезла, чтобы сорвать гастроли, заставить Мейерхольда «опустить занавес». Вопила о крахе его эстетических исканий, поносила новый репертуар и интерпретацию старого, классического. Тщилась убедить зрителей, будто у Всеволода Мейерхольда нет в труппе подлинных актеров, а есть лишь дрессированные марионетки. После каждой премьеры твердила об очередном провале советского театра. А берлинцы, игнорируя всю эту возню, шли и шли на спектакли москвичей. Восхищались дарованием Сергея Мартинсона, выступившего в роли Хлестакова. Отмечали яркий, оригинальный талант Игоря Ильинского, с которым имели возможность познакомиться в одной из его наиболее удачных ролей — Аркадия Счастливцева. Подчеркивали артистические достоинства Зинаиды Райх. Нехотя признаваясь в этом, эмигрантская пресса ругала немецких почитателей советского искусства «снобами».
К моменту приезда Мейерхольда в Берлин Михаил Чехов заканчивал работу в широко разрекламированном немецкими продюсерами «русском» фильме «Тройка», где он снимался в одной из центральных ролей. По ходу действия в кинофильме пел цыганский хор, исполнялись русские народные песни и церковные песнопения. Сам Чехов пел в картине колыбельную. По сюжету сценарий воскрешал детство киноискусства. Это был сладенький рассказ с замерзающим в рождественскую ночь мальчиком, с вероломным мужем, соблазненным великосветской львицей, с обманутой женой, уходящей в монастырь, и с неуклонным возмездием, настигающим согрешивших: они гибнут в заледеневшей реке!
И как фальшиво ни было в это время положение Михаила Чехова как художника и гражданина, чье публичное обещание вернуться через год на Родину давно уже было нарушено, он не мог без отвращения отнестись к улюлюканью, которым встретили Мейерхольда эмигранты. Со времени своей театральной юности он знал Мейерхольда. Знал творца Мейерхольда. Знал Мейерхольда в быту.
«Тут вы мне не поверите, если лично не знали его, — утверждает Михаил Чехов в одном наброске творческой биографии Мейерхольда. — Он был способен любить человека. Не абстрактное человечество, но индивидуального, отдельного человека — и вас, и меня, и его... Был нежен, прост, прекрасно-спокоен, смешлив и смешон».
Здесь все было понятно, просто. Сложнее и в какой-то мере загадочнее представлялся Михаилу Александровичу облик Мейерхольда-творца.
Нет ничего труднее, полагает Чехов, как проникнуть в действительное содержание художественного произведения, найти для него новую театральную форму. И нет ничего легче, как, отказавшись от такого проникновения, создать иллюзию новизны. Для этого достаточно разбить, как он выражается, прежние, уже многократно использованные формы и из их осколков сложить новые произвольные фигуры. Игра с осколками ни у кого не вызывает ни страха, ни ревности. Всегда есть надежда сложить фигуру острее, чем это сделал твой предшественник. Допустим, он сделал квадратную рамку к спектаклю, а ты сделаешь рамку с углами. Тот, кто поставит после тебя, сделает две рамки, одну над другой. Или какую-нибудь особую рамку — всю золотую, в изломах. А за внешними декоративными рамками — что? Плоский натурализм.
И вдруг — Мейерхольд!
Он по-новому, считает Чехов, проник в содержание не «Ревизора» только, а дальше: в содержание того мира образов, в который проникал и сам Гоголь. И это вызвало у Мейерхольда желание показать в одном спектакле все, что он увидел в необъятном мире гоголевских образов. «Ревизор» от этого стал расти, вышел из рамок, и в него бурным потоком хлынули и «Мертвые души», и «Женитьба», и «Нос», «Коляска», ужасы «Вия», смех и слезы «Шинели». Новое содержание, новая форма спектакля родились и сложились при этом сами собой.
Чехов много размышлял, пытаясь проникнуть в природу творчества Мейерхольда. И пришел к выводу, что Всеволод Эмильевич, как многие большие и настоящие художники, родился со своей идеей. Потом всю жизнь эту идею выражал в разных формах, снова и снова освещая ее с различных сторон. И поскольку был он не мыслитель, а художник, то видел ее не иначе, как в образах. А образы Мейерхольда, по восприятию Михаила Чехова, — подчас темные, страшные, иногда даже похожие на кошмар.
«Почему? — спрашивает Михаил Александрович, и отвечает: — Потому что Мейерхольд «видел чертей».
Не надо искать в этом высказывании какой-то мистики. Ее тут нет и в помине. В этом убеждаешься, прослеживая его мысль дальше.
Чехов анализирует персонажи мейерхбльдовских постановок. И, в частности, Хлестакова «в черных очках, обезумевшего от собственной лжи, потерявшего чувство времени» (как будто он будет лгать вечно — что выражено медленным темпом монолога). Хлестакова, «потерявшего образ человеческий» (одна нога поднята в воздух — выше головы). Хлестакова, «распространяющего мрак» (затемненная сцена). Чехов пристально всматривается и раздумывает над изображенными Мейерхольдом гоголевскими «рожами» и «кувшинными рылами», зачарованными ложью, подавленными авторитетом «чиновника из Петербурга». И ему становится до конца понятна идея, руководившая Всеволодом Эмильевичем и помогавшая раскрыть «ядовитую, каторжную мерзость» прошлого. Идея, помогавшая режиссеру проникнуть в «под-подсознание» героев пьесы.
И в «Горе от ума» Грибоедова, убежден Чехов, Мейерхольд смог увидеть сплетников-шептунов за длинным-длинным столом, которому нет и не будет конца, пока не погибнет человек — жертва шепота (Чацкий). Смог услышать выстрелы «злые, опасные, там, где в повседневности, на поверхности человек (персонаж пьесы) вежливо улыбается или будто невинно мечтает о чем-то». Видел Мейерхольд насквозь и офицеришку николаевской формации, «бледного, ничтожного, захудалого, в голубом светлом мундирчике». Офицеришка бродит по сцене молча, без смысла, без цели, пустой. И вокруг него пустота. Его не видит никто из участников пьесы.
«Что же? — спрашивает Чехов. — Значит, офицеришка — пустое место в спектакле?..» — «Да, — отвечает он по размышлении, — пустое место. Но не в спектакле, а в человеке».
Тут, по мысли Михаила Александровича, «идея» пустоты и бесцельности, воображенная, уплотненная Мейерхольдом до степени кошмарной реальности.
И еще многое умел увидеть Всеволод Эмильевич, что проходило мимо других режиссерских глаз. А потом выводил на сцену фигуры героев из папье-маше во весь рост. «Ходит грешник по земле, как и все мы, а внутри носит труп, окостенелый, холодный».
Вот это и есть те «черти», которых он видел.
Мейерхольд не выдумывал, считает Чехов. «Он извлекал свои образы из той же области души человека, из которой пытается извлечь их и врач-психиатр». Но врач, «прежде чем показать пациенту извлеченного из него «черта», украшает его, подчищает, дает ему приличное, научно звучащее имя. И пациент, довольный, а иногда и гордый, несет засахаренного «черта» домой и... поправляется». Прием Мейерхольда — другой. Его «черти» пугают, а «пациенты» бегут, проклиная непрошеного психиатра. Мейерхольд, как художник, исполняет в каждом таком случае свою миссию, с которой родился.
«Как назвать эту миссию? — спрашивает Михаил Чехов и отвечает: — Так, пожалуй: вооружить человека в борьбе против зла. Сделать врага видимым, выгнать его из засады! Враг слабеет, когда он раскрыт, обнаружен, когда с ним можно сразиться, как в сказках народных, — «в чистом поле».
Чехов не все безоговорочно приемлет у Мейерхольда. Он считает Всеволода Эмильевича вовсе не спокойным творцом. Он — вулкан. Его «Ревизор» вырвался лавой! И потому на сцене появились как бы два «Ревизора». Один — гениальный, дерзновенный. Он занимает большую часть представления и полон блеска, искрится, переливается множеством красок, деталей, нюансов. В нем содержание и форма слились в одно нераздельное целое. Другой — беден содержанием, груб, примитивен. Он уже не дерзновенный, а просто дерзкий и даже в чем-то уродливый, чем-то похожий на то, что было названо «собиранием осколков». В сценах, построенных по этому принципу (например, в сцене «благословения»), — форма пуста и фальшива. Почему? Потому что в них, говорит Чехов, Мейерхольд в нетерпении начинает выдумывать, подражать Мейерхольду-творцу. И... неудачно. Ибо Мейерхольду нельзя подражать, нельзя усвоить внешних приемов его постановок. Можно пытаться усвоить дух Мейерхольда, можно учиться у него «видеть» по-новому, по-своему ту глубину содержания, которой не видят другие, и тогда новая форма возникнет сама, без усилий рассудка, без «выдумки».
Возвращаясь мыслью к тем дням, когда он встречался с ним еще в Москве, Михаил Чехов неизменно вспоминал страстные выступления Всеволода Эмильевича в защиту большого, проникновенного искусства. Бывало это и перед началом некоторых спектаклей в его театре, и на заседаниях в Народном комиссариате просвещения, куда Мейерхольд приходил обычно в лихо заломленной, хотя и глубоко на уши посаженной красноармейской фуражке. Походка размашистая, независимая. Воротник длинной, до полу, шинели поднят. Из-под фуражки выбивается почти уже седой клок волос. От лица остается один только длинный, горбатый нос. Руки в карманах. Почти карикатура на самого себя. Но как говорил! Как страстно верил в то, что говорил!
В размышлениях Михаила Чехова о Мейерхольде то и дело возникает образ Вахтангова. «Всегда, — пишет он, — было волнительно и трогательно видеть взаимное уважение и любовь этих двух смелых мастеров, так прекрасно дополнявших друг друга». Оба они, констатирует Чехов, всегда ставили перед собой большие цели и оставили после себя большие примеры. Причем их творческое влияние друг на друга несомненно.
Много раз, еще в Москве, Всеволод Эмильевич приглашал Михаила Чехова играть в своем театре. Теперь, в Берлине, когда Чехов навестил его, Мейерхольд возобновил предложение. Зная любовь своего собеседника к «Гамлету», он сказал, что по возвращении домой намерен ставить эту трагедию. Даже начал рассказывать ему план своей постановки. Но когда увидел, что Михаил Александрович слушает его с увлечением, остановился и закончил:
— А вот и не расскажу. Вы украдете. Приезжайте в Москву, поработаем вместе.
Но Чехов не видел тогда для себя путей возврата на Родину. Что же касается Мейерхольда, то он — в Берлине Михаил Александрович имел возможность убедиться в этом со всей непреложностью — не мыслил себя без России. И именно без Советской России.
«В чем же причина?» — продолжал и потом, после их берлинской встречи, размышлять Михаил Чехов. И пришел к выводу, который начисто отвергал его собственную позицию.
В чем же причина? Чехов отвечает:
«Мейерхольд знал театральную Европу. И ему было ясно, что творить так, как хотел он, как повелевал ему его гений, он не мог нигде, кроме России».
Все разговоры Михаила Чехова с Мейерхольдом в ту берлинскую весну происходили в присутствии Зинаиды Райх. Всеволод Эмильевич страстно и преданно любил свою красавицу жену, свидетельствует Михаил Александрович. Ее же преданность советскому строю была и глубокой, и искренней. Даже мысль Чехова о возможности для Мейерхольда остаться работать в Европе вызвала горячий протест с ее стороны. Они часто ссорились, Чехов и Зинаида Райх. Мейерхольд делал вид, что не замечает этого. Из Москвы он писал Михаилу Александровичу и звал к себе. Но Чехов не ехал. Это окончательно рассердило Зинаиду Райх. Она написала ему резкое письмо, назвав его предателем.
С тех пор перестал писать и Мейерхольд.
Проводив Станиславского и Мейерхольда, Михаил Чехов с грустью почувствовал, что разорваны последние нити, связывавшие его с Родиной, и он уже не русский, а немецкий актер.
Русский князь в «Фее»
Все чаще приходилось ему в ту пору надевать фрак, появляясь на званых банкетах и вечерах. Делал это Михаил Александрович с чувством легкого разочарования, но от приглашений не отказывался. Его приятно волновал успех у молодых, очаровательных актрис берлинских театров. Правда, сомневаясь при этом в собственной для них привлекательности, он спросил как-то одну из своих поклонниц, что, собственно, находит она в нем. На что та, потупившись, ответила с наивной откровенностью:
— Но ведь вы человек с таким положением...
Близился двадцатипятилетний юбилей сценической деятельности Макса Рейнхардта. В числе событий, которыми решено было отметить торжественную дату, была его постановка пьесы Унру «Фея». Предстоящая премьера была широчайшим образом разрекламирована. Сообщали, между прочим, о длительности постановки, по условиям немецким, необычайной девять недель! За этот срок изменениям подвергались не только состав исполнителей, но и пьеса. Говорили, что руку к ней приложил сам юбиляр.
Наконец «Фея» увидела свет рампы.
Поднялся занавес, раскрыв, как описывала одна берлинская газета, «изумительную сцену в элегантном дансинге-кабаре». Возникнув на подмостках эстрады, действие перебросилось в публику — в партер, в ложи. Звенел джаз, исполнялись модные песенки. Конферансье объявлял очередные номера. Из зала раздавались аплодисменты. А за столиком, стоящим у самой эстрады, нарастала какая-то драма. Сперва глухая, она достигла полного развития, когда к столику подсела спустившаяся с подмостков певица. Раздался крик, пoднялась суматоха. Один из героев пьесы — русский князь — начал биться в припадке.
И вдруг — стоп! Раздавшийся откуда-то сверху голос останавливает сцену. Оказывается, все это лишь съемка звукового фильма. «Фея» — кинематографическая фирма, ведущая съемки, а князь — подлинный русский князь и эмигрант — по ходу пьесы своим не разыгранным, а настоящим припадком сорвал съемки.
Вращается сцена. Декорации взлетают вверх. Дансинг превращается в киноателье. Суетится парикмахер, к элегантному конферансье приходит скромная подруга, танцовщица, режиссер в отчаянии от героини. А русский князь (его играет Михаил Чехов), развинченный неврастеник, бесцельно слоняется за кулисами, не расставаясь с бутылкой, — его так и прозвали «Коньякович».
Все происходящее чем-то напоминает уже виденное в «Артистах». Возможно даже, что у Макса Рейнхардта была мысль показать на сцене некий вариант этой пьесы. Но «Артисты» с их несложным, наивным сюжетом не претендовали ни на что другое, как быть канвой для постановочных выдумок режиссера. Между тем от «Феи» Унру с ее претензиями на глубину и многозначительность за версту несло неприятной тенденциозностью, в которой тонули и живая мысль, и режиссерские намерения.
Даже настроенные на юбилейный лад благожелательные критики вынуждены были отметить бесконечно вялое, неинтересное развитие событий в пьесе, следовавших за «эффектным» началом. Лишь как крохотные островки в огромном океане выделялись в ней немногие живые и яркие эпизоды. И только изобретательность Рейнхардта и игра актеров как-то спасали положение.
Литературный материал, которым располагал на сей раз Михаил Чехов, был до предела ничтожен. Пришлось снова играть, не столько отправляясь от авторского текста, сколько то, что подсказывали умение наблюдать, подлинная жизнь и фантазия. Чехов и тут остался, конечно, Чеховым. Отзывы о его выступлении в «Фее» отмечают много тонких, глубоко правдивых оттенков и «хорошей подмывающей нервности». Писали, что не в пример прошлым выступлениям, Михаил Чехов уже вполне овладел дикцией по немецкой системе.
Но, может быть, честнее других на этот раз оказалась выходившая в Берлине русская эмигрантская газета «Руль». Уж на что ее редакции хотелось поддержать спектакль, в центре которого стоял русский актер, да еще невозвращенец, но ей со всей ясностью пришлось установить: «Конечно, он (М. А. Чехов) здесь не тот большой артист, каким мы, русские, его знаем».
Отлично отдавал себе отчет в этом и сам Михаил Чехов. В письме на Родину, адресованном старому товарищу по совместной работе во Втором МХАТе — Азарию Михайловичу Азарину, он пишет: «...Дорогой мой! Чем меньше я имею настоящего искусства, тем больше люблю и жду его».
Дальше он разъясняет свою мысль:
«Я вроде как жених, который обручился и которому надо два года ждать свадьбы. В невесте своей (так он определяет искусство, которому служит) я делаю новые и новые открытия в смысле красот и чудес. Например: когда выходишь на сцену, то есть приходишь к невесте, то надо быть самим собой. Иначе в отношения к невесте вкрадется ложь, и пропала будущая семейная жизнь, и ужас ребенку, который родится в лживой семье. Чтобы быть самим собой, на это надо иметь право. И вот это-то самое право и приобретается работой над собой как человеком.
Та или иная роль есть не больше как костюм, в котором являешься к невесте. Но в костюме этом должен быть сам обладатель его, сам жених. Ведь противно же, когда в обществе, например, человек явно щеголяет новым смокингом и, кроме «смокингства», ничего не выражает собой?! Так и на сцене — непереносно, когда за ролью не видно человека».
Еще два фильма
Неудовлетворенный тем, как складываются дела в театре, Михаил Чехов снова обращается к кино. Немецкие продюсеры охотно прибегают к его услугам. На экраны выходит фильм по пьесе Анри Батайля «Шут». В центральной роли — Чехов. Его герой — богатый провинциал, увалень и домосед Дидье. Увлекшись блестящей парижской кокоткой Розет, он преображается. Шутит, паясничает, «валяет дурака», только бы привлечь к себе ее внимание. Только бы вызвать улыбку Розет, расположить к себе. Розет заинтригована. Розет покорена. Но ненадолго. Слишком уж разные натуры она и Дидье. Ее не манит буржуазный уют, который этот человек может ей дать.
Фильм как фильм. Каких много, если бы не Чехов — Дидье, порой бурный, нервно взвинченный, всех потешающий гаер, порой глубоко скорбный, раздавленный искренним огромным чувством, приниженный неудачей человек. И в том, как все это сыграно, виден большой мастер. Фильм отмечен публикой и прессой как подлинно художественное явление.
Но вот новая работа в кино — «Призрак счастья». История директора страхового общества Жака Брамара, оказавшегося за растрату в тюрьме. Там он узнает, что жена его родила дочь.
— Ребенок не твой, — бросает ему сосед по камере.
За это Брамар убивает его. А отбыв наказание, украдкой возвращается домой. Хочет взглянуть на дочь. Проверить.
Встретившая его девочка сообщает, что мамы нет дома. Брамар вглядывается в черты ребячьего лица. Какое-то волнение охватывает при этом девочку. Но у нее свое горе: отлетел парик с головы куклы. Малышка слюнявит пальчик и тщетно пытается прикрепить парик. Как автомат, не сознавая, что делает, Брамар приклеивает кукле волосы. Ребенок в восторге. Тащит его в другую комнату, чтобы он исправил и другие игрушки. Там на стене висит портрет Брамара. Он поражен. Девочка объясняет: «Это наш папа. Он скоро вернется». Бывший каторжник трепетно сличает черты лица на портрете с личиком девочки. Та тоже начинает бегать глазками с портрета на пришельца. И вдруг оба, мужчина и ребенок, бросаются друг другу в объятия...
Отдавая дань актеру с заслуженной репутацией, одна из газет выделяет встречу отца и дочери. Говорит, что в этой картине талант исполнителя (Чехов играл роль Брамара) «с честью выходит из навязанного ему испытания». Может быть. Но и эта газета не смогла не выразить своей досады от того, как бессмысленно растрачивает артист свое большое дарование, соглашаясь играть в фильмах, подобных «Призраку счастья», которые и не назовешь иначе, как «шаблонная мелодраматическая стряпня».
Настоящего искусства приходилось на долю Михаила Чехова все меньше и меньше...
Старые знакомые
Вскоре на гастроли в Берлин приехал хорошо известный Михаилу Чехову по Москве еврейский театр «Габима» (что в переводе значит «Сцена»). Тот самый театр, с которым в первые годы революции по дружескому поручению К. С. Станиславского много и успешно поработал Евгений Богратионович Вахтангов.
Чехов вспоминал, как в трудном двадцатом году, когда у театра не хватило средств, чтобы заказать декорации и костюмы для очередного спектакля, был устроен вечер. Как на этом вечере после показа отрывков из новой постановки и чтения стихов появился в антракте Вахтангов — в переднике, с белым платком через руку «а-ля гарсон», поднося гостям чай. Как вслед за Евгением Богратионович ем то же сделал и он, Чехов. К каждому они подходили с шапкой. Были уже собраны две или три шапки денег, когда Вахтангов, вскочив на скамью, объявил аукцион. «Продавался в рабство» он, Чехов, с жалобным видом стоявший тут же. А на другой день театр смог купить нужные ему для представления материалы...
Нынешнее свое пребывание в германской столице коллектив театра решил использовать для постановки нескольких новых спектаклей. В их числе было «Как вам угодно» (второе название шекспировской «Двенадцатой ночи»). Поставить комедию пригласили Михаила Чехова.
Режиссура не была его стихией. По призванию актер, он еще имел склонность к театральной педагогике. Но руководителем постановки (спектакля, фильма) до сих пор не выступал. Мог, конечно (особенно дома, в России, где стоял во главе театра), но такой возможности просто не искал.
Сейчас, пытаясь утвердить себя, он метался от театра к кино. Снова возвращался в театр, снова играл в кино, но удовлетворения в том, что приходилось делать, не находил. Поэтому он и согласился поставить «Как вам угодно».
«Как вам угодно» — одна из комедий Шекспира, где легкость в игре, в произнесении текста и в психологии действующих лиц — необходимое условие при передаче сущности этой романтической шутки. Все герои ее любят или влюблены, и все — не очень серьезно. Нет среди них ни Ромео, ни Джульетты, ни Дездемоны, ни Отелло. Габимовцы, по замечанию Чехова, народ тяжелый физически и душевно. Язык их малопригоден для любовных монологов Оливии.
Как при таких условиях ставить и играть «Как вам угодно»?
На первой же репетиции Михаил Чехов поставил перед актерами этот вопрос. Габимовцы зашумели, заговорили, замахали руками. Каждый в своем рх тме, в своем темпе.
Один кричал с угрозой: «Если нужна легкость, то нужна легкость!» Другой «по секрету» убеждал Чехова, чтобы он не соглашался ни на что, кроме легкости. Третий, приложив чеховскую пуговицу к своей, говорил с упреком: «Что значит?» (как будто постановщик уговаривал коллектив быть тяжелым). Те, кто стоял близко к Чехову, кричали. Другие — подальше — делали знаки руками и глазами, что легкость, мол, будет! Шум перешел в восторг. Новая задача увлекла всех.
«Мы тут же перецеловались, — рассказывает Михаил Чехов, — и, пошумев еще немного, сели за большой стол. Наступила тишина».
Роли были распределены. Уговорились, что если назначенный исполнитель не оправдает надежд, то режиссер откровенно скажет ему об этом, и актер будет заменен.
С первой же репетиции стали добиваться легкости. Каждый день часть рабочего времени посвящалась специальным упражнениям. Упорно, фанатично и тяжело добивались габимовцы легкости. И добились!
Один из актеров, тяжелый, как из бронзы вылитый человек, обладавший таким низким голосом, что подчас, слушая его, хотелось, как говорит Чехов, откашляться, порхал по сцене легким пузатеньким сэром Тоби и рассыпал шекспировские шуточки, как будто они и написаны на его родном языке. Другой, маленький, но грузный, ходивший на пятках и стаптывавший даже резиновые каблуки, став сэром Эндрю, всех удивил, заставив сделать открытие:
— Смотрите, он на цыпочках!
Хохот, веселье, возгласы!..
С каждым днем шекспировская комедия, преображая участников, росла, вскрывая свой юмор и обаяние.
Декорации, написанные для этой постановки художником В. Н. Масютиным, были легки, смешны и ярки. Их передвигали и меняли во время игры сами участники спектакля, создавая в намеках то дворец Оливии, то веселый кабачок сэра Тоби, то сад, то улицу. Музыка (ее написал Эрнст Тох) тоже была талантливая, с юмором. Лейтмотивом проходила неподражаемая по своей задорности мелодия в темпе полечки. Ее пели все — и хором, и в одиночку, и дома, и на улицах, и за кулисами. Оркестровка, сделанная композитором, была до такой степени смешна, что музыканты не раз прерывали свои репетиции и из оркестра слышался громкий смех.
То один, то другой из участников спектакля порой начинал сомневаться: не слишком ли свободно обращается Михаил Чехов с Шекспиром: он ведь внес в текст целый ряд сокращений. Но сомнения скоро проходили. Они ведь не были «шекспироведами», и постановщику без особого труда удалось убедить их, что автор комедии «Как вам угодно» — самый современный из ныне живущих драматургов.
Репетиции затянулись. Во время одной из них посетили Михаила Чехова его немецкие коллеги. Им хотелось посмотреть, что делают «эти русские» такого, что никак не могут приготовить и одной пьесы, когда сами они за то же время выпускают две или даже три. Коллеги много веселились, когда режиссер снова и снова повторял одну и ту же сцену.
— Чего ты добиваешься от них? — спрашивали они. — Ведь все отлично знают свой текст.
— Многого добиваюсь, — сказал Чехов. — Добиваюсь стиля. Правды. Легкости. Юмора. Театральности.
— Но, мой милый, — возразил ему один из немецких гостей, по-военному закидывая назад голову, — если ты не оставишь их в покое, то убьешь в них ин-диви-ду-альность! (Все, кто пришел с ним, согласно закивали головами.) — Но я понимаю. Ты, как ваш знаменитый Станиславский, хочешь сделать их всех одинаковыми!
Чехова взорвало, но он сдержался. Только спросил:
— А ты видел Московский Художественный театр?
— Нет, но это неважно. Пойдем пить пиво.
Судя по отзывам, комедия «Как вам угодно» в постановке Михаила Чехова была лишена присущего ей (даже в самых веселых местах) легкого налета печали. Своими купюрами и замыслом постановки режиссер снял эту печаль. Исчезла даже финальная меланхолическая песенка шута. Спектакль заканчивался дружным плясом и бросанием в публику пестрых летучек. Шекспировскую комедию Чехов решил как народное представление — буфф, перенеся основные акценты на действия веселой компании, окружающей прелестную Оливию. И в этом плане, по общему мнению, решил ее блестяще.
«Всего десять персонажей, но такое на сцене движение, такой темп, — писал один из критиков, — что кажется, перед вами пронесся вихрь. Причем движение тут не имеет самодовлеющего значения, а глубоко мотивировано, глубоко осмысленно. Веселье легко перебрасывается со сцены в зрительный зал, улыбка не сходит с лиц публики, и большинство ее, хотя и не знает языка актеров, отлично понимает и принимает все, что происходит на сцене».
Спектакль и впрямь имел успех. На премьеру в сопровождении почтительной свиты пришел человек в длинной темно-фиолетовой одежде. На голове его была такого же цвета шапочка. Высокая фигура, красивое лицо и белая борода вызывали представление о жреце древних мистерий. Это был Рабиндранат Тагор.
После нескольких представлений в Берлине спектакль показали в Лондоне. Известный английский драматург Джон О’Кейси отозвался на него тонкой хвалебной статьей.
Восторг и деньги
Работа над спектаклем «Как вам угодно» взбодрила Михаила Чехова. Возможно, это напомнило ему о Москве, о радости большого, подлинного творчества. То же, что приходилось делать каждодневно, что выдавалось за искусство в Берлине тех лет, давно уже понастоящему не волновало. Да и как могло быть иначе?.. Как раз тогда, когда у Чехова шли репетиции шекспировской комедии, берлинское радио задалось целью познакомить слушателей с «Ревизором» Н. В. Гоголя. Купюр в тексте сделали, правда, немного. Зато для «оживления» передачи введены были по ходу действия «звуковые иллюстрации». Но какие!.. Из репродукторов раздавались всхлипы голодного Хлестакова, поедавшего суп, грохот падающей вместе с Бобчинским двери и т. д. Но главный «эффект» заключался даже не в этом, а в музыкально-хоровом оформлении спектакля.
Перед началом действия русский хор исполнял «Эй, ухнем!». Отъезд городничего к Хлестакову и их совместная поездка по городу на дрожках (были введены и такие сцены) сопровождались непрерывным барабанным боем, ревом фанфар и труб. Все третье действие разыгрывали как веселую попойку у городничего, который потчует своего гостя; причем реплики прерывались хлопаньем пробок, гулом тостов, звоном посуды и даже пением цыганских романсов («Эх, распошел», «Шарабанчик» и пр.). Все это не без удали исполнял приглашенный городничим для потехи Хлестакова тот же «русский хор». А в конце спектакля, в тон печальному настроению городничего, хор пел еще несколько меланхолических песен.
Вынужденный жить и трудиться в обстановке заведомой профанации искусства, Михаил Чехов не оставлял мысли о «Гамлете». Постановка шекспировской трагедии представлялась ему первым шагом к осуществлению не вполне, правда, осознанной для него самого мечты о «новом театре». Чтобы сделать этот шаг, он собрал вокруг себя несколько проживавших тогда в Берлине русских актеров и начал с ними репетиции «Гамлета».
Трагедию пришлось сократить, приспособив последовательность эпизодов к тому, чтобы каждый из немногих исполнителей мог появиться несколько раз в различных ролях. К чему это приводило, можно судить по тому, что в сцене «мышеловки» Король и Королева, смотревшие спектакль, в известные моменты покидали незаметно для публики свои троны и появлялись в качестве театральных «короля» и «королевы» в пантомиме. Потом, когда подходило время их реплик, они снова оказывались сидящими на троне.
Где-то в глубине души оставалось у Михаила Чехова ощущение, что не все идет так, как должно идги. Да и сама идея «нового театра» оставалась для него по-прежнему неясной. Каким он должен быть, этот «новый театр»? Во имя чего, во имя каких идеалов надо его строить? Но задумываться — значило перестать действовать. А Михаил Чехов искал действия, которое, как ему казалось, могло бы оправдать его жизнь здесь, его отрыв от родной почвы.
Вопреки очевидности, он искусственно поддерживал в себе веру в «идеальную» публику, которую он найдет здесь. В публику, уставшую от театра, лишенного творческого воображения, больших целей и общественного значения. Настроение его, как волшебное зеркало, коварно отражало и слегка преувеличивало недостатки современного театра.
«Комнатного» «Гамлета», по мысли Чехова, должна была увидеть избранная публика. Она, конечно, придет в восторг. Восторг реализуется в деньги. Деньги дадут ему возможность создать «новый театр». Но когда спектакль состоялся, Чехов вынужден был признать, что «не встретил и следов интереса» к своему «Гамлету».
«Почему же? — спрашивает себя Михаил Чехов. — Почему же публика приходила в восторг, щедро награждая меня аплодисментами, когда я изображал какого-нибудь незатейливого русского эмигранта (князь в «Фее» Унру. — А. М.), и не хотела видеть того же актера в роли Гамлета?»
Он недоумевал и готов был разъезжать по улицам германской столицы в цирковом фургоне, давать на перекрестках представления шекспировской трагедии и произносить страстные, зажигательные речи. Друзья отговорили его.
«Все чаще, — признается Чехов, — вспоминался русский актер и русский зритель». Росла настоящая, глубокая тоска по родному театру.
В письме к одному из знакомых москвичей, который жаловался, что Михаил Александрович подолгу отмалчивается в своем заграничном далеке, Чехов пишет: «Не отвечал, ибо как белка в колесе кручусь.
Целый новый мир открылся. Смешной, интересный, грустный, важный, не важный, премудрый! Номер на номере! Вот это живут!..»
Он уже понимал, что мираж, за которым он погнался, покинув родные места, его обманул. Что разговоры о «свободе творчества», прельстившие его при появлении на Западе, на самом деле лишь пустой звук и за ним ничего не стоит. Но признаться, значило, как ему казалось, едва начавши новый путь, расписаться в собственной несостоятельности. И он заключает свое послание приятелю ничего, в сущности, не говорящими словами. Мол, «обогатился впечатлениями на многие лета!».
Увы, ему самому это не давало ответа на то: что же делать дальше? Он знал лишь, что хотел бы играть в русском театре, на русском языке. И притом не уподобляться прочим эмигрантским лицедеям, довольствующимся преимущественно шутовскими комедиями или чувствительными мелодрамами, в которых душки-герои из бывших белых офицеров блистают воспоминаниями о своих победах над провинциальными гимназистками.
И тогда родилась мысль о Париже.
Что главное в театре?
Надо оставить Германию и Рейнхардта, — решил Михаил Чехов. — Надо бежать. Бежать, пока не поздно».
Он уже видел себя в Париже, в обществе артистов, художников, писателей, которые, как и он, горячо обсуждают идею «нового театра». Ведь идея эта, конечно, и им близка. Они давно ждут ее осуществления и теперь отдадут новому начинанию свои таланты, энергию, знания.
В грезах своих Михаил Александрович видел, как парижская квартира, в которую он поселится, станет центром кипучей культурной жизни. Ему не терпелось. Он спешил. Однако отъезд пришлось отложить на несколько недель. Разыгрался пролог, достойный, как Чехов сам говорит, его последующей парижской жизни.
В Берлин приехал его старый приятель, инженер, уже многие годы живший в Чехословакии. Всю жизнь он был влюблен в театр, обладал горячим и беспокойным темпераментом, принимая его за сценическое дарование, и никогда не упускал случая выступить в качестве актера в любительском театре. Одно время он даже учился на драматических курсах, но потом пошел по военной части. Появившись у Михаила Чехова, приятель начал с того, что неожиданно попросил:
— Голуба ты моя, сделай мне такую милость, проведи ты меня в свою кухоньку и дай мне сварить себе парочку яичек всмятку. А?
Несколько недоумевая, хозяин провел своего гостя в кухню.
— Ты, что же, сам хочешь варить себе яйца?
— Вот то-то и оно, что сам, голуба моя! — ответил гость многозначительно, беря из хозяйских рук яйца и откладывая их в сторону. — Ты не можешь поверить, как я устал от власти, дорогуша моя! Только пальцем шевельнешь — глядь, а уж все готово. Даже яйца себе сварить не могу! Утомительная это вещь — власть.
И, обняв Чехова, он направился обратно в комнаты. Тут он заговорил о главной цели своего визита: об организации театра в Праге. Он говорил о своих связях в правительственных кругах, о дружбе с министрами, о любви президента Масарика к искусству и о том, как легко будет создать новый театр при его собственном влиянии «там, где нужно».
— Но, друг мой, — запротестовал было Михаил Александрович, — я ведь еду в Париж.
— Ни-ни! Не моги в Париж! Рано! — кричал приятель, придя в азарт. — Я сам скажу, когда в Париж, когда что! Как бог свят, прогремит наше новое театральное предприятие на всю Европу. И вот тогда, друже ты мой, тогда, высоко подняв это самое... как его?.. въедешь ты (да и я с тобой) на победной колеснице в этот самый Париж! Ух и натворим же мы делов, серденько мое! — Он закрыл глаза и стал ерошить волосы на голове. — И это тем более, что половина дела уже сделана.
— Как же так? — полюбопытствовал Михаил Александрович.
— А вот как. Скажи мне, голубок, что, по-твоему, главное в театре?
— Я полагаю, актер, — ответил Чехов.
— Ни-ни! — пропел гость из Чехословакии, хитро грозя хозяину пальцем. — Актер дело второе, голуба. Играть — штука нехитрая, если талант налицо. (Он указал себе под ложечку.) Главное и первое в театре — это администратор. То есть человек с головой и хозяйственный. А раз у нас таковой уже имеется, то и половина дела сделана. Понял ты меня, сердце мое?
— Да где же у нас такой администратор?
— Где? А вот он! — Приятель раскинул руки и выставил вперед свою могучую грудь. — За мной как за каменной стеной: спи спокойно, твори, ни о чем не думай и работай!
Он закатился счастливым смехом, горячо обнял Михаила Александровича и долго молча смотрел ему в лицо, подмигивая то одним, то другим глазом.
— Теперь давай карандаш и бумагу, — сказал он. — Составим смету и направим ее прямо господину президенту Масарику. Пиши!
Смета вышла большая, что-то около миллиона чешских крон. Приятель решил, что потребуются «небольшие поправочки».
— Да, я полагаю, — сказал Чехов с облегчением. — Скромность нам не помешает.
— Именно не помешает, — подтвердил чехословацкий гость. — Начнем с другого конца — с итога. А потом подведем под него и статьи.
Сказав это, он вывел красивую пятерку и за нею шесть таких же красивых нулей — пять миллионов.
— Ты ошибся на один ноль, — сказал ему Михаил Александрович. — Но и пятьсот тысяч, по-моему, многовато. Надо бы поскромнее.
— Ты что же, голуба моя, милостыни, что ли, у Масарика просить собираешься?
Выдержав выразительную паузу, он подсел к Чехову, сдвинул в сторону предметы, лежавшие на столе, повернул собеседника вместе со стулом к себе лицом и начал наставительно:
— Да отдаешь ли ты себе отчет, миленок ты мой, кто ты такой? Да как же ты можешь просить меньше пяти миллионов? К лицу ли это тебе? Культурное начинание в европейском масштабе, новая эра в театре! Президент республики, ты, Станиславский...
Он долго наставлял Чехова, что и как должно быть написано. И тот написал.
Папка из архива
Все архивы, в общем, похожи друг на друга. Множество ничем по виду не примечательных папок с делами. Папки потолще, папки потоньше. На каждой вложенной в них бумажке — штемпель, пометки карандашом или чернилами. Когда пришла. Кому направлен запрос. Иногда мнение какого-нибудь человека.
Так выглядит и архив канцелярии президента Чехословацкой республики в Пражском кремле.
Среди дел этого архива есть такие, в которых документы, один к одному, собирались годами. Та папка, что интересовала меня, касалась обстоятельств, ограниченных немногими днями весны тысяча девятьсот тридцатого года. В ней два письма, смета и несколько соображений различных лиц относительно этих писем и сметы. На папке, в которую они положены, имеется шифр — Д 6324/31. Заглянем в нее.
«Глубокоуважаемый господин Президент! — говорится в письме, открывающем папку. — Целый ряд обстоятельств заставил меня полтора года тому назад покинуть Россию. Тем самым моя художественная деятельность была внезапно прервана. Здесь, вне пределов России, я продолжаю театральную работу, которую до сих пор вел на Родине, в Московском Художественном театре, где был актером, режиссером, художественным руководителем и директором этого театра...»
Читатель уже догадался, конечно. Это то самое письмо, которое Михаил Чехов адресовал в Прагу по совету своего энергичного приятеля.
«Вместе со мной, — писал Чехов президенту, — покинули Россию и еще несколько моих коллег артистов. Мне трудно помириться с мыслью о том, что целая отрасль нашей русской театральной культуры должна погибнуть. Все то, что создавали и создали оба Художественных театра в Москве, как бы ни были велики их достижения, еще не есть завершение, не есть органический конец их деятельности. Внешние влияния тенденциозного контроля и узкоагитационные требования цензуры в России лишили художника свободы в области его творческой деятельности. Но еще много сил, много художественных идей, замыслов и культурных стремлений живет в душах тех, кто воспитан и вырос в стенах Художественного театра».
Наивный разговор. Тем более наивный, что Чехов, начавший свой творческий путь еще до Октября, отлично знает, в каком глубочайшем кризисе находился отечественный театр в предреволюционные годы. Какая убогая, обывательская драматургия разливалась в ту пору по русской сцене. Как, отодвигая на задний план серьезные театры, росли и множились тогда театрики «малых форм» — буфф, миниатюр, кабаре.
Ведь даже Малый театр, эта цитадель прогрессивного искусства, воспитатель художественных вкусов многих поколений, в условиях такого всеобщего оскудения стал хиреть. Его реализм вырождался в мелкий бытовизм, в натурализм. Сникало, теряло прелесть актерское мастерство.
А МХТ? Общий для всех театров отрыв репертуара от современности, от того, что волнует массы, чем живет и о чем мечтает народ, захватил и его. От полной жизненной правды драматургии А. П. Чехова и Максима Горького МХТ переходит к таким произведениям, как ирреальная, болезненная по настроению и полностью оторванная от действительности «Драма жизни» К. Гамсуна, к таким малозначительным пьесам, как «Осенние скрипки» И. Сургучева. У известной части публики спектакли эти даже имели успех. Но удовлетворения театру они не принесли и искусству его ничего не дали и дать не могли. Не принесла ни ему, ни зрителям радости и постановка пьесы Д. Мережковского «Будет радость».
Можно ли было после того, как революция свершилась, оставить все это без внимания? Позволить главенствовать в стране пошлому буржуазно-мехцанскому репертуару?
Революция не сделала этой ошибки.
Михаил Александрович жалуется на контроль, на цензуру. Да контроль действительно был установлен. А как иначе могла партия, мог народ оградить театр от той репертуарной накипи, которая буквально душила в предреволюционную пору русскую сцену? И разве не была тогда открыта широкая дорога все реже перед тем появлявшейся на афише классике — Гоголю, Островскому, Тургеневу, Грибоедову, Пушкину, Льву Толстому, Сухово-Кобылину, Антону Чехову и Горькому, Шекспиру и Шиллеру, Мольеру и Бомарше, Лопе де Вега и Ибсену? Реализм их произведений, живой, яркий, близкий и понятный новому, демократическому зрителю, наполнившему театральные залы после установления Советской власти, был принят им восторженно. Часто это приводило как бы ко второму рождению многих ранее шедших спектаклей. Вдохновляло актеров на свершение новых больших художественных задач. Тому примером и спектакли с участием Михаила Чехова.
Вместе с тем интересы идейного, подлинно народного театра, который нарождался на его глазах, театра, стремившегося стать рупором своей эпохи, требовали, чтобы он жил современностью. Жил тем новым, что и вся страна. Ее устремлениями, ее волнениями, ее пульсом, получавшими все большее отражение в новой драматургии. Далекий от понимания реальной, окружающей его жизни, Михаил Чехов этих интересов не разделил.
Теперь он жаловался.
«Обстоятельства, принудившие меня и моих коллег покинуть родину, — пишет он в письме чехословацкому президенту, — заставляют нас переживать мучительный период бездействия, но не лишают нас жажды творческой работы, которая так внезапно была прервана. Я живу мыслью о создании нового театра, о воплощении в нем целого ряда новых художественных идей и образов. Я хочу спасти ту прекрасную театральную культуру, которая некогда вдохновила меня и дала мне, как художнику, жизнь. Я хочу служить дальнейшему процветанию и развитию тех заветов, которые я получил от моего учителя, Константина Сергеевича Станиславского...»
Прошло время, и Михаил Чехов сам горько посмеялся над всем, что говорилось и делалось при его участии в ту злополучную пору. Ну, а тогда? Что мешало ему увидеть во всем поведении и поступках «приятеля» из Праги да и в своих собственных тоже самую обыкновенную, недостойную подлинного художника авантюру? Но Михаил Александрович словно потерял способность оценивать свои и чужие поступки. В письме к президенту — неужели он тогда сам не видел этого? — что ни слово, Чехов юлит, изворачивается, говорит неправду, извращает факты. Кто, кроме него самого, повинен в том, что он «внезапно» прервал свою художественную деятельность в России? Какую такую театральную работу, прерванную на Родине, он продолжал за пределами Советского Союза? Какая такая «целая отрасль» русской театральной культуры гибла с его отъездом за границу? Что мешали ему создать на родине? Образ Юзика? Скайда? Или князя из «Феи»? На это, что ли, он в претензии? Об этом жалуется иноземному президенту, моля помочь «спасти прекрасную театральную культуру»?
А тон письма. Откуда этот елейно-просительный тон взялся вдруг у Михаила Чехова: «Я позволю себе обратиться к Вам, глубокоуважаемый господин Президент, с просьбой о помощи, о том, чтобы Вы, поддержав материально мое начинание, дали мне и всем моим коллегам возможность использовать наши художественные силы, наше творческое горение на служение культурным целям человечества, поскольку это возможно сделать через театр». И далее: «Я позволяю себе беспокоить Вас, господин Президент, этим письмом не только потому, что в нем изложены мои глубочайшие художественные мечты и цели, но и потому, что я считаю себя обязанным приложить все усилия к тому, чтобы творческая энергия моя и моих коллег была направлена на строительство культурной жизни. И я прошу Вашего разрешения, глубокоуважаемый господин Президент, в случае, если Вы отзоветесь на нашу просьбу, перенести нашу подготовительную работу в Чехословацкую республику, под Ваше высокое покровительство... В ожидании Вашего благосклонного ответа я живу радостной надеждой и верой в возможность отдать мои знания и силы с благодарным чувством...» и т. д.
И так пишет великий русский артист... Горько и больно читать!
Неуверенность столь велика, что в подкрепление своего ходатайства Михаил Чехов шлет письмо «от группы актеров» (две подписи), работающих с ним.
При встрече в Берлине пражский приятель сказал, что раз он сам, с его влиянием, понесет письма и смету «куда следует», то Михаилу Александровичу беспокоиться уже нечего. Что его дело — сцена, а то, что «по ту сторону рампы», так тут уж он один. Взяв смету и письма, он уехал в Чехословакию, приказав ждать его и не «рыпаться».
Видимо, он и в самом деле имел кой-какие знакомства. Во всяком случае, из дела Д 6324/31 видно, что чеховское послание попадает в руки писателя Карела Чапека. В папке появляется запись от 10 мая 1930 года, из которой видно, что Чапек — «за».
В двадцать втором, когда Первая студия МХАТа гастролировала в Праге, Чапек был на ее спектаклях. Игра Михаила Чехова потрясла его. В газете «Лидове новины» (она выходила в Брно. — А. М.) Карел Чапек писал: «С искусством, которое мне довелось увидеть в «Эрике XIV», я встретился впервые в жизни. И не могу представить, что когда-нибудь смогу увидеть нечто большее».
Писатель вспоминал триумфальный прием самых выдающихся чешских и русских деятелей сцены, каких он знал, и спрашивал:
«Что же тогда причитается на долю Чехова? Как воздать должное этому тончайшему интеллигентному уму, этому актеру, некрасивому, обладающему щуплым, худым тельцем, который в течение целого вечера, выступая на чужом для нас языке, в чужой для него, иностранной пьесе, смог проявить себя столь необыкновенно, стать из ряда вон выдающимся явлением».
«Как описать его игру?» — спрашивает Карел Чапек и отвечает:
«Даже если бы я изгрыз свое перо, то и тогда не смог бы передать словами быстрых, нетерпеливых движений аристократических рук Чехова — Эрика, его походки, мгновенных поворотов, сверкания сияющих и горячих глаз. Ничего, абсолютно ничего невозможно описать, и мне как-то стыдно за свое писательское ремесло. Писатель никогда не сможет так щедро, целиком, с такой расточительностью отдать себя, как актер, как такой актер».
Тут писатель не может удержаться от шутки:
«Если бы я был актером, — говорит он, — то, наверно, утопился бы после «Эрика». Если бы я был немцем, то, наверно, написал бы какой-нибудь абстрактный трактат об актерском ремесле. Если бы я был русским, то сказал бы себе, что никогда нельзя отчаиваться в жизни, что должно существовать какое-нибудь искупление в этом мире, где есть столько искусства, столько красоты тела и души».
«Именно в этих двух словах — «тело и душа», — считает Карел Чапек, — «заключена тайна изумительного художественного достижения» Михаила Чехова. Ибо «тело» может «одевать» душу, может ее «символизировать», может ее «выражать». Но вот приходит такой Чехов и показывает, что тело (просто и загадочно) — это и есть душа. Сама душа. Отчаивающаяся, пылкая, трепетная, дрожащая душа».
В заключение писатель говорит:
«Я видел много действительно вдохновенных актеров. Их высшим искусством было умение убедить вас, что под оболочкой тела их героев, где-то внутри их, скрыта напряженная душевная жизнь. У Чехова нет никакого «внутри», все обнажено, ничего не скрыто, все импульсивно и резко, с огромной динамикой выливается в игру всего тела, всего этого тонкого и дрожащего клубка нервов. При этом игра его настолько внутренне целомудренна, душевна, настолько не поверхностна, как никакая другая. Скажите мне, как это стало возможным? Я этого не знаю. Этого нельзя ни объяснить, ни скопировать. Но я убежден, что здесь я впервые видел нечто действительно новое и серьезное, действительно современное актерское искусство».
Теперь Чапек объяснял, что Михаил Чехов является племянником писателя Чехова и «в настоящее время он — величайший актер мира». Чапек полагает, что театральное искусство Чехословакии много бы приобрело, если бы Чехов обосновался в Праге.
Машина завертелась. Письмо переходит из рук в руки. Те новые люди, которым дают познакомиться с ним, ничего о Михаиле Чехове не слышали и не знают. Уже 14 мая в новой бумаге, пополнившей папку, он назван сыном писателя «Антонина Чехова». А день спустя кто-то, чья подпись неразборчива, уже пишет: «Я обратил внимание господина президента на письмо русского писателя Чехова, который руководит актерской студией в Берлине... Господин президент подтвердил, что письмо у него, он передаст его нам в бюро, чтобы мы могли достать об этом деле информацию для него, и он в принципе согласен попытаться спасти искусство молодого Чехова для Праги».
Казалось, хорошо. Но вот новая запись от 20 мая тревожно сообщает: «Звонил зав. отд. Ярослав Квапил. Карел Чапек рассказывал ему в разговоре, что, мол, от нас по делу молодого Чехова писалось в Берлин. Оттуда пришел ответ, что нужно было бы позаботиться о тридцати пяти людях, и это потребовало бы расходов в полтора миллиона крон. Из-за этого вся затея, конечно, лопнет. Прошу узнать, вышло ли из бюро что-либо по этому делу, и если нет, кто вел переписку. Возможно, спец. советник Шкрах?»
Ниже, уже другой рукой, 25 мая написано: «Сообщение зав. отд. Квапила совсем перепутано. Никто по делу Чехова в Берлин не писал, так как сам Чехов пишет об этом в письме господину Президенту и представляет смету. Я напомнил об этом зав. отд. д-ру Шишку, который принес письмо Чехова... Д-р Шишк рассказал об этом д-ру Чапеку, тот — зав. отд. Квапилу, и, таким образом, сообщение было перепутано. Смотри заметку к письму».
Ищу и нахожу ее. «Заметка» обстоятельная. Все в ней поставлено на место. Нашего героя не называют ни писателем Антонином Чеховым, ни его сыном, а племянником. Говорится, что он актер. Воспитанник Московского Художественного театра. Что он хороший актер, и его приезд в Прагу небесполезен. «Но смета Чехова, приложенная к письму, — говорится далее в «заметке», — слишком высока, и сумма кажется астрономической. По этой причине нельзя о просьбе этой и думать. Разве что удалось бы найти некоторую сумму для небольшого ансамбля в... семь-восемь человек». Условием для этого автор «заметки» ставит выделение нужных сумм со стороны двух министерств — иностранного и образования.
Кто-то (подпись опять неразборчива) накладывает резолюцию: «Я согласен. 27 мая — 30». Другой (подпись неразборчива) приписывает: «Сообщал. Господин Президент из своих средств оказать помощь не может. Предложение — рекомендовать это сделать министрам д-ру Бенешу и д-ру Дереру. Нужно еще известить, чтобы предполагаемая поездка осуществилась с согласия наших театров и не вызвала недовольства. 27/V».
Есть на том же листке и третье мнение. Оно кратко: «Лучше воздержаться. Это было бы опасно».
Всю эту бумажную возню завершает письмо из канцелярии президента в посольство Чехословацкой республики в Берлине за № 8170/30. Кратко излагая «дело» Михаила Чехова, «директора Московского Художественного театра в Берлине», оно заканчивается словами: «Просим, чтобы директору Чехову было сообщено, что господин Президент его письмо получил и благодарен за него. План директора Чехова был подробно обдуман, но довольно высокая смета поездки и позиция, занимаемая по отношению к домашним театрам, мешают господину Президенту лично предоставить его группе пребывать в Чехословакии. Представится ли возможность соответствующим министерствам предпринять что-нибудь в этом деле, зависит от наличия средств и дальнейшего развития и состояния домашних театров, которые в последнее время часто должны преодолевать трудности финансового и экономического характера. В Праге. 30 июня 1930 г.»
Из посольства Михаил Чехов получил от имени президента, как он сам записал в своем дневнике, «очень вежливый отказ». Сгоряча Михаил Александрович написал своему пражскому дружку возмущенное письмо. Ответ пришел, полный любовных излияний, дружеских чувств и даже туманных намеков на будущие возможности и связи.
Письмо было написано разноцветными карандашами со множеством восклицательных и вопросительных знаков, с многоточиями и выведенными на полях подчеркнутыми фразами, вроде: «Друже, не грусти!», «Голуба, вперед!», «Мы еще покажем...» и т. п.
Не дочитав до конца, Михаил Чехов бросил письмо.
Вдохновение и путь к нему
Уже несколько лет старался он привести в порядок свой театральный опыт. Систематизировать наблюдения. Разрешить ряд занимавших его проблем. Выступление в роли Скайда в «Артистах» помогло ему сформулировать некоторые выводы, к которым он пришел.
В человеке одаренном, полагает Чехов, постоянно происходит борьба между его высшим и низшим «я». Каждое из них ищет господства над другим. В обыденной жизни победителем часто оказывается низшее, со всем его честолюбием и эгоистическим волнением. Но в творческом процессе побеждает (должно побеждать) другое «я». Низшее вообще склонно отрицать существование высшего и приписывать себе его силы, способности и качества. Напротив, высшее признает существование своего двойника, но отрицает его рабовладельческие и собственнические инстинкты. Оно хочет сделать его проводником своих идей, чувств и сил. Пока низшее говорит «я», высшее принуждено молчать. Но оно может освободиться от него, оставить его, выйти (частично) из него. И тогда оставленное «я», в свою очередь, умолкает, замирает. Наступает род раздвоения сознания: высшее становитсявдохновителем, низшее — проводником, исполнителем.
Интересно, говорит Михаил Чехов, что высшее само в это время также становится проводником. Оно не замыкается эгоистично в себе и готово признать истинный источник творческих идей в сферах более высоких. Оно со стороны наблюдает и направляет низшее, руководит им и «со-чувствует» воображаемым страданиям и радостям героя. Это выражается в том, что актер на сцене страдает, плачет и вместе с тем лично остается не затронутым этими переживаниями, считает Чехов. Только плохие актеры гордятся тем, что им иногда удается так «пережить» на сцене, что они «себя не помнят». Такие актеры ломают мебель, вывихивают руки партнерам и душат своих любовниц во время игры. «Пережйвающие» актрисы часто впадают в истерику за кулисами. И как они устают после спектакля!
Актеры же, играющие с раздвоенным сознанием, с «сочувствием» к страданиям и радостям своего героя, не вкладывая в это своих личных чувств, не устают. Наоборот, они испытывают прилив новых сил, оздоровляющих и укрепляющих.
Подтверждение этим мыслям Михаил Чехов находит не только в своем опыте, но и наблюдая игру Ф. И. Шаляпина. «Я всегда подозревал, — пишет он в своем дневнике, — что в лучшие свои минуты Шаляпин жил одновременно в двух различных сознаниях и играл, не насилуя своих личных чувств».
Будучи в дружбе с сыном Шаляпина, Федором Федоровичем, Михаил Чехов часто и подолгу беседовал с ним о его отце. Федор Федорович хорошо знал своего отца как художника и глубоко проникал в его творческую лабораторию.
— Мой отец был умный актер, — говорил он Михаилу Александровичу. И с улыбкой прибавил: — Умный и хитрый! В каком бы приподнятом творческом состоянии он ни был, он никогда не терял контроля над собой и всегда следил за своей игрой как бы со стороны. «В том-то и дело, объяснял он мне, что Кихот у меня играет, а Шаляпин ходит за ним и смотрит, как он играет». Отец всегда отличал себя от того человека, которого играл на сцене. Он и брата моего Борю (потом художника Б. Ф. Шаляпина. — А. М.), когда ему было семь лет, спрашивал, когда тот плакал после представления «Дон-Кихота»:
— Тебе кого жаль, отца или Кихота?
На тему о «со-чувствии» Федор Федорович передал Михаилу Чехову интересные замечания своего отца.
— Я могу, как зритель в зале, плакать, что умирает Дон-Кихот, — говаривал Шаляпин. — Но и играя, я могу также плакать, что он умирает...
В опере Глинки у меня не Сусанин плачет. Это я плачу. Потому что мне жаль его. Особенно когда он поет «Прощайте, дети». Но слезы приходится иногда и сдерживать — мешают петь.
Однажды, будучи еще молодым, рассказывает Федор Федорович, его отец где-то в провинции (происходило это, как удалось установить, в Кишиневе. — А. М.) слушал оперу Леонкавалло «Паяцы». Партию Канио пел в тот вечер какой-то заезжий гастролер. Исполняя арию «Смейся, паяц», певец плакал настоящими слезами. Шаляпину это даже понравилось. Но каково было его удивление, когда после окончания акта он зашел за кулисы и увидел, что и там тенор продолжал безудержно плакать.
— Не надо так переживать, — сказал Шаляпин. — Это неверно и непрофессионально. Этак через два сезона и чахоткой заболеть можно!
Сам он, когда плакал на сцене, то плакал от сочувствия к образу, а себя никогда не доводил до истерики вроде исполнителя партии Канио в Кишиневе. Он говорил:
— Я об-плакиваю свои роли.
Но слез этих никто не видел. Шаляпин стеснялся их, скрывал. Это было его интимное дело, не напоказ.
Он и дочери своей, Ирине, артистке Второй студии Московского Художественного театра, говорил: «Не забывай ни на минуту, что ты на сцене. Что публика видит твой каждый жест, каждое движение. Развивай в себе способность контролировать себя».
— Но это же будет мешать мне, — возражала Ирина Федоровна.
— Наоборот. Это будет тебе помогать. Ты ничего не будешь делать бессознательно. «Бессознательное» творчество никуда не годится, актер должен быть мастером, создавать образ, ежеминутно помня, что он на сцене. Нести правду через актера-творца, а не через актера-человека, вот это и называется искусством... И плакать на сцене не надо, это крайнее нарушение художественной меры. Надо, чтобы публика плакала оттого, что увидела твои слезы, которых, в сущности, нет. Вот так надо обмануть публику, тогда это твое мастерство. А твои личные слезы никому не интересны. Да и грим и костюм испортишь. Ни к чему это!
Федор Иванович говорил, что ни на секунду не теряет на сцене способность и привычку контролировать свои действия. Правильно ли стоит нога? В гармонии ли положение тела с тем переживанием, которое он изображает? Он не понимал, как это актер в пылу вдохновения может выхватить кинжал и ранить своего партнера.
«Когда даешь на сцене пощечину, считал он, надо, конечно, чтобы публика ахнула, но партнеру не должно быть больно. А если в самом деле шибко ударить, партнер упадет, и дирекции придется на четверть часа опустить занавес, выслать распорядителя и извиниться:
— Простите, господа, мы вынуждены прекратить спектакль, — актер вошел в роль».
Хотя все это и относилось к проблемам актерской техники, имело, по мысли Михаила Чехова, прямое касательство к давно занимавшему его вопросу о вдохновении и пути к нему. Притом он верил, что техника в искусстве способна иной раз как-то притушить искру вдохновения у посредственного художника, но она же раздувает эту искру в великое и неугасимое пламя у подлинного мастера. Правда, чтобы раздуть ее, тоже нужна была благоприятная почва.
Ни Вена, ни Берлин не оказались такой почвой. Михаил Александрович бесповоротно решил покинуть немецкую землю и спешно стал готовиться к отъезду.
Вверх по лестнице, ведущей вниз
Париж. Париж... Ему казалось, что и впрямь, как где-то он вычитал, есть в этом слове что-то шелковое, нарядное, что-то праздничное, для танца созданное. И что-то блестящее, шумящее, похожее на шампанское... Я еду в Париж. Мы приехали в Париж. Мы станем жить в Париже... Но то, что он увидел с первых же дней, не было похоже ни на шелк, ни на шампанское. И не было в этом ничего праздничного.
Явившись в Париж, он прямо с вокзала отправился искать квартиру. Непременно дорогую и непременно в центре города... К вечеру следующего дня он распаковывал чемоданы в дешевой квартире, на окраине. Квартира была в уровень с тротуаром, и всякий проходивший мимо окон невольно заглядывал в комнату.
«Неважно! — утешал себя новый парижанин. — Квартиру всегда можно переменить».
На новом месте он решил не повторять ошибки, с которой начал, явившись на Запад. Никаких ангажементов на сей раз он не искал. Ничьей иноязычной техники изучать больше не собирался. Хватит! Будет! Он решил, что создаст свой театр. И это будет не немецкий и не французский. Вообще не Западный. А тот, в котором он сам воспитывался. В который верил теперь больше, чем когда бы то ни было, то есть Русский театр.
Как прежде ему не давала покоя дума о Гамлете, так парижская жизнь началась в мечты о Дон-Кихоте.
Об этой роли он думал давно, с первых лет своей театральной работы. Еще тогда, признавался он, «мне являлся дон-Кихот и скромно заявлял о себе словами: «Меня надо сыграть...» Чехов, волнуясь, отвечал ему: «...Некому!..» Он даже не спрашивал, почему герой Сервантеса явился к нему. Михаил Александрович знал: тот ошибся. И, отогнав от себя дон-Кихота, спокойно, объективно и холодно думал об образе дон-Кихота. Думал, как уверяет сам Чехов... вообще. Позднее о своих раздумьях он весьма своеобразно поведал в печати.
«Я понимал, сознавал, как он (дон-Кихот) глубок и неповторим, многогранен и мне недоступен, — писал Чехов. — Я был спокоен: он и я — мы не встретимся.
Так прошло много лет. Но, увы, дон-Кихот продолжал ошибаться и снова и снова являлся ко мне, но уже со словами: «Тебе надо сыграть...» Я пугался: «Кого?» Он исчезал, не давая прямого ответа. И визиты его повторялись. Повторялись намеки.
Я стал его ждать, наконец, с тем чтобы, когда он явится снова, объяснить ему, что я н е могувоплотить в себе всех тех таинственных, полных страданья глубин его духа. Чтоб объяснить, что нет у меня ни тех средств, ни тех сил, какие нужны для его воплощенья. О, как я готовился в бой с ним вступить и доказать ему точно и тонко, в деталях, нюансах, оттенках, вскрыв всю глубину существа его: кто — он и кто — я!
Он явился, и я стал ему доказывать. Долго мы бились. Я был вдохновлен этим боем. Я с ловкостью, свойственной людям в желанной борьбе, проникал в него глубже и глубже... Я ему рисовал его самого. Я ему говорил: «Вот каков ты!.. Вот что нужно иметь человеку, вот что нужно ему пережить, чтоб тебя воплотить!» Я его пронизал своей мыслью, и чувством, и волей! Я кончил. Я свободен. Он больше ко мне не придет.
...Он стоял предо мной... как победитель! Довольный и сильный! Весь пронизанный стрелами мыслей и чувств моих, волей моей укрепленный. Он говорил: «Посмотри на меня». Я взглянул. Он указал на себя и властно сказал: «Теперь это — ты! Теперь это — мы!» Я растерялся, смутился, искал, что ответить. Но он продолжал беспощадно, с упорством, рыцарю свойственным: «Слушай ритмы мои!» И он явил себя в ритмах, фигуры которых рождались друг в друге, сливаясь в одном, всеобъемлющем ритме. «Слушай меня, как мелодию». Я слушал мелодию. «Я — как з в у к». «Я — какпластика».
Так закончился бой с дон-Кихотом. Он, всегда пораженья терпевший, он — победил. Я уже принял судьбу его, я — поражен. И в своей неудачной борьбе, в пораженьи, я стал дон-Кихотом.
Но являлся ко мне и некто еще... Это был дон-Кихот Ф. И. Шаляпина. Он вопрошал меня грозно: «Ты, ты осмелишься?» Я перед ним оправдывался. Глубоко преклонившись, я сказал: «Дон-Кихот многогранен, как брильянт. Он как радуга. Позволь мне коснуться других его граней, не тех, что в тебе сочетались волшебно! Позволь!» Он сказал: «Позволяю!» Мы расстались друзьями. Впрочем, нет, не «друзьями»... Мы расстались: он — как учитель вдохновенья, а я — как ученик его».
Так писал Михаил Чехов еще в двадцать шестом о своей мечте. И она уже готова была претвориться в жизнь, мечта его. Второй МХАТ, который он тогда возглавлял, чутко прислушивался к художественным намерениям своего первого актера. Уже была определена режиссура спектакля — В. Н. Татаринов и В. С. Смышляев. Роль Санчо согласился играть А. М. Азарин. Уже началась работа. Репетиции шли и в театре, и на квартире у Чехова.
Отъезд за границу не дал довершить их до конца. Теперь, потерпев фиаско в Вене и Берлине, Михаил Чехов искал реванша. Тут он снова вспомнил о своем дон-Кихоте. Но теперь Чехов осторожен и решает начать в Париже с «разведки боем». С группой подобранных им сотрудников он выступает в зале Гаво, где показывает публике серию миниатюр-инсценировок по рассказам Антона Павловича Чехова. Отзывы на представление не оставляют желать лучшего.
Разных, непохожих людей представил Михаил Александрович в тот вечер публике. И одним из них (в «Торжестве победителя») был отставной коллежский регистратор. Уже в его сосредоточенном лице, в тихой походке, в том, как он садился на стул, в той паузе, во время которой этот человек оглядывал концертный зал, приковывая общее внимание к тому, что он намерен рассказать, уже в этом было многое, объяснявшее, почему Михаил Чехов мог решиться на такой спектакль-концерт без декораций, без особых аксессуаров. Актер заговорил, и за спиной мелкого лебезящего чиновника, которого он изображал, вставала тень прежней, царской России. Михаил Чехов вел рассказ, и его мелкий чиновник-подхалим нет-нет да и преобразится вдруг в величественную фигуру «его превосходительства», торжествующего свою победу над бывшим своим начальником.
Большому актеру не так уж трудно играть одновременно две роли. Но особое искусство Михаила Чехова заключалось в том, что роль генерала играл все тот же жалкий чинуша. И нужно было видеть, как торжествовала душа «его превосходительства» в дрожащей душонке маленького чиновника. Сам же Чехов был как бы за ними — на третьем плане, откуда явственно слышался горький смех автора.
Все это было удивительно сложно и в то же время доступно самому широкому зрителю.
Второй образ, показанный в тот вечер Михаилом Чеховым (в «Утопленнике») — пропойца, «блаародный чек». Тип на русской сцене не новый, так что не сам он интересен. Интересно было, как поведет актер эту столь знакомую «партию». А он, как всегда, повел ее неожиданно. Построил на слове. Точнее — на той якобы второстепенной роли, которую отвел слову. Настоящее, самое главное слово — то, в котором зерно смеха, Чехов как бы заволакивал. Слово это пряталось, как земляника под листок. Иногда оно до такой степени было скромно, что о нем почти приходилось «догадываться». И такая сдержанность в выборе приема воздействия на аудиторию оказалась много сильнее, чем комическое настаивание. Слово отражало настроение, которое, в свою очередь, разработано было с такой текучестью, с такими переходами из одного состояния в другое, что не оставалось ни минуты без внутреннего психологического содержания.
Большой интерес представляла и третья роль, с которой выступил Михаил Чехов. Роль студента Гвоздикова.
«Трудно передать, — свидетельствует зритель, присутствовавший в тот вечер в зале Гаво, — до какой степени искусно была показана Чеховым, скажем, постепенность опьянения студента. И до чего находчиво использовались актером и вся более чем скромная обстановка, и скупая бутафория. Фуражка, пуговицы тужурки, стул, стол, бутылка пива, любовное письмо на синей бумажке, чашка вместо стакана, брызги и лужи пивной влаги — все участвует, все подвертывается вовремя и способствует, так сказать, оркестровке данного момента. И с какой удивительной ритмичностью в сочетании физического движения с движением внутренним! И с какой силой показа убогого мира нищенски-глубинных переживаний, где чередуются ничтожество и величие, сосуществуют смех и горе!»
Во всех сценках, которые показал в тот раз Михаил Чехов, обращала на себя внимание внутренняя значительность некоторых его остановок, красноречие его пауз. Не один он среди актеров любит к ним прибегать. Но как зачастую заполняются эти паузы в театрах? Закуриванием, бросанием окурков, проведением всей пятерней по взъерошенным волосам, каким-нибудь вздохом или гляденьем в окно. И получаются, собственно, не паузы — психологические, драматические, мимические, — а скорее бесцельные остановки, прорехи в действии. У Михаила Чехова все эти мгновения до предела наполнены. У него та настоящая психологическая пауза, которая либо живет смыслом предыдущего слова, либо предсказывает будущее слово. Пауза, которая отличает личность от безличия, темперамент от безразличия, художественное слово от простой грамотности. Так было, по общему свидетельству, и на сей раз.
Искусствовед Сергей Волконский после спектакля в зале Гаво пишет в «Последних новостях» статью, где вполне закономерно говорит о Михаиле Чехове, как об огромном явлении современного театра. Отмечает его «особенную стать», подчеркивает, что Чехова-актера «аршином общим не измерить». Критик признает: «Он заставил нас увидеть в Чехове-авторе глубины и тонкости, сочетание трагического комизма, которых мы, «простые смертные», и не подозревали».
Французов на спектакле, правда, не было. Или почти не было. Но зал Гаво был полон, успех несомненен, и Михаил Александрович решил, что надо закрепить его. Он снимает помещение театра «Ателье» и начи нает репетировать с актерами несколько, так сказать, «полнометражных» спектаклей.
В театре «Ателье» идут «Потоп», «Гамлет», «Эрик XIV», снова чеховские миниатюры и «Двенадцатая ночь». Газеты «русского Парижа» всячески поддерживают новое театральное начинание, даже пробуют назвать его событием французской художественной жизни.
Один из критиков-эмигрантов откликается на премьеру «Потопа» похвальной статьей. Он отмечает, что Фрезер в спектакле, чем больше зрители знакомятся с ним, тем больше хотят знать — «и Чехов не устает разжигать любопытство публики именно тем, что на каждом шагу его удовлетворяет». Михаил Чехов, пишет он, играет каждым словом и каждым жестом. «И тем, как руки его бестолково хватаются за предметы, и тем, как трясется пенсне на его носу, и как гордо торчат его усики — воспоминание о былом благополучии, и как жалко мерцает легкая лысинка — след жгучих страданий маленькой души, и тем, как носит он свой пиджачок, на котором, кажется, пуговицы, карманы — и те играют с Чеховым вместе. И по мере того, как разматывается этот бесконечный клубок, который так хорошо разработан, что кажется импровизацией, — все ближе становится нам этот Фрезер, наглый и трусливый, обозленный и нежный, хитрый и простодушный». Автор считает, что полнотой своего бытия Чехов — Фрезер «убеждает и становится мил своей малостью, жалкостью, пусть даже подловатостью, за которой опять-таки есть и благородство, которому вот только обстоятельства не дают сказаться».
Как мы видим, в этот первый период «завоевания» Парижа у Михаила Чехова еще в полной мере сохранился, что называется, «порох в пороховницах». Вырвавшись из плена только сковывающей его иноязычной техники, он как бы вновь расправляет крылья, удивляет, поражает, заставляет восторгаться своим искусством.
С похвалой отзываются выходящие в Париже русские газеты и о «Двенадцатой ночи». Зато «Гамлет» вопреки ожиданиям вызывает споры. Тот же критик довольно резко отзывается о спектакле, чем больно задевает Михаила Чехова. Позднее он запишет в дневнике, что этот человек «со страстью и жестокостью» преследовал его парижские начинания. Но главное, что не могло не беспокоить Михаила Александровича, заключалось в другом: за пределы русской эмигрантской колонии интерес к его театру вообще не выходил. Это со всей определенностью выявилось с самого же начала.
Генеральный секретарь театра «Ателье», желая как-то помочь Чехову, выступил с открытым письмом во французской театральной газете «Комедия». Обращаясь в нем к председателю синдиката театральных критиков Полю Джинисти, он писал: «Считаю своим долгом обратить ваше внимание на неприятное положение, в котором может очутиться французская критика, если она и впредь будет продолжать с совершенно непонятным, но единодушным безразличием относиться к большим художникам театра, выступающим в настоящее время на нашей сцене». И т. д. и т. п.
Протест не возымел действия. В Париже тридцатых годов, где один за другим, вытесняемые опереттой и мюзик-холлом, закрывались драматические театры, ни Шекспир, ни Стриндберг, ни Михаил Чехов с его так и неосуществленным «Дон-Кихотом» и затеями очень углубленного, проникновенного, трепетного и возвышенного театра, да еще играющего на русском языке, не вызвали интереса. Событием французской художественной жизни вопреки предсказаниям доброжелателен они не стали и, по-видимому, стать не могли. Понял это Михаил Чехов не сразу...
А пока на рабочем столе у него появились бланки, печати, множество почтовых марок и особые папки для входящей и исходящей корреспонденции. К ним была приставлена секретарша. С нею вместе Михаил Александрович начал ежедневные посещения французских театров. На каждом просмотренном спектакле в душе его вспыхивала новая надежда.
«Здесь все так поверхностно, так легкомысленно», — говорил он себе.
Один Жуве7 произвел на него чарующее впечатление: он имел право на легкость, у него она не превращалась в легкомыслие.
«Новый театр нужен, — убеждал себя Чехов. — Они сами поймут и оценят глубину и силу, которая свойственна нашему русскому театру. Ее-то им и не хватает».
Это побуждало его к спешке. Он много говорил, торопил окружающих и, подобно магниту, как сам потом понял, притягивал к себе ненужных и бесполезных людей.
Поиски опоры
Вскоре подле Михаила Чехова появились два «представителя русской эмиграции». Они, конечно, близко «приняли к сердцу» идею создания русского театра за рубежом. Особенную активность проявила полная пожилая дама с детским взором. Она восхищалась, верила, восклицала, поддерживала в организаторе театра «святой огонь», подносила платок к глазам, целовала Чехова и потом подолгу сидела в креслах, мечтательно улыбаясь. Другим «представителем» был черный человек с неподвижными, широко раскрытыми глазами и острыми плечами. Был он беспокойный, шумливый. Отрекомендовался другом Чарли Чаплина.
— Чарли мы возьмем за бока, — сказал он. — Пусть, сукин сын, работает.
Черный человек часто хватался за телефонную трубку, вызывал кого-то к аппарату, но этот «кто-то» всегда, «черт возьми», оказывался в отъезде. Тогда представитель русской эмиграции вдруг хватал шляпу и палку, уезжал ненадолго («по нашему делу», — говорил он Михаилу Александровичу), быстро возвращался, заявлял «готово!», снова хватал телефонную трубку и в сотый раз спрашивал Чехова: что же, что, собственно, ему нужно, как художнику? При этом он уговаривал его ни о чем, кроме искусства, не думать, предоставив все остальное ему. Чем-то он напоминал Чехову его приятеля из Чехословакии на победной колеснице. Но и на сей раз честолюбивые иллюзии, которые находили питательную почву в этих разговорах, мешали до конца понять, что и тут перед ним просто болтун и авантюрист. Вместо того чтобы прогнать, Михаил Александрович искренне благодарит своего нового помощника. А тот носится по комнатам его квартиры, заглядывает во все углы, стучит палкой по мебели и подоконникам или стоит в дверях, мешая ходить.
Для рекламных статей и интервью, по настоянию секретарши, были приглашены журналисты. Их статьи в газетах привлекли внимание группы любителей театрального искусства. Они явились к Михаилу Александровичу Чехову с предложением своих услуг. На сцене они его не видели и «благоговели» перед ним понаслышке. Один из них выразил желание нести секретарскую работу. Затруднений со стороны прежней секретарши не встретилось. Мысли ее были заняты другим: она глядела на своего патрона слишком преданно и нежно. За это он водил ее в кафе.
Приступив к исполнению своих обязанностей, новый секретарь начал с того, что сменил благоговейное выражение лица на озабоченное. На следующее же утро после занятия им должности он разбудил Михаила Александровича стуком в окно: «Театр едет в Америку! Вставайте! Поздравляю!» Вслед за тем он повез Чехова на свидание с миллионером, только что прибывшим из Соединенных Штатов. Отсутствие репертуара в только еще создававшемся театре секретаря не смущало. Но, по-видимому, и Михаила Чехова тоже.
Приезжий принял их с недоумением. Безразлично выслушал речь секретаря о таланте и всемирной известности руководителя нового театрального начинания и, поднявшись, холодно заявил, что театром не интересуется. Секретарь вспыхнул, наговорил ему дерзостей и пулей вылетел из гостиницы, забыв своего патрона в чужом номере. У подъезда он «пересказал» ему, что происходило только что в апартаментах янки и чему Михаил Александрович сам был свидетелем несколько минут назад. Выходило так, будто на его спокойные и убедительные слова «этот мерзавец-американец разорался и чуть не спустил обоих с лестницы». В изгаженном настроении Чехов зашел с секретарем посидеть в кафе. В некотором отдалении от их столика он увидел человека со скучным, маловыразительным лицом и большим подбородком. Человек показался знакомым, но Михаил Александрович никак не мог вспомнить, где его видел. И вдруг сердце забилось: «Ведь это же Грок!»
Он был счастлив увидеть в жизни несравненного клоуна, которого отлично знал по берлинской эстраде. Как он покорял всех своими чудесными интонациями философа-скептика! Как очаровывал музыкальными шутками на разнообразных инструментах и меланхолическими буффонадами, заставлявшими даже сумрачных и недоверчивых жителей немецкой столицы забывать о житейских невзгодах тех трудных лет и хохотать, хохотать до упаду!
Актер впился глазами в гениального клоуна, перед талантом которого преклонялся. Но тут секретарь решил проявить инициативу. Подбежал к Гроку и, указывая на Михаила Чехова, что-то сказал ему. Грок вскочил, застегнул на ходу пуговицы пиджака и быстро направился к Михаилу Александровичу. Потом почтительно усадил его за свой столик и, видимо, ждал вопросов. Чехов был в отчаянии. Что сказал о нем услужливый секретарь Гроку? Кем был он в его представлении? Радость Михаила Александровича пропала. Он краснел и, как всегда, когда смущался, не находил слов. Наконец он спросил первое, что пришло на язык:
— Зачем вы приехали в Париж?
— Посмотреть свой фильм, — ответил Грок вежливо, с легким поклоном.
Со счастливой улыбкой на устах стоял в отдалении секретарь.
Как Чехов ненавидел его в эту минуту! Он краснел все больше и больше, уши его горели, глаза потеряли способность моргать. Наконец, собрав все свои силы, Михаил Александрович встал, неуклюже поклонился и вышел из кафе, оставив Грока в полном недоумении.
...Вернулась к исполнению своих обязанностей прежняя секретарша. На этот раз у нее возникла идея ввести своего патрона в круг французских знаменитостей. Известный актер, оказавшийся ее первой жертвой, принужден был угостить пришедших к нему обедом. Молча и безразлично выслушал он доклад секретарши о Михаиле Чехове, как о непревзойденном гении. За этой первой встречей других не последовало, ибо для французов он оставался ничем не интересным для них иностранцем. Ничего не дало и состоявшееся на другой день свидание с видным деятелем прессы. Он вышел к гостям бледный, опухший, с каплями пота на лбу. Стакан за стаканом пил белое вино, постепенно приходя в себя после вчерашнего кутежа.
Казалось бы, и без того все ясно. Однако на том дело не кончилось.
Актеров на многие роли все еще не было. Но Михаил Чехов решил начать репетиции «Дон-Кихота». Художник В. Масютин представил законченный макет. Изготовлены были и эскизы костюмов. Декорации задуманы сложные, с фокусами и трюками. Смета на все это превышала финансовые возможности Михаила Чехова. Кто-то подал мысль идти с макетом и эскизами к известному богачу Ротшильду. Михаил Александрович пошел. И макет, и костюмы, и идея постановки получили одобрение. Но на другое утро от Ротшильда пришел отказ.
В качестве меры спасения придумали создание Общества друзей театра. Заготовили книжку квитанций на ожидавшиеся поступления. В первый же день одно семейство внесло двести пятьдесят франков. И все. Других поступлений не последовало.
Это был крах...
Финансовое состояние Михаила Александровича стало известным, и, как он сам рассказывает в дневнике, полная дама, сочувственно относившаяся к его начинаниям, быстро исчезла.
Покинул Михаила Александровича и «друг Чаплина». «Заказывая» известной театральной портнихе Варваре Коринской костюмы для «Дон-Кихота», он нажимал пальцем на пластинку телефонного аппарата, разъединявшую абонента со станцией. И пока он кричал в телефон: «Варя, брось все, спешный заказ. Для меня!», Михаил Чехов наблюдал его. Черный человек заметил это и с треском положил на место телефонную трубку. Бросил на ходу: «Заметано! Костюмы в кармане!» — и исчез. Только его и видели...
Рассталась с Чеховым и секретарша.
Жалованье, назначенное Михаилом Александровичем актерам (на этот раз он выступал еще и в роли антрепренера), продолжало им идти. Но в деле чувствовался развал, и актеры на репетиции являлись плохо. Так блистательно задуманный «новый театр» явно не клеился.
В одном из писем этого периода нахожу слова Михаила Чехова: «О «Кихоте» думаю с грустью. Он будет, конечно. Но все пока покрыто мраком неизвестности».
Когда полный надежд Михаил Александрович еще только собирался в Париж, столица Франции мерещилась ему как некий центр вкуса, ума, красоты и богатства. Теперь он знал: все это очень преувеличено. Музеи его не интересовали, а литература и театр за последние годы пришли в упадок. Они как бы обескровели в моральном смысле. Что же касается жизни, то она становилась в столице Франции все более трудной. Предметы первой необходимости непрерывно повышались в цене. Многие из тех, кто подобно ему устремился сюда, поверив в легенду о «земле обетованной», жили в неприкрытой нужде. Даже такой большой писатель, как Александр Куприн, давно поселившийся в Париже, чтобы совсем не погрязнуть в нужде, должен был работать «как верблюд — без увлечения, без радости». Он жаловался, что его «ничего не увлекает, не веселит, не интересует», а трудиться «приходится как оглашенному, выматывая из себя пейзажи, натюрморты, портреты и делая иллюстрации для похабных газет и журналов, как выматывает шелковичный червь паутину из себя, пока не сдохнет». И все для того, чтобы хоть как-то свести концы с концами. В газете «Последние новости» появились в те времена «Парижские частушки» поэта Саши Черного, в которых есть такие горькие строки:
Вниз по матушке по Сене
Пароход вихляется...
Милый занял двадцать франков, —
Больше не является.
Мне мясник в кредит не верит, —
Что то за суровости?
Не пойти ли к консультанту
в «Последние новости»?
Мой земляк в газете тиснул
Объявленье в рамке:
«Бывший опытный настройщик
Ищет место мамки».
При всем том надо было что-то срочно предпринимать. Но что? Михаил Александрович еще не решил.
Макс Рейнхардт, который огорчался, потеряв такого актера, пробовал напомнить ему о себе. Явно рассчитывая на то, что это станет известно Чехову, он дает интервью в газету. «С особым удовольствием» вспоминает их совместную работу и «крупный успех» Чехова в тех ролях, которые тот сыграл у него в театре.
«Напрасно, — говорит Рейнхардт, — он уехал в Париж. Я слежу за его судьбой и знаю, что ему, как это ни жаль, живется теперь несладко».
Приоткрывая двери для возможных переговоров, он осторожно высказывает предположение, что «к Парижу Чехова теперь привязывают не столько заботы о себе самом, сколько о собранной им труппе, которую называет своей семьей». И тут же Рейнхардт самым пессимистическим образом оценивает шансы этой семьи на успех. Русской театральной публики в Париже, мол, недостаточно. А французы? Они, понятно, еще меньше станут интересоваться ее спектаклями. Язык-то, как ни говорите, чужой ведь.
Все это было, в общем, верно. Михаил Александрович и сам в том убедился. И все же возвращаться к Максу Рейнхардту не было никакого желания.
Рахманинов
Летом тысяча девятьсот тридцать первого года Михаил Чехов отдыхает около Рамбулье, под Парижем, в имении Клерфонтэн, у Сергея Рахманинова.
Впервые в жизни он увидел Сергея Васильевича вскоре после своего вступления в труппу Московского Художественного театра. Был пятнадцатилетний юбилей МХТ. Праздничный, торжественный спектакль. На сцене оркестр, ожидающий дирижера. Выходит Рахманинов. Спокойный, серьезный. Медленно, под гром рукоплесканий идет к дирижерскому пульту. Искоса смотрит на публику. Ждет. Зал затихает. Рахманинов начал марш Ильи Саца к «Синей птице». И здесь, следя за ним, отдавшись его магической силе, Михаил Чехов, по собственному определению, человек немузыкальный, «понял что-то о музыке и о творчестве вообще». Что это было, Михаил Александрович не мог определить. Но «оно» на всю жизнь осталось в его подсознании. И с тех пор он всегда замечал, что в лучшие его минуты на сцене это «что-то» пробуждалось в нем и вело, направляя и вдохновляя в игре.
Позднее они познакомились ближе, и Михаил Чехов очень привязался к Рахманинову. Полюбил его не только как художника, но и как человека.
Был Сергей Васильевич большой, пропорционально сложенный, широкоплечий и, как бывает у людей высокого роста, немного сутулый. Стрижен коротко, «под арестанта», — шутил Шаляпин. И это подчеркивало его монгольского типа череп, скулы и крупные уши. Глаза проницательные, мудрые. Мало кому из писавших портреты Рахманинова удавалось вполне передать глубокую, сосредоточенную значительность его лица, столь необычным оно было. Но даже тот, кто встречался с Сергеем Васильевичем впервые, уже по его лицу понимал: это большой человек.
Еще в дни молодости Рахманинова понял это Антон Павлович Чехов. Увидел он его в концерте, где Сергей Васильевич аккомпанировал Шаляпину. После их выступления, в артистической, восторженная толпа окружила певца. На Рахманинова никто внимания не Обращает. Пришел за кулисы и Антон Павлович. Отыскав глазами Рахманинова, о котором он в ту пору еще нечего не знал, направился к нему.
— Я все время смотрел на вас, молодой человек, — сказал он. — У вас замечательное лицо. Вы будете болщйим человеком.
Много лет спустя, в другом конце света, на этот раз уже не великий писатель, а простой лавочник, у которого Сергей Васильевич покупал разные мелочи, сказал иначе:
— Если бы я не знал, кто такой мистер Рахманинов, то, глядя на его лицо, все равно бы понял: это большой человек.
Однако этот действительно большой человек, композитор и пианист, которым восхищался мир, был на редкость скромен, боялся незнакомых ему людей и потому был сдержан, как бы «застегнут на все пуговицы». Даже будучи уже всеми признанным, всеми почитаемым, он выходил на эстраду, не глядя в публику, очень замкнутый. Один, два суховатых поклона, и Рахманинов садится за рояль. Терпеливо ждет, пока утихнет аудитория. Потом, не вставая, еще раз кивнет в зал и положит руки на клавиши.
Тем, кто не знал его близко, казалось, что все это от гордости, мрачности, неприступности, которую он на себя напускал. Создать репутацию «угрюмца», «нелюдима» помогли ему газетные репортеры, особенно зарубежные. К журналистам он, вообще говоря, относился, как к неизбежному злу, с которым, однако, надо мириться. Но развязности, «нахрапа» не выносил. Когда один из них, ворвавшись как-то в артистическую, спросил, что он сейчас пишет, Рахманинов решительно и быстро ответил: «В настоящее время каждый день пишу письма дочери и внучке». Газетчик не замедлил ретироваться.
Другой попросил разрешения сделать несколько снимков.
— Начнем с того, — предложил он, — что сфотографируем, как вы утром бреетесь.
— Но позвольте, — возразил Рахманинов, — я ведь музыкант.
— Ну и что? — не растерялся репортер. — Вот одного сенатора я «засек», когда он сорочку с себя снимал.
— Сенатор более важное лицо, чем я, — сказал Сергей Васильевич и прервал встречу.
Или вот еще. Газетчик-американец, беседуя с ним, задал вопрос:
— Кто оркеструет ваши сочинения, господин Рахманинов?
На это Сергей Васильевич преспокойно и с самым серьезным видом ответил:
— Видите ли, вы в Америке люди богатые, и потому композиторы могут заказывать другим свои оркестровки. Мы же в Европе люди бедные и вынуждены заниматься оркестровкой сами...
Он был очень пунктуален. В день своего выступления приезжал в концертный зал за полчаса до начала и нервничал, если концерт почему-либо задерживался. Каждые полминуты смотрел на часы. А тут как-то корреспондент попросил уделить ему «две минуты, не больше». Сергей Васильевич принял его, положил часы на стол и через две минуты решительно поднялся, давая понять, что свидание окончено. Газетчик, по-видимому, обиделся и поведал об этом миру.
Так постепенно создавалась легенда о неприступности и мрачности Рахманинова. На самом деле он просто ненавидел рекламу и все с ней связанное.
На эстраде и в артистической в присутствии посетителей он казался всегда озабоченным. Это было следствием его застенчивости. Но в интимном кругу, среди семьи и друзей, мог этот «угрюмец» вопреки сложившемуся о нем мнению быть веселым, жизнерадостным. Мог отдаваться самому беззаботному смеху, когда веселились другие. Любил, чтобы в часы отдыха дом его был полон гостей. Когда затевались танцы, он часто сам садился за рояль и играл что бы кто ни попросил. Играл и радовался, глядя на танцующих.
И чего только ни выдумывали здесь, когда собирались гости! Устраивали кабаре и спектакли с куплетами. С помощью небольшого «кодака» снимали киноленты. Сюжеты выбирали обычно наивные, но смешные, веселые. Потом фильм «всенародно» показывали. Большой успех имели «Шишиги» — «кинокартина из жизни фантастических существ, обитающих в лесах и лишенных осязания». В качестве героев этой ленты снимались сыновья Шаляпина — Борис и Федор, частые гости в доме Рахманиновых. Сергей Васильевич любил показывать «Шишиги» всем приходившим к нему друзьям и каждый раз веселился при этом, как в первый раз.
А то сядет за рояль и начнет «отжаривать» с Натальей Александровной 8 польку в четыре руки или аккомпанировать Борису Шаляпину, истошным голосом поющему частушки. И как он смущался, если Борис вдруг скажет: «Нет, Сергей Васильевич, вы не так играете. Тут надо, чтобы как гармошка». И когда Борис показывал, как же это должно быть, Рахманинов послушно старался в точности исполнить.
И еще умел этот мнимый «сухарь» и «нелюдим» создавать музыку, полную теплоты и глубокой душевности. А на концертной эстраде, уходя в себя и забывая весь мир, он покорял массы силой своего мастерства.
Мог встать вопрос: «Где же он настоящий?» Ответ один, утверждают те, кто близко знал его. Настоящим он был во всех этих столь различных проявлениях, ибо одна из самых замечательных и даже, быть может, основная черта натуры Рахманинова — его искренность. Поэтому он всегда и во всем оставался самим собой. Очень скромный в своей личной жизни, он любил повторять слова Сократа: «Сколько есть в этом мире вещей, которые мне совершенно не нужны».
Наблюдая Сергея Васильевича в жизни, Михаил Чехов, как он сам говорит, понял, что такое истинная простота и неподдельная скромность у большого человека. В мелочах, в еле заметных оттенках речи, в мимолетных поступках Сергея Васильевича, видел он, сквозили эти качества с врожденной правдивостью.
Вот он, например, в обществе, как бы мало или велико оно ни было. Вы никогда не увидите его сидящим на центральном месте. Но вы не увидите его и в «уголке», где скромность, пожалуй, чуть-чуть подозрительна.
Он — как все. Все толпятся — и он среди них. Надо стоять — стоит. Сесть — сидит. Конечно, он в центре всегда. Но «центр» этот в душах людей, его окружающих.
Беседуя с кем-нибудь, он слушает то, что ему говорят, со вниманием. И не перебьет собеседника, если слушать приходится даже абсурдное мнение. Иногда на неумное слово, когда все другие смущаются, даст серьезный ответ, и неумное слово тотчас забывается. В обхождении не делает разницы между «большим» и «малым», с каждым одинаково скромен, прост и внимателен. Неловкостей, нередко случающихся в его окружении, умел не замечать незаметно.
И все же в присутствии Сергея Васильевича Михаил Чехов неизменно смущался. Не мог себя победить. Часто острил неудачно, чтобы спрятать стеснение. Так однажды, войдя в кабинет Рахманинова, встал на колени и «по-русски» поклонился ему до земли. И когда поднял голову, то увидел: Сергей Васильевич сам стоит на коленях и кланяется ему до земли. А гораздо позднее, когда они снова встретились уже в США, автомобиль Чехова, запыленный и скромный, встал как-то рядом с блестевшим на солнце прекрасным «паккардом» Рахманинова. Михаилу Александровичу стало почему-то немного неловко. Сергей Васильевич, очевидно, заметил его смущение. Подошел. Долго рассматривал чеховского «простачка» («паккарда» будто и не видел). Потом сказал с убеждением: «Хорошая у вас машина». И так сказал, что собеседник и в самом деле поверил, будто машина его не так уж плоха.
Но это, повторяю, произошло позже. А сейчас Михаил Чехов по приглашению Рахманинова, как мы уже знаем, гостит у него в Клерфонтэне. Прекрасная вилла. Большая, белая, в два этажа. В один из дней приезжает сюда Федор Иванович Шаляпин. Чехов почитает обоих и с интересом наблюдает за ними (ведь трудно отказаться от радости наблюдать таких людей). Те гуляют по саду. Оба высокие, грациозные (каждый посвоему). Говорят. Федор Иванович — погромче. Сергей Васильевич — потише. Федор Иванович смешит. Хитро поднимая правую бровь, Сергей Васильевич косится на друга и с охотой смеется. Задаст вопрос, подзадорит рассказчика, тот ответит остротой, и Сергей Васильевич снова тихо смеется, дымя папироской. Посидели у пруда. Вернулись в большой кабинет.
— Федя, пожалуйста... — начал было Рахманинов, слегка растягивая слова.
Но Федор Иванович уже догадался и наотрез отказывается: и не может, и голос у него сегодня не... очень, да и вообще... «Нет, не буду». И вдруг согласился.
Сергей Васильевич сел за рояль, взял два-три аккорда. И, пока «Федя» пел, Рахманинов, сияющий, такой молодой и задорный, взглядывал быстро то на того, то на другого из присутствующих при этой сценке. Кончили. Сергей Васильевич хохотал, похлопывая друга по мощному плечику. А Чехов в глазах у него заметил при этом слезинки.
Шаляпин — динамика, огонь, беспокойство. Рахманинов, наоборот, — сосредоточенное спокойствие, углубленность. Шаляпин беспрестанно говорит, «играет», жестикулирует. Рахманинов слушает, улыбается доброй улыбкой. И вот, несмотря на такое полнейшее несходство (а может быть, благодаря ему), они всю жизнь очень любили друг друга.
— Я в Федю влюблен, как институтка, — признавался Рахманинов.
А тот, в свою очередь, мог для Сергея Васильевича часами петь, рассказывать, «изображать». Рахманинов при этом следил за ним с неослабевающим интересом, заливался смехом и просил:
— Феденька, утешь меня. Покажи, как дама затягивается в корсет и как дама завязывает вуалетку.
— Ну, Сережа, это уж совсем устарело, — отвечает Федор Иванович.
Но чтобы позабавить любимого друга, послушно и с изумительным мастерством изображает и даму, затягивающуюся в корсет, и даму, завязывающую вуалетку.
По утрам Рахманинов работал у себя в кабинете. Звуки рояля доносились оттуда все утро и часть дня. Нередко это бывали не концертные вещи: он подолгу занимался простыми упражнениями. Он любил играть, к своим выступлениям готовился тщательно. Упражнения играл очень медленно, и старательные ученики приободрились бы, услышав, в каком медленном темпе разучивает этот великий артист, с каким тщательным вниманием следит за звучанием каждой ноты, за работой каждого пальца.
И вместе с тем он не раз показывал чудеса техники без всякой подготовки. Стоило в разговоре коснуться какого-нибудь очень трудного и редко исполняемого произведения, как Рахманинов, оживившись, садился за рояль и начинал вспоминать, перебирая клавиши. Потом вдруг скажет: «Это идет так», — и начнет играть с поразительным блеском и уверенностью всю вещь до конца. Как-то Наталья Александровна сказала, что никогда не слышала, чтобы он это играл, Рахманинов ответил: «А я и не играл с тех пор, как ты появилась на моем горизонте». Еще в годы учебы у Танеева, в Московской консерватории, он тщательно, как всегда, разучивал это произведение и сейчас вспомнил его.
Его знание и понимание всего, что относится к музыке, было просто феноменальным. Когда один из его друзей сыграл при нем доминорный «Полонез» Шопена, Рахманинов, хотя и сидел так, что не мог видеть его рук, сказал: «Вот вы в средней части пользуетесь пятым пальцем. А я нахожу, что четвертый палец здесь лучше».
Для не музыканта, каким сознавал себя и Михаил Чехов, был в его игре некий элемент колдовства. Садясь за инструмент, Рахманинов как бы задумывался на несколько секунд. Потом решительно опускал на клавиши свои большие, красивые руки с мягкими пальцами. Начинал обычно спокойно, почти сурово. Постепенно звук нарастал, игра становилась динамичной, и слушатели, словно во власти кудесника, сидели как завороженные. Очнувшись, хотелось понять — что же это? Откуда? Какую тайну постиг, какой клад отыскал он на пути своем как пианист-виртуоз? Но в том-то и дело, что был Рахманинов не просто пианист-виртуоз. Он был еще и композитор, и дирижер. Садясь за рояль, он хотел и знал, как напитать его звучанием всех слышимых им звуков. Знал, как заставить его зажить жизнью оркестра и многоголосных хоров, отозваться голосами сольных инструментов и солистов-певцов.
И это неизмеримо расширяло возможности, доступные другим пианистам-виртуозам. Недаром Сергей Васильевич еще при жизни стал легендой. Пианист продолжал публично выступать в концертах. Композитор продолжал творить. А его музыка, его исполнительское мастерство уже сделались легендарными. Когда с концертной эстрады он повелевал сердцами слушателей, многие говорили о нем: «Русский». Своим торжеством на концертах он утверждал веру в Россию.
О себе Рахманинов говорил, что в нем восемьдесят лять процентов музыканта и пятнадцать процентов человека. Это объясняет в нем многое. Он и жил больше всего в музыке. Причем творил не только тогда, когда сидел за роялем или у письменного стола: он всегда вынашивал в себе музыку. Сам он признавался, что «слышит» свою будущую музыку и что она перестает звучать только тогда, когда он ее запишет. (Почти то же говорил Виктор Гюго — что стихи как бы диктовались ему из невидимого мира.) Постоянная сосредоточенность не могла, конечно, не отразиться на внешнем облике музыканта. Бывало, в молодости, он уходил в себя настолько, что его приходилось «будить» от задумчивости.
«Слушая» свою будущую музыку, он любил быть один и сторонился людей. Потом садился и записывал на нотную бумагу — очень быстро, почти без помарок. Так создалась другая легенда — о необычайной легкости творческого процесса у Рахманинова. В действительности это было не так.
Когда он писал, ему, по собственному признанию, помогали воспоминания о книге, которую он недавно прочел. Или о картине, увиденной где-либо. О стихотворении, если оно произвело на него впечатление. Иногда припомнившаяся ему история. Все это Рахманинов старался превратить в звуки, конечно, не раскрывая источника своего вдохновения. Писать по заказу он отказывался.
— Это уже не творчество, — говорил он.
После работы Сергей Васильевич выходил на балкон. Если в саду, за деревьями, он видел играющих в теннис, то шел к площадке, уютно садился у средней черты и, закурив папироску, с легкой улыбкой ждал... когда промажет Чехов. Михаил Александрович смущался и «мазал». Рахманинов тихонько кивнет при этом головой и тоном, в котором звучало «я так и знал», произносил:
— Дда-а, неважно...
Тут Чехову посчастливилось. Сделав удар, он обернулся к Сергею Васильевичу и сказал:
— Нормально!
Рахманинов это словцо подхватил и громко кричал ему: «Нормально!»... всякий раз, когда Михаил Александрович «промазывал».
Зашел у них как-то разговор о музыке в драматическом театре. Чехов хотел, чтобы в его работах музыка стала органической, составной частью спектакля, но не был уверен, как это сделать. Спросил Рахманинова.
— Вы знаете, — сказал Сергей Васильевич, — музыка в драме, если она не оправдана, не хорошо. Вы сделайте вот что. Покажите на сцене жизнь композитора. Известного. И пусть он тут же, при нас, сочинит одну из вещей, хорошо нам знакомых. Увидите, какой будет чудесный эффект!
Чехов этим не воспользовался. А через какое-то время увидел кинофильм «Большой вальс», где была чудесная сцена рождения «Сказки венского леса» Иоганна Штрауса.
При всей внешней сдержанности никогда и ни о чем Рахманинов не говорил равнодушно. Если затронутая тема его не интересовала или была ему неприятна, он попросту отмалчивался. Назвать его манеру говорить оживленной нельзя было никак. Говорил Сергей Васильевич очень медленно, характерным жестом потирая рукой лоб, тщательно подыскивая нужные ему слова и при этом часто закрывая глаза. Тогда его аскетическое лицо с опущенными веками становилось каким-то суровым и глубокие складки на лбу резко вычерчивались.
Когда речь заходила о современной музыке, он всегда и со всей определенностью подчеркивал, что, по его мнению, если кто хочет высказать нечто значительное, ему для этого вовсе не нужен новый язык:
— И старый достаточно богат и полнокровен.
— Вас могут счесть консерватором в искусстве, человеком, которому чуждо все новое в музыке, — сказали ему.
Другой мог вспылить. Ведь всякий боится обвинения в ретроградстве. А он, казалось, даже обрадовался:
— Да, я консерватор, если хотите. Не люблю модернизма... Как бы это объяснить?..
Он сел боком, повернулся лицом к роялю, по привычке положил руки на колени и начал вслух собираться с мыслями.
— В искусстве можно полюбить, только поняв вещь или целое движение, — сказал он. — А модернизм мне органически непонятен, и я не стесняюсь в этом открыто признаться. Для меня это просто китайская грамота. Вот был однажды такой случай. Приглашает меня к себе в ложу одна дама. Исполнялось очень модернистическое произведение. Дама восторженно аплодирует. Спрашиваю:
«Вы поняли?»
«О да!»
«Странно... А я вот всю жизнь занимаюсь музыкой и ничего не понял».
Он говорил, что музыка прежде всего должна вызывать к себе любовь. Она должна исходить из сердца и должна быть обращена к сердцу. Иначе нет надежды, что она будет долговечной. И иные молодые композиторы ошибаются, полагая, что с помощью новой техники они добиваются особой оригинальности. На самом деле действительно стоящая оригинальность достигается лишь тогда, когда есть что сказать.
Художественные намерения композитора вызывали уважение Рахманинова только в том случае, если тот прибегал к так называемым современным средствам выразительности после напряженной подготовки. Тут он приводил в пример Стравинского, который создал свою «Весну священную» только после интенсивных занятий с таким мастером, как Римский-Корсаков, и после того, как написал симфонию и ряд произведений в классических формах. Иначе, полагал Рахманинов, «Весна священная» не обладала бы столь основательными музыкальными достоинствами, как богатство гармоний и энергичных ритмов.
— Такие композиторы, — приходил он к выводу, — знают, что делают, когда нарушают законы. Они знают, чем это компенсировать. Овладев правилами, они знают, какими можно пренебречь, а каким необходимо повиноваться. Но, к сожалению, приходится слишком часто убеждаться, что молодые композиторы бросаются писать экспериментальную музыку, лишь наполовину выучив свои школьные уроки... Законченная школа необходима композитору, даже обладай он всеми талантами мира.
И еще к одному несомненному для себя выводу пришел Рахманинов на основании жизненного опыта: в искусстве гораздо труднее быть простым, чем сложным. Он рекомендовал молодым запомнить это.
Без концертов Рахманинов скучал. Начинал нервничать. Эстрада была ему нужна. Его ощущение музыки, как центра своей жизни, его неустанная строгая взыскательность к себе заставляли всегда отдавать слушателям лучшее из того, что он имел. Рассказывая о своих постоянных гастрольных поездках, он вспомнил как-то о концерте в небольшом, захолустном городе. Была зима. Бушевала вьюга. Немногочисленная публика, явившаяся послушать его выступление, казалась затерянной в длинном, похожем на сарай зале. Холодно. Неуютно. Но играл он в тот раз с необычайным подъемом. Так хотелось поблагодарить тех, кто пришел...
Много разъезжая по городам, большим и малым, он привык к дороге. Когда носильщик вносил его вещи в вагон поезда, Рахманинов говорил: «Ну и вот, я опять дома». И никогда не жаловался на неудобства. Случилось, что он оказался в сквернейшем номере гостиницы, где обвалился потолок. А он улыбнулся, увидев это, и только сказал: «Вот она, жизнь артиста!»
Менять эту жизнь он, однако, не хотел. Вместе с неудобствами она приносила ему много радости. И взыскательности к себе Рахманинов не изменял ни при каких обстоятельствах. Один из его друзей рассказал такой случай. Придя после концерта в артистическую, он увидел совершенно растерявшегося импресарио. Тот сказал, что Рахманинов в ужасном состоянии и просит отвезти его в отель. Сергей Васильевич и в самом деле выглядел подавленным. И почему? Потому, что в сонате «Аппассионата» Бетховена он пропустил полтакта. Пытаясь его утешить, друг сказал, что вряд ли кто из публики мог это заметить. Но все его слова были напрасны. «Да я-то сам знаю, — только и повторял ему в ответ Рахманинов. — Я — знаю!»
По собственному его признанию, он никогда не мог делать два дела вместе — сочинять и выступать.
— Я или только дирижировал, или только сочинял, или только играл.
Говоря об этом, он вдруг запнулся, потом добавил:
— После России мне вообще как-то не сочиняется. Воздух здесь, что ли, другой.
В России он не был с декабря семнадцатого года. Выехал на гастроли за рубеж и там остался. Нигде и никогда не выступил, оказавшись за пределами Родины, как ее недруг. Нигде и никогда не отказывался от своей «русскости». Случалось, с ним заговорят о красоте парижских пригородов или видах Швейцарии, а он переведет разговор на милую его сердцу русскую природу. Начнет рассказывать об Ильмень-озере и новгородской земле, где он родился. Часами вспоминать живописные картины родной земли. Ее березовые рощи. Бесконечные русские леса. Пруд на краю деревни. Покосившиеся бревенчатые сарайчики. Или дождик. Наш осенний, мелкий, частый дождик...
— Люблю наши серенькие деньки... — прищурив глаза и глядя на собеседника сквозь голубой дым папиросы, говорил Сергей Васильевич.
Сколько раз он обращался раньше в своих творениях к образам родной природы! Сколько раз живописал в музыке ее нежную, удивительную, скромную красоту! Ведь это о нем, об одной из его прелюдий для фортепиано Репин сказал, что слышит и чувствует в ней «озеро в весеннем разливе, русское половодье». А его такие русские, песни, романсы! Он написал упоительную «Сирень» — «Поутру на заре по росистой траве я пойду свежим утром дышать». Он создал благоуханную музыку на слова «Вот у моего окна черемуха цветет». Он с таким подъемом создавал свою «Весну» на тютчевские стихи «Весенние воды». И это его романсы — «Верь мне, друг», «Молчанье ночи темной» и «Островок», где музыка, по чьему-то меткому замечанию, «будто родилась из легкого дуновения летнего ветерка — настолько она прозрачна и светла».
О России, о природе русской он мог говорить без устали. Восторженно. Как тончайший художник. И как тончайший художник он писал отмеченную полнотой и непосредственностью чувств музыку, всеми корнями своими связанную с родной почвой.
Еще только занималась заря нынешнего столетия, когда Рахманинов создал свой знаменитый Второй концерт. К нему нет никакой словесно сформулированной программы. Это чисто инструментальная музыка. Повесть без слов. Но за голосами поющих инструментов так и слышится полная грозовых предчувствий встревоженность начала наступившего века. Вслушайтесь, и вы услышите, почувствуете: нет преграды, которую не снесёт выраженная музыкой и достигшая высшего напряжения буря. Где-то на самой вершине грозовые раскаты ее переходят в страстный, дерзкий, исполненный пафоса марш. И вы невольно воспринимаете его как марш пробуждающейся России. В нем — и без слов понятно — бодрость, решимость и воля идущего сквозь грозу революции народа. Финал концерта — динaмичный, пронизанный веселым возбуждением. Полный юношеского задора и вдохновения, он к концу словно переходит в ослепительную торжественную песнь во славу завоеванного счастья.
«Предчувствием века» окрестила критика Второй фортепианный концерт Рахманинова. И то, что тема его была отнюдь не случайной для автора, подтверждает появившаяся вскоре за концертом Кантата для хора, солиста и симфонического оркестра на слова некрасовской «Весны»:
Идет-гудет Зеленый шум,
Зеленый шум, весенний шум.
Вот так. А теперь он оказался за пределами родной страны. И как возмездие за это девять лет — с девятьсот восемнадцатого до двадцать седьмого — не в состоянии был написать ни строки. Удивительно ли, что, когда Рахманинов вернулся к творчеству как композитор, он создал обаятельные «Три русские песни», а позднее и глубоко русскую Третью симфонию.
К теме о «другом воздухе» он возвращался не раз. Его мучило, что, уехав из России, он стал человеком без Отечества, хотя всегда продолжал горячо любить Родину и никогда в душе не сделался иностранцем.
— Вы не можете понять чувства человека, у которого нет дома, — сказал он одному из своих интервьюиров. — Может быть, никто другой, как мы, старые русские, понимаем: даже воздух Родины другой.
— Вы что-нибудь сочиняете? — спросил его журналист.
— Уехав из России, — ответил Рахманинов, — я потерял желание сочинять. Лишившись Родины, я потерял самого себя. У изгнанника, который лишился музыкальных корней, традиций и родной почвы, не остается желания творить, не остается иных утешений, кроме нерушимого безмолвия нетревожных воспоминаний.
На склоне лет, как бы оглядывая пройденный путь, он подчеркивал:
— Я русский композитор, и моя Родина имела влияние на меня, на мой темперамент и мои взгляды. Музыка моя — продукт моего темперамента, и потому она русская музыка.
Он любил цветы, деревья или если дымом пахло. И вообще запахи деревенские, деревенскую жизнь. И все хорошее напоминало ему о России. Когда он хотел похвалить что-нибудь, он часто говорил: «Как в России». И не было большего удовольствия для него, как получить в подарок русскую книгу.
Из писателей особенно выделял Чехова и Бунина. К Антону Павловичу Чехову относился с благоговением и как к человеку. Никогда не уставал слушать рассказы о нем. И не в шутку сердился, если кто-нибудь позволял себе недостаточно одобрительное замечание о писателе, в котором все было близко и понятно Рахманинову: его творчество, любовь к родной природе, к человеку. В Бунине особенно привлекала Сергея Васильевича внутренняя музыкальность его стихов. Он даже утверждал, что Иван Алексеевич все по-особенному слышит.
Симпатии Рахманинова и Бунина были взаимны. Однако судьба разъединяла их. Встречи были случайные и обычно недолгие. В память о них есть два фото. На одном Бунин, любитель разыгрывать разные сценки, словно неожиданно встретив Сергея Васильевича, подчеркнуто-торжественно пожимает ему руку. На другом — дочери Рахманинова, Татьяна и Ирина, которым Бунин читает свои стихи. Он, как узник, сидит на скале над морем, в рубашке с короткими рукавами, а Ирина стоит над ним, раскинув руки, словно ангел — крылья.
Когда в доме собирались гости, на столе появлялась кривая бутылка с «наполеоновским» коньяком. Рахманинов наливал, угощал. Разрезанные пополам сигареты лежали на столе. Сергей Васильевич неторопливо вставлял половину сигареты в темный мундштук и рассказывал. О своей молодости. О рыбной ловле с Антоном Павловичем Чеховым. О встречах с Львом Толстым, со Станиславским.
Воспоминание о встрече с Толстым, как признавался сам Сергей Васильевич, было не из приятных. Произошло это после неудачи с его Первой симфонией, на которую молодой еще тогда композитор возлагал большие надежды. Провал произвел на него сильнейшее впечатление. Он впал в уныние, бросил заниматься и сочинять, целые дни проводил на кушетке и ни на какие увещевания не реагировал. Родные и друзья пытались вывести его из состояния апатии. Однажды они решили устроить ему встречу с великим писателем. Толстому сказали, что есть, мол, такой молодой человек, талантлив, но отчаялся в себе, бросил работать. И надо его поддержать.
У Льва Николаевича Рахманинов играл тогда Бетховена. Есть у него такая вещь с лейтмотивом, в котором звучит грусть молодых влюбленных, вынужденных расстаться. Кончил. Все вокруг в восторге, но хлопать боятся, смотрят — как Толстой? А он сидит в сторонке, руки сложил сурово и молчит. Все притихли, видят: ему не нравится...
— Ну, я, понятно, от него бегать стал, — рассказывает Сергей Васильевич. — Но к концу вечера вижу: старик прямо на меня идет. «Вы, говорит, простите, что я вам должен сказать: нехорошо то, что вы играли». Я ему: «Да ведь это не мое, а Бетховен». А он: «Ну и что же, что Бетховен? Все равно нехорошо. Вы на меня не обиделись?» Тут я ему ответил дерзостью: «Как же я могу обижаться, если Бетховен может оказаться плохим?..» И сбежал. Меня туда потом приглашали, а я не пошел.
Примерно за год до того, как Михаил Чехов гостил у него в Клерфонтэне, рассказывал Сергей Васильевич эту историю Бунину. В разговоре с ним (это было на Ривьере, в Жуан-ле-Пен) он признался, что не тем поразил его Толстой, что Бетховен ему не понравился или что сам он играл плохо. А тем, что он такой, какой он был, мог обойтись с молодым, начинающим, впавшим в отчаяние, так жестоко. Потому, мол, и не пошел больше.
— Вот, Сергей Васильевич, этим последним вы себе приговор изрекли! — сказал Бунин. — С начинающими, молодыми жестокость необходима. Выживет — значит, годен. Если нет — туда ему и дорога!
— Нет, Иван Алексеевич, я с вами совершенно не согласен, — сказал Рахманинов. — Если ко мне придет молодой человек и будет спрашивать моего совета, да еще не в моем, а в чужом искусстве, и я буду видеть, что мое мнение для него важно, — я лучше солгу, но не позволю себе быть бесчеловечным.
Поднялся спор. Свидетельница его потом писала, что Бунин защищал Толстого. Говорил, что он думает о нем давно, «лет сорок пять», и что нельзя судить Толстого по нашим общим меркам. И что музыку он понимал, если, умирая, мог сказать: «Единственное, чего жаль, — так это музыки!»
Между прочим, Рахманинов рассказывал, что за столом он сознался Льву Николаевичу: «Я в себе сомневаюсь. Боюсь, у меня таланта мало...» На это Толстой ответил ему: «Об этом никогда не надо думать. Это ничего. Вы думаете, у меня никогда не бывает сомнений? Наша работа вовсе не удовольствие... Просто работайте...»
Рана, нанесенная Рахманинову неудачей с Первой симфонией, вскоре затянулась. Он много и с успехом пишет, выступает в концертах. А о том, как он — осознанно или неосознанно — воспользовался советом Толстого, Сергей Васильевич сам много лет спустя поведал, беседуя с одним журналистом. После встречи с композитором тот писал: «Из рассказа Рахманинова я как-то впервые ощутил и осознал со всей силой, что огромный, замечательный его успех, который кажется нам порою столь легким, триумфальным, как бы без усилий осуществляемым парением, вдохновенным полетом над миром юдоли, в действительности — результат очень большого напряжения, выдержки и просто физической выносливости. Те десятки концертов, которые он дает в разных странах мира в течение сезона, представляют собой нелегкое, большое дело, большой труд, сжигающий творческую энергию подвиг. Вдохновение не дается даром и гению». «Рахманинов не говорил об этом в прямой форме, — подчеркивал автор статьи, — но такое заключение явилось повелительным выводом из всей нашей встречи».
К воспоминанию о встрече с Львом Николаевичем Рахманинов возвращался не раз. Приятное оно было или не вполне приятное, воспоминание это было связано с его жизнью в России. И как все, что было для него связано с ней, грело его. Было ему необходимо. Особенно теперь. Здесь...
А с «художественниками» он в последний раз встретился в Нью-Йорке в двадцать третьем, во время гастролей театра. Их приезд за океан был для Сергея Васильевича радостью безмерной. Как бы встречей с самой Москвой. Приходил к нему тогда и Станиславский, к которому он относился с каким-то особым восхищением. Приходили и Книппер-Чехова, Москвин, Качалов, Литовцева, Лужский. Воспоминания, обмен впечатлениями... Особенно восхищал на этих встречах своим юмором и чисто московской красочной речью Иван Михайлович Москвин. Он припоминал занятные случаи из жизни театра и его артистов. Рахманинов ловил каждое слово талантливого рассказчика, следил за его выразительной мимикой.
Не меньше занимали Сергея Васильевича и серьезные разговоры, неизбежно возникавшие в обществе Станиславского. Константин Сергеевич говорил об искусстве, о самосовершенствовании артиста, о своей вере в то, что театр может облагородить человека. И еще бывали незабываемые часы, когда Качалов читал стихи Пушкина, Тютчева, Максимилиана Волошина, Бальмонта. Он любил это делать в интимной обстановке, после ужина, за стаканом вина. Лицо хозяина, часто такое задумчивое и сосредоточенное, оживлялось и преображалось во время этих дружеских встреч. Морщины разглаживались, и он то отдавался радостному, беззаботному смеху, то затихал вместе со всеми, вйимая Станиславскому или вслушиваясь в живую музыку ни с чем не сравнимого голоса Качалова.
Таких встреч было несколько. На одну из них в душный июльский вечер пришел Шаляпин. После обеда гости, вдохновленные игрой Рахманинова, дали у него целое представление. Одна за другой шли блестящие, мастерски исполняемые сценки. Когда уже во втором часу ночи все собрались уходить, Шаляпин остановил их: «Куда это вы? Я только что стал расходиться».
Потом он всю ночь чудил, околдовав, заворожив всех. Пошатываясь, изображал, как пьянчужка-мастеровой «наяривает» на гармонике, при этом как-то своеобразно выпускал и засасывал воздух одними углами рта при зажатых губах. Получался действительно характерный для гармошки звук. И как этот пьянчужка объясняется с городовым, стоящим на посту, недалеко от полицейского участка. А то расскажет смешной анекдот («С добрым утром Рыгголето»), вспомнит занятные случаи из своей жизни на Западе. Например, как в Лондоне толпа, ожидавшая выезда королевской семьи, будто его, Шаляпина, приняла за короля. Ехал он это со своим менаджером в карете — и вдруг из толпы раздается: «Гип, гип — ура!» А он не растерялся. Недаром же ему приходилось петь и Бориса Годунова, и Иоанна Грозного.
— Что ж, думаю себе, — рассказывает Федор Иванович, — вот мой народ. — И округлым, неподражаемым жестом руки показал, как он снял свой цилиндр и как «по-королевски» раскланивался с жителями Лондона с правой и с левой стороны.
«Мой народ!» — и поклон направо.
«Мой народ!» — и поклон налево.
В небольшой рахманиновской гостиной, где в это время все как-то само собой оказалось поделенным на две половины — партер и сцену, — присутствовавшие сидели молча, едва дыша и буквально впившись глазами в Шаляпина. А этот кудесник казался совершенно неистощимым.
— Подождите, — сказал он, — мы с Сережей сейчас вам покажем!..
Рахманинов сел за рояль, а Федор Иванович стал петь. Пел много — песни мастеровых, крестьянские песни, цыганские. А под конец, по просьбе Рахманинова, спел «Очи черные». Да так, что на другой день Сергей Васильевич всем говорил: «Как Федя вчера меня утешил! Заметили вы, как он вздохнул, подлец, и всхлипнул: «Вы сгубили меня, очи черные»? Я не спал всю ночь. Не мог заснуть. Мне теперь хватит этого воспоминания, по крайней мере, на двадцать лет».
Казалось бы, человек, не в пример Михаилу Чехову столь удачливый и с таким талантом, как у Шаляпина, не может не быть счастлив. Но почитайте его высказывания и письма, адресованные друзьям и знакомым. Те, что написаны в год его и Рахманинова встречи с «художественниками» в Нью-Йорке, и в более позднее время. Сколько в них бесконечной, неизбывной тоски!.. Сколько горечи в описании жизни на чужбине!..
Вот строки из письма к Е. П. Пешковой, написанного в двадцать третьем году из Парижа: «...все хоть и хорошо здесь, а соскучился по России здорово!.. Шатаясь по Америке, чувствую себя как бы в каторжных работах — добыча американского золота настолько тяжела, что нынешнее лето не пришлось приехать в Россию...»
Годом позже, в письме к другому адресату, снова то же признание, что «приходится тянуть каторжную лямку», что «таскаться по Америкам тяжело и противно». Шаляпин мечтает (так пишет он сам) освободиться от обязательств, чтобы спеть «чудные спектакли и концерты в Москве и других городах СССР». Конечно, он сам виноват, что это не осуществилось. Но чего это стоило Шаляпину!..
— Не понимаю, — говорил он, иронизируя над самим собой, — почему я, русский артист, русский человек, должен жить и петь здесь, на чужой стороне? Ведь как бы тонок француз ни был, он до конца меня никогда не поймет. Да и там, в России, понимала и ценила меня по-настоящему галерка. Там была моя настоящая публика. Для нее я и пел. А здесь галерки нет.
Однажды в его присутствии балетмейстер парижской Большой оперы Сергей Лифарь, русский, прочно приспособившийся к чужой жизни, с большим оживлением рассказывал о своих планах, о том, как интересно обучать французских танцовщиц, возрождать во Франции искусство хореографии. Говорил Лифарь как человек честолюбивый, упоенный своими успехами. Шаляпин молчал и, казалось, не очень прислушивался к тому, о чем тот говорит. Балетмейстер пошутил на тему, что вот только приходится подлаживаться под вкусы публики, и было видно, что Лифаря это не очень огорчает. Шаляпин и тут отмолчался. Но когда балетмейстер стал воспевать художественное чутье парижской театральной публики, Федор Иванович вдруг произнес:
— Эх, Лифарь, Лифарь! Не знаете вы, что такое настоящая публика.
Тут он обратился к присутствующим при разговоре и спросил:
— Не правда ли, он не знает, а?
Потом добавил еще: «Эх, эх, эх!..» — и вдруг посмотрел на балетмейстера холодно и даже высокомерно. Присутствовавшему при этой сцене журналисту показалось, что Шаляпин на миг приоткрыл тут свою душу. И была она полна скорби о чем-то утраченном.
Такие настроения «находили» на него нередко.
Есть в Крыму, в Суук-Су, скала, носящая имя Пушкина. Когда-то Шаляпин задумал построить на ней замок искусства. Именно — замок. Он приобрел в собственность Пушкинскую скалу. Заказал архитектору проект замка. Купил даже гобелены для убранства стен. А потом уехал и, как Рахманинов, «окопался» за границей. Иногда люди говорили ему: «Еще найдется какой-нибудь любитель искусства который создаст вам ваш театр». Шаляпин их будто в шутку спрашивал: «А где он возьмет Пушкинскую скалу?»
— Но это, конечно, не шутка, — признавался сам Федор Иванович. И пояснял: — Моя мечта неразрывно связана с Россией, с русской талантливой и чуткой молодежью. В каком-нибудь Огайо или на Рейне этот замок искусства меня не так прельщает. Что же касается «благородных любителей искусства», — не могу не надивиться одному парадоксальному явлению. Я знаю людей, которые тратят на оперу сотни тысяч долларов в год — значит, они должны искренно и глубоко любить театр. А искусство их — ersatz самый убогий. Сезон за сезоном, год за годом, в прошлый, как и в последующий, — все в их театрах трафаретно и безжизненно. И так будет через пятьдесят лет. Травиата и Травиата. Фальшивые актеры, фальшивые реноме, фальшивые декорации — дешевка бездарного пошиба. А между тем эти люди тратят огромные деньги на то, чтобы приобрести подлинного Рембрандта и с брезгливой миной отворачиваются от того, что не подлинно и не первоклассно. До сих пор не могу решить задачи — почему в картинной галерее должен быть подлинник и непременно шедевр, а в дорого же стоящем театре — подделка и третий сорт?
Неужели потому, — заключает свои горестные наблюдения Федор Иванович, — что живопись в отличие от театра представляет собой не только искусство, но и незыблемую валютную ценность?..
Писано это в тридцать втором, через год после встречи с Рахманиновым в Клерфонтэне. А тремя годами позже в переписке с друзьями из Советского Союза признается, что несказанно рад «за ту полную приятных волнений жизнь», которой теперь живет Родина. «Поверьте мне, — пишет он, — все, что делается прекрасного в Советах, как-то особенно волнует меня, и порою я досадую, что не имею приятной возможности сам участвовать около создания этого нового... А Отчизну мою обожаю! И обожание это ношу и буду носить в сердце моем до гробовых досок».
Эти два человека — Шаляпин и Рахманинов, — во многом такие разные, были близки в своих чувствах к Родине. Только у Федора Ивановича все, как обычно, выглядело чуть-чуть театрально-аффектированным, у Сергея Васильевича — сдержанным. У одного — «погромче», у другого — «потише». Однако когда пришел решающий для Родины час, когда фашистская Германия напала на Советский Союз, Рахманинов тотчас явился в советское посольство и спросил, чем он может помочь своей Отчизне. Потом дал ряд концертов и на собранные деньги приобрел рентгеновское оборудование для госпиталей Советской Армии. В сопроводительном письме Сергей Васильевич писал: «От одного из русских посильная помощь русскому народу в борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную победу!» Потом все время до последних дней жизни с волнением следил за положением на фронтах. Радовался, когда победа склонилась на сторону русского оружия, и, слушая об успехах советских воинов, облегченно вздыхал и говорил: «Ну, слава богу! Дай им бог сил!»
Но до начала Великой Отечественной войны еще было десять лет. Рахманинов писал в Клерфонтэне свои Вариации на тему Корелли для фортепиано, готовился к очередному туру концертных выступлений, встречался с друзьями, с интересом следил за новинками советской музыкальной литературы. А в присутствии Михаила Чехова, слушая однажды грампластинки с записями советских песен, долго крепился, а потом расплакался.
Раза два, по просьбе Рахманинова, Михаил Александрович читал ему рассказы Антона Павловича Чехова. Это был один из «коньков» артиста, и чтение его доставляло Рахманинову неизъяснимое наслаждение. В разговорах они часто возвращались к Художественному театру. Михаил Чехов не участвовал в нью-йоркских гастролях коллектива в двадцать третьем, но и он, как Иван Михаилович Москвин, удивительно хорошо рассказывал про театр, про разные смешные и занятные случаи из жизни дружной семьи его артистов, про Станиславского.
— Ох, обожаю я это! — говорил, смеясь, Сергей Васильевич.
Михаил Чехов, неподражаемо имитировавший свое го учителя, знал множество курьезных историй, которые с ним приключались, забавно рассказывал о его странностях, о забывчивости, о его оговорках на сцене и в жизни. Рахманинов мог слушать про это снова и снова. И сколько бы раз Михаил Чехов ни повторял ему все те же истории, он смеялся и, отирая слезы, просил: «Ну еще что-нибудь. А вот это как было? Помните, вы говорили, что он...» И смеялся заранее. А насмеявшись, вздыхал и, глядя в пространство, говорил с расстановкой: «Какой человек!..» И в эти минуты глаза его становились похожими на глаза Станиславского — так ясно он видел его и так любил. И тогда Чехову казалось, что глаза эти словно спрашивают его: «Что же дальше?»
Но дальше был туман...
Злосчастная идея
Он ищет и не находит выхода. Наконец ему кажется, будто он что-то нашел. Раз обычный театр не привлекает внимания здешней публики, надо дать ей нечто экстраординарное. Что, если это будет спектакль без слов?! Или почти без слов?! Совсем без речи на сцене, пожалуй, не обойтись. Но актеры могут произносить лишь отдельные слова. В Париже — французские, в Берлине — немецкие, в Лондоне — английские и т. д.
Чем больше Михаил Чехов размышлял над своей затеей, тем больше она представлялась ему реальной, осмысленной. И главное — в чем-то новой. Ему надо было во что-то поверить, и он поверил. Он уже мечтал, что если дело пойдет — а оно, конечно, пойдет, убеждал сам себя Михаил Александрович, — то следом за первой такой постановкой он осуществит вторую, третью... А в некоем будущем можно будет вокруг этого нового театра собрать лучшие артистические силы мира. И то, что артисты, которых ему мечталось привлечь, говорят на разных языках, — совершенно несущественно: ведь необходимость знать язык отпадает, заучивать придется только отдельные слова. Он так уверовал во все это, что высказался при встрече с журналистами, а те распубликовали в печати.
С одним из актеров своей парижской труппы он сочинил сценарий для первого представления. Выбрали сюжет, красной нитью проходящий во многих русских сказках: Ивана-царевича, ищущего Красу ненаглядную. Назвали свое представление «Дворец пробуждается». Михаил Чехов взял на себя роль Ивана-царевича, М. А. Крыжановская играла Красу, А. Д. Давыдова — Кащевну, Ада Книппер — Ведьму. Приступили к репетициям. Приглашенный молодой дирижер набрал музыкантов подешевле и стал разучивать с ними партии.
Готовили пантомиму спешно. По собственному признанию Михаила Александровича, «она была далека от совершенства». Все же, надеялся он, «кое-какие художественные цели», намеченные им, «удалось осуществить». Однако это было не так. Эксперимент не удался. Он просто не заинтересовал зрителей. Присяжные остряки после генерального просмотра накануне премьеры ехидничали: «В этом спектакле никто не говорит? Это ничего. Ведь сегодня только репетиция. А заговорят они завтра — на премьере».
Надежда Михаила Чехова, что спектаклем «Дворец пробуждается» он скажет «хотя бы скромное, но свое, новое слово», не оправдалась.
После премьеры (спектакль шел в театре «Авеню») одна французская газета («Пари-миди») отметила «приятную и талантливую музыку», сопровождавшую игру артистов, а другая («Парижская неделя») — что «никогда символ художественного творчества не был выявлен с такой силой, как в сказке «Дворец пробуждается». Этим французская пресса и ограничилась. А Сергей Волконский, присутствовавший на одной из репетиций, кое-что хвалил, охотно давал советы, был дружески настроен и мил, но после премьеры написал разгромную статью.
«Дворец пробуждается» и вместе с ним расчет на спасение провалились безнадежно. Михаил Чехов вспомнил «словечко» Сергея Васильевича Рахманинова, которое он произносил, когда Чехов «промазывал» в теннис. Вспомнил и подумал: «Неужели и это — «нормально»?.. Нет-нет!..»
Но могло ли быть иначе?
Поставленный в условия, когда ему надо было действовать почти не размышляя, Михаил Александрович просто не успел спокойно и трезво рассудить, жизнеспособна ли сама идея всем без различия доступного, для всех народов одинаково близкого и увлекательного театра? И возможен ли вообще театр, оторванный в силу своей «всеобщности» от «национального» слова, опирающийся только на общечеловеческий жест и международно понятное восклицание?
Пожалуй, правы были скорее его оппоненты, высказывавшие мысль, что не так уж одинаково понятен, скажем, французу и индийцу, сенегальцу и русскому жест и восклицание другого. Ибо и телодвижение, и ужимка, и мина, и жест на самом деле архинациональны. И тот жест, который один народ воспринимает как утверждение или согласие, служит другому знаком отрицания или отказа. Итальянец говорит «нет», вздергивая голову, а русский — «отрицательно» покачивая головой. Подпершая рукой склоненную набок голову — русская женщина. Такой позы не знает ни одна женщина в мире. Американец свистит в знак одобрения. Англичанин не выражает раздумья почесыванием затылка.
Больше того, возьмем одну только Испанию. Там в различных провинциях выражения, скажем, симпатии очень различны. В Эстремадуре, вызывая девушку на свидание и уходя от нее, парень воркует, как голубь. Мурсийские женихи издают звуки, похожие на лошадиное ржанье. А в Кантабрии невесту приветствуют гортанным звуком.
Не была, как правильно указывали Михаилу Чехову даже его доброжелатели, глубоко продумана и вторая идея, которая легла в основу его «всеобщего театра». Нельзя было брать в качестве интернационального игрового материала сказку. Пусть даже сказочные сюжеты у многих народов родственны, пусть даже переселение их из края в край земли есть твердо установленный факт, и сказочные мотивы народов Средней Азии, скажем, повторяются в сказках провансальских трубадуров, а эскимосские родственны тем, что рассказывались в Древнем Египте! Пусть! И все же сказки так же архинациональны, как и жесты.
По всем этим причинам «всеобщий театр», по всей видимости, идея вообще мертвая. И даже тогда, когда народы, «распри позабыв, в великую семью соединятся», то и тогда каждая национальная «семья» оставит у себя нечто ей одной присущее: свои семейные предания, свои семейные реликвии, свою литературу и свой театр.
Хотя Михаил Чехов в этом никогда не хотел признаться, с самого же начала, то есть после первого же спектакля «Дворец пробуждается», было ясно, что вся затея со сказкой без слов пришла ему на ум, когда он был в состоянии растерянности. Никаких корней в чеховском творчестве у нее не было.
Неуспеху спектакля «содействовал» и скандал, который неожиданно разыгрался в оркестре в день премьеры. За время репетиций молодой дирижер восстановил против себя многих музыкантов. В отместку они перед началом спектакля из каждой нотной тетрадки вынули по одному листу. Через две-три минуты после начала, рассказывает Чехов в своем дневнике, оркестр споткнулся. Жалко пискнула скрипка, свистнула флейта, и все затихло. Дирижер задергался и запрыгал, как марионетка на ниточках. Его увидели из зрительного зала. Поднялись смех, свист, шиканье... Послышались остроты по адресу музыкантов. Дирижер счел за благо сбежать. Музыканты шумели, разыскивали затерявшиеся нотные листы. Актеры замерли, как в «живой картине». Наконец ноты нашлись. Действие возобновилось, но вскоре снова прервалось. И так несколько раз. Спектакль был совсем погублен.
«Беды, когда идут, — говорит король Клавдий в «Гамлете», — идут не в одиночку, а толпами». Так получилось и тут. Расставшись с дирижером и затратив последние деньги на новых музыкантов, Михаил Чехов решился на второй спектакль. Однако в день представления зал пустовал. В порыве отчаяния и обиды, в гриме и костюме он вышел на авансцену и, обращаясь к десятку разбросанных по залу зрителей, просил всех пересесть ближе к сцене и обещал им, что актеры исполнят свои роли с полной энергией и самым теплым чувством к собравшейся публике. С галерки с шумом и криком сбежали несколько молодых людей и разместились в первом ряду. Остальные зрители остались на своих местах.
Актеры не одобрили чеховского выступления и просили не повторять его: унизительно...
Топтание на месте
Итак, из пантомимы ничего не получилось. Столь нужный успех опять не давался в руки. Хотя что такое успех? Разве он что-либо доказывает? — успокаивал себя Михаил Чехов. — Мало ли людей, которых не поняли современники? А сколько на свете хороших пьес, книг, музыкальных произведений, художественных полотен, которые нашли своих ценителей лишь спустя много лет после их создания?..
«Дворец» все же продержался некоторое время на сцене, но недолго. Чтобы как-то выйти из создавшегося положения (помещение театра было снято на весь сезон, и надлежало выплатить стоимость аренды полностью), решили наскоро поставить «Потоп» Бергера, ранее шедший уже с участием Михаила Чехова в помещении театра «Ателье». Спектакль сыграли, и русские эмигрантские газеты отозвались о нем одобрительно. «Перемену репертуара» они рассматривали, как признак художественного оздоровления чеховского коллектива. Публика стала посещать театр.
«О, се тре бон! (Это отлично!)» — пытались поддержать его друзья. Чтобы как-то сохранить интерес публики, он так же спешно, как и «Потоп», возобновляет ранее показанные в театре «Ателье» и зале Гаво постановки. Появляются «Эрик XIV» Стриндберга, «Вечер миниатюр», составленный из нескольких инсценированных рассказов А. П. Чехова, и шекспировская «Двенадцатая ночь» — все из того же репертуара Первой студии Московского Художественного театра и Второго МХАТа.
Спектакли сменялись репетициями, репетиции — спектаклями. Время потянулось однообразно.
Для комедии Шекспира решили заказать сколько-нибудь приличные декорации. Французская декоративная мастерская приняла заказ без эскизов: там знали, какое оформление требуется для этой пьесы. Прибыли декорации в театр за сорок минут до поднятия занавеса. Расторопные французские рабочие быстро расставили их. По середине сцены во всю ее величину на деревянных подпорках был установлен фонтан. Его пытался наполнить маленький амурчик, прибитый к верхушке картонной колонны. Других декораций не было.
Актеры в гриме и костюмах в недоумении смотрели на расставляющих декорации рабочих сцены. Все почувствовали недоброе, но сначала никто не решался спросить: что это за фонтан и к чему он здесь? Но дальше медлить было нельзя. Выяснили. И оказалось, что произошла ошибка: фонтан предназначался для другого театра. Туда отвезли «Двенадцатую ночь», здесь же получили фонтан с амурчиком.
Публика волновалась и требовала начала. Актеры набросились на фонтан, амурчик вместе с колонной полетели за кулисы. На фоне остались три худеньких деревца на сетке. Занавес поднялся.
Несмотря на подобные казусы, публика в общем хорошо, даже с какой-то подчеркнутой восторженностью, принимала теперь чеховские выступления. Особенно в «Потопе» и инсценированных миниатюрах по рассказам А. П. Чехова — старых (тех, что были играны при появлении в Париже) и новых: «Забыл», «Цилиндр», «Ведьма».
В первой из них Михаил Чехов изображал человека, который вошел в нотный магазин и забыл, какую пьесу дочь поручила ему купить. Совсем особый род забывчивости: не оттого, что мысли чем-то уж очень заняты, что голова полна другим, нет! Тут какая-то, как кто-то хорошо сказал, «вымытая память», выстиранные мозги, в которых просто ничего нет.
Удивительно накапливал Михаил Чехов в этой роли (прием вообще очень характерный для него) множество мелких подробностей. Но таких, на которые его герой сам как будто и не обращает внимания. Мелочей, которых он лишь слегка касается не останавливаясь, тут же забывая о них. В данном случае это были обременявшие его узелки и картонки. Он то складывал их, то раскладывал. То держал в одной руке и, похоже на то, искал, куда бы их пристроить, но никуда не пристраивал, а продолжал держать на весу. Это создавало впечатление, что и рука «забывала» то, что хотела сделать. Тут была огромная работа над накоплением множества даже не фактов, а мелких и мельчайших намеков. Но какая удивительная, плодотворная, творческая работа! И можно понять, как вырастал благодаря ей, как углублялся, каким живым, насыщенным, интересным становился образ, если даже то, что можно было принять за случайное, «работало» на этот образ, проникший в плоть и кровь исполнителя.
В миниатюре «Цилиндр», собственно, и действия-то в настоящем смысле нет. Есть лишь картинка в лицах. Сидят в зрительном зале несколько человек перед сценой. Что на ней происходит, не видно. Лишь слышна доносящаяся со сцены музыка. А перед теми, кто в зале, — Человек в цилиндре (Михаил Чехов). Люди недовольны, что он заслоняет им сцену, и требуют «снять шапку». Человека в цилиндре это даже не задевает, он величественно безразличен к «толпе». Удивительное создание, в котором и чванство-то совершенно пустое. Как будто этот лоснящийся цилиндр высосал все, что могла вместить убогая голова его владельца. Страшно становилось перед человеческим убожеством, когда смотрели на это создание Михаила Чехова.
И наконец — «Ведьма».
В генеральском имении при заштатной церковке живет со своей красавицей женой опустившийся до положения звонаря дьячок Гыкин. За стеной его бревенчатой избушки воет вьюга, которая загоняет на огонек сбившегося с дороги почтаря. А дьячок-Чехов (у него козлиная бородка-мочалка и весь вид жалкийпрежалкий) сетует, что это злой дух, что сидит в молодой его жене Раисе, завлекает, манит к себе в их дом всех этих мимоезжих ямщиков и писарей. Раиса только смеется, когда муж уличает ее в колдовстве.
То, что делал Михаил Чехов в «Ведьме», не всегда, может быть, строго соответствовало авторским ремаркам и даже тексту. У Антона Павловича дьячок не укутывает заботливо плечи жены, не целует украдкой ее роскошную косу. И таких подробностей в спектакле множество. Но каждая из них придает облику Гыкина такую достоверность и человеческую трогательную теплоту или так раздвигает границы бедной и скучной жизни дьячка, что речи быть не может о том, что называется на сценическом лексиконе «отсебятиной». Порой, может быть, даже нарушая «букву» рассказа, подробности, внесенные Чеховым-актером, сохраняют дух произведения Чехова-автора, его неповторимую манеру, его художественное самовыявление.
Так или примерно так говорили, писали, думали те, кто посещал тогда спектакли Михаила Чехова. Но еще говорили (и это вполне соответствовало правде), что по своим творческим средствам Михаил Чехов находится к своей труппе приблизительно в таком же соотношении, в каком находился Федор Иванович Шаляпин к своим местным партнерам в театре «Операкомик», где он часто выступал.
При всем том для самого Михаила Александровича «Вечер миниатюр» не мог быть самоцелью. А задуманный им «Дон-Кихот» света рампы так и не увидел, «Дворец» провалился, «Гамлет» признания не получил. И, значит, то, к чему он стремился, — создание театра, Театра с большой буквы, который бы занял заметное место в жизни французской столицы, — не получалось. Нынешние его спектакли — удавшиеся и неудавшиеся, те, что были приняты публикой и прессой, и те, которые ими отвергнуты, — в такой театр не складывались. И сам он, следовательно, кто же? — казнит себя Михаил Чехов. «Известный в прошлом актер, и только?» Как мало, в общем, времени прошло. И как много потеряно...
С каждым днем тоска все больше наполняла сердце. Будущее снова было темно. Для него самого одно ясно: «Об идеальном театре во Франции можно так же мало говорить, как и в Германии». Такую запись он делает в своем дневнике. И, как рефрен, повторяется в нем до конца осознанная мысль: «Чем дальше от русской границы, тем тоскливее становится русскому человеку».
Борясь с этой тоской, Михаил Чехов ищет удовлетворения в занятиях с группой любителей театрального искусства. Спустя какое-то время он начинает замечать, что его театральный опыт, понимание актерской техники и педагогические приемы выросли, оформились, уточнились. Когда? Он почти не думал о них в последние годы. Многолетний опыт как-то сам собой складывался в определенный порядок. «Я ничего не выдумывал, — пишет Михаил Александрович, — не вносил рассудочных измышлений, не создавал искусственной связи частей. Стройность возникла сама собой. Я заинтересовался процессом, происходящим во мне, и стал следить за ним». Но записей в это время он еще не делал.
К тому времени Чехов давно уже жил на Монмартре. Его дешевая квартира на одной окраине Парижа сменилась дешевой комнатой на грязной, шумной улице, пропитанной запахом рынка и мясных лавок, — другой. Бесцельное скитание по ночным парижским бульварам привело его однажды в цирк, где в течение целой недели день и ночь происходили «марафонские танцы».
Парижане сходили с ума. Восемь или десять пар танцевали непрерывно, без сна. Лишь каждый час им разрешался пятнадцатиминутный отдых. Тех, кто падал без чувств, уносили с арены. Над входом в цирк вывешивались плакаты, извещавшие о ходе танца. Цирк был переполнен. Зрители ревели, неистовствовали, заглушая оркестр. На арену танцующим бросали деньги. Но главный выигрыш в двадцать пять тысяч франков предназначался тому, кто «умрет» последним.
Михаил Чехов застал танец на четвертый или пятый день. Остались три пары и одна дама, потерявшая своего кавалера. Животный рев толпы ошеломлял. Михаил Александрович стал следить за рыжей женщиной с позеленевшим, полуобнаженным телом и мужчиной с искаженным лицом. Как и все, он, по собственному признанию, превратился в зверя и хотел, чтобы прй нем упал человек. И мужчина скоро упал, пришлепнувшись к дощатому полу арены, стукнувшись головой и уродливо подвернув руку под спину. Толпа заревела, засвистала, загикала. Люди ругались, дрались, срывали с себя и с других шапки и кидали их в танцующих. С улицы непрестанно врывались новые толпы, потерявшие терпение. Их выталкивали. Они снова врывались и с жадностью замирали на мгновение, впиваясь глазами в танцующих.
«Я очнулся, — рассказывает Михаил Чехов, — когда вдруг почувствовал острую, жгучую ненависть. Не к ним, но к самому себе, к идее «нового театра», к мечте об «идеальной публике», к зрелищу вообще». Он выбежал из цирка и пошел в ближайший недорогой кабачок пить дешевое кислое вино.
«Впрочем, — утверждает он, — неприятны только первые стаканы».
В чем слава художника?
Когда Михаил Чехов еще только начинал свой горькии путь на чужбине, умный и тонкий советский писатель Юрий Олеша написал пьесу «Список благодеяний». Ее героиня, Елена Гончарова, известная артистка, исполнительница роли Гамлета, и верит и не верит в тот новый мир, который после Октябрьской революции строится в нашей стране. И в соответствии с этим одно она приемлет, другое отрицает. Бессильная примирить «две половины своей совести», Гончарова ведет сама с собой долгий спор и в конце концов бежит на Запад.
И вот она в Париже. Но, боже, как она, оказывается, ошиблась! Как не похож нафантазированный ею «обетованный мир» на тот, с которым она встретилась! Ей виделся мир изобилия и гармонии, а нашла она нужду и страх. Нужду миллионов, их страх перед безработицей. И вечный бой между теми, кто присвоил себе здесь положение «хозяев жизни», и теми, кто к ним не относится.
Только на Западе, казалось ей, можно еще обнаружить настоящее «святое искусство». А нашла?..
Она приехала сюда с думой о великих творениях классики, в которых проявит свой талант. Встретившись с хозяином театра, сказала, что хочет сыграть сценку из «Гамлета».
— Почему из «Гамлета»? — скучающе спросил тот, хотя театр его, подобно подлинному шекспировскому, назывался «Глобус».
— Понимаете... я предполагала сделать так, — объясняет она. — На афише: «Известная русская артистка... Елена Гончарова... отрывки из «Гамлета».
Для показа ею отобран эпизод с флейтой, когда Гильденстерн, притворяясь другом принца, стремится загнать его в западню.
Гончарова ведет сцену чудесно, сильно. Но хозяин «Глобуса» прерывает ее:
— Нет, нет, нет. Не годится.
— Почему? — удивляется Елена.
— Неинтересно, — решительно заявляет хозяин.
Артистка не может понять: что, «Гамлет» неинтересен? Да, «Гамлет». Хотя флейту, по мысли хозяина, «можно пустить в дело».
— Интересная работа с флейтой может быть такая, — полагает он. — Сперва вы играете на флейте... какой-нибудь менуэт... чтобы публика настроилась на грустный лад. Вот. Затем вы флейту проглатываете... Публика ахает: удивление, тревога... Затем вы поворачиваетесь к публике спиной, и оказывается, что флейта торчит у вас из того места, откуда никогда не торчат флейты... Затем вы начинаете дуть в флейту, так сказать, противоположной стороной. И тут уже не менуэт, а что-нибудь повеселее: «Томми, Томми, встретимся во вторник». Понимаете? Публика в восторге, хохот, аплодисменты...
...Так выглядит эта сцена в пьесе Олеши. Конечно, он обострил ситуацию до предела. Это гротеск. Но как при всем том не узнать знакомой обстановки и действующих лиц? Здесь, правда, героиня — женщина, но мы все равно угадываем жизненный прототип центральной фигуры «Списка благодеяний». Да, конечно, это Михаил Чехов.
Спектакль появился на сцене Театра имени Мейерхольда летом тридцать первого, когда Михаил Александрович как раз и обосновался в Париже, то есть через год после его заграничной встречи с Всеволодом Эмильевичем. Ясно, что это он, Мейерхольд, подсказал Юрию Олеше сюжет для пьесы. Как сложится судьба ее подлинного героя, никто тогда предрешить, конечно, еще не мог. И все-таки и Олеша, и театр верили, что тягчайшая жизненная ошибка Чехова может и должна быть исправлена. И как могли, сказали об этом в спектакле.
Встретившись со всем тем постыдным, что представляет собой жизнь там, где человек — ничто, а искусство выродилось в грубый балаган, героиня пьесы Елена Гончарова (роль ее играла Зинаида Райх) до конца осознает то, что произошло с ней. Осознает и видит единственный выход из случившегося.
— Я мечтала о тебе, Париж, — говорит она. — Я искала славы твоей... И как же я могла забыть, что славы нет выше, чем слава тех, кто перестраивает мир!.. Я хочу домой. Друзья мои, где вы? Что у вас слышно?.. Как там спектакли без меня? Родина, я хочу слышать шум твоих диспутов. Рабочий, только теперь я понимаю твою мудрость и твое великодушие, твое лицо, обращенное к звездному небу науки. Я смотрела на тебя исподлобья и боялась тебя, как глупая птица боится того, кто дает ей корм... Прости меня, Страна Советов, я иду к тебе.
В отличие от своего прототипа героиня пьесы не просто вздыхает, скорбя об утерянном. Право свое вернуться домой она хочет заработать. Заработать делом. Заработать служением революции.
...Этим спектаклем Мейерхольд как бы снова обращался к Михаилу Чехову, приглашая его вернуться. Но Чехов во второй раз не услышал его, как раньше не услышал Луначарского.
Воспоминания, воспоминания...
Рига была в какой-то мере спасением. Еще только осмотревшись в Париже, бросился Михаил Александрович на короткое время в столицу Латвии и с успехом сыграл там десять спектаклей. Теперь его пригласили вторично: Театр русской драмы — для участия в спектаклях «Ревизора», Национальный театр — чтобы поставить там с Янисом Леиншем в заглавной роли (и самому сыграть первые три спектакля) «Эрика XIV».
Это был проблеск удачи. Правда, Михаил Чехов, казалось бы, не мог не заметить, что круг сыгранных им еще в России ролей у него почти не расширялся. Снова Эрик, снова Фрезер в «Потопе», снова Мальволио в «Двенадцатой ночи», снова Хлестаков в «Ревизоре»...
...С Хлестаковым ему доводилось выезжать на гастроли и там, дома, когда позволяло рабочее расписание в театре. Ездил он и в Ленинград, и в другие города. В Ленинграде играл на сцене бывшего Александрийского театра, где в молодости видел таких гигантов русской сцены, как Варламов, Давыдов, Савина, Стрельская, Далматов. И не только александрийскую сцену с любовью вспоминал теперь Михаил Чехов, но и самый город. В нем 16 (28) августа тысяча восемьсот девяносто первого года он родился. Здесь жил и работал до поступления в Московский Художественный театр.
Удивительно, как сохранились для него вся сказочность и нереальность города, воображенные и нафантазированные еще в детские годы. Пожарная каланча на Невском — не каланча, а полный тайн замок, то необитаемый, то скрывающий за своими красными стенами сонмы странных существ, которые по временам со звоном, шумом и грохотом вырываются на свободу. Почему-то запомнился паровичок, ходивший некогда к Александро-Невской лавре. Оживая, он делался опасным и недобрым, особенно когда ближе подходил к тротуару. Когда-то паровичок этот часто снился ему. Снилось, как он гонялся за ним по каменным лестницам дома, из первого этажа во второй, из второго в третий, пока перед ним не захлопывалась дверь. А самый Невский проспект представлялся в те дни Мише Чехову не имеющим ни начала, ни конца, а тянущимся через весь мир.
Вспомнилась семья — отец, мать...
Физические, душевные и умственные силы отца казались Мише Чехову безграничными. По образованию естественник и математик, Александр Павлович великолепно ориентировался и в других областях науки — в медицине, в философии. Владел многими языками.
Но был человек неорганизованный, больной и со странностями, что мешало ему использовать свои знания и громадную жизненную энергию сколько-нибудь систематически.
Он органически не мог выносить ничего обыкновенного. Свои стенные часы он сделал сам, украсив их прутьями, пробками и мхом. А вместо гирь приспособил к ним бутылки с водой. Карманных часов у него было четырнадцать или пятнадцать. Телефон, стоявший у него на квартире, он уничтожил — тот звонил не тогда, когда хотелось хозяину. Зато над кроватью своей, пользуясь связями с городским начальством, зачем-то завел звонок, извещавший его о пожарах и днем и ночью.
Миша часто видел отца за письменным столом. Нарезав длинные полоски бумаги, он исписывал их мелким красивым почерком. Перья употреблял гусиные или даже куриные — от собственных кур. Куры разводились им только дорогих, редких и нежных пород. Они умирали от климата, от погоды, от недоедания и переедания. Пишущая машинка Александра Павловича была заброшена на чердак.
— Черт знает какая бессмыслица! — негодовал он. — Извольте на точку или 'запятую затрачивать то же усилие, что и на букву!
Жизнь с отцом, по воспоминаниям Михаила Чехова, была тяжелой и напряженной. По нескольку раз в год он внезапно исчезал из дому, извещая мать спустя какое-то время краткой телеграммой: «Я в Крыму», «Я на Кавказе». Возвращения его были печальны. Он страдал тяжелыми, физически и нравственно изнуряющими его запоями. Мучительно борясь с приближавшимися припадками, Александр Павлович и совершал эти свои «побеги». Волевым усилием он на какое-то время задерживал наступление болезни, но та всегда побеждала. Сгорая от стыда и мучась за жену, он с болью в голосе говорил:
— Мать, пошли, милая, за пивом.
В первые дни болезни отец обычно ходил по ночным притонам, раздавая деньги первым встречным. Затем уже безвыходно оставался дома и пил, временами впадая в забытье.
Несмотря на просьбы и протесты матери, отец во время болезни не отпускал Мишу от себя даже ночью. Мальчик жалел мать и страдал за нее, но отказаться от чудесных и страшных переживаний, которые возбуждал в нем отец во время этих ночных бдений, не мог.
Часто ночь начиналась игрой в шахматы. Несмотря на большое количество выпитого, отец никогда не терял способности мыслить и играл умно и смело. В большом отцовском кабинете с притушенной, часто коптившей керосиновой лампой, среди множества книг, Миша погружался в таинственную атмосферу. Шахматная игра кончалась, и отец начинал рисовать карикатуры. Он изображал самого себя, в здоровом и больном виде, жену, няню, сына, разных знакомых. Несколькими штрихами давал и внешнее сходство и внутренний облик. Любовь к карикатуре осталась у Михаила Чехова навсегда.
Когда рисование надоедало Александру Павловичу, он начинал показывать сыну физические и химические опыты. Их сменяли рассказы о знаменитых авантюристах и их проделках. Герои этих рассказов были свободны от страха смерти и легко рисковали своими жизнями так же, как и чужими. Но вот картины их приключений сменялись новыми — отец раскрывал перед сыном тайны звездного мира.
Язык Александра Павловича слегка заплетался. Иногда он внезапно выкрикивал одно-два слова. От этого становилось до того жутко, что у Миши спина холодела. Но он не мог и не хотел выходить из душной ночной атмосферы, в которую вовлек его отец. С жадностью вбирал он искусно изображаемые отцом космические картины несущихся в мировых пространствах комет, метеоров, туманностей. Картины эти производили впечатление грандиозное...
Начинало светать. Отец вставал, падающей походкой шел к окнам, разводил шторы, тушил лампу и снова опускался на диван.
— А ну-ка, произведи! — говорил он.
Миша подходил к ящику с пивом, откупоривал бутылку, и оба выпивали по стакану.
Теперь отец заводил речь о сознании. Возникшее, по его словам, из ничего, оно, миллионы лет подвергаясь «случайностям», достигло наконец своего апогея в прекрасной, жаркой, солнечной Греции. И человек в новом виде представал перед Мишей. Фигуры одних философов сменялись другими. Вот Аристотель, вот его ученик Платон, вот различие их образа мыслей. Все картинно, ярко, понятно и связно. Шаг за шагом вел его отец по широким и узким, прямым и кривым путям развития человеческой мысли. Хотя и усталый, с отяжелевшей головой, Михаил все же напряженно старался слушать отца и с уважением вглядывался в фигуры мыслителей, являвшихся его воображению...
Такого рода ночи сменялись тяжелыми днями. Мучение матери, ее и сына беспомощность перед несчастьем отца, иногда его грубые пьяные выходки держали весь дом в напряжении. Но вдруг наступал день, когда отец, всегда неожиданно для самого себя, отставлял недопитый стакан и говорил: «Кончено». Болезнь проходила внезапно, и Александр Павлович начинал работать без устали. Его литературные и научные труды хорошо оплачивались издателями. Судьба подшутила — он был автором книг на тему «Алкоголизм и борьба с ним».
С годами, вспоминает в своих записках Михаил Чехов, запои отца становились все чаще и продолжительнее. Он спился быстро и окончательно после того, как потерял своего единственного друга, которого нежно любил и перед которым преклонялся. Другом этим был его брат — писатель Антон Павлович Чехов. Их переписка, полная юмора, взаимной любви и глубоких мыслей, была, уже после смерти отца, тщательно подобрана Михаилом Александровичем в хронологическом порядке и позднее опубликована.
Михаил Чехов вспоминает, что однажды мальчиком, будучи в Ялте, он забрался в спальню дяди, Антона Павловича, когда его не было дома. Над кроватью писателя висела большая картина, написанная масляными красками братом его, художником Николаем. Картина изображала бедную швею с измученным, усталым лицом, опустившую руки на колени. То, что она шила, упало на пол. На столе горела маленькая, тусклая керосиновая лампа. Худая рубашонка сползла сплеча швеи. В грустном, почти плачущем лице ее Миша узнал свою мать. Когда он подрос, ему рассказали, что Антон Павлович и его мать любили друг друга. Почему они не поженились, осталось для Михаила Александровича неизвестным.
Увлечение театром возникло в юном Чехове уже в раннем детстве. Миша собирал со всего дома одежду: „отцовские пиджаки, нянины юбки и кофты, мужские и женские шляпы, зонтики, галоши — все, что попадалось под руку, — и начинал импровизировать. Он брал первую попавшуюся под руки часть одежды, надевал ее на себя, и тогда как-то само собой приходило ощущение: кто же он теперь такой. Импровизации были юмористическими или серьезными — в зависимости от костюмов. А то еще он любил имитировать своих близких и знакомых. Первыми его зрителями были мать и нянька. Что бы он ни изображал, реакция няни была все та же. Она закатывалась долгим, свистящим смехом, переходившим в слезы.
— Наш-то, наш-то!.. — приговаривала она, утирая глаза подолом юбки.
Постепенно круг зрителей расширялся. Из комнат «спектакли» перешли на балкон, где для полного сходства с «настоящим театром» Миша из простыни обычно сооружал занавес. Тут он уже читал рассказы Горбунова, играл сценки из Диккенса или сочиненные им самим. Рамок авторского текста юный Чехов вообще не имел обыкновения придерживаться: они стесняли его. Гораздо лучше он чувствовал себя, когда импровизировал. Сделав однажды попытку строго следовать тому, что сказано у автора, Миша растерялся, расплакался и в отчаянии убежал «за кулисы». Публика утешала его, но конфуз был так велик, что он решил «бросить сцену навсегда». Но не бросил. Вместе с товарищами выступал то у себя на балконе, то на улице перед дачами соседей, то в гимназии — на переменах. А иногда, когда был один, играл «просто для себя».
Выступления приобретали популярность. Вскоре Миша становится участником одного дачного любительского кружка. Назначали его там почему-то главным образом на роли водевильных старичков. Выходя на сцену, он совершенно забывал и себя, и окружающую обстановку и отдавался тому стихийному чувству, которое неизменно сопровождало его артистические опыты. Самому Чехову было все равно — репетирует он или выступает перед публикой.
Восемнадцати лет Михаил Чехов поступает в театральную школу. А оттуда — в Петербургский Малый (Суворинский) театр. В ту пору театр этот возглавлял Н. Н. Арбатов, человек большого таланта и эрудиции. Его актерское и режиссерское мастерство производили на молодого актера впечатление неотразимое. У него, у первого, учился Чехов ценить тонкость и четкость сценической работы, проникать в глубины драматического произведения, находить необходимую для раскрытия его содержания форму.
Репертуар в Суворинском театре был смешанный. Михаил Александрович вспоминал потом, что ему приходилось играть в таких не оставлявших в душе никакого следа пьесах, как «Боевые товарищи» Тарского, «Соль земли» Бобрищева-Пушкина, в пьесах Рышкова. Но там же он сыграл и главную роль в трагедии А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Спектакль имел значительный успех. Отец Чехова, Александр Павлович, совершенно не веривший в актерское дарование сына, тут впервые обратил на него внимание. После спектакля он подошел к нему, похвалил и даже поцеловал. С чувством глубокого волнения вспоминал Михаил Чехов и много-много лет спустя этот отцовский поцелуй, благословивший его на трудный актерский путь.
Исполнение роли царя Федора было для Михаила Александровича связано с еще одним, но уже неприятным воспоминанием: он узнал, что такое театральные интриги. После первого представления пьесы на сцену, при открытом занавесе, подали громадный лавровый венок. Предназначался он Чехов}', но сам актер не сразу даже понял это и отстранялся от капельдинера, который протягивал ему венок. В зале аплодировали. Чехов взглянул на надпись на ленте и увидел, что подношение предназначено именно ему. Но в то же мгновение он почувствовал боль в левой руке. Артистка, игравшая в спектакле роль царицы Ирины, сильно сдавила ему руку и страшным голосом прошептала:
— Сам. Сам поднес себе венок!
Она кланялась публике и больно давила своему партнеру руку. Чехов совершенно растерялся. Тут же на сцене он пытался объяснить ей, что ничего о венке не знал. Но она продолжала шептать злым голосом:
— Хорош! Сам себе поднес такой венок!
Занавес закрыли, и исполнительница роли царицы Ирины, дрожа от злобы и указывая на Михаила Чехова, кричала о его «неприличном поступке». Актеры молча слушали ее, а Михаил Александрович, как подсудимый, стоял в центре группы, не зная, что делать с огромным венком, который держал в руках...
В Суворинском Малом театре он проработал полтора года, когда на гастроли в Петербург приехала труппа «художественников». Шла «Синяя птица». Михаил Александрович пошел с родственным визитом к Ольге Леонардовне Книппер. Во время их встречи возник вопрос о поступлении Чехова в труппу МХТ. Трижды было ему устроено испытание: экзаменовали молодого актера К. С. Станиславский, А. Л. Вишневский и О. Л. Книппер. Михаил Чехов был принят.
Переехав в Москву, он начал с очень скромных ролей — «оборванца» и бессловесного «актера» в «Гамлете». Играя их, волновался как никогда раньше. В качестве «оборванца» он с таким рвением бил бутафорским топором по железной двери, что со стороны, как он сам потом посмеивался, можно было подумать, будто от этого зависит успех всего спектакля.
К. С. Станиславский следил за актерским развитием Михаила Чехова и немало времени уделял ему, знакомя с начатками своей системы. А вскоре дал ему роль в одноактной комедии Тургенева «Провинциалка» и много работал с ним над этой ролью. Родилась Первая студия. Чехову поручили сыграть Кобуса в «Гибели Надежды», потом Калеба в «Сверчке», Фрезера, Эрика, а на основной сцене МХТ — Хлестакова...
Сейчас Михаил Александрович глядел на все это издалека, вспоминая прошлое. Вспомнил и свой приезд с ролью Хлестакова на гастроли в Ленинград, и репетицию, которая этим гастролям предшествовала, на сцене бывшего Александрийского театра.
Вот он знакомится с режиссером театра Е. П. Карповым, с труппой. К нему подходит пожилая актриса и дружески жмет руку. Это Мария Петровна Домашева. Михаилу Чехову хочется сказать ей, как много лет назад он восторгался ее игрой, как учился, глядя на нее. Но он сдерживается: вспоминать пришлось бы о молодой, очаровательной девушке, а перед ним старушка. Однако зачем она здесь? На репетиции гоголевского «Ревизора»? Кого она может играть в этой пьесе? Для роли Пошлепкиной Мария Петровна слишком почтенная, слишком знаменитая актриса, а других старушек в комедии нет. Михаил Александрович обращается с вопросом к режиссеру. Тот отвечает, что ее роль в «Ревизоре» — Марья Антоновна, дочь городничего. То есть барышня лет шестнадцати, почти девочка! Но разве может Домашева в свои годы играть девочку?.. «Боже, что будет с моим темпом? Пропала сцена! А публика? Ведь смеяться будут!» Из приличия надо было, однако, свой испуг скрыть.
Приступая к описанию того, что произошло дальше, Михаил Чехов не без иронии замечает, что репетиции с гастролером — явление особого порядка. «Предполагается, — говорит он, — что гастролер не нуждается в репетиции: он все знает. Единственное, что ему нужно, — это удобные для него мизансцены партнеров. Эти мизансцены он и должен им указать». Репетиция бывает обычно одна и больше походит на урок танцев, чем на подготовку к спектаклю. Ибо все друг другу кланяются, все вежливо и легко скользят, а не движутся по полу. И все улыбаются, всех все устраивает.
— Могли бы вы, если это вам не совсем неудобно, на шаг отступить?
— О, с восторгом! Вот так?
— Прекрасно, прекрасно!
— Очень рад.
— Могу я просить вас привстать и слегка поклониться, когда я...
— Ага! Я понимаю вашу идею! Так? Выше? Ниже!
— О, так. Совершенно так, как вы это сделали! Чудесно! Мерси!
— Рад служить!
На таких репетициях режиссеру дела немного. Он вежливо присутствует и одобрительно кивает головой, встречая чей-нибудь взгляд. Так, по словам Михаила Александровича, прошла и сцена с Домашевой. Слова бормотали или шептали, делая неопределенные жесты (намечая!) и только внезапно ударяя на репликах, на которых должен вступить партнер.
Вечером — спектакль. В первом акте Михаил Чехов встал за кулисы, чтобы посмотреть, что и как станет делать Мария Петровна? Когда на сцену выбежала дочка городничего, он с облегчением вздохнул: Домашеву удалось заменить молодой актрисой.
Марья Антоновна была прелестна! Ее молодость, несомненный талант исполнительницы, ее чудный голос, такой звонкий, ее обаяние — все поразило гастролера. Стоя за кулисами, он, как это бывало в молодости, молниеносно влюбился и в Марью Антоновну, и в актрису, которая играла ее. Михаил Александрович впился в нее глазами, неотрывно следил за ее грациозными и вместе с тем провинциальными движениями. Какой талант!
И вдруг... Или это только показалось ему?.. Он увидел Марию Петровну Домашеву. Да, это была она! Влюбленность Михаила Александровича сменилась благоговением перед ее талантом. Перед тем поразительным чудом, которое совершилось с телом Домашевой, ее голосом, со всем ее существом. Ему захотелось играть, и он был счастлив в течение всего спектакля. Сцена с Марьей Антоновной прошла под гром рукоплесканий.
И вот снова ему предстоит играть Хлестакова. Теперь — в Риге.
Много лет назад, когда Михаил Чехов еще работал в Первой студии Московского Художественного театра, ему уже довелось вместе с труппой быть в Риге. Это было в те годы, когда латышские буржуазные националисты, подавив революционное движение народных масс, захватили власть в свои руки и создали в Латвии буржуазную республику. Рига тогда была, следовательно, за границей, а поездка Чехова туда — первым его выездом за границу. Его в ту пору ужасно занимало, что же это такое «заграница»? Он легко воображал себе Париж, Берлин, Лондон, Рим, даже Нью-Йорк. Но о Риге, как о городе, находящемся по ту сторону границы, как-то не думал, И вот она первая раскрыла перед ним «соблазнительные тайны заграницы».
Город тогда всеми силами стремился подражать Парижу, и Михаил Александрович соблазнился этим «маленьким Парижем».
Гостеприимные хозяева водили его из ресторана в ресторан — днем в «Верманский парк», «Римский погреб», ночью — в подвальные кабачки с многоцветными мигающими электрическими лампочками. Он ел, пил, шумел, надписывал свои фотокарточки, всех, как ему казалось, любил, всех обнимал. Отплясывал «Русскую», врываясь в томные фокстроты. Обнимал девушек, неизвестно как появлявшихся у него на коленях. Влюблялся в них и тотчас же терял из виду. В ресторанах его уже узнавали. Кричали ему:
— Господин Чехов (господин!), к нам, за наш столик!
Михаил Александрович перебегал от одной компании к другой. Кого-то с тоской провожал, кого-то встречал как родного. На рассвете катался на лодке, решая непременно выехать на простор. В Рижский или даже в Финский залив.
Эта легкомысленная встреча с «заграницей» не мешала Михаилу Чехову играть с увлечением. Молодых сил хватало на все. Спектакли имели успех, и ему жалко было по окончании гастролей покидать «маленький Париж».
...Теперь, снова появившись в Риге, Михаил Чехов живо вспомнил тот приезд. Официальное положение гастролера и несколько торжественная обстановка (его на вокзале встретила группа представителей от обоих театров и журналисты!) заставили, однако, Михаила Александровича приосаниться и держать шляпу над головой, пока вспыхивали лампочки фоторепортеров. Среди встречавших он обнаружил своего старого приятеля, веселого завсегдатая ночных кабачков. Но тот, как и сам он, держался весьма солидно, степенно подошел к Михаилу Александровичу, долго пожимал ему руку и даже произнес какую-то речь. Ему, несомненно, было известно, что фотоснимок этой сцены на другой день появится в газете.
Положение русского меньшинства в Латвии было в те годы мало сказать трудным. Обещанная в свое время властями автономия русских школ не соблюдалась. Преподавание в этих школах на русском языке запретили. Изучать историю своего народа, географию родины своих отцов и дедов детям было нельзя. Даже на уроках хорового пения русские народные песни находились под запретом. Лишь для театра власти сочли возможным сделать исключение, разрешив существование русской труппы. Театр русской драмы охотно посещался населением. Горячий интерес вызывало у публики появление русских гастролеров в Национальной опере и драме.
Приехав сюда, Михаил Чехов осматривал город, посещал театры, знакомился с людьми. Теперь, побродив по Европе, повидав и старую Прагу, и старый Таллин, и уголки Парижа, и чудеса Венеции, куда он ездил отдыхать, и Понте-Веккио во Флоренции, Михаил Александрович с большим пониманием мог оценить и «старую Ригу». Она произвела на него чарующее впечатление. Потом он всегда с любовью вспоминал о ней.
Рижские театры отнеслись к гастролям Михаила Чехова со всей серьезностью. Репетиции проходили в благоговейной тишине, сосредоточенно и с полной мобилизацией душевных сил актеров. Чехов чувствовал: они играют лучше обычного, хотя до этого не видел никого из них на сцене. «Как в Москве, в моем родном театре», — как вздох, вырывается у Михаила Александровича. Ему была радостна вся эта обстановка, чуждая той откровенной халтуры, до которой ему пришлось опуститься в Париже.
Чехов все же есть Чехов. Даже порастеряв немало из того, что в свое время достиг как художник, он к каждому новому выступлению долго готовит себя внутренне. Как ни кажется зрителям совершенным созданный им образ, никогда найденное не удовлетворит Михаила Александровича вполне. Всегда отыщет он что-то, что ему хочется дополнить, изменить, смягчить что-то, что захочется убрать. Отсюда каждый раз новые, иногда еле уловимые, тончайшие штрихи, которые он снова и снова вводит в давно сделанную роль. И хоть ничего в целом и не изменилось, зритель, видевший его в этой роли, чувствует: что-то все-таки изменилось.
Было, как мы узнаем из описаний спектакля в местной прессе, нечто новое и в Хлестакове, которого он вторично показал в Риге. Так — и не совсем так. Речь шла, разумеется, о маленьких подробностях. Например, в сцене со взятками, в эпизоде с Марьей Антоновной. Найдены были мелочи. Но оттого, что Михаил Чехов не остановился, а искал, непрерывно искал, от спектакля, показанного в Риге, в «Русской драме», веяло новизной, свежестью, как будто он идет впервые.
«Ревизор» шел с большим подъемом. Два спектакля были особенно торжественными. И не только для исполнителя центральной роли, но и для всей труппы. На одном из них присутствовал Федор Шаляпин, на другом — Макс Рейнхардт. Шаляпин заходил к Михаилу Александровичу за кулисы, хвалил его игру. Лестно отозвался о ней и Рейнхардт.
— Кружева плетет, сукин сын, — говорил о нем Федор Иванович.
Немецкий режиссер говорил примерно то же самое, но без «сукина сына».
Несомненный успех пришелся и на долю «Эрика XIV», где Михаил Чехов выступил и как актер и как постановщик.
Схватка с «Белым козлом»
Одна удача привела к другой. Вскоре после успеш”ных гастролей, вернувшись в безрадостный для него Париж, где делать ему, в сущности, было нечего, Михаил Александрович получает из Риги новое приглашение. На этот раз уже на постоянную работу. Это позволяет покончить с тем, что тянуть стало невмоготу. Чехов с удовлетворением откликается на предложение латвийских театров.
«Что потерял я в Париже»? — спрашивает он, подытоживая еще один этап своей неудачливой эмигрантской жизни, и отвечает: «Деньги и излишнее самомнение. Что приобрел? Некоторую способность самокритики и наклонность к обдуманным действиям».
В Риге ему предстояла работа над «Гамлетом», задумывались «Село Степанчиково» по Достоевскому и «Смерть Иоанна Грозного». Пансион «Шлосс ам мер», в котором он на время поселился, был только передышкой. В Латвии, как и в Западной Европе, пустые оперетты, феерии и фарсы главенствовали в театральном репертуаре. И, судя по сборам, вполне устраивали рижскую публику. Но, несмотря на это, Михаил Чехов решил попытаться сделать здесь то, что ему не удалось ни в Берлине, ни в Вене, ни в Париже. И Рига откликнулась на это.
Два месяца («денно и нощно», — писали местные газеты) шли репетиции «Гамлета» в Национальном театре. «Совсем как в Московском Художественном», — с гордостью отмечала дирекция. Поэт Ян Судрабкалн, в ту пору часто выступавший в печати со статьями по вопросам искусства, оставил нам живое свидетельство о Чехове — Гамлете тех лет. Он описывает худощавого юношу в рыцарских ботфортах, с лицом не столько красивым, сколько умным, одухотворенным. Ниспадающие пряди волос, острый, пронизывающий взгляд. Поначалу погашенный, какой-то неживой тон голоса, почти без градаций, не позволяющий нащупать пульс, мысль, душу. Но вот тени сгустились. Отступила, исчезла нерешительность, что-то зажглось в человеке. Пламя, которым он горит, то мрачное и холодное, то вырывающееся ослепительно и грозно, не покидает его уже до конца. Голос обретает силу. В нем — скорбь. И в этой скорби рождается воля к действию. Ибо для Михаила Чехова (как и для Вахтангова, так и не успевшего привести в исполнение свой замысел) Гамлет — человек с кипучей энергией и большой силой воли. Принц Датский, как доказывает Ян Судрабкалн, устремляется у Чехова к своей цели подобно разжавшейся пружине. Устранено все лишнее. Шаг за шагом неотступно подвигается он вперед в своей схватке с противником.
В спектакле вместе с Михаилом Чеховым заняты артисты Национального театра. Спектакль идет на латышском языке, только Чехов — Гамлет говорит порусски. Но это никому не мешает: здесь понимают русский язык, многие хорошо знают и любят классическую русскую литературу.
Встреча с Михаилом Чеховым и для актеров, и для зрителей была, между прочим, интересна еще и тем, что знакомила их с русской театральной школой. С той ее порослью, которая в значительной степени сформировалась и выросла в послереволюционные годы. Уже одним этим спектакль вносил много нового в жизнь Национального театра.
«Про искусство в последние годы Рига привыкла говорить, как про нечто веселое и пустое. Чехов снова уводит зрителя ввысь», — отмечал Ян Судрабкалн. Он еще не знал, пойдет ли публика за Чеховым, нужен ли вообще тем, кто посещал в те годы рижские театральные представления, театр большой формы? С пустеньким фарсом «Белый козел» и ему подобными, заполнившими тогда латвийские сценические подмостки, шекспировской драматургии спорить было, конечно, нелегко. Но внимание к себе чеховский «Гамлет» сумел привлечь. И это обнадеживало.
После четырех можно сказать пустых в смысле творческом лет на Западе это было для Михаила Александровича проблеском настоящей радости. Начало удаче здесь, в Риге, положили Эрик и Хлестаков. Теперь Гамлет. Работы, правда, не новые. И, как он сам вынужден признать, постановка того же «Гамлета» здесь «не могла быть так детально разработана в смысле исполнения и стиля, как московская». Он только верит, что «в ней удалось сохранить основную атмосферу спектакля». И все же, и все же...
К «Гамлету» он готовился особенно тщательно. Перед тем как выступить в латвийском Национальном театре, он поставил эту шекспировскую трагедию в Каунасе, бывшем в то время столицей Литвы. В заглавной роли выступил товарищ Чехова по Художественному театру литовец А. М. Жилинский (Олека-Жилинскас.) Будучи директором столичной каунасской оперы и драмы, он специально приезжал за Михаилом Чеховым в «Шлосс ам мер».
В Каунасе, в фойе театра, Михаил Александрович увидел на парадном месте большой фотопортрет К. С. Станиславского. И под ним подпись, адресованную деятелям литовской сцены: «Задача нашего искусства, — писал Станиславский, — создание жизни человеческого духа. В переживаемую нами эпоху эта жизнь сложна, и отображение ее на сцене — трудно. От всего сердца желаю вам полного успеха в выпавшей на вашу долю большой и важной миссии. Очень хотел бы помочь вам тем, что в моих средствах. Шлю дружеский привет всем товарищам по искусству.
Искренно преданный К. Станиславский
6.II 1.1931. Москва».
С волнением рассматривал Михаил Чехов портрет своего учителя, которого после Германии он уже больше не видел. Как хотелось Чехову, чтобы слова Константина Сергеевича, его привет и пожелание успеха в работе он мог бы принять и на свой счет!
Занятия с молодым литовским коллективом пришлись по душе Михаилу Александровичу. Он с головой уходит в репетиции, работает не покладая рук. Его радует атмосфера общей глубокой заинтересованности в деле, когда каждый (или, во всяком случае, почти каждый), по слову К. С. Станиславского, любит искусство, а не себя в искусстве. Уже одно это приносит результаты.
«Наш театр давно мечтал о «Гамлете», — писал в газете «День» Ю. Палецкис. — Но мечты наши всегда заслоняли угрюмые соображения, что мы, мол, не доросли до него. И вот «Гамлет» поставлен. Сделал это актер Московского Художественного театра М. Чехов». Автор статьи отмечает успешное современное прочтение шекспировской трагедии. Говорит об отлично скомпонованных массовых сценах и хорошей игре слившегося в крепкий ансамбль коллектива литовских артистов — В. Даугаветиса (Король), П. Кубертавичюса (Лаэрт), И. Петраускаса (Полоний), О. Римайте (Офелия), В. Олекене-Соловьевой (Королева), А. Купстаса (Горацио), В. Динейка и Р. Юкнявичюса (Розенкранц и Гильденштерн), Сипариса и Юршиха (могильщики). И особенно исполнителя центральной роли — Жилинскаса — Гамлета.
Принцем Датским А. Жилинскаса удовлетворен и Михаил Александрович. «Его Гамлет, — заносит Чехов в свой дневник, — был удивительным существом. Как будто над событиями окружающей его жизни проходила, проносилась его душа. И вместе с тем весь он с его пламенным, страдающим сердцем, острым умом и все пронизывающим взглядом был здесь, на земле, с Королем, Королевой, Офелией, Горацио и старым Полонием». У исполнителя и внешние данные для этой роли превосходны: красивое, правильное лицо, стройная высокая фигура и глубокий, проникающий в душу голос. «Я наслаждался, работая с ним», — отмечает Михаил Чехов.
Но и актеры наслаждались, работая с ним, с Чеховым. Он ставил перед ними трудные задачи и, как никто до него, сам помогал их решать. «Пребывание Михаила Александровича в Аитве, — рассказывает — В. Соловьева (Олекене-Соловьева), артистка МХАТ-2, работавшая в начале тридцатых годов в Каунасе, — было одной из лучших страниц нашей совместной работы. И мне лично никогда роли так легко не давались, как под его режиссурой».
Крупнейшая в то время литовская газета «Летувос Айдас» после премьеры «Гамлета» свидетельствовала, что «многих актеров на этом спектакле не узнать, столько неожиданных, свежих красок появилось у каждого». Полностью разделяя это убеждение, Ю. Палецкис делает в своей статье вывод, что «постановка «Гамлета» явилась большой и важной школой для литовских артистов».
Фома Опискин
Жизнь в Прибалтике завертела, закружила Михаила Александровича. Только прошла каунасская премьера, а уже надо спешить на гастроли в Таллин и Тарту.
В столице Эстонии спектакли чеховского ансамбля проходят при переполненном зале. Успех столь велик, что дирекция идет на отмену очередного спектакля Национального эстонского театра (факт для тех лет настолько необычайный, что его отмечают газеты) и отдает помещение для русского представления. С таким же успехом проходят гастроли Михаила Чехова и в Тарту.
Потом — снова Рига. Здесь тоже идет «Гамлет», и Чехов сам играет заглавную роль. И только сыгран принц Датский, надо тут же, без перерыва, бросаться в новую работу. В «Русской Драме» ему ставить «Село Степанчиково» и — впервые в жизни — испробовать свои силы в роли Фомы Фомича Опискина. На сцене Московского Художественного видел Чехов Москвина — Опискина. Ах, как он играл!.. Но тем труднее, тем ответственнее его собственная задача.
Известная ему инсценировка повести Ф. М. Достоевского кажется Михаилу Александровичу вялой, расслабленной. Надо устранить длинноты, разжижающие действие. Найти обострения. Верные пропорции в чередовании комических и драматических моментов. Но это значит создать, в сущности, новую пьесу. И он создает ее. При этом много думает о характере своего героя, о тех извивах его душевной жизни, которые этот характер сложили.
Сообразуясь с указаниями Достоевского и своими собственными представлениями, Михаил Чехов пробует набросать в альбоме физический облик Фомы Фомича.
Спектакль загодя вызывает широкий интерес публики, и одна из рижских газет помещает чеховский эскиз. Рисунок острый, хлесткий, точный. Вместе с рисунком идет пространное интервью с его автором, приводится описание репетиций, сообщается состав действующих лиц и исполнителей. Заняты лучшие силы труппы.
Репетиций, по здешним представлениям, идет множество. Актеры жалуются, что «издышались», просят отдыха. На самом деле, между премьерой «Гамлета» в Национальном театре и «Селом Степанчиковым» в «Русской Драме» проходит чуть больше месяца.
Когда на спектакле Михаил Чехов — Фома Фомич, маленький, горбоносый, с выгнутым вперед тяжелым подбородком, мягкогрудый, с асимметрично посаженными глазами и косичкой на затылке, появился в своем шлафроке и с притворным равнодушием скрипучим, ржавым голором тихо произнес первые слова, он сразу приковал к себе общее внимание. От картины к картине оно росло. В антрактах зрители, позабыв про буфет, взволнованно обсуждали увиденное — сцены с Фалалеем, с «Вашим превосходительством», «литературный разговор», яркую шутовскую форму, в которую облечены выходки Фомы Опискина, его жесты, манеру двигаться, удивительную связь движения и жеста актера со словом...
Постановку признали одной из наиболее удачных в сезоне. Героя ее поздравляли. Снова появились хвалебные статьи в прессе. Но сам Михаил Чехов знал: хвалить не за что, и никакой удачи ка самом деле нет.
Он знал: то, что им сделано в Фоме Опискине, — это только копия виденного. Виденного у И. М. Москвина. И как бы хороша ни была копия, она не оставляла, почти не оставляла, места для проявления оригинального творчества. И это в первой по-настоящему серьезной новой роли за столько лет!
Бывало и раньше, там, дома, Михаилу Чехову долго не давалась роль, и он много бился над ней, пока задуманный образ не созреет вполне. Так произошло, в частности, с Эриком. Чехов вспоминает, как Вахтангов, ставивший пьесу Стриндберга, приходил в отчаяние. По окончании генеральной репетиции он даже хотел отменить уже объявленную премьеру, на которую в кассе уже не осталось ни одного билета. Зная, однако, особенности Михаила Александровича как актера, со всеми его душевными свойствами, Вахтангов решил рискнуть — и не ошибся. На открытом представлении подсознательные творческие силы Чехова словно прорвали преграду. Тут же, на глазах зрителя, к неописуемой радости постановщика, он создал необычайно выразительный образ безумного короля.
Нынче же, при всем внешнем успехе спектакля, Михаил Александрович видел: нет причин для радости. Прошло всего четыре года со времени отъезда из России, а он — если смотреть здраво — не сделал еще ни одной по-настоящему большой новой работы. Ибо что ни говори, а Гамлет, точно так же, как Мальволио, Хлестаков, Фрезер и Эрик, сыгранные на Западе, в конце концов только повторение некогда найденного, открытого, свершенного. То есть жизнь на капитал, приобретенный раньше, дома. А за пределами его что же — Юзик? Князь из «Феи»? Затея с пантомимой «Дворец пробуждается»? Или даже Фома Фомич Опискин из «Села Степанчикова»?..
Упорство
Т'олько труд, труд и труд, непрерывный, напряженный, труд без передышки, надеется Михаил Александрович, может быть, выведет его из полосы неудач и кризисов. Он загружает себя работой до предела. Руководит и сам преподает в школе сценического искусства, созданной в Латвии, продолжает играть в Национальном театре и «Русской Драме», два-три раза в неделю ездит из Риги в Каунас, где осуществляет постановки «Двенадцатой ночи» и «Ревизора», занимается и там с актерами. А в перерывах между поездками пишет, по их просьбе, пространные письма, в которых делится мыслями об искусстве театра.
«Бывают бездушные люди, — объясняет он в одном из писем, — с безразличными, холодными глазами, с убивающим спокойствием смотрящие на горе и радость тех, кто им встречается на пути. Их присутствие не греет и не волнует окружающих. С ними говорят по необходимости, с ними делают дела по необходимости, но их не любят, они не притягивают к себе. Бывают такие люди. Но бывают и такие спектакли: холодные, бездушные, не волнующие, не притягивающие к себе. Зритель не в состоянии полюбить такие спектакли».
Бороться с развращающим угодничеством перед публикой зовет Михаил Чехов актеров литовского театра. Он зовет их освободиться от шаблонных приемов, вошедших в привычку у многих служителей Мельпомены. Учит жить на сцене, ни единой минуты не разговаривая с публикой, ничего не делая для условного сценического успеха. Чехов советует им серьезно овладевать умением «говорить, думать и ходить по сцене». Спектакли, которые он ставит, имеют целью научить их этому на практике. Уроки — как вызывать в себе нужное для спектакля состояние.
Живет Михаил Александрович, когда приезжает в Литву, у А. М. Жилинского и В. В. Соловьевой. Сначала в городе, потом в большом загородном доме. Оттуда ездит ежедневно с друзьями в театр и на занятия с актерами. В свободное время уединяется в комнате с чудесным видом на Неман, готовит свои лекции. Завтра он должен будет выступить. Обдумывает, как сделать, чтобы интересно было его слушать. Как добиться, чтобы урок оказался наполненным, остался в памяти, принес результат? И Михаил Александрович ищет. Он заботится о форме изложения своих мыслей не меньше, чем об их содержании. Знает: без этого нельзя.
На другой день он придет в театр и скажет тем, кто явится его слушать:
«Вот, допустим, вечер. После долгого дня, после множества впечатлений, переживаний, дел и слов вы даете отдых своим утомленным нервам. Вы садитесь, закрыв глаза или погасив в комнате свет. Что возникает из тьмы перед вашим умственным взором? Лица людей, встреченных вами сегодня. Их голоса, их разговоры, поступки. Их движения, их характерные или смешные черты. Вы снова пробегаете улицы, минуете знакомые дома, читаете вывески. Вы пассивно следите за пестрыми образами воспоминаний проведенного дня. Потом незаметно для самих себя выходите за пределы его, и в воображении вашем встают картины близкого или далекого прошлого. Ваши забытые или полузабытые желания, мечты, цели, удачи и неудачи встают перед вами. Правда, они не так точны, как образы воспоминаний сегодняшнего дня, они уже словно подменены кем-то, кто фантазировал над ними в то время, как вы «забыли» о них, но все же вы их узнаете.
И вот среди всех видений прошлого и настоящего вы замечаете: то тут, то там проскальзывает образ, совсем незнакомый вам. Он исчезает и снова появляется, приводя с собой других незнакомцев. Они вступают во взаимоотношения друг с другом, разыгрывают перед вами сцены. Вы следите за новыми и новыми для вас событиями. Вас захватывают странные, неожиданные настроения. Незнакомые образы вовлекают вас в события из жизни, и вы уже активно начинаете принимать участие в их борьбе, дружбе, любви, счастье и несчастье. Воспоминания отошли на задний план — новые образы сильнее воспоминаний. Они заставляют вас плакать или смеяться, негодовать или радоваться с большей силой, чем простые воспоминания. Вы с волнением следите за этими, откуда-то пришедшими, самостоятельной жизнью живущими образами. И целая гамма чувств пробуждается в вашей душе. Вы сами становитесь одним из них. Ваше утомление прошло, сон отлетел. Вы в приподнятом, творческом состоянии».
«Фантазируйте, — зовет Чехов. — Актер и режиссер, как и всякий художник, знают такие минуты, когда они фантазируют. «Меня всегда окружают образы», — говорил Макс Рейнхардт. «Все утро, — писал Диккенс, — я сижу в своем кабинете, ожидая Оливера Твиста, но он все еще не приходит». Гёте сказал: «Вдохновляющие нас образы сами являются перед нами, говоря — «мы здесь!» Рафаэль «видел» образ, прошедший перед ним в его комнате — это была Сикстинская мадонна. Микеланджело воскликнул в волнении: «Образы преследуют меня и понуждают ваять их формы из скал!»
«Поэтому фантазируйте, — снова настойчиво повторяет Михаил Чехов. — Однако, имея определенную художественную задачу, надо еще и научиться властвовать над вызванными вашим воображением образами. Надо организовать их и направить соответственно вашей воле. (Упражнения на внимание помогут вам в этом.) Тогда подчиненные вашей воле образы будут являться перед вами не только в вечерней тишине, но и днем, когда сияет солнце, и на шумной улице, и в толпе, и среди дневных забот. Конечно, не сразу же законченными и завершенными. Потребуется немало времени на то, чтобы, меняясь и совершенствуясь, достичь нужной вам степени выразительности. Надо научиться терпеливо ждать. Леонардо да Винчи ждал годы, пока он смог закончить голову Христа в «Тайной вечере». Но ждать — не значит пребывать в пассивности. Несмотря на способность образов жить самостоятельной жизнью, активность творца является условием их развития».
И Михаил Чехов учил своих воспитанников, как надо активно вызывать к жизни творческий образ.
Для «Двенадцатой ночи» он пригласил талантливого литовского художника Станислава Ушинскаса. Ученик французских мастеров, Леже и Эктера, Ушинскас, несмотря на свою молодость (ему в ту пору — менее тридцати лет), был хорошо известен в Литве и имел несколько оформленных спектаклей — драматических и балетных. Следуя моде, отдал в них дань и кубизму, и абстракционизму. На встречу с Михаилом Александровичем шел поэтому хотя и с интересом, но и с некоторой опаской. «Гамлета» Михаила Чехова в оформлении М. В. Добужинского считал «спектаклем академического характера». Но, встретившись с Чеховым, увлекся его пониманием театра и роли художника в нем. Михаил Александрович говорил, например, что театральный декоратор — это не только конструкторкомпозитор архитектурных форм, но и художник, помогающий решить «переживания» актеров на сцене. Чем? Гримом, костюмом, манерой себя держать, всем сценическим окружением. Это требовало от художника-постановщика уже не одной только «кабинетной» работы, не одного только отвлеченного размышления на тему о Шекспире, его произведении и его героях, но и живого общения с актерами на репетициях, чтобы позже, создавая театральный персонаж, учесть конкретного исполнителя, а проектируя костюм для него — движения актера. И при этом помнить: ни Мольера, ни Шекспира нельзя «реставрировать». Новая эпоха имеет нового зрителя, и, чтобы пьеса «дошла», была им понята и принята, ее следует интерпретировать, исходя из нового (современного) мировоззрения.
Режиссер и художник, в общем, легко нашли общий язык. Михаил Чехов объяснил Ушинскасу свое решение спектакля, поставил перед ним конкретные задачи. Станислав в шутку назвал это решение «клоунада», но Михаил Александрович предложил: пусть лучше будет «цирк». На том и порешили.
В «Двенадцатой ночи» много картин. Декорации к ним расставлялись на сцене самими актерами. Разыгрывая созданные режиссером пантомимы, которые сопровождались музыкой и всевозможными световыми эффектами, они вращали сцену (Ушинскас сконструировал ее с тремя кругами), убирали мебель, переносили бутафорию. На глазах у зрителей строились дворец, сад, винный погреб, создавалась буря. (К сожалению, макеты постановки во время войны пропали. Остались только эскизы некоторых декораций.)
А. Жилинскас играл в «Двенадцатой ночи» сэра Тоби. «Я смотрел на него, — пишет Михаил Чехов в своем дневнике, — и старался отыскать хоть намек, хоть одну незначительную черту в его игре, фигуре, голосе, которая выдавала бы только что сыгранного Принца Датского. И не нашел. Мудрые глаза превратились в подслеповато-пьяненькие, в голосе разгул, в движениях озорство и размашистость, и вся стройная фигура Гамлета преобразилась в рыхлую, уютную, отягченную немалым животиком фигуру сэра Тоби».
Газета «Летувас Айдас», оценивая выпущенный спектакль, снова отметила большой прогресс, достигнутый труппой благодаря режиссуре Михаила Чехова. «Даже те из актеров, от которых мы, зрители, обычно и не ждали ничего, кроме штампа и трафарета, совершенно преобразились на этот раз, — писала газета. — Мы смотрели и удивлялись. Казалось, откуда только в них столько характерной для шекспировской комедии легкости, грациозности, тонкости?»
П. Кубертавичюс, до того неизменно выступавший в ролях трагического плана, играл в «Двенадцатой ночи» Орсино. Играл неожиданно свежо, интересно. Новые краски раскрылись в даровании А. Жалинкавичайте (Оливия). Расцвел, как никогда до этого, И. Сипарис: его шут Фесте явился одним из лучших образов спектакля. Отлично показали себя О. Курмите (Виола), Г. Качинскас (Мальволио), В. Динейка (сэр Эндрю), А. Вайнюнайте (Мария). «Словом, успех. Большой, подлинный успех драматического коллектива», — заключала «Летувас Айдас». Мнение ее поддержала и газета «Эхо». «Результат прекрасен», — считала она.
Обстановка, в которой живет и работает он в Каунасе, радует Михаила Александровича. Конечно, он понимает: это несравнимо с тем, что было и ушло с его отъездом из Москвы. Но это серьезно, очень серьезно. Ему хочется закрепить сделанное, и он ведет студийные занятия с труппой. Занятия не обязательны. Они проходят в фойе в свободные часы. И хотя люди устали от репетиций, Михаил Чехов неизменно требователен, и репетиции что ни день затягиваются, а вечером снова играть перед публикой, — случая не было, чтобы на занятия не явилось тридцать-сорок человек.
Занимались упражнениями на воображение и внимание. Учились импровизировать. Старались вникнуть в такие понятия, как индивидуальные чувства, психологический жест, атмосфера спектакля.
— Я едва ли ошибусь, — говорил им Чехов, — если скажу, что среди актеров существует два различных представления о сцене, на которой они проводят большую часть своей жизни. Для одних это — пустое пространство. Время от времени оно заполняется актерами, рабочими, декорацией и бутафорией. Для них все, что появляется на сцене, — видимо и слышимо. Другие знают, что это не так. Они иначе переживают сцену. Для них это маленькое пространство — целый мир, насыщенныйатмосферой, такой сильной и притягательной, что они не легко могут расстаться с ней и часто проводят в театре больше времени, чем это нужно, до и после спектакля. А старые актеры даже не раз проводили ночи в пустых, темных гримировочных, за кулисами или на сцене, освещенной дежурной лампочкой, как трагик в чеховском «Калхасе». Все, что было ими пережито за многие годы, приковывает их к этой сцене, всегда наполненной невидимым, чарующим содержанием. Им нужна эта атмосфера театра. Она дает им вдохновение и силу на будущее. В ней они чувствуют себя артистами, даже когда зрительный зал пуст и тишина царит на ночной сцене.
И не только театр, но и концертный зал, и цирк, и балаган, и ярмарка наполнены волшебной атмосферой. Она одинаково волнует и актера и зрителя. Разве не ходит публика, в особенности молодая, в театр часто только для того, чтобы побыть в его атмосфере? Тот актер, который сохранил (или вновь приобрел) чувство атмосферы, хорошо знает, какая неразрывная связь устанавливается между ним и зрителем, если они охвачены одной и той же атмосферой. В ней зритель сам начинает играть вместе с актером. Он посылает ему через рампу волны сочувствия, доверия и любви. Зритель не мог бы сделать этого без атмосферы, идущей со сцены. Без нее он оставался бы в сфере рассудка, всегда холодного, всегда отчуждающего, как бы тонка ни была его оценка техники и мастерства игры актера.
— Запомните, — вновь и вновь говорил Михаил Александрович, — спектакль возникает из взаимодействия актера и зрителя. Момент, когда раздвигается занавес, есть момент, который актер всегда переживает особенно. Это момент, когда находящийся на сцене получает первую весть из зрительного зала. Часто весть эта бывает печальной, когда становится ясно, что публика «не готова». Сознает это актер или нет, но он теряет нечто от своей силы, когда получает такую весть из зрительного зала. Своим участием публика может тем самым повысить качество спектакля. Но может и понизить его чрезмерным спокойствием или пассивным ожиданием впечатлений. Публика должна хотеть увидеть хороший спектакль, и она увидит его, если захочет.
И это всегда так. Это закономерно, — считал Чехов. Ибо спектакль, как он имел обыкновение выражаться, «состоит не только из актеров, но и из публики». И если режиссер, актер, художник (и часто музыкант) создали для зрителей атмосферу спектакля, зритель уже не может не участвовать в спектакле.
Тот актер, который умеет ценить атмосферу, ищет ее и в повседневной жизни. Каждый пейзаж, каждая улица, дом, комната имеют для него свою особую атмосферу. Иначе входит он в библиотеку, в музей, в собор и иначе — в шумный ресторан или в гостиницу. Он, как чувствительный аппарат, воспринимает окружающую его атмосферу и «слушает» ее, как музыку. Она меняет для него одну и ту же мелодию, делая ее то мрачной и темной, то полной надежд и радости. Знакомый пейзаж «звучит» для него иначе в атмосфере тихого весеннего утра или в грозу и бурю. Так в жизни, так и на сцене.
— Каково, например, содержание первой сцены «Ревизора» без атмосферы? — спрашивает Чехов, и отвечает: — Взяточники-чиновники обсуждают, как встретить ревизора, чтобы избежать наказания. Иначе явится вам это содержание, воспринятое через атмосферу катастрофы, почти мистического ужаса, подавленности, заговора. Не только тонкости души грешника (и притом, русского грешника), осмеянные Гоголем, встанут перед вами. Но и Городничий и чиновники превратятся для вас в символы и, оставаясь живыми людьми, получат общечеловеческое значение. И гоголевский эпиграф к комедии: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» — станет для вас переживанием волнующим и смешным. Или, может быть, как оно было для Щепкина, предостерегающим и страшным.
Чехов неистощим на примеры, когда надо подкрепить свои теоретические положения. Взятые из повседневной жизни, из литературы, из сценической практики, они легко убеждают, помогают понять, усвоить.
— Представьте себе Ромео, говорящего Джульетте слова любви без той атмосферы, которая может окружить двух любящих, — объясняет Михаил Чехов. — Вы увидите, что хотя и будете наслаждаться шекспировским стихом, но что-то ускользнет от вас из содержания. Что же это? Не сама ли любовь?Неверная атмосфера, как на одном представлении «Гамлета», которое мне довелось увидеть, может исказить содержание происходящего на сцене. Там в эпизоде сумасшествия Офелии актерам «посчастливилось» создать атмосферу легкого испуга. Сколько непроизвольного юмора было в движениях, словах, взглядах, во всем поведении бедной Офелии благодаря этой атмосфере! И непонятно стало, зачем понадобилась Шекспиру эта поверхностная, ничего не говорящая, выпадающая из стиля трагедии сцена. Так глубоко связано содержание пьесы с ее атмосферой.
Живя в атмосфере пьесы или сцены, вы будете открывать в них все новые психологические глубины и находить новые средства выразительности. Вы будете чувствовать, как гармонично растет ваша роль и устанавливается связь между вами и вашими партнерами. Когда в течение репетиции атмосфера действительно будет вдохновлять вас, вы переживете счастливое чувство: вас ведет невидимая рука, чуткий, мудрый, правдивый «режиссер»! И много эгоистического, мешающего творческой работе, волнения, много ненужных усилий отпадут сами собой, когда вы доверитесь вашему «невидимому режиссеру». Вы можете организовать целый ряд репетиций, где, как с музыкальной «партитурой» в руках, вы пройдете по всей пьесе, переходя из одной атмосферы к другой.
Организованная таким образом работа приведет вас к тому, что ни вам, ни вашим партнерам не нужно будет ждать случайно пришедшего «настроения». Оно по вашему желанию будет возникать в качестве атмосферы.
Но еще до того, как вы приступили к репетициям на сцене, уже при первом знакомстве с ролью и пьесой, вашу душу охватит общая атмосфера. Вы переживете ее, как род предвидения вашего будущего сценического произведения в цел ом. Всякий художник знаком с этой первой, радостной стадией зарождения своего будущего создания в волнующей его атмосфере. Еще нет, быть может, ни ясной темы, ни ясных очертаний образов в этой атмосфере, но художник знает: в глубине его подсознания уже началась работа.
И только постепенно, один за другим, появляются образы. Они исчезают, снова появляются, меняются, действуют, ищут и находят друг друга. Завязывается интрига, выясняется тема, создается план, вырисовываются детали. Так, постепенно из общей атмосферы возникает сложное целое.
Из уроков, преподанных театральной молодежи Каунаса, из чеховских писем позднее вырастет книга о технике актера. Сейчас, в немногие свои свободные часы, Михаил Чехов создает ее первые фрагменты. На них мужает искусство литовского драматического театра.
Иоанн Грозный
Время за делом бежит незаметно. Его нынче всегда мало, в обрез. Снова поезд. Рига. В Национальном театре Латвии — премьера. Идет «Смерть Иоанна Грозного» А. К. Толстого. В центральной роли — Михаил Чехов. После неудачи с Фомой Опискиным он решил, что не отступит от первоначально намеченного репертуара, и не отступил.
Спор с «Белым козлом» еще только разворачивался. Внимание, которое Михаил Чехов к себе привлек, надо было закрепить.
Иоанн Грозный дался ему как-то сразу. Еще только приступив к репетициям, актер, давно мечтавший об этой роли, понял, что интуитивно живет, движется, говорит так, как должен был бы жить, двигаться и говорить царь Иван Васильевич. Михаил Чехов и сам не заметил, как в думах об Иоанне на протяжении мно гих лет, постепенно, штрих за штрихом складывалось его представление о Грозном. Теперь ему оставалось только следить, как образ царя как бы сам воплощается, вырабатывая детали своего существования и поведения на сцене.
К моменту премьеры в Чехове — Иоанне Грозном, удивительным образом сочетались крайняя жестокость и беззащитность. «Раз ты играешь злого — ищи, где он добрый», — вспоминал актер слова учителя своего К. С. Станиславского. Именно они, утверждает сам Чехов, помогли ему найти эту краску беззащитности грозного царя. Беззащитности перед лицом своей неизбежной смерти. И чем ближе смерть подходила к нему, тем страшнее становился он внешне, тем больше тосковала душа этого обреченного старика.
Удивительно умирал царь в последней картине: прозрачным становилось его телесное существо, слабыми руки, ноги, шея, и только шире раскрывались глаза. И странное течение времени устанавливалось на сцене, когда смерть подходила к нему. Не только Михаил Чехов, не только его партнеры, но и вся публика чувствовала это: в последние две-три минуты перед кончиной Иоанна время начинало как бы замедляться. Не темп игры актеров, но именно время. Чувство времени. Оно шло к полной остановке и на мгновение как будто останавливалось совсем. Это Грозный умер. Затем к концу действия время как бы снова начинало ускоряться.
«Венцом сезона» назвала спектакль газета «Новый голос». Чехов, писала она, создал незабываемый образ дряхлеющего царя-деспота, с невиданным мастерством развернул сложную гамму душевных переживаний Иоанна. Ян Судрабкалн, видевший Михаила Чехова в трагедии А. К. Толстого, также отмечает (в газете «Сегодня») выдающийся художественный успех спектакля. И тем не менее многое, как можно понять из критических статей и рецензий, в спектакле было спорно. Так, по широко распространившейся в ту пору моде, постановка не очень-то считалась с драматургом. Спектакль открывался сценой в царской опочивальне — по пьесе вовсе не первой, а второй. Затем шла предшествующая ей у Толстого сцена боярской думы — та часть ее, что начинается речью Бориса Годунова. Потом внимание зрителя возвращалось к прерванной второй картине, но пропускалось послание Курбского. И т. д., и т. п.
Признавая спорность переделок, допущенных в тексте, Я. Судрабкалн подчеркивал, что в целом, благодаря игре Чехова-актера и работе Чехова-режиссера, «Смерть Иоанна Грозного» в Национальном театре стала явлением выдающимся. Таким, что вызывает споры, но и настоящий, большой и вполне заслуженный интерес.
Иоанн, созданный Чеховым, незабываем. Неповторимо передавал актер душевный разлад Грозного. Его смятение. Его все более определяющуюся отрешенность от жизни. Сухая, костлявая фигура кающегося царя в черной рясе как нельзя более выразительна. Видишь, чувствуешь, ноги у него еще передвигаются, голос поднимается порой даже до крика. Но веры в свою силу у обладателя этого голоса уже нет. Пороки и страсти, тревоги ума и сердца, болезни тела и духа подточили его силы. Он еще способен на неожиданные и бесполезные вспышки энергии. Но это уже живой труп. Жалкая тень Грозного.
Особое впечатление, по мнению поэта-критика, оставляли в спектакле эпизоды Иоанна с Гарабурдой, с гонцом из Пскова, чтение синодика, сцена с подарками и смерть Грозного, за спиной которого уже мечутся тени Смутного времени.
«В Риге, — писал Я. Судрабкалн, — мало нового, серьезного искусства. Мало артистов, ставящих своему искусству высокие цели и требования. И — главное! — успешно, до конца подобные требования осуществляющие». Именно по этой причине, зовет он, «идите слушать и смотреть Чехова».
Журнал «Atputa» («Отдых») опубликовал посвященные Михаилу Чехову стихи поэта А. Григулиса:
На сцене безликость, однообразие...
Где-то в повседневности,
В вечных заботах о хлебе насущном
Утрачивается ритм жизни,
Что должен править мирами.
В бессилии опускаются головы художников,
Теряется вера в силу искусства.
И вот явились Вы,
Как в тишину приходит песня.
Захотели «слушать и смотреть» Чехова и в Польше.
Михаил Чехов получает приглашение и едет туда. Начало варшавских гастролей приходилось на первый день пасхи. Побаивались, что это может помешать спектаклям: ведь даже кафе и рестораны польской столицы бывали закрыты в этот день. Варшава праздновала его по-старому: с визитами, пасхальными столами, угощеньем и без зрелищ.
Но спектакль с участием Михаила Чехова — дело особое. Хотя и с опозданием, театр заполнился до последнего места. Правда, нетрудно было заметить, что многие пришли сюда прямо с последнего визита.
Приехав на Запад, Михаил Александрович уже не раз имел возможность убедиться: даже достигнув высокого положения, всеми признанный артист здесь чаще всего — объект развлечения для пресыщенных, и только. И тут ничего не поделаешь. Тут он бессилен что-то всерьез переменить. И те, что готовы были бы поддержать его искусство, тоже. Оставалось делать вид, что не усматриваешь в происходящем ничего неестественного. Тем более что и газеты отмечают успех гастролера, пишут о рукоплесканиях, которые он заслужил у публики.
На этом фоне постановка «Иоанна Грозного» в Риге и впрямь становилась для него самого событием большого порядка.
«"Ревизор" дыбом»
Михаилу Александровичу и самому представляется, что роль ему удалась. По большому счету удалась. Но следом за «Грозным» надо было тут же, без передышки, готовить в Каунасе гоголевского «Ревизора». Правда, сейчас ему не играть, он только постановщик. Но Михаилу Александровичу глубоко противна мысль, что можно просто, что называется, вспомнить и воспроизвести ранее сделанное, хотя бы то было сделано им самим. Как всегда, Чехов ищет новое решение.
В свое время ему довелось высказать суждение о «Ревизоре», который был поставлен Всеволодом Мейерхольдом. Многие тогда упрекали Всеволода Эмильевича. Мол, у него не Гоголь. Так ставить нельзя. И утрировано все, и ненатурально. Да правда ли? — спрашивает Чехов. Перечтите или вспомните творения Гоголя. Много ли вы найдете в них «натурального»? Ведь у него почти все преувеличено — и факты, и герои с их психологией, и предметы. Ведь крадет же свинья из суда прошенье Ивана Ивановича! А Днепр так широк, что редкая птица долетит до середины его. А кибитка Коробочки, а ларчик Чичикова, а Плюшкин с его сухарем! Или форма голов Довгочхуна и Перерепенки, а кувшинное рыло чиновника! А имена: Яичница, Петух, Держиморда!
В литовском варианте чеховской постановки «Ревизора» тоже многое было преувеличено. Как рассказывают, нос у городничего смахивал на перерубленную пополам свеклу. Живот у попечителя богоугодных заведений — непомерно велик. Смотритель училищ говорил «не своим голосом». У большинства чиновников, окружающих Антона Антоновича Сквозник-Дмухановского, не лица, а свиные и обезьяньи рожи. Сцена ожидания ревизора как-то уж очень мрачна. Слесарша Февронья Пошлепкина колотила Хлестакова. Жандарм в финале походил на безжизненную куклу. И т. д.
«Да ведь это шарж или гротеск, как угодно, но только не комедия! — писал рецензент газеты «Летувос Айдас». — Мы не нашли в спектакле того, что искали: веселого Гоголя».
«Но Гоголь в «Ревизоре» вовсе не веселый, — хотел сказать Михаил Александрович. — Он скорее злой».
«Ревизор» — это жизненно натуральная комедия, — настаивали «Литовские известия». — А тут получилась драма».
«Ревизор» дыбом!» — вторило им обоим «Эхо», прямо намекая на мейерхольдовские традиции, сказавшиеся в этой постановке.
«Премьера Государственной драмы обещала быть сенсацией. «Ревизор» в постановке Чехова с декорациями Добужинского! Об этой постановке говорили, ее ждали и заранее комментировали. Энергии на премьеру было затрачено колоссально много. Режиссер и артисты работали с невероятным напряжением. И... и премьера не удалась. На сцене артисты принимали невероятные позы, доходили до клоунады. Все шло в тонах оглушительного фортиссимо, утомляло и удручало. Конечно, «Ревизор» — сатира на Россию Николая Первого. Но та сатира-гротеск, которую показали на премьере, оскорбительна для всякого, кому дорога русская культура...»
Так писала газета. Однако справка из театра гласит, что даже «Гамлет» выдержал в каунасском театре только четырнадцать представлений, «Двенадцатая ночь» — шесть, а «Ревизор» в постановке Чехова — пятьдесят четыре. Факт почти невообразимый для такого небольшого города, каким в начале тридцатых годов был Каунас.
Как же так? Как совместить это с газетными откликами?
На эти вопросы ответила В. В. Соловьева, старый соратник Михаила Александровича, свидетельница и соучастница его работы в Литве.
— Что я могу сказать о «Ревизоре» в Каунасе? Разве то, что из всех чеховских работ той поры больше всего хотела бы вновь увидеть именно ее. Как сейчас помню совершенно изумительные декорации Добужинского, это было весело, ярко, смело и красиво. Костюмы сочетались с декорациями, актеры — с костюмами. Гармония была во всей постановке. Потому и шла публика. А газеты — они, мне кажется, просто не разобрались.
Так же считал и М. В. Добужинский, подчеркивающий, что чеховская работа построена на внимательном внутреннем подходе к образам Гоголя и к существу его комедии.
Так это или не так, но постановка была признана провалившейся. Горечь от этого долго не проходила у Михаила Чехова.
Ученик Добужинского
В Париже, преследуемый неудачами, Михаил Александрович, стараясь отвлечься, свободные часы отдавал шахматам. Ходил на турниры, участвовал в сеансах одновременной игры Алехина и Бернштейна. Любил наблюдать, как пальцы Алехина легко брали с доски шахматную фигуру и подчас не легко выпускали ее. Фигура прыгала в его руке, не желая от нее отделяться, потом маэстро как бы стряхивал ее с пальцев.
Место шахмат в Каунасе заняло рисование. Кроме Жилинского и Веры Соловьевой, Михаил Чехов близко сошелся в Литве еще с одним старым знакомым по Московскому Художественному театру — художником Мстиславом Валерьяновичем Добужинским. В литовской столице он работал сначала как преподаватель в художественной школе, а потом и как декоратор в театре. На улице Мицкевича, в доме, где он жил, была у Добужинского своя студия. К тому времени художник уже был широко известен. За плечами у него было двадцать лет работы в качестве театрального оформителя на сценах крупнейших русских и иностранных театров. Михаил Чехов знал и любил его иллюстрации к книгам, сатирические рисунки, станковую живопись — его дышащие романтикой уголки Петербурга. В каунасском театре Добужинский оформлял чеховского «Гамлета», потом «Ревизора».
Михаил Александрович частенько забегал к нему в мастерские под крышей театра, смотрел, как Мстислав Валерьянович длинной кистью накладывает пятна на холст. Чехов не понял тогда этих пятен вблизи. Но когда настал торжественный день установки декораций на сцене — изумился! Смотрит на плоскость стены, на уголок комнаты городничего — и ахает. «Не только живут и вибрируют теперь все эти таинственные блики и пятна, но они и смешат! Они рассказывают зрителю о жизни Антона Антоновича, да еще с юмором Николая Васильевича, да еще с усмешечкой Мстислава Валерьяновича. Все натурально и просто и вместе с тем ненатурально и сложно», — писал Чехов. И действительно, на что уж критика не пощадила постановку «Ревизора», а о декорациях и костюмах Добужинского высказалась с самой высокой похвалой.
Однажды, рассказывает Чехов, когда с карандашом в руках режиссер и художник обсуждали костюмы и гримы для постановки, Мстислав Валерьянович сказал: «Ого, да вы и рисуете!» И вот теперь Михаил Александрович пришел к нему и попросил принять в свою студию. Художник удивился, но отказать Чехову в просьбе не смог. Преодолевая усталость после долгой дневной репетиции, явился новый ученик на свой первый урок к Добужинскому.
Художник сам прикрепил лист бумаги к доске на мольберте, поставил перед Чеховым натюрморт и удалился. Посчитав, что задача уж очень проста, Михаил Александрович быстро набросал углем коробочку, вазочку, складки материи. Стал ждать. Добужинский вошел, посмотрел, промычал что-то неопределенное, потом разъяснил ученику, что коробочка у него въехала в вазочку, лампочка оказалась почему-то в углу, да и композиции нет.
— Поищите еще, — предложил он.
Посмотрел Чехов на свое творение и сам вдруг увидел: не только коробочка въехала в вазочку, но и вазочка въехала в лампочку, а лампочка, уступая коробочке, прижалась к краю бумаги, стала уже и выше. Жена художника, Елизавета Осиповна, прервала его грустные размышления по этому поводу, пригласив откушать с ними. Хороший обед, изящно, со вкусом накрытый стол и присутствие доброй, очаровательной хозяйки несколько смягчили для ученика неудачу первого урока. Но он все еще мысленно продолжал бороться с коробочкой и вазочкой, недоумевая, как мог он сам не заметить погрешностей. Однако и после второго урока он услышал от Мстислава Валерьяновича все то же:
— Нет композиции!
Все больше терял Чехов власть и над коробочкой, и над лампочкой, и над вазочкой. Решил было уже извиниться перед художником и прекратить уроки. Но мужества заявить об этом не хватило.
И снова сидел он за столом гостеприимной жены Добужинского, мечтая получить право приходить сюда... без коробочки. «И почему Мстислав Валерьянович, такой добрый, такой человечный, не уберет эту коробочку? Нельзя же сразу давать такие трудные задачи, — с тоской думал про себя Михаил Александрович. — Ведь я же в конце концов ученик».
И вдруг, как бы по вдохновению, он нашел выход. Затушевал углем вазочку, лампочку и коробочку. Потом резинкой стал выхватывать резкие блики. Свет заиграл, выступили рельефы из теней, и весь натюрморт, как ему показалось, засверкал, залоснился, как лаком покрытый. «Вот оно, с этого и надо было начать!»
Вошел художник, и Михаил Чехов скромно отступил от мольберта. Пауза. Ученик смотрит на Добужинского. На красивых губах художника как будто играет улыбка. Михаил Александрович не поймет: то ли Добужинский скрывает смех, то ли, наоборот, пытается улыбнуться. Наконец Мст юлав Валерьянович оборачивается, ласково-снисходительно смотрит Чехову в глаза и тихо говорит:
— Кокетничаете? Ну, пойдемте, друг мой, Елизавета Осиповна ждет нас.
Тем и кончилось. Больше уроков не было. Но обеды продолжались. Елизавета Осиповна была так же мила. И Мстислав Валерьянович тоже. Даже первые нотки дружеского отношения почувствовал Михаил Александрович с его стороны. Без коробочки жить стало проще.
Да и события снова разворачивались так, что Михаилу Чехову вскоре не до рисования стало.
Нежелательный иностранец
Волна национализма, захлестывавшая в те годы Прибалтику, дала себя знать и в театре. Нашлись люди, которым не понравилось, что руководитель коллектива А. Жилинский насаждает в Каунасе русскую, мхатовскую школу актерской игры, что с его благословения в репертуар вводятся «неинтересные для литовцев» русские пьесы (это о «Ревизоре»), В мутной волне шовинизма достаточно было кому-то бросить слово «русификатор», чтобы Андрея Матвеевича отстранили от руководства. Так был потерян для Михаила Чехова театр в Каунасе.
Обострилось положение и в Риге. Еще до выпуска каунасской премьеры «Ревизора» Чехов получил предложение латвийской Национальной оперы осуществить на ее сцене одну из новых постановок. 12 августа тридцать третьего года он писал в Литву М. В. Добужинскому: «Национальная опера поручила мне вполне официально запросить Вас, согласны ли Вы поставить в Риге (со мной), приблизительно в октябре — ноябре, «Волшебную флейту» Моцарта? Директор оперы Рейтер ждет Вашего ответа... Если Вы, дорогой Мстислав Валерьянович, не имеете особых причин колебаться, то было бы очень хорошо, если бы Вы дали знать г-ну Т. Рейтеру о Вашем согласии, пока я еще здесь. Может быть, он найдет нужным передать Вам что-нибудь через меня. Он, собственно, поручил уже мне начать с Вами (в случае Вашего согласия) хотя бы письменное обсуждение плана постановки, но мы с Вами на днях лучше уж лично поговорим об этом, Я привезу исправленную (искаженную) мною оперу и, если Вы согласны, — с помощью божией начнем. О, как бы я хотел, чтобы Вы не отказались!.. Ваш, Вас горячо любящий, но бездарный ученик Мих. Чехов».
Проходит немногим больше двух месяцев, и, вернувшийся уже к тому времени из Каунаса, Михаил Александрович должен сообщить Добужинскому, что постановка «Волшебной флейты» в опере отложена. «Почему? Не знаю», — заявляет он. Но потом, чувствуя, что скрывать положение не следует, в новом письме признается: «Только теперь решаюсь я сесть за стол и написать Вам эти строки! Я мучился ужасно, но решил молчать, что бы Вы об этом ни подумали. Другого выхода у меня не было. Когда я приехал в Ригу, то застал здесь травлю против Вас (и меня). История принимала все более и более неприятные формы. Дело могло кончиться самым неожиданным образом как для Вас, так и для меня... Я был совершенно подавлен, оскорблен и угнетен».
Что именно происходило вокруг Добужинского и Михаила Чехова в тот момент, ни в этом, ни в последующих письмах прямо не говорится. Зная, однако, то, что незадолго до этого имело место с А. Жилинским в Литве, нетрудно догадаться, в чем было дело: обстановка в Риге ничем не отличалась по своим настроениям от каунасской. Густопсовые националисты, все больше прибиравшие власть в свои руки, изо всех сил старались развязаться со всем, что так или иначе напоминало им о русском влиянии, о русской культуре. Для них и Чехов и Добужинский, воспитанники русской школы, проводники русской культуры, были одинаково неприемлемы, неугодны, хотя оба все больше и сами теряли свои связи с Россией.
Для Михаила Александровича обстановка осложнялась и некоторыми другими обстоятельствами. С некоторых пор в жизни театра и студии, которой он руководил в Риге, все большее значение стал приобретать один маленький актер, которого Чехов из жалости к его неудачной судьбе обогрел и приблизил к себе. Он стал поручать ему роли, на которые раньше тот и претендовать не мог. Потом протащил его в студию и сделал одним из своих ассистентов. Как можно понять из чеховских записок, товарищи по работе предупреждали Чехова, что протеже его и как актер не стоит внимания и, главное, как человек не очень чистоплотен. Михаил Александрович не обратил на это внимания.
А у его выдвиженца, что ни день, менялись и голос и манера держаться. Все чаще стал он собирать вокруг себя где-нибудь в коридоре школы-студии то одних, то других учеников и что-то шепотом говорить им, вытянув вперед шею и оглядываясь по сторонам. А еще немного спустя протеже стал чаще, чем того требовало дело, появляться на уроках руководителя студии и занимался тем, что быстро и внезапно отвечал на латышском языке на вопросы воспитанников, обращенные вовсе не к нему, а к Чехову, и притом по-русски. Чтобы упрочить свое место, он не брезгал ничем: где анекдотик расскажет, где рюмочку, кому нужно, поднесет. На женские роли стал требовать назначения учениц по его выбору.
Положение становилось все глупее и противнее. А тут еще милейший ассистент стал на уроках спрашивать, кто, по мнению учеников, самый лучший актер в Латвии. Ему, естественно, отвечали, что Михаил Чехов. А он злился и говорил, что думать так можно только по молодости и по глупости. Ибо на самом деле лучший актер — это он. Но Михаил Александрович и тут не сделал никаких выводов. А вскоре стало ясно, что ассистент восстанавливает в школе молодежь против Чехова, как «иноземца», что он старается играть на шовинистических чувствах и лично себе готовит что-то вроде «политической карьеры», принимая загадочный вид каждый раз, когда в его присутствии разговор заходил о событиях жизни в стране и во всем мире.
Было, рассказывает Чехов, очень немного людей в Риге, которых этот тип боялся, и среди этих немногих Карклинш. По профессии театральный критик, Янис Карклинш обладал необычайной внутренней силой. Прямой, правдивый, умевший любить свою родину без шовинизма, он пользовался большим влиянием среди деятелей литературы и искусства. Маленький, улыбающийся человек лет сорока, он был молчаливым, скромным и по виду незаметным. Если он появлялся на общественных собраниях, его седая голова всегда виднелась где-нибудь в задних рядах. Но стоило Карклиншу тихонько, с улыбкой, поблескивая очками, кивнуть головой, и многие голосовали — «да». Когда же он сидел неподвижно, дебаты продолжались.
Янис Карклинш взял школу-студию под свое негласное покровительство. И много скверных затей, уготованных бесцеремонным ассистентом, погибло под молчаливым взглядом этого умного человека.
— Михаил, ты бы поставил нам оперу, — сказал он однажды Чехову.
Михаил Александрович только развел руками. Разве, мол, не знаешь, что произошло? Но через два дня директор и главный дирижер Национальной оперы Т. Рейтер уже официально предложил Михаилу Чехову постановку «Парсифаля» Рихарда Вагнера. В распоряжение режиссера предоставлялось неограниченное время для работы и значительные материальные средства. 11 ноября тридцать третьего года он пишет из Риги Добужинскому:
«Дорогой и любимый Мстислав Валерьянович! Давно уже не писал Вам, не знаю, получили ли Вы мое последнее письмо, где я сообщал Вам о том, что «Флейту» нашу отложили. Теперь я уже в «Парсифале» и... увы, без Вас! Но перспективы все же связаны с Вами, с «Флейтой». С «Парсифалем» мне несколько трудней, ибо я ни в какой мере не был готов к постановке. Надеюсь на грандиозность самой вещи. Сегодня имел первую беседу с Либертом. Как я хочу, чтобы у нас получился контакт с ним — ведь я так избалован Вами, любимый, дорогой Мстислав Валерьянович! Мне ужасно, сердечно хочется знать о Вас, Вашей жизни, работе. Не произошло ли в Вашей жизни каких-нибудь перемен в связи с уходом Андрея Матвеича? (А. М. Жилинского. — А. М.). Я уже спрашивал об этом в прошлом письме. Ведь я ничего о Вас сейчас не знаю. Как Ваши мысли о Париже? Собираетесь? Думаете? Хотите? Или решили остаться в Ковно? А Академию возьмете под свое начало? Есть ли у Вас студия?.. Ужасно боюсь за судьбу молодежи А. М. (А. М. Жилинского. — А. М.). Ведь столько у него врагов. Да и вообще народ, окружающий театр, не очень добр и сердечен. Где-то в глубине души мечтаю и я о молодежи, но нет ни ее, ни средств на нее. Мечты не осуществятся никогда».
Позднее, мы знаем, у Михаила Чехова — сначала в Англии, потом в Соединенных Штатах Америки — такая студия была. Мечта, таким образом, осуществилась, хотя и не принесла ее создателю ожидаемого удовлетворения. Почему — мы еще поговорим. А пока вернемся в Ригу.
Спектакли с участием Михаила Чехова в Национальном театре и «Русской Драме» продолжались, и были уже поставлены две картины оперы, когда с ним неожиданно случился сердечный припадок. Михаил Александрович больше чем на месяц слег в больницу. В школе-студии воцарился злополучный ассистент, и судьба ее стала все больше тревожить Чехова.
Янис Карклинш успокаивал его, говоря, что следит за тем, что происходит в школе. Но еще больше беспокоила Чехова незаконченная работа в опере. Он умолял профессора, директора клиники, хоть на несколько часов в день отпускать его для работы над «Парсифалем». Профессор не внял его мольбам, и Михаилу Александровичу пришлось прибегнуть к хитрости. Один из его помощников по постановке по ночам тайно пробирался в больницу. Чехов вставал и, крадучись, выходил в коридор. При свете тусклой синей лампочки он наскоро излагал своему товарищу план постановки той сцены, над которой должна была идти работа на следующее утро.
Так, уставая и мучась от боли, Михаил Чехов все же довел «Парсифаль» до конца. Перед последней генеральной репетицией он потребовал, чтобы его все же выписали из больницы. Сидя в зрительном зале и глотая пилюли, он прослушал всю оперу.
Премьера была торжественной. Публика начала собираться на нее задолго до начала. Опоздавших не было, и в зале царила благоговейная тишина. Праздничная атмосфера зрительного зала передавалась певцам и хористам. Они провели весь спектакль с большим подъемом. Аплодисментов между актами не раздавалось. Но когда опустили в последний раз занавес, публика устроила участникам спектакля подлинную овацию. Вызовам, что называется, не было конца. Собравшиеся не скоро покинули зал.
«Постановке «Парсифаля» можно предсказать долгую и блестящую жизнь на сцене Национальной оперы», — пророчили газеты. Они высоко оценили работу режиссера. Его смелое, не традиционно знакомое решение спектакля. Его значительную работу с певцами-актерами. Осуществление вагнеровской оперы печать признала историческим событием в жизни латышского театра.
После выхода из больницы жизнь Михаила Александровича резко изменилась. На некоторое время врачи не разрешили ему играть. Школу, однако, Чехов посещал регулярно. И хотя уроков сам давал мало, но педагогических и организационных заседаний старался не пропускать.
В это время в Каунасе, где вокруг А. М. Жилинского собралась группа театральной молодежи, решено было, хотя теперь уже и вне театра, продолжить начатые Чеховым занятия по сценическому искусству. Между студийцами и их бывшим руководителем завязывается переписка. Молодежь просит Михаила Александровича не оставлять ее без своей помощи — хотя бы письменной. 20 марта тридцать четвертого года Чехов пишет им в ответ:
«Дорогие, милые, чудесные детки и братишки нашего любимого Андрея Матвеевича! За ваше внимание и память — благодарю сердечно и крепко жму ваши лапки! (сколько их теперь?). Я очень виноват перед вами — мне следовало (раньше) ответить вам, но было трудно: дела, спешка жизни, болезнь, постановка и т. д.».
Михаил Чехов писал, и перед ним за частностями, на которых он останавливался, вставал весь его жизненный путь — с его взлетами и ошибками. И с той главной из них, что теперь снова — в который раз! — привела к разрушению всего, что он любил и хотел строить в искусстве. Он писал к театральной молодежи Каунаса; но умеющий читать увидит: не к ней одной обращены написанные в этом письме слова его:
«Вы меня, пожалуйста, простите. Верьте мне, — несмотря на то, что нас разделяет многое, я все же люблю вас, вашу энергию, вашу художественную и человеческую силу, ваши цели и ваше терпение. Если позволите быть совсем откровенным, я завидую вам. В вашей внешне тяжелой судьбе столько внутреннего, настоящего, не отвлеченного, конкретного света! Разве это не так? И важно не только то, что свет этот есть у вас. Важно и то, что вы умеете бороться за него с конкретными, грубыми земными трудностями!»
Он пишет, что может (и хочет) практически передать людям живой материал, который накопился у него. «Материал поистине чудесный, но кому, когда и как, — спрашивает Михаил Чехов, — передать его?» Вопрос этот мучает Михаила Александровича. И у него вырывается признание:
«Я не ропщу, — пишет он, — потому что верю в справедливость судьбы. Не ропщу, но горюю и страдаю очень».
Между тем события идут своим чередом. На сцене Рижского оперного театра еще шел «Парсифаль». Спектакль, как сообщает Михаил Александрович Добужинскому (письмо от 26 марта тридцать четвертого года), посещается хорошо. «Но о «Флейте», -г вынужден он добавить, — ни слова! Что это значит, не знаю. Щадят ли мое здоровье или?..»
Нет, конечно, дело было не в этом. Просто близился момент, когда моральная сила, с помощью которой действовали люди, поддерживавшие Михаила Чехова, уже не стала играть никакой роли. К власти в стране рвались откровенные фашисты, и их напор ощущался во всем, чем жила и дышала Рига. И театр, и студию этот напор не миновал.
В середине мая, возвращаясь из школы-студии, Чехов заметил, что улицы почему-то особенно пусты и тихи. Вдруг промчался грузовик. В нем плотно, плечом к плечу, стояли в молчании люди. Другой, третий грузовик... И снова все стихло. А наутро стало известно, что в Латвии совершился фашистский переворот. Воцарился Ульманис.
Пресловутый ассистент Чехова оказался вдруг могущественным лицом. В печати при его активном содействии появились статьи, требующие удаления из театральной жизни «обновленной» Латвии всяких «чужаков», в том числе и Михаила Чехова. Газета «Латвис», хотя прямо и не называла его имя, весьма крикливо заговорила о всякого рода нежелательных «гостях», которые стали играть слишком заметную роль, в частности, в Национальном оперном театре. Газета заявляла, что из-за них, этих нежелательных «гостей», с помощью протекции захвативших в свои руки лучшие постановки (это о «Парсифале» и вслед за ним предложенной Чехову работе над «Царицей Савской» венгерского композитора Кароя Гольдмарка. — А. М.), режиссерам-латышам приходится уходить из театра. Ведь на их долю оставляются только давно всем приевшиеся и малоинтересные оперы.
Поставленное в кавычки слово «гости» повторялось в статье так часто и сопровождалось такими оскорбительными замечаниями, что места для сомнений не оставалось: новые хозяева положения церемониться не собираются. И не только с приехавшим в Латвию из-за рубежа Чеховым, но и со многими деятелями культуры, латышами, в которых они тоже видели «чужаков». В день, когда появилась статья в газете «Латвис», стало, в частности, известно о ликвидации Рабочего и Народного театров Риги, чья деятельность, по мнению узурпаторов власти, «не отвечала национальным интересам».
На выходку «Латвис» Михаил Чехов ответил полным достоинства письмом. Но бороться со сложившейся ситуацией было ему, конечно, не под силу. От уже начатой постановки «Царицы Савской» он отказался, публично поблагодарив руководителя Национальной оперы Т. Рейтера за радость, доставленную ему работой с коллективом театра над «Парсифалем» Вагнера.
Прогрессивные круги были захвачены врасплох. Влияние их так же быстро уменьшалось, как возрастало влияние фашиствующих элементов. Михаил Чехов уехал в деревню. Здоровье его сильно пошатнулось. Врачи приказали ему лежать. Хочешь не хочешь, пришлось удалиться от дел. А пока руководитель школыстудии болел, его ассистент был назначен директором. Актеров стали сгонять на площади для репетиций национальных шествий, парадов, «живых картин». Воспитанникам студии приказали разучивать фашистские пьесы.
Не соглашаясь с вводимыми порядками, большая группа студийцев (32 человека) решила покинуть школу. На них накричали. Пригрозили лишить дипломов. Навсегда выбросить из рядов латышского искусства. Но им удалось «обойти» рассерженных руководителей и создать свой небольшой театр — «Ансамбль-студию латышской драмы». В нее вошли: Карлис Лиепа9, Вольдемар Пуце10, Петерис Васараудзис11, Ирина Лиепа12, Мильда Клетниеце13, Анна Степулане14, Эльвира Балдыня15 и другие. Во главе коллектива встал В. Пуце.
А сам Чехов к тому времени давно уже уехал из Риги. Через русского импресарио в Берлине Л. Д. Леонидова он получил от известного американского антрепренера Сола Юрока предложение совершить гастрольную поездку по Соединенным Штатам Америки. Импресарио ждал окончательного ответа, чтобы приступить к составлению труппы,- Сборным пунктом назначили Париж. Надеясь перед поездкой подлечиться, Михаил Александрович медлил было с ответом, хотел прожить в Латвии еще некоторое время. Но тут, совершенно внезапно, ему попросту отказали в праве дальнейшего пребывания в стране.
На семейном совете, к которому были привлечены и некоторые друзья, решили, что сначала Михаилу Александровичу следует поехать в Италию, на курорт для сердечных больных, и только потом двинуться в путь. Переезд в Италию был настолько тяжел, что Чехов снова слег в постель. Но импресарио торопил. Надо было ехать. Осенью тридцать четвертого года Чехов пишет из Венеции в открытке, адресованной Добужинскому: «Когда увидимся? При каких обстоятельствах? Буду ли я иметь счастье работать с Вами?»
Снова у разбитого корыта
Собравшись в Париже, актеры подготовили для гастрольной поездки в Соединенные Штаты Америки несколько спектаклей. Были тут «Ревизор» и «Женитьба» Гоголя, «Бедность не порок» А. Н. Островского, «Чужой ребенок» В. В. Шкваркина, «Дорога цветов» В. П. Катаева, «Дни Турбиных («Белая гвардия») Михаила Булгакова и вечер инсценированных рассказов А. П. Чехова. Никаких особых задач или художественных целей собравшиеся явно себе не ставили. Просто каждый, по-видимому, предложил что-либо давно и более или менее удачно сыгранное. В репертуаре Михаила Чехова снова оказались Хлестаков, дьяк Гыкин из «Ведьмы» (Раису играла В. Соловьева), герой монолога «Торжество победителя» и тот самый папаша, который начисто забыл, что поручила ему дочь купить в нотном магазине.
Перед отъездом в Америку труппа показала несколько спектаклей в театре на бульваре Батиньоль. Как писали газеты, Чехов «играл с милой, преувеличенной легкостью и непринужденностью». Ранее «нажитое» в роли Хлестакова не было, конечно, растеряно. «Попадались очаровательные и действительно художественные куски». Были и срывы. Но, несмотря на них, у собравшейся в театре «откровенно веселившейся публики» артист «имел огромный успех». Что-то было тут похоже на происходившее с ним в Варшаве. И Чехов, конечно, заметил это.
А ко всему прочему, как в свое время в истории с шекспировской «Двенадцатой ночью», не повезло Михаилу Александровичу с декорациями. В последнем действии из-за короткого антракта их не успели переставить. И гоголевские чиновники как ни в чем не бывало выходили из дверей спальни городничихи, а Анна Андреевна и Марья Антоновна, хотя и были в домашнем платье, появлялись на сцене с улицы. Газетчики, конечно, ехидничали, а Чехов нервничал.
Незадолго до отъезда он пишет явно предназначенное для американской печати письмо Солу Юроку. Оно должно предварить его появление на нью-йоркской сцене, и он старается понравиться американскому зрителю, польстить ему.
«Америка — незнакомый мне мир — давно волнует меня, как прекрасная сказка! — заявляет он. — Все описания, картины, рассказы, все письменные и устные восторги, которые приходится читать и слышать, все они так разнообразны, богаты и многосторонни, что трудно, невозможно составить себе единое, живое представление об Америке. Но вот судьба моя решила воплотить мою давнишнюю заветную мечту: я сам увижу таинственную Америку; сам увижу чудеса ее жизни, быта, творчества.
В моем сознании живет вопрос, жгучий, волнующий: «Как работает, как творит американский художник?» Я думаю при этом преимущественно о трех его свойствах: о его непредвзятости в работе — его не связывает ничто старое, он всегда свободен в своей творческой работе, он всегда свеж, молод, восприимчив ко всему новому, он непредвзято подходит к теме своего творчества... Правда это? Так это?
Второе свойство — беспредельная энергия — о, как она нужна художнику, как я надеюсь почерпнуть ее в Америке, научиться ей в Америке!
И третье свойство — это способность американского го художника доводить начатую работу до конца! Я увижу, без сомнения, многие прекрасные результаты художественной работы такого рода!
Живу надеждой вскоре увидеть Америку-сказку. Знаю, что это будет не совсем обычная сказка о мощных силах, о безграничных возможностях, о беспредельных человеческих замыслах...
Там, где талант сочетается с мощной энергией человеческой, — там возникают чудеса, там мир сказок...»
Мих. Чехов
Париж, 25 декабря 1934.
Реклама есть реклама, и ее непререкаемые законы лучше всего могут нам объяснить характер преувеличенной восторженности, проявленный в этом письме Чеховым. Но если это и не так, — до знакомства с истинным лицом американского «мира сказок» ему оставалось уже недолго.
Из Парижа уезжали 7 февраля тысяча девятьсот тридцать пятого года. Букеты цветов. Шутки. Смех. Щелкают затворы фотоаппаратов. Но вот подходит время. В группе собравшихся движение. Объятия дам. Кое-где слезы.
— Садитесь, садитесь, друзья, поезд отходит! — кричит кто-то, вскакивая на подножку вагона.
Все время где-то скрывавшийся Чехов появляется у окна. Поезд трогается.
Через несколько дней корреспондент рижской газеты настигает Михаила Александровича и его труппу в Бельгии незадолго до их посадки на пароход. Разговор идет вначале поверхностный, ни к чему не обязывающий. Чехов заявляет, что с удовольствием вспоминает о Риге и рижской публике, что он охотно снова встретится с ней. Оба — и актер и его собеседник — отлично знают: сейчас зто совсем-совсем не так просто. Но делают вид, будто ничего не произошло. Михаил Чехов даже рассказывает, что перед отъездом из Латвии условился с директором театра «Русской Драмы» выступить в роли царя Федора Иоанновича в трагедии А. К. Толстого. Контракта, правда, не подписали, но свое словесное обещание он, Чехов, надеется сдержать.
— Вы работаете сейчас над какой-нибудь новой ролью?
— Собственно говоря... нет.
Заговорили о планах на будущее. Но оказалось, что чего-либо определенного, конкретного за пределами гастрольной поездки Михаил Чехов не имеет.
— Вас не утомляют частые поездки? — спросил корреспондент.
— И да, и нет, — ответил, улыбнувшись, актер. И с некоторым оттенком горечи прибавил: — Иногда приходится ехать и помимо желания. Но, — тут он снова улыбнулся, — в конце концов путешествия ведь лучшее из того, что вообще есть на свете.
— Лучшее? — Журналист пристально взглянул на Чехова. — А ваша игра?
В упор поставленный вопрос требовал прямого ответа. Михаил Александрович смешался.
— Моя профессия? Моя игра? — задумчиво переспросил он. И отвел глаза от интервьюира. — Если бы я мог, то давно уже бросил бы сцену.
Горечь, с какой это было сказано, выдавала все, что он пережил за последние годы. Все, что так долго накапливаясь, не могло в конце концов не прорваться. А начав, остановиться было уже трудно. Но и сказать то, что просилось на уста, что давно следовало выговорить, не так уж просто было, и он только быстро добавил:
— Я говорю это очень серьезно. В молодости бросаешься как зачарованный в это море, а затем наступает разочарование. Ужас, во что сейчас превратился театр...
— Тем не менее, — сделал попытку отшутиться корреспондент, — если бы вам суждено было начать сначала, вы снова пошли бы на сцену?
Чехов вздохнул и подал ему на прощание руку!
— До свидания... Кто знает где?..
На пароходе «Лафайет» труппа пересекла Атлантический океан. Огромная статуя, стоящая у входа в Нью-Йоркскую гавань, приветствовала приехавших своей каменной рукой.
Вот и Бродвей. На крыше снятого для гастролей театра «Маджестик» выше надписи «Элизабет Бергнер» и выше «Лесли Говарда» горело расцвеченное электрическими огнями имя Михаила Чехова. Сол Юрок, незадолго перед тем закончивший дела по поездке американского балета в Монте-Карло, расходов на рекламу не пожалел. Он вел свои дела широко и верил, что имена артистов Московского Художественного театра (пусть хоть бывших — кто в то время мог всерьез разобраться в этом?) привлекут самый пристальный интерес публики.
В театре «Маджестик» шли обычно ходкие музыкальные комедии. Для драмы зал был слишком велик, и верхний ярус пришлось закрыть. Но в остальном все шло поначалу неплохо.
После премьеры «Ревизора», которого здесь переименовали в «Инспектора дженераль», нью-йоркские газеты поместили несколько доброжелательных отзывов, особо отметив талантливое исполнение роли Хлестакова Михаилом Чеховым. Стряхнув все больше овладевавшую им за последнее время апатию, он на этот раз и впрямь, как в свои лучшие дни, был удивительно хорош. Играл, как говорил Мейерхольд, «на каблуках, играл руками, играл скатертью, под которую залезал, чтобы проверить получаемые взятки, играл всеми деталями, которые позволяла сцена, показывая мастерство поразительной остроты и неожиданной находчивости». И притом это был подлинный гоголевский Хлестаков. Ох, как это было важно в Америке, где «Ревизор» если и появлялся до того на сцене, то либо в опереточной версии, либо как «веселый фарс из русской жизни»!
Следом за «Инспектором дженераль» показали «Бедность не порок» и другие пьесы намеченного репертуара. Публики на них собиралось много. Были и отзывы в прессе. И совсем неплохие. Но довольно скоро и со всей очевидностью определилось, что желанной сенсации от приезда русской труппы (ее ведь именовали труппой Художественного театра) не произошло.
Из окон комнат Михаила Александровича на двадцать четвертом этаже элегантной гостиницы «Линкольн» открывался вид на Даунтаун — нижнюю часть Нью-Йорка. Небоскребы южного конца Манхэттена были здесь как на ладони. На переднем плане красовался стодвухэтажный гигант Эмпайр стейт билдинг. В ясные дни серый небоскреб величаво упирался в голубое небо. Вот она перед ним — «Америка-сказка», с которой он так мечтал увидеться. Такая, казалось, доступная, и такая недосягаемая. Почему? Он еще не имел ответа на этот мучивший его вопрос. Корреспондент застал его врасплох.
— Волнуюсь, — признается Чехов. — Вот зато в работе режиссера чувствую себя совсем уютно. И ре жиссура для меня сейчас все. Мое увлечение, мое призвание и моя страсть.
Журналист не поставил ему на этот раз вопроса: «А ваша игра?» Разговор снова пошел поверхностный, ни к чему не обязывающий. Михаил Александрович сказал, что после Нью-Йорка намеревается совершить турне по Соединенным Штатам Америки, потом будет в Канаде, в Японии, Китае.
— Так что в Европу вернусь не скоро.. Но Федора Иоанновича в рижском театре «Русской Драмы», — вспоминает он, — хочу сыграть обязательно. Я ведь директору обещал. И еще хотелось бы встретиться вновь с моими рижскими воспитанниками. Для меня всегда было большим наслаждением работать с ними.
А здесь, в США, еще, возможно, он выступит в фильме. Кстати, труппа все равно собирается в Голливуд.
Планов что-то очень много, и из этого лучше всего видно, что ничего конкретного он сейчас впереди не видит. И ничего нью-йоркские спектакли для него не прояснили. Тем более что проходили они ни плохо, ни хорошо — обычно.
Каунасские газеты, следившие за перипетиями этой гастрольной поездки, время от времени помещали заметки о том, как проходят гастроли. «Литературные новости» сообщали: «С такой тщательностью организованный М. А. Чеховым для гастролей в Соединенных Штатах Америки Русский драматический театр, куда был ангажирован и наш А. Олека-Жилинскас, серьезного успеха не достиг. Спектакли принимаются более чем сдержанно. Посещают их только русские эмигранты, настоящих американцев тут не увидишь. Между тем надежда возлагалась как раз на американскую публику».
То, что чеховскому театру в США не везет, можно судить, между прочим, и по письмам, которые А. М. Жилинский пишет своим друзьям-каунасцам. В них он жалуется, что в Америке с театром «бизнес слабый».
Это была правда. Внезапно наступившее теплое лето прервало продолжавшиеся одиннадцать недель гастроли. Кроме Нью-Йорка, труппа побывала в Филадельфии и Бостоне. Намеченные поездки в Чикаго и Лос-Анджелес пришлось отменить. Коллективу надо было либо ждать осеннего сезона, либо распрощаться с Америкой. Посовещавшись, пришли к выводу: рассчитывать на что-нибудь определенное в летние месяцы, не имея антрепренера, гарантирующего какой-то заработок, не приходится. Решили поэтому, что «надо собираться в Европу». Первой на пароходе «Иль де Франс» уехала группа в девять человек. Некоторые последовали за ними позднее. Часть решила остаться в Соединенных Штатах Америки. Общих планов больше не строили. Каждому предстояло решать свою судьбу самостоятельно.
Чеховские мысли о поездке на Дальний Восток или в Латвию, где ничего за это время не изменилось, отпали само собой. Осталась временная работа в качестве педагога на драматических курсах и редкие лекции о театре.
Из тех, кто одновременно с Чеховым решил не уезжать, чтобы рискнуть на новую попытку добиться удачи в США, один сколотил коллектив «Скитающиеся комедианты», а другой стал эстрадным конферансье. Как писали литовские «Литературные новости», никто из труппы, в том числе и главный гастролер, в результате поездки «не заработал мечтаемых ста тысяч долларов».
Михаил Чехов снова оказался у разбитого корыта.
В положении Аркашки Счастливцева
Оывез случай. На одном из спектаклей, когда Чехов "играл Хлестакова, увидела его на сцене англичанка миссис Элмхерст. Увидела и безгранично поверила в него.
Худенькая, высокая, подвижная женщина была очень богата и постоянно чем-то или кем-то увлекалась. То японским балетом, то французскими живописцами, то песнями народа Самоа. У себя дома, в графстве Девоншир, имела миссис Элмхерст большое поместье и перестроенный на современный лад старинный замок четырнадцатого века. Это поместье и замок она предложила Михаилу Чехову для организации школы-студии, из которой впоследствии может быть создан театр.
Михаил Александрович соблазнился этой идеей, и миссис Элмхерст, чуть ли не на специально зафрахтованном пароходе, увезла его в страну туманного Альбиона.
Студия была создана. Ее воспитанниками стали студенты главным образом из стран английского языка. Были студенты из Канады, Соединенных Штатов Америки, Австралии, Новой Зеландии и, естественно, из Великобритании. В их числе и сама миссис Элмхерст со своей двадцатилетней дочерью Беатрисой. В часы занятий обе они, как и все студенты студии, надевали специально пошитые синие костюмчики — «тренинги» — и легкие туфли. Приехали сюда, чтобы снова встретиться с Чеховым, снова стать его учениками, латыш Петерис Васараудзис и литовец Иозас Густайтис16. На короткое время — повидаться со своим учителем, познакомиться с его новой студией — появился тут и Вольдемар Пуце.
Для личных нужд отвели Михаилу Александровичу великолепный дом. В нескольких километрах от Дартингтон-холла (так называлась резиденция хозяйки замка) в двухэтажном старинном здании устроили интернат для студентов. Отбирали их с большой тщательностью. Те, кто прибывал, например, из Соединенных Штатов Америки и Канады, по просьбе Чехова, предварительно проверялись (им устраивали нечто вроде экзаменов) А. Жилинским и В. Соловьевой, которые остались жить в Нью-Йорке.
Ровно в восемь утра к интернату за студентами подкатывал специальный автобус. На нем была надпись: «Театр-студия М. Чехова». Автобус отвозил их на занятия.
Начинались они с физической подготовки. Потом шли теоретические лекции, занятия по мастерству актера и другие дисциплины. Программы по каждой из них составлял и утверждал сам руководитель школыстудии.
Большое внимание уделялось практическим урокам. Материал для них всегда выбирался глубокий — Шекспир, Достоевский, Райнис. При этом требовалось, чтобы пользовался исполнитель не только словом, но чтобы у него «говорили» и тело, и руки, и плечи. Телу актера Михаил Чехов вообще придавал огромное значение. Он говорил: «Тело актера может быть или его лучшим другом, или злейшим врагом».
Человеческие руки, — напоминал он, — наиболее подвижная и свободная часть тела, связанная с чувствами. Ритмы дыхания и биения сердца в груди (в сфере чувств) непосредственно вливаются в руки, делая их выразителями тончайших настроений и чувств. Актеры часто забывают, как выразительны могут быть их руки. В ногах человека выражается его воля. Вглядитесь в походку людей и вы увидите индивидуальные особенности их воли. Разумеется, руки человека также проникнуты волей, но в них она окрашена чувствами. Мысли, упражнения и наблюдения такого рода постепенно научат вас использовать свое тело на сцене как инструмент, при помощи которого вы воплощаете перед зрителем ваши художественные образы.
Терпеливо, настойчиво, изо дня в день учил Михаил Чехов студийцев, как надо сначдла вызвать в своем воображении внешний и внутренний облик своего героя, а потом и воплотить (сыграть) его на сцене. Тут он решительно предостерегает от поспешности. Рекомендует приступать к воплощению образа по частям, то есть выбрать сперва одну черту — движение руки, походку, наклон головы, слово, взгляд, характерный жест, душевное состояние — и со вниманием изучить эту черту в воображении, затем начать воплощать только ее одну, имитируя созданное и проработанное в фантазии студийца. Тогда тело, голос и чувства его без излишнего напряжения или привычного клише («штампа») легко выполнят эту посильную для них задачу.
Добившись этого, надо снова вглядеться в свой образ, снова имитировать его. Потом повторять упражнение до тех пор, пока выбранная для воплощения деталь не станет близкой исполнителю, пока он не достигнет легкости в ее выполнении.
— Представьте себе, — говорил он студийцам, — что вам нужно изобразить на сцене человека, характерные черты которого вы определяете как лень, неповоротливость (душевную и телесную), медлительность и т. д. Тело его вы видите полным и неуклюжим, рост низким, плечи и руки опущенными. Вы создали этого человека в своей фантазии. Что делаете вы для того, чтобы воплотить его со всеми его душевными и телесными особенностями? Вы воображаете на месте вашего тела другое тело, то, которое вы создали для вашей роли. Оно не совпадает с вашим. Оно ниже, полнее вашего. Руки его, может быть, длиннее ваших. То, другое тело, не способно двигаться с такой быстротой и ловкостью, как ваше. В этом новом теле вы начинаете чувствовать себя «другим человеком». Оно постепенно становится привычным и знакомым для вас, как ваше собственное. Вы учитесь ходить, двигаться и говорить в соответствии с его формами. Эта увлекательная работа шаг за шагом приводит вас к тому, что вы правдиво начинаете действовать и говорить уже не как вы, но как изображаемое вами лицо. Причем воображаемое тело это, как продукт вашей творческой фантазии, есть одновременно и душа и тело человека, которого вы готовитесь изобразить на сцене. В нем объединяется для вас и внутреннее начало, и внешнее. Скоро вы по-новому переживаете и ваше собственное, пронизанное новой психологией, тело и уже больше не будете нуждаться в воображаемом теле. Никогда рассудочный анализ не раскроет перед вами психологии роли с такой правдивостью, глубиной или юмором, как созданное вами воображаемое тело. Малейшее изменение, которое вы пожелаете сделать в нем, совершенствуя его, будет раскрывать перед вами новые душевные нюансы роли.
То, чему он учил, требовало усилий. Но если актер хочет усвоить технику своего искусства, постоянно повторял Чехов, он должен решиться на долгий и тяжелый труд. Наградой за это будет встреча с собственной индивидуальностью и право творить по вдохновению...
Для каждой дисциплины, будь то история быта, спорт или то же мастерство актера, в Девонширском замке отвели особые помещения. Иногда занятия шли на плацу, где некогда происходили настоящие рыцарские поединки и турниры.
У миссис Элмхерст, помимо чеховской, была и балетная студия. Еженедельно, по субботам, воспитанники обеих студий наносили друг другу визиты. А иногда на открытые просмотры в Дартингтон-холл приезжали по приглашению хозяйки разные гости. Был среди них однажды и Бернард Шоу с супругой. Но чаще всего гостями студии являлись актеры, актрисы и режиссеры. Их угощали чаем с сандвичами. За чаем шли беседы. Михаил Чехов раскрывал свои планы-мечты. О театре. Об актерах-жрецах, готовых на жертвы ради искусства. Хозяйка дома вторила ему. Гости слушали, восторгались. Иногда спорили. Скептики (такие тоже попадались среди гостей в Дартингтон-холле) ухмылялись.
— Не найдете вы теперь таких актеров, — утверждали они. — Во всяком случае, в Англии. Мы народ практичный.
Михаил Александрович не забыл уроков, которые получил за последние годы. В памяти своей он крепко держал и то, что видел, пережил в Вене, в Берлине, в Париже. Но он не поддавался. Не хотел поддаваться. Ведь здесь все шло, как было задумано. А условия как в лучших, казалось, мечтах могло мечтаться.
— В раю, Питер! — энергично возглашал он, встречаясь с очень привязавшимся к нему Васараудзисом, дружески потрепав его по плечу.
— В раю, Михаил! — радостно отзывался на привет Чехова Петерис.
Но частенько, признается теперь Петерис Васараудзис, за внешней бодростью чеховских интонаций слышалась невысказанная тоска. Глубоко русский человек, Михаил Чехов и не мог чувствовать себя счастливым, живя вдали от Родины.
Среди размеренных, расписанием предусмотренных будней и праздников подошел как-то день рождения Михаила Александровича. Студенты решили отметить это событие. Иозас Густайтис разучил с товарищами «Вечерний звон». Двое других вызвались подготовить и сплясать «Русскую». Деятельное участие во всем принимала и дочь хозяйки — Беатриса. Ученики нарядились в русские одежды, явились под окна чеховского дома, стали петь, танцевать. Жена Чехова, Ксения Карловна, пригласила всех в дом. Кто-то произнес здравицу в честь именинника. Но сам он — обычно такой охочий до шутки, такой жизнерадостный — был хмурым, скучным. Чувствовалось, что чем-то горьким отдавал для него этот праздник, который — вот уже столько лет! — он встречал в разлуке со всем, что было ему близко и дорого по духу, по чувству.
Скоро все ушли, а Михаил Александрович загрустил еще больше. Почему-то вспомнился Александр Николаевич Островский, и его Аркашка Счастливцев. Как тот, оставшись, вроде него самого, Михаила Чехова, без дела, приехал в гости к дяденьке-лавочнику. У того за обедом и ужином водки пей сколько хочешь, а после обеда спать. Казалось бы, чего лучше? Аркашка уже поправился, толстеть стал, да вдруг как-то за обедом пришла ему в голову мысль: «А не удавиться ли?» По старался избавиться от нее, но та же мысль вечером вернулась опять...
«К чему бы это пришло мне в голову?» — подумал Михаил Чехов и, тряхнув головой, попробовал, подобно Аркашке, избавиться от привязавшейся мысли. Но она не шла вон. И почему-то рождалось недовольство.
В Англии, как и в Соединенных Штатах Америки, как везде, где ему довелось побывать на Западе, наблюдал он прогресс в технике, в науке. А искусство, настоящее искусство, видел он, глохнет. Его разъедают скепсис и та практичность, о которой говорил в тот раз за чаем с сандвичами гость Дартингтон-холла. Потом этот день рождения, и студенты в русских костюмах. Они невольно напомнили о том, что понемногу стало забываться. Может быть, напрасно? Далекая родимая страна, теперь уже только страна воспоминаний — радостных, грустных, неповторимых, — вставала перед ним как укор. Ему вдруг стало тошно от здешней сверхблагополучной обстановки, всех этих синих тренингов и по особому заказу исполненных легких тапочек, от рыцарских площадей для занятий и умильных разговоров об искусстве, призванных ублажать скучающую миллионершу. Там, дома, в России, споры об искусстве шли не за чашечкой чая с сандвичами. Мейерхольд, Таиров, Станиславский, вахтанговцы спорили на сценической площадке.
«Я, кажется, стал жиреть, как Аркашка на дядиных хлебах, — с брезгливостью подумал Михаил Чехов. — Но хлеб настоящего искусства на жиру не произрастает».
Еще какое-то время он продолжал жить в Англии и руководить школой-студией в Дартингтон-холле. Потом вернулся в Америку.
Несколько писем
В Европе уже начинался пожар второй мировой войны, и вместе с Михаилом Чеховым в Соединенные Штаты Америки перекочевала группа его студийцев-воспитанников.
В США они организовали профессиональный театр, названный ими «Чеховские актеры». В основу его — как всегда мечтал об этом вдохновитель коллектива — были положены принципы «высокого сценического искусства».
Репетиционная база «Чеховских актеров» находилась в городе Риджфилде, штат Коннектикут. Выступали сперва в Нью-Йорке, потом стали разъезжать по большой и малой американской провинции.
Еще будучи в Англии, Михаил Александрович вновь встретился с переселившимся в Лондон М. В. Добужинским. Там они еще больше сдружились. Их обоих увлекла тогда мысль о постановке «Бесов» Ф. М. Достоевского. Теперь, вернувшись в Америку, Михаил Чехов решил претворить этот замысел в жизнь и пригласил Мстислава Валерьяновича приехать к нему, поработать вместе. Добужинский согласился. Как развернулись дальнейшие события, мы узнаем из письма художника своему знакомому С. Бертенсоау, проживавшему в Голливуде. Письмо датировано 22 сентября тридцать девятого года.
«Я начал с Чеховым в Англии, — пишет Добужинский, — и теперь это начинает осуществляться. Спектакль его театра предполагается в конце октября в Нью-Йорке. Пока живем в Коннектикуте, в двух часах езды от Нью-Йорка, вместе со студией, в чудной мест ности, и если порадуете письмом, то пишите сюда, в Риджфилд».
Постановка «Бесов», несмотря на огромный интерес американцев к творчеству Достоевского, совершенно не оправдала надежд Чехова и Добужинского. Уже в следующем письме (от 7 декабря тридцать девятого года), адресованном тому же знакомому, Мстислав Валерьянович с горечью устанавливает, что спектакль, на который возлагалось столько надежд, успеха не имел. «Впрочем, — писал художник, — моя часть получила одобрение в прессе и, говорят, я «прошел» на Бродвее... Делаю знакомства, встречаю массу людей, получаю кое-какие обещания. Настроение, конечно, неважное... Чехова после постановки почти не вижу. Я очень сдружился с ним и его студией, и страшно жаль того неуспеха, но критика довольно подлая, а публика довольно глупая».
В. Соловьева-уточняет некоторые события тех дней. «Сыграли на Бродвее одну пьесу — «Possessed»17, или — она же — «Ставрогин». Пьеса не была понята и принята».
Не выдержав экзамена на театральном Олимпе Нью-Йорка, труппа «Чеховские актеры» полностью потеряла свой престиж. Дальнейший ее путь — путь скитаний. После «Одержимого», или «Ставрогина», ставила чеховская труппа «Двенадцатую ночь» и «Сверчок на печи». Но эти спектакли шли уже только по колледжам и университетам. Было это, конечно, не то, на что рассчитывал Михаил Чехов. Он снова — в который раз! — оказался в полнейшем тупике.
Через некоторое время в связи со вступлением Соединенных Штатов во вторую мировую войну большую часть актеров театра призвали в армию. И это дало Михаилу Александровичу повод для ликвидации коллектива «Чеховские актеры». Все равно ничего, кроме новых трудностей и огорчений, театр этот, по-видимому, принести ему не мог.
Напоследок, как мы узнаем из письма М. В. Добужинского18, Михаил Чехов «по общему настоянию сыграл по-английски со своими учениками «Ведьму» и «Забыл». Для спектакля «маленькие декорации» написал Мстислав Валерьянович. Он свидетельствует, что Михаил Александрович «сыграл замечательно». Вероятно, так оно и было. Но ничего от того не менялось. И главное — изменить было уже невозможно.
Небольшой проблеск в обстановке неудач, сценических провалов и крушений всех его надежд и расчетов возник, когда с нью-йоркским городским театром Новой оперы удалось Чехову договориться о постановке оперы Мусоргского «Сорочинская ярмарка». Несмотря на рижский опыт с «Парсифалем», он чувствовал себя на оперной сцене не столь уверенно, как в драме. Но тут Чехову вновь улыбнулась удача.
Как-то С. В. Рахманинов, с которым он иногда встречался в Америке, ехал из Нью-Йорка к своему другу Е. И. Сомову в Риджфилд. Чехов направлялся туда же, и Сергей Васильевич предложил ему ехать вместе. Он был страстным автомобилистом и сам вел свою машину. Пока они ехали, Михаил Чехов использовал счастливый случай и задал композитору ряд вопросов о том, как следует ставить оперу. Рахманинов отвечал терпеливо, ясно и обстоятельно, открыв ему много важных секретов. Объяснил, в чем тайна игры актера-певца. Растолковал технику творчества Ф. И. Шаляпина. Говорил о возможных ошибках режиссера, который из драмы пришел в оперу, и о том, как их избежать. Разъяснил, что можно и чего нельзя требовать в смысле игры от актера поющего. Как сделать, чтобы певец («вот как Федя») не смотрел без нужды на дирижера. Объяснил, что дирижер вправе требовать от режиссера и от чего он может легко отказаться. Что значит двигаться в ритме и что значит — в метре. Словом, теоретически, хоть и не знал о цели чеховских вопросов, в течение одного часа с минутами поставил всю оперу. Только по приезде в Риджфилд он услышал от Е. И. Сомова, что Чехов собирается оперу ставить.
— Ну хитер! — посмеялся Сергей Васильевич. — Всю дорогу вопросами меня мучил, а для чего — не сказал!
«После премьеры (ею открылся 3 ноября сорок второго года сезон Новой оперы. — А. М.), — писал позже в одной заметке Чехов, — Рахманинов очень похвалил постановку, забыв, что она отчасти его».
«Сорочинская ярмарка» шла в Нью-Йорке под музыкальным руководством видного дирижера Эмиля Купера. Декорации и костюмы были М. В. Добужинского. Художник пишет:
«Чехов сделал свою часть блестяще и преобразил американских певцов, но работать нам (то есть М. А. Чехову и ему, Добужинскому. — А. М.) было тяжело». Почему? Художник поясняет на своем примере: «Работал пять месяцев, сам писал все и добился ансамбля в костюмах, хоть наново (и это в нью-йоркской опере! — А. М.) была сшита только часть их — остальное пришлось подбирать (!) и самому раскрашивать...» И далее: «Хотя и на мою долю выпал большой «успех», но вы знаете, как груб театр вообще, а в особенности тут, где никто с любовью ничего не делает, а чтобы «вкладывать душу» — это умеем только мы, русские».
Уже не раз встречаемся мы с такого рода выводом. Первым в этой горькой повести сделал его, рассказывая об Америке и Западной Европе, Федор Иванович Шаляпин (помните его восклицание о фальшивых актерах, фальшивых реноме, фальшивых декорациях?!). Теперь, встретившись с «прелестями» буржуазного искусства Запада, заговорил, в сущности, о том же М. В. Добужинский. Скоро нам предстоит услышать и мнение Михаила Чехова. А пока вернемся к «Сорочинской ярмарке».
«Уже после первого спектакля, — узнаем мы из письма Мстислава Валерьяновича, — стала вылезать всякая дрянь, и приходилось все обуздывать, не говоря об освещении, которое превращалось в бог знает что. Я все-таки до сих пор продолжаю жить «Сорочинской» и делаю постскриптум, но сии картины вряд ли кому нужны».
Удивительно ли, что после сказанного М. Добужинский, несмотря на «успех» (его собственный и Михаила Чехова), прорывается в своем письме такой строкой:
— После спектакля и он и я впали в тоску.
И с этой фразой встречаемся мы уже не впервой. Но ведь слов из песни, как известно, не выкинешь...
На представлении «Сорочинской ярмарки» Мстислав Валерьянович сидел в театре позади Сергея Рахманинова. Указав на изображенную художником украинскую деревеньку и пригорок с церковью и тополями, Сергей Васильевич мечтательно сказал:
— Вот бы дачку тут мне построить!
Дачу он вскоре построил себе. Но, увы, на американской земле, близ Голливуда.
Худо ли, хорошо ли обошлось дело, но «Сорочинская ярмарка» на какое-то время заняла и мысли, и думы, и время Михаила Александровича. Завершив труды по постановке оперы, надо было искать новое дело.
Но его не оказалось. Узнав об этом и не сказав Чехову ни слова, Сергей Рахманинов стал заботиться о его дальнейшей судьбе. Приехав в Голливуд, он сделал все возможное, чтобы обеспечить переезд Михаила Чехова в Калифорнию — в столицу американской кинематографии.
Голливуд... К моменту, когда Михаил Александрович должен был схватиться за него как за якорь спасения, он уже немало был наслышан об этой американской «фабрике снов». Очень красочно рассказывал о ней, между прочим, Аким Тамиров, старый приятель Чехова, с которым он не раз в последние годы встречался в доме Рахманинова, сначала во Франции, потом в США.
Аким Тамиров приехал с женой в Америку еще в двадцать третьем. Когда-то в Москве он играл Яшку в пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад».
Для Тамирова «Америка-сказка» — это годы странствий с передвижным театриком, годы тяжелейшей работы, несбывшихся планов, неудач. При воспоминании о них широкое, подвижное и в общем добродушное лицо Тамирова становится обычно мрачным.
— Плохо живется в Америке людям, приехавшим «искать счастья», — признается он.
Хотел играть в театре на Бродвее. Изучал английский язык. А жена, Тамара, тоже артистка, работала «вейтершей», то есть официанткой, в ресторане. Копили деньги на университет. Два года копили. Встретили какого-то приятеля. Посоветовал для округления сбережений купить бумаги на бирже. Купили на; все деньги. Это было в октябре двадцать девятого года. Назавтра после их «удачного» приобретения был «черный день» на Уолл-стрите. И чета Тамировых потеряла все до последнего цента...
На Бродвее, где расположены крупнейшие театры Нью-Йорка, Аким Тамиров, что называется, «не прошел». Тогда он открыл школу гримировального искусства. Но и она успеха не имела.
Тамиров молчит с минуту, вспоминая о первых своих шагах в Голливуде, куда он с женой перебрался в конце концов из Нью-Йорка, и вздыхает:
— Уж вы поверьте, не рисуюсь. Если бы знал, через какие муки придется пройти, чтобы стать «звездой экрана», не пошел бы я в тот день сниматься!
Пожалуй, нигде, как именно в этом центре американской кинематографии, случай определяет судьбу человека.
В первом фильме дали Акиму Тамирову какую-то «злодейскую» роль. С тех пор пошло... Он оказался в этом фильме таким мерзавцем, что после, сколько ни старался, никаких других ролей, кроме злодейских, ему не давали. А ведь он думал, да и другие считали, его актером комическим!
— Для публики вы — злодей. Теперь менять амплуа нельзя.
И все. В десятках фильмов играл, и под конец почти каждого из них его убивали. Расстреливали, вешали, сбрасывали в пролет лифта, привязывали к железнодорожным рельсам, по которым должен был пройти экспресс. Он тонул по ходу сценария в Ледовитом океане, погибал в стычке с джи-менами и т. д. и т. п. А все потому, что для американцев, которые посещают кинематограф, Аким Тамиров — это «актер, играющий злодеев». И только.
Вошла жена, Тамара. Актер признается: «Я на ней, бедной, все мои убийства репетирую. Дуэли на ней репетирую. Две недели тренировался с хлыстом — научился у нее во рту папироску срезать. Глухонемого играл, и месяца полтора, чтобы войти в роль, дома с ней только знаками объяснялся. И то выдержала. А теперь режиссер требует, чтобы я подучился метать ножи в живую мишень. А она отказывается. «Убьешь, — говорит, — меня, Аким!»
Был третий час ночи. Тамара умоляюще подняла на мужа свои глаза и покорно сказала:
— Я согласна, Аким. Согласна. Только не сейчас. Я хочу домой, спать... А завтра с утра ты попробуешь на мне свои ножи...
Конечно, в этом рассказе Акима Тамирова много шутки. Но только ли шутки? И случайно ли Добужинский, который позднее тоже собрался бежать из «самого несимпатичного на свете города», из Нью-Йорка, на юг, в Калифорнию, признается, что при всем том и Голливудом «напуган до смерти со слов друзей».
Знал правду об американской «фабрике снов» и Михаил Чехов. И тоже поехал, когда Сергей Рахманинов сумел договориться с Г. Ратовым, снимавшим фильм из русской жизни, чтобы он взял в свою постановочную группу его протеже. И несколько раз, уже тяжело больной, Рахманинов справлялся о положении Михаила Александровича. Что ж, эпизод этот отлично характеризует сердечную отзывчивость великого композитора. Но как грустно читать эти строки: великий актер Михаил Чехов не может без протекции найти себе работу!..
В тот раз Чехов сыграл небольшую роль старикаколхозника в фильме «Песнь о России». Это была во многом типичная американская музыкальная кинолента. Героями ее являются колхозница Надя, талантливая пианистка, получившая музыкальное образование в родном селе Чайковское, и приехавший на гастроли в СССР американский дирижер Джон Мередит. Надя встречается с ним в Москве, чтобы пригласить выступить на музыкальном фестивале в ее селе. По просьбе Мередита она знакомит его со столицей. Джон влюбляется в Надю. Он едет в Чайковское, и там происходит Их свадьба. Но вот разразилась война. Американский музыкант продолжает концертные выступления по СССР, а Надя уходит в партизанский отряд. По окончании гастролей Джон Мередит снова едет в Чайковское (теперь оно находится в прифронтовой полосе), чтобы разыскать молодую жену. На фронте он встречается с партизанами-колхозниками, с бойцами и офицерами Советской Армии и, наконец, с Надей...
Тут надо учесть время, когда фильм снимался. Выражая свое восхищение героической борьбой советских людей с фашистской Германией, Чарли Чаплин сказал в эти дни: «Россия — передовая линия фронта демократии. Я не политик. Я люблю людей. Я за простых людей, и я убежден, что Россия — страна таких людей». А Эптон Синклер писал:
«Не нахожу слов, чтобы выразить восхищение нашего американского народа великолепным сопротивлением русских в этот исторический момент. Нет сомнений в победе».
Растущий интерес американцев к Советскому Союзу, ко всему русскому вызвал, в частности, спрос на советские кинокартины. И одновременно с этим появляется все больше фильмов американского производства с советской тематикой. Голливуд выпускает фильм «Арктический караван» — о героическом поведении русской женщины-радистки, «Северная звезда» — о партизанском движении на Украине, «Сталинградский паренек» — об участии группы советских подростков и сына английского инженера, строителя Днепрогэса, в битве за город на Волге, «Три русские девушки» — американский вариант имевшего огромный успех в США советского фильма «Фронтовые подруги».
Когда «Песнь о России» показывали в СССР, некоторые эпизоды русской жизни в трактовке американских артистов вызывали улыбку у советского зрителя. И все же картина эта верно передавала многие стороны советской действительности. Верно и с полной симпатией к нашей стране, к ее людям.
Судя по прессе тех лет, на американцев, которые с большим интересом отнеслись к этому фильму, сильнейшее впечатление произвели эпизоды, показывающие поездку Нади и Джона Мередита по Москве, их свадьбу в колхозе. С волнением смотрелась та сцена, где раненые советские воины слушают музыку Чайковского в госпитале, и та, в которой потерявший от переживаний рассудок учитель музыкального училища безмолвно сидит с разбитой скрипкой на развалинах разрушенного фашистскими бомбами дома. И еще одна сцена — где заблудившийся по пути в Чайковское Джон Мередит встречается с партизанами.
— Я хочу взглянуть, я должен видеть ваше лицо. Я хочу взглянуть в лицо мужеству, — говорит американский дирижер.
— Таких много, — отвечает колхозник-партизан.
Зрители, сидевшие в кинотеатре, обычно покрывали эти слова аплодисментами. Так было в США, так было и у нас, в Советском Союзе, во время демонстрации фильма «Песнь о России».
Михаил Чехов играл роль старого колхозника. Из всех исполнителей русских ролей он — как никто — сумел в немногих эпизодах, в которых участвовал, показать в этом фильме подлинно русского человека.
Позднее Михаил Чехов участвовал еще примерно в десяти фильмах. Сыграл роль графа в картине «В наше время», комическую роль антрепренера в работе Бена Хекта «Веселое привидение», профессора музыки в фильме «Рапсодия» и другие. В большинстве своем киноленты эти на советском экране не демонстрировались. Но музыкальную кинодраму «Рапсодия» наши зрители увидели. И, надо сказать, большой радости от того не получили.
«Почему?» — спрашивала наша критика, рассматривая этот и некоторые другие фильмы того же типа, что и «Рапсодия».
Ответ мог быть один.
Потому, что построены фильмы такого рода по принятым в американском кино избитым, раз навсегда установленным образцам, где фабульные ходы, человеческие характеристики, взаимоотношения действующих лиц, как и изобразительная манера создателей фильма, сплошь заштампованы. Сплошь рассчитаны на выпуск стандартной продукции. И тут даже талантливый исполнитель ничего не может изменить.
Взять, к примеру, «Рапсодию». В картине играют Элизабет Тейлор, Михаил Чехов и один из самых прославленных актеров итальянского театра — Витторио Гассман. Но посмотрев фильм, убеждаешься, что Гассман не отдал «Рапсодии» ничего, кроме доброго имени, и что Михаил Чехов устало снимается в манере «слезы радости блеснули в суровых глазах старого профессора музыки».
«Одна картина отличается от другой примерно так, — писал советский журнал «Искусство кино», — как одна фордовская модель от другой: есть разные годы выпуска, есть образцы с радиоприемником и зажигалкой, есть образцы с зажигалкой, но без радиоприемника, есть с радиоприемником, но без зажигалки... Повторяются декорации. Повторяются положения. Повторяются приемы. Грандиозный успех героя «Рапсодии» (скрипача. — А. М.) и грандиозный успех героя «Великого Карузо» (певца. — А. М.). Друзья взволнованно суетятся за кулисами — в одном фильме и в другом. В одном фильме и в другом примерно в сходном ракурсе снят роскошный зал. Мужчины и женщины в вечерних туалетах. Взаимные овации. Рукоплещущие друзья расступаются — сейчас герою будут предлагать умопомрачительный ангажемент. Слезы в суровых глазах профессора, которого играет Михаил Чехов. В фильме «Великий Карузо» успех героя переживает менее известный исполнитель, но зато сценарист добавляет краску: старый тенор Альфредо, открывший талант Карузо, оказывается, сам потерял голос. Так что слезы в суровых глазах вдвойне уместны».
Смотреть такие фильмы в обилии нестерпимо, хотя в «Рапсодии» звучит музыка Чайковского, а у Марио Ланци, занятого в «Великом Карузо», в самом деле несравненный голос. Нестерпимо потому, что в продукции такого рода от участников ее, как от художников, совершенно ничего не требуется, кроме известного профессионального умения. Нестерпимо потому, что тут искусство унижено в основном своем достоинстве. Потому что и искусством это назвать по праву нельзя, ибо тут чистейшей воды коммерция. Полная безыдейность. Сознательный уход от подлинной жизни как предмета творчества. Безобразный расчет на зрителя, который не ждет от искусства ничего, кроме пустячного развлечения на часок. Желание пристрастить его к киноштампам, как к жевательной резинке: не питательно, но привычно...
Так считает критик. Правильно считает.
Чем больше приходится Михаилу Чехову сниматься в таких фильмах, тем все больше растет в нем щемящая грусть о потерянном — о Родине, о русском искусстве. Он живо интересуется всем, чем живут художники в Советском Союзе. Не упускает ни одной возможности узнать, услышать, познакомиться с работами советских кинематографистов.
Снимаясь в Голливуде, он одновременно трудится над книгой «О технике актера» и ищет случая поделиться мыслями, которые его посещают при этом, с теми, кто работает в России и кому он больше всего хотел бы передать свой опыт. Он пишет письмо во Всесоюзное общество культурной связи с заграницей. Письмо датировано 31 мая тысяча девятьсот сорок пятого года и обращено к советским киноработникам.
«Дорогие друзья, — пишет Михаил Чехов. — На днях я был приглашен на просмотр фильма С. М. Эйзенштейна «Иоанн Грозный» (1-я часть). Это третий или четвертый советский фильм, виденный мною за последний год. Позвольте мне, как человеку одной с вами профессии, высказать несколько мыслей по поводу вашей в высшей степени необычайной работы. Если бы я был среди вас, я непременно вызвал бы вас на собеседование. Почему же не сделать этого письменно?»
Одной из положительных сторон «Грозного», как и других советских фильмов, Чехов считает их четкую, ясную форму, как в постановке режиссера, так и в игре актеров. «Нет другого театра на свете, — заявляет Михаил Чехов, причем ссылается на свое знание театров Европы и Америки, — который так ценил бы, любил и понимал форму, как русский. Эта положительная сторона ваших фильмов имеет, однако, и свою отрицательную сторону: форма у вас не всегда наполнена содержанием».
Чехов ссылается на книгу С. Эйзенштейна, с которой он познакомился в английском переводе. Там, говоря о монтаже, советский кинорежиссер выдвигает задачу не только логически связанного, но и максимально взволнованного рассказа. «Вот этого «максимума эмоции», этого живого, «стимулирующего» максимума чувства мне и не хватает, — говорит Чехов. — Впечатление такое: актер слишком хорошо знает, что он играет, знает в ущерб своему чувству. Он знает, что тут он гневается, тут ревнует, тут боится, тут любит, но не чувствует этого. Он думает, что чувствует, и обманывает себя этой иллюзией». Между тем, твердо верит Михаил Чехов, «чувство в театральном искусстве — ценнее мысли, а при четкой форме, как в «Грозном», оно получает первенствующее значение: он должен подняться до нее своими чувствами, не только одним пониманием, не только мыслью». Он оговаривается при этом: «Я не говорю: актер не должен мыслить, нет, но он не должен засушивать размышлениями свою роль. Мысль актера — фантазия, а не рассудок».
Настойчиво, горячо, заинтересованно продолжает он развивать свое соображение о том, что чувство актера не только наполняет форму, но и оправдывает ее. «В замысле Эйзенштейна много огня и силы, далеко превышающих психологию обыденной жизни. Он задумал трагедию шекспировского размаха, — пишет Чехов. — Так она и доходит до нас зрительно. Возникает вопрос: неужели нет у русского актера этих шекспировско-эйзенштейновских чувств, огня и страстей? Конечно, есть». Тут он повторяет: «Скажу снова: ни у одного актера в мире нет таких сильных, горячих, волнительных и волнующих чувств, как у русского. Но их надо вскрыть, надо научиться вызывать их в себе по желанию, надо тренировать большие чувства, чтобы стать трагическим актером».
Скрупулезно, шаг за шагом разбирает далее Михаил Чехов игру актеров в фильме. Разбор идет строгий, но честный: художник разговаривает с художниками.
Без желания задеть кого-нибудь, но и без присюсюкивания. Затем он заключает свое письмо:
«Я позволил себе входить в такие профессиональные подробности потому, что ваша постановка и игра, сопровождаемые изумительной музыкой Прокофьева, произвели на меня большое впечатление и взволновали меня. Вы, русские актеры и режиссеры, первыми повели фильм (М. Чехов, конечно, имеет тут в виду кинематографию. — А. М.) по пути к большому, достойному нашего времени искусству. Нет сомнения, что ваша работа своей новизной и смелостью испугает страны, лежащие на Западе от вас. Много упреков, справедливых и несправедливых, услышите вы. Но это не страшно: вы умеете быть бойцом во всем. Страшно одно: ошибки в самом процессе вашего творчества. Мне, человеку одной с вами профессии и вместе с тем объективному зрителю, легче увидеть их издали, чем вам самим. Мое желание — вернее, надежда — быть вам полезным было моим единственным побуждением, когда я писал эти строки».
И в самом конце, как вывод. Не только из сказанного, но из всего увиденного, пережитого и понятого в жизни:
«За ваши смелые эксперименты, искания и честность в работе вы заслуживаете глубокую благодарность. Вы находитесь в привилегированном положении: вы не знакомы с коммерческим фильмом, где «business»19 — все, где слово «art»20 заменено словом «job»21. Но вы достойны вашего положения, ибо вы пользуетесь им как пионеры — для прогресса других. От вас прозвучит новое слово. Вы и никто другой дадите Западу урок правды в искусстве и изгоните из его сферы и «business» и «job».
Искренне благодарный Вам Ваш почитатель
Михаил Чехов».
Когда Михаил Александрович писал это письмо, было ему пятьдесят четыре года. Только пятнадцать лет из жизни на сцене пришлись на долю Москвы, где в общении с великими мастерами русского театра развилось, окрепло и достигло своего зенита его искусство. В Москве он сыграл Калеба, Фрезера, Эрика, Мальволио. В Москве, достигнув вершин, которые доступны немногим, он создал незабываемые, по праву поставившие его в первый ряд актеров отечественного театра образы Хлестакова, Аблеухова, Гамлета, Муромского. Затем он уехал на Запад, где думал найти больше свободы для творчества, чем на Родине.
И вот уже семнадцать лет он живет и работает на Западе. Семнадцать лет! То есть дольше, чем в Москве, куда приехал совсем молодым, по сути дела, начинающим актером! А создал? Ведь и «Потоп», и «Эрик XIV», и «Двенадцатая ночь», и «Ревизор», и «Гамлет», в которых он имел успех за границей, были созданием московского периода. Что еще можно отнести в актив? Ни Скайд, ни Юзик, ни князь из «Феи», сыгранные у Рейнхардта, ни парижская затея со «всеобщим театром», реализованным в спектакле «Дворец пробуждается», ни даже Фома Опискин в рижском спектакле «Село Степанчиково» в уровень с его былыми московскими достижениями стать, конечно, не могли. И нью-йоркские «Бесы» тем более. Остается Иоанн Грозный в трагедии А. К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного». И это за семнадцать лет!
В Берлине, после встречи с Мейерхольдом, Чехов пришел к выводу, что Всеволод Эмильевич не мыслит себя без России. И именно Советской России. Не мыслит, ибо ему ясно, что творить так, как хочет он, как повелевает ему его гений, он не может нигде, кроме России. Теперь Михаил Чехов до конца понял, как прав был Мейерхольд. Только Россия, только Советская Россия давала и дает своим творческим работникам право на смелые эксперименты, на искания. Только находясь в том привилегированном положении, в которое поставлен художник Страны Советов, где в искусстве нет места духу коммерции, делячества, можно сохранить честность в работе. И это значит, что урока правды, нового слова в искусстве тоже ждать можно именно из России.
В конце января тысяча девятьсот сорок шестого года Сергей Михайлович Эйзенштейн написал Чехову:
«Дорогой Михаил Александрович!
Очень был тронут Вашим вниманием и письмом, касающимся моего «Грозного».
С большим интересом прочел его сам и с неменьшим прослушали его мои актеры.
Но все мы сожалеем о том, что все это высказывается не в живой беседе с нами.
Кроме всего прочего, это означало бы то, что Вы не посторонний голливудский «outsider»22, а снова равноправный сочлен нашей советской творческой семьи.
Лично мне совершенно непонятно, как Вы живете, работаете и творчески дышите вне нашей плодотворной родной почвы!
Впрочем, это дело Вашей личной творческой биографии и совести художника, и не мне забираться в эти дебри.
Еще раз сердечно Вам благодарен — ведь Вы были одним из моих знакомых, когда я в 1920 году впервые вступал на путь искусства.
Привет. С. Эйзенштейн».
Месяц спустя американский отдел Всесоюзного общества культурной связи с заграницей послал Михаилу Чехову хроники, выпускаемые киносекцией общества. А еще через месяц, пользуясь оказией, — две книги о Московском Художественном театре, книгу Лебедева «Щукин — актер кино» и сборник советских киносценариев.
Итог
Книгу о технике актера, начатую в Литве, в Каунасе, потом продолженную в Латвии и проверенную на практике студийной работы в Дартингтон-холле, Михаил Чехов написал. Как многие его замыслы и свершения в период пребывания на Западе, ее постигла грустная судьба. Изданная в Соединенных Штатах Америки на русском языке (Чехов обязательно хотел, чтобы она была издана по-русски) в количестве одной тысячи экземпляров, она нашла лишь триста покупателей. Остальные семьсот экземпляров, многие годы лежавшие в гараже Михаила Александровича, в конце концов в большинстве своем пришли в негодность.
В кино он продолжал сниматься. В Америке, кроме тех, что уже упоминались здесь, он выступил в фильмах «Ирландская роза», «Приглашение», «Боль моего сердца», в «Зачарованном» режиссера Хичкока. За этот последний Михаил Чехов был даже отмечен особой премией Американской художественной академии.
Значит ли это, что он любил кино? Был покорён им и беззаветно, как театру, предан всю жизнь? Думаю, что нет.
В юмористическом тоне любил он рассказывать, как вскоре после поступления в Художественный театр впервые получил приглашение играть в кинематографе. Как был этим польщен и взволнован. Заручившись принципиальным согласием, пригласивший его человек вдруг вдохновился и приступил к переговорам о гонораре. Наступая на Чехова, быстро загнал его в угол комнаты. Там оба остановились, и человек затараторил:
— Вы подумайте, что дает вам экран. Славу! Вы делаетесь знаменитым! И вас все знают! А благодаря чему? Экрану! Вы понимаете?! А сверх всего вы получите тринадцать рублей. Соглашайтесь — и кончено!
Но для Михаила Александровича все было «кончено» уже в ту минуту, когда человек начал на него наступать. Он согласился на все условия. Человек мгновенно исчез.
Фильм готовили к трехсотлетию царствования дома Романовых. Часть съемок должны были производить в одном из небольших городов России. Ехали туда два дня по железной дороге, потом двое суток предстояло жить в отвратительных номерах провинциальной гостиницы. Была зима, стояли крепкие морозы. По приезде на место съемки участников ее гримировали и одевали в холодном, похожем на сарай помещении.
Актеры держали себя развязно. Много пили, кричали и ухаживали за премьером. Был он, по описанию Михаила Александровича, седой, с опухшим лицом и признаками «гениальности». Он, например, боялся лестниц и его водили по ступенькам под руки. А премьер, слегка вскрикивая, закрывал при этом глаза руками.
В первый день съемки Михаила Чехова поставили на высокой горе. Съемочный аппарат был установлен внизу, под горой. Чехов изображал царя Михаила Федоровича. Когда он показался в воротах, то услышал несколько отчаянных голосов, кричавших снизу, от аппарата:
— Отрекайтесь! Скорее! Отрекайтесь!
Михаил Чехов отрекся, как умел.
Слева от себя он увидел премьера. Тот был одет священником и вел его, царя Михаила Федоровича, под руку, произнося при этом неприличные слова. Съемка длилась долго, и Михаил Александрович замерзал все больше и больше.
После съемки обедали, много пили. Премьер рассказывал анекдоты.
И всем, кроме Чехова, было весело.
Ночь в грязной гостинице он провел плохо. На другой день, выйдя на съемку, чувствовал себя ничтожным и несчастным.
Когда снова начались съемки, его посадили на лошадь верхом, велели поехать в ближайший лесок. Он сделал это и все, что еще потребовали от него. Но выполнял как-то механически, ни к чему внутренне не подготовленный. Работа от этого становилась все более мучительной. Михаил Александрович готов был сбежать от своих благодетелей, отказавшись и от обещанной ему славы, и от тринадцати рублей.
На другой день, хотя съемки еще не были завершены, Чехов наотрез отказался от дальнейшего участия в них. Вместо Михаила Александровича на лошадь посадили другого актера, которому тоже приказали ехать в ближайший лесок. Но только снимали его сзади, чтобы не показывать лица: ведь оно ни в какой мере не было похоже на чеховское...
Доводилось Михаилу Александровичу и позднее выступать на русском экране, и вовсе не так анекдотически, как в первый раз. Незадолго перед отъездом на Запад он сыграл, в частности, центральную роль в фильме талантливого советского кинорежиссера Я. Протазанова «Человек из ресторана» (по повести Ивана Шмелева). Сыграл великолепно, но удовлетворения это ему не принесло. Снимавшийся вместе с ним в этом фильме Михаил Жаров вспоминал слова Чехова:
— Люблю уставать после театра. Там усталость удовлетворения, счастливая усталость. А сейчас я просто изможден, у меня мышечная усталость. Воображение даже не участвовало в работе, а тело все болит. Почему это так? Наверное, я не актер для кино, — закончил он грустно.
Но тогда что же? Что, если не призвание, заставило Михаила Чехова все последние годы отдать кинематографу? Увы, ответ один — необходимость. Для него кино, как сам он ни возмущается этим словом, не что иное, как «job», то есть дело, заработок. И только. Пристегнув себя к колеснице буржуазного искусства, он стал его рабом. Как все прочие.
Была у Михаила Чехова одна привязанность в эти последние годы — студия, которую он снова создал. В ней занималась не одна только молодежь. И, видимо, был Чехов неплохим педагогом, если в числе его учеников мы находим: в Англии — П. Роджерса, а в США—Грегори Пека, Ю. Бриннера и такую избалованную экраном «звезду», как Мерилин Монро.
В Беверли-Хиллс, городе кинематографических «звезд», где он жил в ту пору, так же как в Каунасе, Риге и Лондоне, учил Михаил Чехов актеров «говорить», «ходить» и «думать». То есть проникать в три основные тайны театрального творчества: в тайну речи, движения и мира художественных образов. Он говорил своим ученикам, что три с половиной десятка букв алфавита можно скомбинировать так, что из их комбинации возникнет всего лишь газетная заметка. Но эти же буквы можно скомбинировать и так, что возникнет «Фауст» Гёте. То же и с речью актера.
Ученики любили его, и Студия Михаила Чехова пользовалась в Соединенных Штатах Америки доброй известностью. Но в самом ее руководителе что-то окончательно надломилось, не давая ему подняться на прежнюю высоту. Ту, которую он занимал, пока не покинул Родины.
И понятно. Он ведь был актер. Русский драматический актер. А что такое русский актер без русской сцены? Без русской публики? Без родной почвы, питавшей его творчество?..
За границей он так и не создал «своего» театра, о котором мечтал столько лет.
Умер Михаил Александрович Чехов 30 сентября тысяча девятьсот пятьдесят пятого года в Беверли-Хиллсе, близ Голливуда.
И там, в чужой земле, похоронен.
Книга была уже дописана, а мысли о ее герое не покидали меня.
«Чудо!» — говорила, вспоминая о нем, народная артистка Советского Союза Софья Гиацинтова. «Властелином сцены» называли его друзья по профессии. Но тогда, может быть, то, как сложилась его судьба за рубежом, — случайность? Может быть, тут дело в простом невезении, которое преследовало Михаила Чехова? Ведь бывает и так.
Ну, а Рахманинов? А Шаляпин? Им ведь «везло». Признанные, обласканные, они жили в достатке и почете. Что же, они «нашли себя», покинув родную страну?
Вспомнился надолго затянувшийся перерыв в творчестве Рахманинова-композитора и его признание, что вне России он потерял желание сочинять. Вспомнилась тоска Шаляпина, вынужденного за границей тянуть «каторжную лямку», — тем более горькую, что там он не нашел, как дома, истинных ценителей искусства.
Нет, какая уж тут «случайность»!
Или Иван Алексеевич Бунин, многие годы прожившии в добровольном изгнании — вне России, без ее людей, без ее языка. Что же он?
Мы знаем, среди написанного им в эту пору немало прекрасных произведений. Но каким угнетающим сознанием одиночества и отчаяния веет от многих из них. И, заметьте, читая созданное Иваном Алексеевичем за границей, зачастую не можешь отделаться от чувства, будто это уже знаешь. От чувства, что писатель повторяется. Или делится ранее недосказанными подробностями. И рядом с «Митиной любовью» и «Жизнью Арсеньева», рядом с «Делом корнета Елагина» и «Темными аллеями» есть у него в эти годы вещи невысокого разбора, плохого вкуса.
Конечно, языка русского Бунин не растерял. Но недаром другой большой мастер, Александр Иванович Куприн, еще до возвращения в СССР, размышляя о путях русской литературы, говорил:
Новый гениальный писатель за рубежом, конечно, не родится: жизнь здесь скучна, однообразна, а главное — нет русского языка. Настоящий русский язык мы черпади у русского мужика, как Пушкин искал и черпал его у московских просвирен.
Тут он вспоминал дурачка Ваську из Касимовского уезда. Когда его спрашивали, где он живет, Васька отвечал: «У соседа на полу».
— Так и мы здесь, за рубежом, — отмечал Куприн, — тоже живем у соседей на полу.
Так же, как для него, как для всякого подлинно русского человека, русского художника, период эмиграции был для Бунина огромным несчастьем. Осознав это, он писал еще в двадцатых годах:
У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.
Как горько было сердцу молодому,
Когда я уходил с отцовского двора,
Сказать прости родному дому!
И ему, и Куприну, и другим русским талантам жизненно необходима была родная почва, родная земля. Правда, и у выдернутого из почвы растения остаются на корешках комочки материнской земли. Эти-то приставшие комочки, как верно отмечала в дни столетия А. И. Куприна наша печать, питали в период эмиграции его творчество. Думается, это можно с полным правом распространить и на творчество Рахманинова, Шаляпина, Бунина. Но сильному, могучему растению нужны, понятно, не крупицы, а весь черноземный пласт.
У самого Куприна об этом сказано так:
«Есть люди, которые по глупости либо от отчаяния утверждают, что и без родины можно. Но, простите меня, это все притворяшки перед самим собой. Чем талантливее человек, тем труднее ему без России».
А Михаил Чехов был очень талантлив. И то, что он, несмотря на очевидность совершенной ошибки, упорствовал в ней, привело его к трагедии. Трагедии человека и художника, чей огромный дар оказался в самом расцвете погубленным. А имя на Родине — почти забытым.
Жаль...
Иллюстрации
М. А. Чехов — Хлестаков. Рисунок
Анненкова.
Один из шаржей М. А. Чехова.
М. А. Чехов. 1940.
М. А. Чехов — Калеб.
Рисунок М. А. Чехова.
Он играл мастера игрушек Калеба в
«Сверчке на нечи». М. А. Чехов — Калеб,
В.В.Соловьева — Берта, Е.Б.Вахтангов —
Текльтон. Первая студия МХТ, 1914.
Его Фрезер был таким, каких много: за
жизнью рвущийся, завидующий, страдаю-
щий, способный на гадость и на добрый
порыв. «Потоп». Первая студия МХТ, 1915.
Как смешон Мальволио! Как прекрасно
нелеп с его лакейской самонадеянностью,
с его мечтами выскочки! «Двенадцатая
ночь». Первая студия МХТ, 1920.
«Чехов. Мальволио. 12 ночь». М. Либаков.
1922
Стройный, легкий, порывом носимый,
безволием парализуемый, жалкий,
трогательный, жуткий, несчастный король.
«Эрик XIV». Первая студия МХТ, 1921.
Человеком «без царя в голове» показал
Хлестакова Михаил Чехов. «Ревизор».
МХТ, 1921.
«Вертопрах», — говорит о нем позднее
прозревший Городничий. «Ревизор».
Нью-Йорк, 1935.
Он никогда не знает сам, что сейчас
сделает, что скажет. «Ревизор» Нью-Йорк.
1935.
В петербургскую пору. Миша Чехов.
В пьесе А. Белого он создал образ мрачного
дикаря в министерском кресле.
«Петербург». МХАТ-2, 1925.
М. А. Чехов — Гамлет.
Чеховский Гамлет лишен безволия. Он не
только любит и презирает, но и протестует,
и активно борется. МХАТ-2, 1924
М. А. Чехов. 1922.
У Чехова — Аблеухова пустые глаза на
мертвенно-бледном лице и автоматические
движения. Рисунок М. Либакова
Невозможно забыть рисунок его спины в
этой роли, оттопыренные уши, заостренную
голову. Рисунок М. Либакова.
Скайд-клоун. Образ трагикомический.
«Найти роль» помогла Чехову воспитавшая
его русская школа. «Артисты». Вена, 1928.
Дьячок сетует, что это злой дух, сидящий в
молодой его жене, завлекает в их дом
мимоезжих ямщиков и писарей. «Ведьма»
по А. П. Чехову. Париж, 1931.
Бывший каторжник узнает в ребенке свою
дочь. Фильм «Призрак счастья». Брамар.
Берлин, 1929.
Сладенький рассказ о замерзающем в рождественскую ночь мальчике и о
возмездии тем, кто в этом повинен. Фильм
«Тройка». Нищий. Берлин, 1930.
В имении Клерфонтэн под Парижем.
М. А. Чехов и С. В. Рахманинов, 1931.
Будучи на гастролях в Прибалтике,
Ф.И.Шаляпин встретился с М.А.Чеховым,
был на спектакле, хвалил его игру.
Рига, 1933.
Пропойца, «блаародный чеек», — тип на
сцене не новый. Новым было то, как актер
повел эту знакомую «партию».
«Утопленник» по А. П. Чехову. Париж, 1931.
Фуражка, пуговицы тужурки, стол, бутылка
пива, письмо — все участвует, все
подвертывается вовремя. «Свидание хотя и
состоялось, но...» по А. П. Чехову.
Гвоздиков. Париж, 1931.
Карандашный набросок М. Л. Чехова. Так
мыслится актеру физический облик Фомы
Опискина.
Маленький, горбоносый с выгнутым вперед
подбородком и косичкой на затылке,
появился Фома Фомич. «Село Степанчиково»
по Ф. М. Достоевскому. Рига, 1933.
А.М.Жилинский руководил Национальным
театром Литвы и пригласил М. А. Чехова в
качестве режиссера-постановщика.
Каунас, 1933.
М. Л. Чехов и Янис Карклинш. Рига, 1934.
Войдя в нотный магазин, человек забыл,
какую пьесу дочь поручила ему купить.
«3абыл!» по А. П. Чехову: Нью-Йорк, 1935.
Фильм «Песнь о России». Старый
колхозник. Голливуд, 1943.
Фильм «В наше время». Ида Люпино и
М. А. Чехов. Голливуд, 1944.
Фильм «Видение из-за розы». Джудит
Андерсен и М. А. Чехов. Голливуд, 1945.
Он учил актеров проникать в три основные
тайны театрального творчества: в тайну
речи, движения и мира художественных
образов. Беверли Хиллс, 1954.
М. А. Чехов. Последний снимок.
Примечания
1 Известный немецкий актер.
2 Решено? (нем.)
3 Замечательная роль! (нем.)
4 «О если б этот плотный сгусток мяса!..» (из монолога Гамлета в I акте).
5 Михаил Чехов — племянник писателя А. П. Чехова.
6 Из нее вырос нынешний Театр имени Евг. Вахтангова.
7 Известный французский актер и режиссер, работавший в это время в театре «Комедия Елисейских полей».
8 Жена Рахманинова.
9 Ныне главный режиссер Театра оперы и балета Латвийской ССР.
10 Ныне главный режиссер Рижского театра оперетты.
11 Ныне артист Художественного театра Латвийской ССР имени Я. Райниса.
12 Ныне главный консультант республиканского Дома народного творчества.
13 Ныне народная артистка Латвийской ССР.
14 Ныне заслуженный деятель искусств Латвийской ССР, режиссер Радиокомитета.
15 Ныне заслуженная артистка Латвийской ССР.
16 Позднее главный режиссер Театра оперы и балета Литовской ССР.
17 «Одержимый» (англ.)
18 Письмо не датировано. Очевидно, его можно отнести к началу 1942 года.
19 Коммерция (англ.)
20 Искусство (англ.)
21 Дело, заработок (англ.)
22 Посторонний человек (англ.)
Содержание
М. Жаров. Слово о Михаиле Чехове
Москва - Лос-Анджелес
Встреча с Западом
Уроки немецкой речи
Клоун Скайд
Конец одной «дружбы»
Макс Рейнхардт
«Юзик»
Знаменательная встреча
«"Потоп" есть трагедия...»
Вахтангов
Мейерхольд
Русский князь в «Фее»
Еще два фильма
Старые знакомые
Восторг в деньги
Что главное а театре?
Папка из архива
Вдохновение и путь к нему
Вверх по лестнице, ведущей вниз
Поиски опоры
Рахманинов
Злосчастная идея
Топтание на месте
В тем слава художника?
Воспоминания, воспоминания...
Схватка с «Белым козлом»
Фома Опискин
Упорство
Иоанн Грозный
«"Ревизор" дыбом»
Ученик Добужинского
Нежелательный иностранец
Снова у разбитого корыта
В положении Аркашки Счастливцева
Несколько писем
Итог
Иллюстрации
Примечания
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




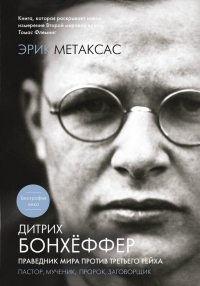
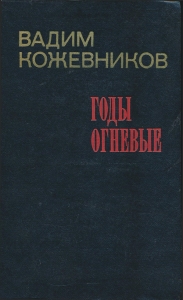
Комментарии к книге «Трагедия художника», А. Г. Моров
Всего 0 комментариев