Мунблит Г.Н.
Рассказы о писателях и маленькая повесть
Эта книга - воспоминания критика и кинодраматурга Георгия Николаевича Мунблита о писателях, с которыми он встречался, дружил и работал. Это рассказы о невымышленных героях и невымышленных событиях.
Черты биографии и душевного облика Э. Багрицкого, И. Бабеля, А. Макаренко, Ю. Германа, М. Зощенко, И. Исакова, И. Ильфа, Е. Петрова, описания встреч с В. Маяковским, Б. Пастернаком, М. Левидовым, А. Луначарским, О. Мандельштамом - все это предстает здесь в сюжетных коллизиях, отличительная особенность которых в совершенной их достоверности.
ТРУДНАЯ ПРОФЕССИЯ
(Вместо предисловия)
Тем, кто любит перечитывать книги, ведомо чувство радости, какое испытываешь всякий раз, когда, возвращаясь к хорошо известным страницам, открываешь в них новый смысл и новую прелесть.
Похожее чувство возникает, когда вспоминаешь былые годы, восстанавливаешь в памяти давние происшествия, людей, с которыми вместе работал, радовался и горевал, места, где пришлось побывать.
И нужно ли удивляться, что среди тех, кто был свидетелем или участником событий, положивших начало нашей эпохе, так распространен интерес к минувшему, что все мы с таким волнением читаем о временах своей юности и с таким увлечением воскрешаем в памяти все, что связано с ней.
Вспоминая и рассказывая о литераторах двадцатых и тридцатых годов, я словно вижу их перед собой, слышу их голоса, заново переживаю радость общения с ними. Лукавая и добрая усмешка Бабеля, рокочущий бас Маяковского, грубоватая шутливость Багрицкого, который пытался скрыть за нею восторженную влюбленность в хороших людей и хорошие книги, размашистая громогласность Петрова и сдержанная, насмешливая и вместе с тем бесконечно милая улыбка Ильфа, удивленно приподнятые брови и печальные глаза Зощенко, сжатые губы и внимательный взгляд Макаренко - мне трудно поверить, что все это живет только в наших воспоминаниях, что уже никому, никогда не удастся увидеть этих удивительных людей, что мы никогда не прочтем их новые книги, не услышим их голоса.
Все они избрали литературу своей профессией не потому, что она представлялась им всего лишь более привлекательной, чем другие, а потому, что попросту не могли поступить иначе, потому что для всех них литература была делом жизни, поглощавшим все их мысли, все мечты, весь жар души.
В жизни разных людей писательство может выглядеть совершенно по-разному. Для одного литература - всего лишь средство преуспеть и прославиться; для другого - высокая миссия, цель которой лучше всего выразил Пушкин в своем «Пророке». И великолепное пушкинское призвание «глаголом жечь сердца людей» овладевает такими писателями с непобедимой силой, делая их «одержимыми» в самом высоком и самом осмысленном значении этого слова.
Мы стали бояться в последнее время «высоких слов». Но как обойтись без них, когда говоришь о людях, у которых потребность писать побеждает все другие помыслы и стремления; о людях, не находящих в себе силы сойти с этого пути, каким бы трудным он им ни казался и как бы ни была далека для избравших его цель, к которой они идут?
Но не нужно думать, что, говоря о неодолимом стремлении к писательству, я имею в виду простую склонность запечатлевать на бумаге свои мысли и наблюдения всего лишь для того, чтобы довести их до сведения читателей. Нет, истинное писательское призвание вообще не в том, чтобы «отражать» или «запечатлевать» картины внешнего мира. Для этого, пожалуй, ни один настоящий человек не стал бы браться за перо. Он взял бы его лишь в том случае, если бы почувствовал потребность выразить в своих писаниях свое отношение к миру, если бы у него возникло намерение усовершенствовать этот мир, если бы он ощутил в себе силу, необходимую для того, чтобы обратить читателя в свою веру, открыть для него красоту там, где он без помощи писателя ее не увидит, заставить его полюбить то, что заслуживает любви, и возненавидеть то, что следует ненавидеть, - словом, сделать читателя своим единомышленником, союзником, другом.
Причем не следует забывать, что для всего этого писателю надлежит сделать свои сочинения увлекательными, ни в каком случае не превращая их при этом в «чтиво», что, споря с читателем и убеждая его, он не должен навязывать ему своего образа мыслей, а доставляя радость, обязан заботиться, чтобы радость эта была не «гастрономическая», а умственная, то есть такая, какую испытывает человек, когда сам работает головой.
Нелегкое это дело... Но, как говорил Маяковский, «где, когда, какой великий выбирал путь, чтобы протоптанней и легше?».
И лучшим примером победы на этом пути может служить работа самого Маяковского, о котором принято было когда-то думать, что он не помышляет о том, чтобы завоевать читательское расположение, и не старается сделать свои стихи понятными и нужными людям, не искушенным в поэзии.
Мне не довелось близко знать Маяковского, и я не могу порадовать читателя сколько-нибудь связными воспоминаниями о нем. Несколько мимолетных встреч в редакции «Комсомольской правды», куда Владимир Владимирович часто захаживал, да литературные вечера в университете, где я был одним из сотен его восторженных и вместе с тем строптивых слушателей, жадно ловивших каждое его слово и изо всех сил пытавшихся противиться напористому его обаянию, - вот все, чем я располагаю.
Но некоторые суждения Маяковского о предмете, о котором идет здесь речь, памятны мне до сих пор.
Помню, например, разговор с ним о его отношениях с «широким читателем», происходивший в большой, неуютной и полупустой комнате литературного отдела «Комсомольской правды» в Большом Черкасском переулке, где помещалась тогда эта редакция, кстати, гораздо менее многолюдная, чем сейчас.
Но здесь следует оговориться. Я взял в кавычки слова «широкий читатель» потому, что понятие это в ту пору было весьма условным и оперировали этим термином с особенно крикливой назойливостью молодые люди, получившие нежное литературное воспитание и выступавшие от имени РАППа, то есть Российской ассоциации пролетарских писателей - организации весьма драчливой и деспотической.
Маяковскому эти самые рапповцы досаждали до крайности, защищая от него вполне мнимые читательские интересы, которыми он якобы пренебрегал, и требуя от него, чтобы он сделал свои стихи понятными массам, о которых сами они имели весьма расплывчатое и далекое от истины представление.
В этот раз, раззадоренный одним из своих собеседников такого рода, Маяковский повернулся к нему так резко, что тот даже попятился.
- Значит, по-вашему, я о читателе не забочусь? Не стараюсь быть понятным? Пренебрегаю... так, что ли? - спросил он угрожающе спокойным басом.
Собеседник молча пожал плечами.
- Разговаривать плечами, конечно, проще, чем языком, - уже капельку рассердившись, продолжал Маяковский, - но от меня вы плечами не отделаетесь. Вы утверждаете...
- Я, собственно, ничего не утверждаю, но некоторым нравится быть непонятными. А с другой стороны...
- С другой стороны, с другой стороны! - прервал его Маяковский. - А вы пробовали когда-нибудь острить в обществе людей, которые не смеются вашим остротам?
- Видите ли...
- Вижу. У вас почему-то всегда не смеются. Ну а у меня бывает по-разному. Так что мне - сложнее. Приходится проверять. Однажды - допроверялся. Сочиняю и бегаю на кухню к нашей стряпухе, читаю ей и жду, чтобы рассмеялась. Большая такая была женщина, непоколебимая, краснощекая... Не смеется! Я и так и эдак - не смеется! И что вы думаете, выбросил я строку. Потом выяснилось, что женщина эта вообще никогда не смеялась, за исключением тех случаев, когда ее щекотал кавалер. Да и то не столько смеялась, сколько ухала, как филин... Слыхали, как эти птички ухают? А у меня пропала строка.
Маяковский обвел нас глазами и вдруг широко улыбнулся.
- Могу подарить, если кому нужно, - сказал он вдруг, обращаясь ко мне.
- Мне не нужно: я не пишу стихов, - гордо ответил я.
- Напрасно. Научиться по-настоящему работать со словом может только тот, кто пишет стихи, - промолвил Маяковский твердо и потерял ко мне интерес.
Но это разговор - шуточный, а если говорить всерьез, стремление Маяковского быть до конца понятым было для него всегда самым насущным.
Да и могло ли быть иначе для поэта-пропагандиста, каким был Маяковский, для человека, побуждаемого к писательству стремлением «сделать жизнь»? Могло ли ему быть безразлично, понимают ли его и правильно ли понимают, то есть, в сущности, слышат ли его те, к кому он обращается, те, чьи сердца он стремится завоевать?
И надо же, чтобы именно Маяковского критические слепни, всю жизнь роившиеся вокруг него, беспрестанно язвили за то, что он непонятен! непонятен! непонятен! читателю, и ставили ему в пример... но не будем поминать «первых учеников», которых эти насекомые ставили в пример Маяковскому.
Трудная, очень трудная профессия - литература.
Что же до «счастливцев», у которых Маяковскому предлагалось учиться, то ведь никто из них никогда не был настоящим писателем. А среди настоящих, надо полагать, никогда не бывало счастливцев...
Вероятно, именно потому в моей книжке так мало веселых историй.
ОХ, УЖ ЭТИ СПОСОБНЫЕ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ!
Следует сказать прямо: первая моя попытка вступить на литературное поприще завершилась провалом. Первая, если не считать нескольких, вполне младенческих стихотворений в прозе, которые я произвел на свет, вступив в кружок молодых литераторов, возникший в Тифлисе в самом начале двадцатых годов и состоявший из десятка мальчиков, очень любивших читать и поэтому пишущих.
Как мне представляется нынче, никто из участников этого кружка не относился к своим занятиям литературой серьезно, если не считать его главы и вдохновителя, такого же молодого, как и все остальные, но не по годам образованного и умного. Звали его Борис Нелепо. Любопытно, что все знавшие его не видели в его фамилии решительно ничего смешного. Значение этого слова по Далю - «бессмысленный, вздорный, пустой» - так не подходило к внутреннему, да и внешнему облику этого человека, вызывавшего у всех, кто с ним соприкасался, восхищенное уважение, что никому и в голову не могло прийти, даже в шутку, устанавливать связь между ним и его фамилией.
Он очень рано умер от врожденного порока сердца, проучившись перед этим года два на филологическом факультете Бакинского университета. Там и была вскоре после его кончины издана маленькая книжка его стихов под редакцией поэта Вячеслава Иванова, который был в ту пору профессором. В своем предисловии к ней он пишет: «Столь горестно-рано ушедший от нас юноша-поэт был один из дружно сплотившейся группы бакинских студентов, словесников и энтузиастов художественного слова... мы легко распознавали и горячо любили мягкое благородство его облика, нежность отзывчивой души, высокую культуру ума и вкуса, строгость и силу научно направленной мысли... Я, не колеблясь, отметил его истинное дарование, и уверен, что из него выработался бы поэт замечательный».
О Борисе Нелепо следует рассказать еще вот что: он знал, что жить ему осталось недолго, потому что все мужчины в их роду были «сердечниками» и умирали молодыми, а у него наследственная болезнь проявлялась особенно остро, но вел он себя, а главное - работал и учился так, как полагалось бы учиться и работать человеку непоколебимо уверенному в своем долголетии. В последний раз я видел Бориса незадолго перед моим отъездом в Москву. Он был уже очень слаб и даже говорил медленнее и тише обычного, но и в этот раз, как всегда, я застал его за работой. Встречая меня, он ласково улыбнулся, но было видно, что с трудом оторвался от книги, очень толстой и, судя по всему, очень ученой. В отличие от подавляющего большинства молодых людей его возраста, которым все полезное представляется скучным, а все вредное - привлекательным, Борису нравилось все полезное.
Поговорив немного, мы простились, и я вышел на улицу с камнем на сердце. Даже мысли о скором отъезде из отчего дома - событии, которое представлялось мне тогда в самых радужных цветах и оттенках, - не могли утешить меня.
О смерти Бориса Нелепо я узнал уже из письма, полученного в Москве.
Но вернусь к истории моих литературных неудач.
Они, как я сейчас понимаю, были - в самом полном смысле этого слова - закономерными.
Приехав в Москву с командировкой Наркомпроса
Грузии на экономический факультет Московского университета (такие командировки были необходимы тогда для поступления в некоторые высшие учебные заведения) и установив, что командировка эта не содержала в себе слов «в счет разверстки» и поэтому права для поступления в университет не давала, я быстро утешился. Экономические науки не очень привлекали меня, и теперь передо мной открывалась соблазнительная возможность выбирать ниву, на которой мне предстояло трудиться, по собственному вкусу и разумению. Поколебавшись некоторое время между химией (это была профессия отца) и литературой (которая была моей тайной склонностью и которой, сколько мне было известно, никто из моих предков не занимался), я выбрал литературу. А выбрав, отправился на Поварскую улицу (нынешнюю улицу Воровского), где помещался знаменитый в ту пору Высший литературно-художественный институт, руководимый В. Я. Брюсовым.
Мог ли я знать тогда, впервые входя в большой круглый двор, с неухоженной клумбой посередине и статуей какого-то мыслителя в ниспадающей до земли каменной тоге, что через пятьдесят с лишним лет, став уже стариком и бывая здесь иногда, я буду всякий раз отчетливо вспоминать себя тогдашнего и все подробности дня, о котором пойдет сейчас речь?
Надо думать, у меня и в мыслях ничего подобного не было. Я, разумеется, понимал, что совершаю важный, может быть, даже решающий шаг в свое будущее, но это будущее выглядело довольно туманно, и заботил меня всего лишь вопрос о том, как отнесутся ко мне в приемной комиссии института. Мне было известно, что здесь, в отличие от университета, формальности при поступлении не в чести, но все же, подойдя к двери с табличкой «Приемная комиссия», я остановился, чтобы перевести дух.
Дверь показалась мне очень монументальной - вся в каких-то гирляндах, венках и узорах, с массивной бронзовой ручкой, правда, давно не чищенной, но тоже монументальной.
Отдышавшись, я нажал на эту ручку и вошел, а войдя, остановился в некотором остолбенении.
Дело в том, что комната, в которой я очутился, была уж очень причудливой. Все стены ее были затянуты шелком, не то вышитым, не то расписанным экзотическими растениями, пагодами и птицами, очень уж не вязавшимися с нынешним ее назначением. То была, как мне стало известно позднее, так называемая «китайская» комната, оставшаяся почти неприкосновенной с тех пор, как из дома на Поварской выехали прежние его хозяева и он был передан Брюсовскому институту. Дом этот был примечательным еще и потому, что, по слухам, был описан Толстым как жилище графов Ростовых. Но все это, как уже было сказано, дошло до меня позднее, а нынче у меня были все основания дивиться странному несоответствию между табличкой на двери и китайским колоритом комнаты, куда эта дверь вела. Правда, обшарпанные конторские столы и убогая канцелярская утварь, разбросанная на них, несколько смягчали это несоответствие, но птицы и пальмы на черном шелке первыми бросились мне в глаза.
За одним из столов стоял (именно стоял, а не сидел) совсем еще молодой паренек в синей косоворотке, с большой краюхой черного хлеба в руке. Разговаривая со мной, он продолжал есть, но ни мне, ни ему это не казалось странным, тем более что между нами сразу же установились вполне дружеские взаимоотношения.
Перелистав и бегло просмотрев мои бумаги, паренек гостеприимно улыбнулся.
- Ступай направо по коридору, - сказал он, - налево третья дверь. Там Валерий Яковлевич проводит беседу с поступающими. Как пройдешь испытания, сразу возвращайся ко мне. Я тебя оформлю.
Послушавшись паренька, я пошел направо по коридору и, не постучав, открыл третью дверь.
Уму непостижимо, как я мог тогда, уже узнав, что мне предстоит встреча с Валерием Брюсовым, одним из зачинателей российского символизма, другом Блока и одним из столпов нашей литературы, - в буквальном смысле этих слов, не спросивши броду, - и даже не попытавшись собраться с мыслями и освежить в памяти то немногое, что мне было известно, с совершенно пустой головой и глупой усмешкой этакого баловня счастья, каким, кстати сказать, я отроду не был, - как я мог, ни на минуту не остановившись, открыть эту дверь?!
Помню, что в голове у меня в это мгновение вертелись строчки из какого-то стихотворения Брюсова, которые сохранились в моей памяти до сих пор. Строчки были такие:
Улица была, как буря, толпы проходили,
Будто их преследовал неотвратимый рок.
Мчались омнибусы, кебы и автомобили,
Был неисчерпаем яростный людской поток...
Строки эти мне нравились, но стихи - стихами, кебы - кебами, а давно не метенный пол и барьер, почему-то перегораживающий комнату, куда я вошел, быстро отрезвили меня. По ту сторону барьера, у окна, стоял большой письменный стол, за ним возвышалось тяжелое кресло, а перед ним - два венских стула, на одном из которых, к полной для меня неожиданности, я увидел давнего своего тифлисского знакомого Борю Агапова, доверительно беседующего с человеком, сидевшим в кресле, которого я тоже сразу узнал.
Человек этот был не кто иной, как оригинал знаменитого врубелевского портрета, только теперь он не стоял, скрестив на груди руки, а сидел, внимательно слушая то, что говорил ему Боря Агапов.
Прислушавшись, я установил, что Боря читал стихи, и так как мне было известно, что он - поэт и что в Брюсовском институте имеется «творческое» отделение, мне стало понятно, что я присутствую на экзамене. На меня Валерий Яковлевич посмотрел мельком, никак на мое появление не отозвавшись, и я остался стоять у двери, «весь обратившись в зрение».
В Брюсове - все было в точности такое, как на портрете: прямые, растрепанные волосы, вкривь и вкось торчащие скулы, челюсти, борода и усы, холодные, колючие глаза и какой-то совершенно врубелевский пиджак с высоко приподнятыми плечами.
Когда Боря кончил читать, Брюсов полистал лежавшие перед ним на столе бумаги, черкнул что-то на одной из них и, протянув ее Боре, внятно сказал:
- Вы приняты!
Тот взял бумагу, встал и, явно ничего перед собой не видя, пошел к двери. Меня он попросту не заметил.
Брюсов же поднял глаза и указал мне на один из стульев, стоящих перед столом.
Я сел и вдруг почувствовал, как душа у меня (в это мгновение ее присутствие стало совершенно отчетливым - она была беззащитная, маленькая и теплая на ощупь), так вот эта самая душа, вместо того чтобы, как ей полагалось, уйти в пятки, - совсем покинула мое сразу похолодевшее тело.
Ощутить бы мне это чувство пятью минутами раньше, перед тем как я вошел в эту страшную, перегороженную каким-то милицейским барьером комнату! Но ведь в том и состоит всегдашняя наша беда, что чувство опасности приходит к нам слишком поздно.
Ко мне же теперь это чувство пришло даже не потому, что я был совершенно не подготовлен к экзамену, да и мог ли я быть к нему подготовлен, если ни программы, ни сколько-нибудь определенных требований к поступающим в Брюсовском институте не было тогда и в помине, - а потому, что мной вдруг овладело твердое, непонятно откуда взявшееся убеждение, что я не понравился Брюсову, мгновенно превратившемуся в моих глазах из небожителя, автора стихов, которые я знал наизусть, в отталкивающе некрасивого, за что-то на меня сердитого человека, занятого сейчас придумыванием самых что ни на есть каверзных вопросов, чтобы сразу со мной разделаться.
Как это ни странно, но я не ошибся. Вопросы были действительно каверзные и именно чтобы сразу...
Первый был такой:
- В каких журналах впервые начали печататься русские символисты?
Я не знал. Надо думать, что я не знал бы этого и сегодня, если бы Брюсов, установив по моему молчанию и туповато унылому виду, что на меня надежда плоха, не счел нужным просветить меня по этому поводу. Оказалось, что то были марксистские журналы. Мог ли я думать, что стихи Белого, Брюсова и Сологуба соседствовали некогда со статьями Петра Струве и Туган-Барановского? Я и сейчас этому с трудом верю!
Мне почудилось, что Брюсову было приятно мое замешательство. Правда, его лицо оставалось совершенно бесстрастным, но следующий его вопрос тоже оказался разительно схожим с волчьей ямой, где наваленные в беспорядке ветки и комья земли маскируют ловушку, из которой зверю живым не выбраться.
Вопрос был о том, какое произведение Достоевского было им написано и опубликовано первым после возвращения из Сибири.
Нужно ли говорить, что, одушевленный своей сообразительностью, я проявил девственную неосведомленность об истинном положении вещей и сразу же назвал «Записки из Мертвого дома»?
Брюсов поморщился.
- Вы ошиблись, - сказал он. - «Село Степанчиково». «Мертвый дом» был опубликован только через два года, в 1861 году.
И, совершенно потеряв ко мне интерес, даже глядя куда-то в сторону, он предложил мне перечислить рассказы Чехова о деревне.
Я сумел назвать только «В овраге» и «Бабы». Как это всегда бывает, когда требуется, да еще в критических обстоятельствах, что-либо перечислить, у меня вылетели из головы все остальные «деревенские» чеховские рассказы, которые я множество раз перечитывал и мог бы не только перечислить, но и пересказать. Даже любимейший мой рассказ «На святках» не пришел мне тогда на ум!
Не помню, что сказал Брюсов, но все было ясно: я провалился самым постыдным образом.
Выйдя в коридор и пробираясь к выходу, я больше всего боялся столкнуться с моим покровителем из приемной комиссии. Но все обошлось, и я побрел по жаркой в тот день Поварской и свернул на Кудринскую площадь, в центре которой тогда был сквер с большим круглым бассейном посередине, где по колени в воде стояли гипсовые статуи Маркса и Энгельса, непочтительно именовавшиеся «бородатыми купальщиками». Путь мой лежал на Малую Дмитровку, и я, по обыкновению, двинулся туда по Большой Садовой. Не догадываясь о том, что Садовое кольцо недаром зовется кольцом, я всюду, куда бы ни шел, предпочитал держаться этой широкой и, как мне казалось, прямой улицы, удлинявшей все мои маршруты не меньше чем вдвое.
О Брюсове я старался не думать, но это, как известно, лучший способ ни на минуту не забывать о том, что хочешь забыть, и поэтому весь остаток дня я не переставал размышлять о своем провале и придумывать уничтожающе точные реплики, коими следовало бы отвечать на каверзные вопросы моего прославленного экзаменатора.
Ах, если бы я мог прочесть тогда хотя бы одну страничку из воспоминаний В. Ф. Ходасевича о Брюсове. Он хорошо знал Брюсова, и эта страничка - одно из многих беспощадных его суждений об отце русского символизма - очень бы меня обрадовала.
Вот что пишет о Брюсове Ходасевич:
«Он страстною, неестественною любовью любил заседать, в особенности - председательствовать. Заседая - священнодействовал. Резолюция, поправка, голосование, устав, пункт, параграф - эти слова нежили его слух. Открывать заседание, закрывать заседание, предоставлять слово, лишать слова «дискреционного властью председателя», звонить в колокольчик, интимно склоняться к секретарю, прося «занести в протокол» - все это было для него наслаждение... В эпоху 1907-1914 гг. он заседал по три раза в день, где надо и где не надо. Заседаниям жертвовал совестью, друзьями...»
* * *
Кто знает, как бы сложилась моя судьба, если бы через несколько дней после неудачной попытки поступить в Брюсовский институт кто-то из моих знакомых (а водился я в ту пору по преимуществу с молодыми людьми, кочевавшими из института в институт в поисках удачи и счастья) не сообщил мне, что в Москве есть еще одно литературное учебное заведение, куда принимают без командировок. Называлось оно Государственный институт слова, и, хоть в его титуле не было слова «высший», учили там примерно тому же, что и в Брюсовском институте.
Нынче мне представляется, что людские судьбы мало зависят от случайного стечения обстоятельств, и даже в тех случаях, когда обстоятельства уводят нас от пути, предначертанного велениями времени и генетическим кодом, мы отклоняемся в сторону недалеко и ненадолго. Надо думать, я не стал бы моряком, инженером или врачом, даже если бы у меня не появилась новая возможность попытаться стать литератором. Но тогда сообщение об Институте слова показалось мне последним шансом на пути к цели, которую я избрал и которая маячила далеко впереди.
И именно с этим чувством я отправился на Большую Никитскую (нынче улицу Герцена), где наискосок от Консерватории, в старом здании бывшей школы, этот институт помещался. Помню, каким неприглядным и дряхлым выглядел этот дом, не только снаружи, но и внутри, и как меня это тогда огорчило.
Экзамены для поступающих происходили здесь в бывших школьных классах, где экзаменатор и экзаменуемый сидели рядом на партах, испещренных глубоко врезанными именами и изречениями дореволюционных двоечников, стремившихся увековечить память о себе этим испытанным способом.
Экзаменовал поступающих в тот день неведомый мне, но, как я скоро узнал, широко известный в литературных кругах знаток античности и специалист по французской литературе Борис Александрович Грифцов. Худощавое, чисто выбритое розовое лицо его с упрямо выдвинутым вперед подбородком сразу же понравилось мне, но воспоминание о брюсовском экзамене было еще слишком сильным, чтобы снять владевшее мной напряжение.
И тем неожиданнее, тем необъяснимее показалось мне то, что с первых же слов, сказанных Борисом Александровичем, я вдруг почувствовал, что мне стало легче дышать, а звук его голоса, в первые мгновения доносившийся до меня словно издалека, стал внятным и, что было совсем уже неожиданным, ободряюще приветливым. Может быть, причина моего внезапного просветления была в том, что мы сидели с ним рядом, а не по обе стороны письменного стола (эта позиция и до сих пор лишает меня присутствия духа), вернее же всего, мне помогло взять себя в руки несомненное радушие, с каким меня встретил мой новый экзаменатор.
Во всяком случае, на первые его вопросы (не помню уже, в чем они состояли) я ответил вполне удовлетворительно, а увидев, как, слушая меня, Борис Александрович несколько раз ободряюще кивнул, я и совсем осмелел. Привело это к тому, что на главный вопрос, заданный мне, я ответил пространным, малообоснованным рассуждением, которое, как я сейчас понимаю, давало Грифцову все основания счесть меня легкомысленным болтуном и прогнать. Но он не использовал эту возможность.
Вопрос был о том, какова основная мысль романа «Анна Каренина».
Честно говоря, я об этом никогда прежде не думал. Да и вообще, читая книги, я умел в ту пору только радоваться или негодовать, далеко не всегда понимая, почему эти чувства у меня возникают. Видимо, «разборы» литературных произведений, практиковавшиеся на школьных уроках литературы и имевшие целью вышелушить из книг их «смысл», породили у меня и у большинства моих сверстников такое предубеждение против сальериевского «разъятия музыки», что нам и в голову не могло прийти заниматься этим по собственной воле, в свободное от уроков время.
Мое истолкование толстовского романа, кстати сказать, родившееся в ту самую минуту, когда я начал его излагать, состояло в том, что «Анна Каренина» представляет собой гневное осуждение буржуазно-помещичьего института брака и защиту женщины, преступившей моральные догмы и нормы своего круга и времени.
Развивая и пытаясь обосновать эту «прогрессивную» мою идею, я словно парил на крыльях. Мне чудилось, что внимание, с каким Борис Александрович слушал меня, свидетельствовало о том, что его заинтересовали и показались резонными мои суждения. Даже самый тот факт, что он не прервал меня, как это практикуется в случаях, когда экзаменуемый отвечает на вопрос слишком пространно, показался мне ободряюще важным. Дождавшись конца моей речи, Грифцов сказал:
- Все это очень интересно, но вам, вероятно, известно, что эпиграф к роману Толстого противоречит вашей концепции. Вы помните этот эпиграф?
Я не помнил.
- Очень жаль, - с вежливым сочувствием промолвил Борис Александрович, - но эпиграф там такой: «Мне отмщение, и аз воздам». Как, по-вашему, его следует понимать?
И тут наступил мой звездный час. Почувствовав, как земля уходит у меня из-под ног, обуреваемый энергией отчаяния, той самой энергией, которая помогает человеку, уходя от погони, перемахнуть через недосягаемо высокую изгородь или переплыть широкую реку, а попросту говоря, не помня себя, я произнес еще одну речь, на этот раз напоминавшую не свободное парение в волнах теплого воздуха, а судорожный полет раненой птицы, спасающейся от смертельной опасности.
Смысл моих рассуждений сводился к тому, что в процессе работы над романом художник победил в Толстом моралиста, и поэтому люди, созданные им, повели себя не так, как это было задумано автором для осуществления его замысла, а как подлинные живые люди, то есть сообразно с их характерами и обстоятельствами, в которых они оказались. Я наделил Анну одному мне известным «талантом любви», утверждая, что сила и самозабвенность этого чувства оправдывают все ее прегрешения, я вспомнил и многозначительно подчеркнул оттопыренные уши и скрипучий голос Каренина, я позволил себе заявить, что Толстой опрометчиво, вопреки своему замыслу, показал трагедию Анны на фоне разлада в семействе Облонских и что, наконец убив свою героиню, он тем самым оправдал ее в глазах читателя, позволив ему думать, что кара, постигшая Анну, слишком сурова.
Произнеся эту тираду, я остановился, чтобы перевести дух, и открыл было рот, чтобы продолжать, но вдруг почувствовал, что выговорился до дна и больше сказать мне нечего. И, хоть молчание показалось мне тягостным, я не сумел выдавить из себя больше ни слова.
Грифцов посмотрел на меня, видимо ожидая, что я продолжу свою речь, но, установив, что я кончил, кивнул головой.
- Ну что ж, - сказал он. - Из вашего ответа явствует, что вы довольно внимательно прочли толстовский роман, который, как все великие книги, допускает самые разнообразные толкования. Кроме того, вам удалось, с некоторым даже успехом, защитить свою, весьма спорную точку зрения. Так что, я думаю, вы достаточно подготовлены для поступления в наш институт.
И, улыбнувшись, он протянул мне руку. Пожав ее и не чуя под собой ног, я вышел из комнаты и через несколько минут очутился на улице.
Теперь мне принадлежало здесь все. И красно-желтый трамвай, проскрежетавший мимо и отметивший пронзительным звоном мое торжество, и внушительное здание Консерватории, где, как мне было известно, «к моим услугам» имелся огромный концертный зал с великолепной акустикой (вскоре я в этом убедился, побывав там на вечере Андрея Белого, когда, еле различая с галерки его лицо, я отчетливо слышал каждое его слово), и керосиновая лавка на соседнем углу, и гомеопатическая аптека - через дорогу, наискосок; мне принадлежали теперь все театры и библиотеки, бульвары и магазины, да мало ли превосходных вещей могла предложить мне столица, набиравшая силу и расцветавшая на глазах в те достославные времена!
Но, вступая во владение всем этим, еще недавно таким недоступным мне миром, я не мог не задуматься о причудливости вчерашнего и сегодняшнего моего настроения и о причинах вчерашнего провала и сегодняшнего успеха.
Разумеется, мне и в голову не могло прийти, что Брюсов попросту был гораздо осмотрительнее Грифцова в отборе поступающих в его институт, - для такого справедливого и беспристрастного умозаключения я был слишком заинтересованным лицом, да и возраст мой мало способствовал умению взглянуть на дело со стороны. Нет, мои мысли, разумеется, клонились к тому, что первый из них ошибся во мне, а второй проницательно и верно меня разгадал.
Любопытно другое. Даже и сегодня возвращаясь памятью к тем временам, я не могу с уверенностью сказать, кто из тех двоих, что решали мою судьбу, был прав, а кто заблуждался.
* * *
Квартировал я тогда, на первых порах, у троюродной моей тетушки Доры Ильиничны Штейнрайх, женщины строгой, но доброй, причем строгость ее сквозила в каждом слове и жесте, а доброту она по непонятным причинам тщательно и довольно успешно скрывала.
Стерильная чистота и какой-то совершенно сиротский уют ее комнаты были грубо нарушены моим вторжением (сама Дора Ильинична на все это время переселилась к соседке), но впереди неясно мерцал огонек студенческого общежития, куда мне предстояло перебраться, и оба мы - моя великодушная хозяйка и я - терпеливо ждали часа, когда наша мечта осуществится. Увы, Институт слова общежития не имел, и уже очень скоро жилищная проблема встала передо мной во весь свой исполинский и грозный рост.
Забегая вперед, спешу сообщить читателю, что та же счастливая волна, которая вынесла меня на берег в учебных делах, очень скоро выбросила рядом со мной маленькую унылую комнатушку, которую мне удалось получить в полную собственность и в которой я счастливо прожил пятнадцать без малого лет. Пока же, до начала занятий, мне не оставалось ничего другого, как бродить по Москве в поисках пристанища, заниматься несложным хозяйством тетушки и перечитывать книжки, случайно перепадавшие мне из самых разных источников.
Однообразная это была жизнь. Но однажды Дора Ильинична, уходя на работу - она заведовала кабинетом Англии и США в Институте Маркса и Энгельса, - сказала мне строго:
- Приведи, пожалуйста, в порядок комнату. Ко мне сегодня вечером придет гость, и я бы хотела, чтобы к его приходу здесь стало поменьше мусора, окурков и предметов твоего интимного туалета.
Я заверил Дору Ильиничну, что сделаю все от меня зависящее, чтобы выполнить ее просьбу, и спросил - кого она ждет.
- Не знаю, известно ли тебе это имя, - с сомнением промолвила она, - но ко мне придет глава японской Коммунистической партии и член Исполнительного комитета Коминтерна Сен-Катаяма. Ты слышал о нем когда-нибудь?
Это имя мне было мало известно. Но надо же было случиться, что именно в эти дни я впервые прочел брошюру Джека Лондона «Как я стал социалистом» и узнал из нее, что горячо любимый мной в ту пору писатель вступил на путь борьбы за социальную справедливость под влиянием сочинений японского коммуниста Сен-Катаямы.
Я прочел тетушке вслух это место и заверил ее, что буду счастлив познакомиться с ее гостем.
- Отлично, - сказала она. - И тем больше у тебя оснований - убрать куда-нибудь эти грязные носки, подмести пол и вымыть пепельницы.
Сказавши это, она ушла, а я принялся за уборку, размышляя о том, какие удивительные происшествия дарует нам жизнь и как неслыханно мне повезло - увидеть и быть представленным человеку, научившему уму-разуму автора «Мартина Идена» и «Морского волка». Эти романы Джека Лондона я любил особенно сильно.
К приходу гостя комната сияла чистотой, и даже самая мысль о том, что еще так недавно в ней могли быть разбросаны окурки, клочья бумаги и грязные носки, могла показаться кощунственной.
Сен-Катаяма пришел точно в назначенный час.
На небольшом столике, накрытом белоснежной скатертью, был сервирован чай и в строгом порядке расставлены тарелочки с печеньем, леденцами и тонко нарезанным сыром.
После того как я был представлен гостю и, кажется даже, шаркнул при этом ножкой, мы уселись за стол и Дора Ильинична с Сен-Катаямой на чистейшем английском языке повели беседу, о смысле которой мне приходилось только догадываться по отдельным понятным мне словам и фразам, которые тетушка от случая к случаю считала нужным переводить.
От нечего делать я стал разглядывать гостя.
Это был крупный, пожалуй, даже грузный мужчина средних лет в больших круглых очках, с очень неподвижным и очень добрым лицом - олицетворение корректности, сдержанности и такта. Беседа между ним и Дорой Ильиничной текла неторопливо, по временам прерываясь короткими паузами; собеседники выслушивали друг друга спокойно и терпеливо, вежливо улыбались, почти не жестикулировали, прихлебывали чай и осторожно разламывали печенье, не уделяя этому занятию никакого внимания, словом, вели себя совершенно не так, как это было принято в тех «кругах», где я в ту пору вращался.
Мне стало скучно. Даже мысль о том, что тень Джека Лондона незримо присутствует сейчас в этой комнате, не развлекала меня.
В сущности, я был разочарован, хотя не мог не понимать, что от этой моей случайной встречи с вождем японских пролетариев не приходилось ждать никаких радостных неожиданностей. Да и о языковом барьере не следовало забывать. И все же, видимо, была надежда, что от соприкосновения с этим человеком я что-то пойму, почувствую, может быть, даже чему-нибудь научусь...
Но тут произошло нечто такое, что заставило меня обо всем позабыть. То ли из-за того, что я с утра ничего не ел, то ли по другой, неведомой мне причине, но во время одной из пауз, возникшей в учтивом разговоре хозяйки и гостя, у меня в животе очень громко вдруг заурчало, да еще с какой-то вроде бы вопросительной интонацией.
Я обмер. Но разговор за столом продолжался так, будто ничего непредвиденного не произошло. Собеседники все так же безмятежно обменивались медленными репликами и вежливыми улыбками.
Сжав зубы, я ждал, смутно надеясь, что все обойдется. И - дождался! После некоторого затишься, в животе у меня заурчало еще громче, чем в первый раз, и теперь уже - угрожающе.
Мне бы встать, убежать, скрыться куда-нибудь, но, окоченев от смущения, я не мог двинуться, стараясь изо всех сил не обратить на себя внимания. И продолжал сидеть, с ужасом прислушиваясь к тому, что происходило где-то там у меня внутри.
К счастью, поворчав теперь уже еле слышно, там все наконец унялось.
И только тогда, убедившись, что никто на меня не обращает никакого внимания, я сделал вид, что мне необходимо сполоснуть мой стакан, и, прихватив его для правдоподобия, выскочил вон из комнаты.
Когда я вернулся, гость уже начал прощаться. Он протянул мне руку и ласково улыбнулся. Может быть, он сочувствовал мне, может быть, не придавал никакого значения тому, что со мной произошло, не знаю. Знаю только, что от встречи с Сен-Катаямой у меня осталось такое чувство, какое бывает, когда, сняв с полки книгу, самой своей внешностью вызывающую жадный интерес, и полистав ее, ставишь на место, потому что не знаешь языка, на котором она написана. И еще - я до сих пор убежден, что урок хорошего воспитания, полученный мной в тот вечер, даром для меня не прошел.
* * *
Все стало другим с тех пор. И даже тогдашняя моя потребность - извлекать уроки из самых ничтожных и самых досадных происшествий, уступила место склонности поскорее о них позабыть.
И конечно же изменилось или, вернее, полностью улетучилось, свойственное тогда многим из нас убеждение, будто все вокруг принадлежит нам. Изменилось, надо полагать, еще и потому, что оно было не таким уж беспочвенным и нам двадцатилетним в ту пору действительно много принадлежало.
Я упоминал уже о вечере Андрея Белого в Большом зале Консерватории. То, что там произошло, в какой-то мере может служить тому иллюстрацией.
Мы пришли туда гурьбой человек в двадцать. И, разумеется, миновав окошечко кассы, устремились к двери с табличкой «Администратор».
За столом в этой комнате сидел человек, внешность которого начисто исчезла из моей памяти еще и потому, что на диване, стоявшем в другом углу, беседуя с кем-то, сидел сам Андрей Белый, и мы сразу узнали его по всем нам знакомым портретам. А узнав и многозначительно переглянувшись, адресовались к администратору с просьбой пропустить нас на вечер бесплатно, как студентов Литературного института.
Он решительно отказал, видимо, потому, что нас было слишком много. Дело в том, что студентам выдавались тогда контрамарки почти беспрепятственно не только в театры, но даже в кино, а уж на многочисленные литературные вечера и подавно.
Отказ нас не обескуражил, и мы принялись убеждать администратора пропустить нас, упирая на то, что побывать на сегодняшнем вечере нам необходимо не для развлечения, а для дела, по соображениям, так сказать, академическим. Упирая на это, мы беспрестанно оглядывались на Белого и косвенно обращались не к администратору, а к нему.
Расчет оказался верным.
Услышав, о чем идет речь, Белый взметнулся с дивана и устремился к администраторскому столу. Не помню, какие слова он прокричал в нашу защиту, но смысл их был тот, что мы - та самая аудитория, для которой организован сегодняшний вечер, и если нас немедленно не пропустят в зал, он отменит свое выступление. Сказано это было от всей души, и можно было не сомневаться, что свою фантастическую угрозу Белый приведет в исполнение.
Администратору не оставалось ничего другого, как уступить. Он так и сделал, но в отместку дал нам места не в партере, к которому мы привыкли, а на галерке, да еще не сидячие, а стоячие. По тогдашней нашей терминологии этот его поступок именовался «страшной местью горбуна».
О выступлении Белого у меня в памяти сохранилось впечатление по преимуществу зрительное: отчетливо вижу еще и сейчас фигуру невысокого, плотного человека в широком пиджаке, мечущегося вдоль края эстрады и так часто взмахивающего руками, что временами кажется, будто он взлетает на воздух. К сожалению, только эта «форма» его выступления и запечатлелась в моем сознании. Что же до предмета, о котором Белый держал свою страстную, туманную речь, то о нем у меня в памяти не сохранилось решительно ничего. Подозреваю даже, что не смог бы рассказать об этом и в тот вечер, когда все мы, по непонятной причине наэлектризованные слышанным, вывалились из Консерватории и, молча попрощавшись, разбрелись по домам.
Сейчас же, по зрелому размышлению, виню в этом не себя, а Белого, хотя бы уж потому, что очень многие из моих тогдашних впечатлений об ораторских выступлениях, литературных вечерах и спектаклях помню совершенно отчетливо.
ДАВНИЕ ВРЕМЕНА
Эдуард Багрицкий
Читая стихи, он по временам прикрывал глаза и по-птичьи нахохливался. Так, вероятно, выглядит, если посмотреть на него вблизи, пожилой соловей, поющий не для дамы и не для публики, а для одного только себя. И дело здесь было не в одном только внешнем сходстве. Такой чистой от примесей, такой самозабвенной любви к стихам, какая владела этим человеком, мне не случалось видеть ни у кого другого.
Он был не похож на поэта. Высокий, грузный, одетый в мешковатый костюм, в кожаном пальто и крагах, уже в те времена вышедших из моды, он больше всего напоминал какого-нибудь агронома или землеустроителя, но не тогда, когда они отправляются в гости или в театр, а когда трясутся в заляпанных грязью бричках по проселочным дорогам, разъезжая по своим агрономическим и землеустроительным делам.
И вместе с тем он был поэтом - каждой частицей своего существа, поэтом во всем - в отношении к людям, к вещам, к природе, к детям, к животным. Представить себе Багрицкого вне этой стихии или описать его вне ее было бы совершенно немыслимо, как немыслимо рассказать о корабле, не рассказав о том, как он плывет, тяжело покачиваясь и рассекая воду.
Мы познакомились в 1925 году в коридоре издательства «Молодая гвардия», которое помещалось тогда в маленьком доме на Старой площади. Он сидел на подоконнике, окруженный компанией нечесаных, плохо вымытых молодых людей, глядевших на него с молчаливым и почтительным обожанием. Меня подвел к нему поэт Коля Дементьев (так все его тогда называли), которому позднее было посвящено стихотворение Багрицкого «Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым».
- Эдуард, это та самая критически мыслящая личность, которой не нравятся ваши стихи, - сказал Коля.
- Очень рад познакомиться, - проворчал Багрицкий, протягивая мне большую мягкую руку. - Только вы напрасно думаете, что это оригинально - считать, что я пишу плохие стихи. Я знаю целую кучу людей, которые думают так же.
Нечесаные молодые люди громко и дружно захохотали.
Я промолчал. Он разглядывал меня, я его.
- Ну, а Блока вы любите?
- Люблю.
- Приезжайте ко мне в Кунцево, я вам почитаю Блока.
И через неделю большой компанией мы отправились пригородным поездом в поселок Кунцево - там в это лето обосновалась колония одесских поэтов, которых местные жители не слишком почтительно именовали «составителями».
Багрицкий жил в небольшом бревенчатом домике, в комнате, увешанной птичьими клетками. Принял он нас, сидя на жестком деревянном диванчике, в рубашке, в галифе и комнатных туфлях. В комнате было зелено от деревьев, заглядывавших в маленькие окна; в соседнем палисаднике кто-то играл на гармонике. Подмосковное лето было в разгаре.
Мы расселись кто на чем и сразу же заговорили о литературных делах.
Багрицкий молчал. Позднее я понял, что дела эти мало его интересовали. Живя литературой, размышляя о ней дни и ночи, он был бесконечно далек от всякого рода групповой и редакционной возни. И сейчас, поглядывая искоса на своих гостей, тараторивших об очередном назначении или перемещении какого-то редактора или редакционного секретаря, он еле слышно подсвистывал крохотной птичке, прыгавшей с жердочки на жердочку в клетке, которая стояла перед ним на столе.
Разговор понемногу стал замирать. И все тот же Коля Дементьев - он сегодня угощал нас Багрицким - предложил почитать стихи.
Багрицкий поглядел на меня и сказал:
- Я почитаю Блока.
Прочел он «Шаги командора», в которых по-блоковски волшебно и страшно описаны последние часы «познавшего страх» Дон-Жуана. В тех местах, где, словно звон погребального колокола, повторяется имя донны Анны, Багрицкий понижал голос и почти пел, раскачиваясь и притопывая ногой.
Кончив читать, он обвел нас взглядом и ухмыльнулся.
- Неплохих стихов, а? Как вы считаете?
У нас было принято в ту пору, для смеха, строить фразы в родительном падеже. Одесситы высмеивали так своих земляков, а кроме того, печальную известность приобрела незадолго перед тем книжонка какого-то стихоплета, выпустившего ее в собственном издании и за собственный счет. Книжонка называлась «Твоих ночей», и это очень нас всех потешало. Но помню, как поразил меня тогда в Багрицком внезапный переход от взволнованного, увлеченного чтения великолепных стихов к грубоватой и непритязательной шутливости. Мне еще только предстояло узнать, что это была обычная его манера. Уж очень он боялся всякого проявления сентиментальности и по-юношески, путая чувство с чувствительностью, считал необходимым прикрывать растроганность ироническим балагурством.
- Прочтите ему «Стихи о соловье и поэте», - сказал
Дементьев, указывая на меня. - Я ему их читал, и они ему не понравились.
- Лучше я прочту Киплинга, - ответил Багрицкий и вдруг, обращаясь к кому-то за перегородкой, закричал резким, пронзительным голосом: - Ли-да! Если придет Севка, не пускай его сюда! - И, обращаясь к нам, добавил: - Я хочу вам прочесть длинное стихотворение, чтоб вы знали, какие на свете бывают стихи, а если появится этот разбойник, цельность художественного впечатления будет нарушена.
«Цельность художественного впечатления» - тоже была цитата. На программках Московского Художественного театра было тогда напечатано, что публику просят не аплодировать до конца спектакля, чтобы не нарушать эту самую цельность, и нам это тоже казалось очень смешным.
Багрицкий откашлялся, подмигнул Дементьеву и сейчас же, словно сняв с лица одну маску и надев другую, начал читать.
Он читал «Балладу о Востоке и Западе» в переводе Елизаветы Полонской, и читал так, что чтению этому мог бы позавидовать самый талантливый исполнитель. Но самое странное, что мы в ту пору не очень хорошо понимали это. Скажи нам кто-нибудь, что через несколько лет Качалов будет подражать Багрицкому, читая его стихи, мы бы ни за что не поверили, хотя мне и сейчас памятна молитвенная тишина, какая воцарилась в комнате, когда, полузакрыв глаза, раскачиваясь всем телом и скандируя каждый ударный слог, он прочел вступление к киплинговской балладе.
Потом было беспорядочное, совершенно студенческое чаепитие.
Жена Багрицкого Лидия Густавовна, худенькая молодая женщина в учительских, очень серьезных очках, внесла в комнату большой цветастый поднос, уставленный разнокалиберными чашками, кружками и стаканами.
Она выглядела единственным взрослым человеком в нашей мальчишеской шумливой гурьбе, и мы сразу же присмирели в ее присутствии.
Вслед за матерью в комнату ворвался смуглый, весь исцарапанный пятилетний чертенок, очень похожий на отца и очень по-взрослому разговаривающий.
После чая кто-то предложил покататься на лодках.
Надо сказать, что Кунцево в те годы, совершенно как Сокольники в чеховские времена, было дачей. Там имелся настоящий лес, лодки на реке, далекий горизонт, тишина.
Лидия Густавовна не пошла с нами. После нашего набега нужно было убрать комнату, вымыть посуду, накормить и уложить ребенка, да мало ли еще бывает забот у жены поэта, - и мы снова стали юнцами, шумливыми, отрешенными от житейских дел, смешливыми, способными прослезиться от удачной стихотворной строки.
Когда спустились к реке, уже начало вечереть. Я оказался в одной лодке с Багрицким. Он внезапно развеселился, принялся учить нас грести, потом спел бандитскую песню, из которой у меня до сих пор сохранилась в памяти строфа: «То не черный ворон вьется, не соловушка свистит, - не хотелось, а придется кровью травку оросить...»
Послушав эту грустную песню, все замолчали.
И тогда Багрицкий вдруг предложил:
- Хотите, я вам прочту свои новые стихи? - И, не дожидаясь нашего согласия, стал читать начало «Думы про Опанаса».
Во второй лодке услышали его голос, еле слышно подплыли к нашей, и обе лодки медленно заскользили по красной закатной реке, окаймленной черными, опрокинутыми в воду деревьями.
В то лето было написано только начало поэмы. Опанас еще только рассказывал в нем Нестору Махно про коммуниста Когана, еще мечтал о тихой селянской жизни, еще была повита туманом Опанасова доля, но уже зловеще и грозно звучало описание внезапного превращения, которое претерпел крестьянский сын, став махновским сподвижником:
Зашумело Гуляй-поле
От страшного пляса, -
Ходит гоголем по воле
Скакун Опанаса.
Опанас глядит картиной
В папахе косматой,
Шуба с мертвого раввина
Под Гомелем снята.
Шуба - платье меховое -
Распахнута - жарко.
Френч английского покроя
Добыт под Вапняркой.
На руке с нагайкой крепкой
Жеребячье мыло,
Револьвер висит на цепке
От паникадила...
...Стоном стонет Гуляй-поле
От страшного пляса, -
Ходит гоголем по воле
Скакун Опанаса...
Когда Багрицкий кончил читать, никто не проронил ни слова. Только через минуту все заговорили, но не о стихах, а о чем-то другом. И Багрицкий, словно это не он только что читал прерывающимся от волнения, идущим от самого сердца голосом свою удивительную поэму, принялся хохотать, рассказывать анекдоты, грубовато острить.
Ему был не нужен разговор о его стихах. Он не придавал им значения.
И тогда Дементьев, наклонившись ко мне и поблескивая глазами, спросил:
- Ну как?
Я ничего ему не ответил. Да и что мне было говорить? Ведь я впервые так близко, совсем рядом с собой, увидел Поэзию, а об этом простыми словами не скажешь.
* * *
Мне трудно вспомнить сейчас, кому пришла в голову эта странная мысль - то ли редакционным деятелям, то ли кому-то из молодых литераторов, роившихся вокруг тогдашнего издательства «Московский рабочий», но в течение недели мысль эта приобрела вполне реальные очертания. Был составлен договор, в котором «издательство поручало», а несколько человек из нашей компании «брали на себя обязательство» препарировать для юных советских читателей целый ряд переводных классических приключенческих книг Стивенсона, Густава Эмара, Фенимора Купера и чьих-то еще. Препарирование должно было производиться по уже имеющимся старым переводам и состоять в сокращении «излишних длиннот» и «обработке» мест, содержащих безнравственные, на тогдашний комсомольский взгляд, воззрения авторов упомянутых сочинений. Попутно следовало подправить огрехи собственно переводческого характера, причем следует признаться, что никто из «взявших на себя обязательство» языками как следует не владел.
Не скрою, что эти самые «взявшие обязательство» понимали, какое черное дело они затеяли. Но издательство победило их предубеждение неслыханно высоким гонораром, обещанным за «означенный труд», и уверениями, что советские дети никогда не смогут прочесть ни Стивенсона, ни Купера, если мы не поможем им в этом. «Мы» - это были Багрицкий, Дементьев, наш с Дементьевым сокурсник по университету молодой критик Беркович и я.
Надо сказать, что рядом с корыстью, руководившей нами в этом сомнительном предприятии, в наших разговорах о нем неизменно присутствовала любовь к авторам, которых предстояло «обрабатывать», сохранившаяся с юношеских времен. Особенно горячился, говоря о Стивенсоне, Багрицкий.
- Знаете ли вы, что такое Стивенсон? Нет, вы не знаете Стивенсона! - возглашал он по временам. И так как мы все-таки немного знали Стивенсона, за этим следовали излагаемые взапуски воспоминания о книгах английского романиста, которые в те годы действительно были мало известны советским юношам.
Переговоры между нами и издательством были почти завершены, когда кому-то из «поручавших» взбрело на ум привлечь к редактированию предполагавшейся серии наркома просвещения Анатолия Васильевича Луначарского. Уговорить его взять на себя эту работу было поручено нам.
И вот в один прекрасный день, созвонившись предварительно с секретарем Анатолия Васильевича и с неожиданной для нас легкостью получив приглашение прийти к нему домой, мы отправились в один из арбатских переулков, где жил тогда Луначарский.
Поднявшись на пятый или шестой этаж старого московского «доходного» дома и попрепиравшись на тему о том, кому нажать кнопку звонка, мы были впущены в полутемную переднюю и образовали в ней небольшую свалку, возникшую из-за того, что никто из нас не хотел стоять впереди. Помню, что Багрицкому удалось обеспечить себе место в арьергарде, но в сутолоке он уронил с вешалки какую-то очень элегантную дамскую шляпу и наступил на нее ногой.
Именно в этот момент открылась дверь, и к нам вышел Анатолий Васильевич в теплом вязаном жилете, без пиджака и в комнатных туфлях.
Нам показалось, что он ничего не заметил - ни нашего смущения, ни возни, какую поднял Эдуард Георгиевич, извлекая из-под грубого своего сапога, отряхивая от пыли и водружая на вешалку злополучную шляпу, ни наших попыток прикрыть его при этом своими телами. Теперь-то я понимаю, что он отлично все это видел, но тогда мы были не просто недостаточно хорошо воспитаны, но даже и не подозревали о том, что на свете существует хорошее воспитание и в чем оно состоит.
Наконец мы проследовали в комнату и, рассевшись на диване и в креслах, стали, перебивая друг друга, излагать цель нашего визита.
Анатолий Васильевич слушал нас, внимательно разглядывая всех по очереди поверх очков. Когда объяснения были закончены, он, к нашему удивлению, легко согласился взять на себя редактирование серии. Обрадованные, мы переглянулись и готовы были встать и откланяться, но он задержал нас жестом и промолвил задумчиво:
- Но для чего, собственно, эти книги сокращать? Нужно просто выбрать из них лучшие и дать молодым читателям с хорошими предисловиями. Вам не кажется, что это было бы более правильно?
Разумеется, это было бы более правильно, но согласиться с Луначарским - значило разрушить все наше такое хитроумное и такое прибыльное предприятие. И мы принялись убеждать его, да и себя самих, что мы не будем почти ничего сокращать, что мы ставим перед собой задачу «донести до юношества» творения мастеров приключенческого жанра и, уж, разумеется, не позволим себе «обрабатывать» таких писателей, как Стивенсон.
Анатолий Васильевич снова принялся разглядывать нас, еле заметно улыбаясь нашей горячности и, как мне теперь кажется, и в этом случае отлично все понимая. Потом вдруг спросил:
- Кто из вас Багрицкий?
Мы замерли. Правда, договариваясь с секретарем, мы перечислили все наши фамилии, но нам и в голову не могло прийти, что они сразу же станут известны
Луначарскому. Наконец Эдуард Георгиевич тоном человека, решившего чистосердечным признанием искупить свою вину, произнес:
- Я - Багрицкий.
Луначарский внимательно посмотрел на него и, сняв пенсне, принялся протирать его.
- Недавно прочел в «Красной нови» вашу поэму. По-моему, великолепная вещь! - промолвил он веско. Его добрый хрипловатый голос, который мы привыкли слышать с трибуны, здесь, в комнате, был исполнен того же очарования, что и там.
Багрицкий встал, смущенно улыбнулся и вдруг рявкнул нечто среднее между солдатским «рад стараться» и пионерским «всегда готов».
Впоследствии он яростно отрицал это, но факты - упрямая вещь, а мы слышали его рявк своими ушами.
Луначарский сказал еще что-то лестное о «Думе про Опанаса», и Багрицкий что-то смущенно пробормотал, после чего мы стали прощаться.
Спускаясь по лестнице, Эдуард Георгиевич упорно молчал, не отвечая ни на поздравления, ни на шутки. И только выйдя на улицу, промолвил:
- Франсуа Вийон тоже был бедный человек, но он бы себе этого не позволил.
- Чего бы себе не позволил Вийон? - спросил кто-то из нас.
- Кромсать хорошие книги - вот чего.
- Ну, а плохие? Плохие он бы позволил себе кромсать?
- Не задавайте дурацких вопросов! К плохим книгам порядочный человек вообще не должен иметь никакого касательства.
- Что же нам делать? - спросил я. - Мы ведь подведем издательство. Они почти подписали с нами договор...
Но на этот вопрос, как говорится в романах, дала ответ сама жизнь.
Когда мы явились в «Московский рабочий» через несколько дней, неожиданно возникло новое обстоятельство. Из отпуска вернулся некий деятель, олицетворявший собой деловое начало этого легкомысленного и расточительного учреждения.
Узнав, какой гонорар нам обещан за нашу будущую работу, деятель затопал ногами, разорвал в клочья проект договора и заявил, что не позволит уплатить нам больше чем одну десятую часть той суммы, которую мы рассчитывали получить.
Но тут уж уперлись и мы. И хоть, честно говоря, цена, предложенная нам теперь, была совершенно божеская, она не могла победить в нас муки нечистой совести. Мы гордо отказались подписывать новый договор и ушли из издательства, одновременно горюя, злясь и облегченно вздыхая.
Так рухнуло это причудливое предприятие - одно из многих, затевавшихся веселыми молодыми литераторами в те веселые молодые годы.
* * *
А литература тогда и впрямь была молодая. Она, собственно, лет за пять перед тем только началась выходом первых номеров «Красной нови» и сочинениями Серапионовых братьев в Ленинграде. Маяковскому и Бабелю было по тридцать два года, Федину - тридцать четыре, Багрицкому - тридцать один. Что же до возраста подавляющего большинства наших прозаиков, поэтов и критиков, то он только еще колебался в пределах между двадцатью и тридцатью.
Издательств в те времена было великое множество, литературных группировок еще того больше, одни из них распадались, другие образовывались, с тем чтобы вскоре уступить место новым. И нужно ли удивляться веселой, поистине фантастической смелости, с какой созидалась в ту пору молодая наша литература, в которой все было новым - и идеи, ее одушевлявшие, и герои, и сюжеты, а подчас даже и самый ее язык.
Но рассказать о тех временах, не описав хотя бы вкратце литературные вечера, происходившие тогда по нескольку раз в неделю, никак невозможно. Очень уж они причудливо выглядели и очень были характерны для тогдашних литературных нравов.
Участвовали в этих вечерах по преимуществу поэты, аудитория состояла из молодежи, а характерной особенностью подавляющего их большинства было то, что между публикой и выступавшими почему-то неизменно устанавливались натянутые, а то и просто враждебные отношения.
Помню один такой вечер, происходивший в Большом зале Консерватории. В этот раз публике с самого же начала что-то не понравилось. Кажется, не приехали наиболее интересные из упомянутых в афише участников. Выразилось же это недовольство в том, что появление каждого выходящего на эстраду «не того» поэта аудитория встречала громом аплодисментов, увы, не прекращавшихся даже тогда, когда очередной служитель муз раскрывал рот, чтобы приступить к чтению своих произведений.
Так это происходило с одним, с другим, с третьим поэтом, так это произошло с устроителем вечера, который попытался публике что-то объяснить, так, несомненно, шло бы дело и до конца этого явно не удавшегося мероприятия, если бы одному человеку не удалось наконец утихомирить разбушевавшуюся молодежь и заставить себя выслушать.
Этим человеком был поэт и популярный теоретик стихосложения, автор книжки «Как писать стихи» Георгий Шенгели. Выйдя на эстраду, он, так же как и все его предшественники, поднял руку и попросил внимания.
Ответом ему был восторженный гогот и гром саркастических аплодисментов. Даже внешность выступающего - это был высокий человек с гривой смоляных кудрей, в длинном черном сюртуке и больших круглых очках - не внушила аудитории никакого почтения. Так как литератора, ведущего концерт, одним из первых прогнали с эстрады, почти никому из присутствующих не было известно, кто сейчас стоит перед ними, и какой-то вихрастый юнец, перегнувшись через барьер амфитеатра, пронзительно крикнул: «Фамилия!», требуя, чтобы выступающий назвал себя.
Публике понравилась эта игра, и теперь сквозь шум и аплодисменты стали слышаться крики: «Фамилия! Фамилия!»
Шенгели снова поднял руку, даже - помнится - обе. Гогот перешел в рев. Казалось, ничто не сможет образумить и укротить этого хохочущего, ревущего, многоголосого и многоликого зверя.
И тогда, дождавшись, когда шум на мгновение прервался, а крики «Фамилия!» стали менее дружными, Шенгели неожиданно гаркнул:
- Бетховен!
Публика замерла. И в мгновенной, зыбкой еще тишине поэт начал читать свое произведение громким, хорошо поставленным голосом.
Это было ложно многозначительное, пышное и весьма посредственное стихотворение о Бетховене. Заставить прослушать такое было бы нелегко даже и в более благоприятных обстоятельствах. Но когда публика опомнилась, было уже поздно. И вопреки всем законам, божеским и человеческим, Шенгели дочитал свое творение до конца. И что самое удивительное, его не прервали ни единым возгласом или хлопком.
Багрицкий почти никогда не участвовал в поэтических вечерах, хотя, должно быть, по временам завидовал храбрецам, срывавшим на них аплодисменты и проверявшим силу своего дарования в живом, горячем, прямом общении с читателями. После того самого вечера, который я только что описал, мне пришлось убедиться в этом.
Мы вышли тогда из Консерватории целой гурьбой и, идучи вверх по тогдашней Большой Никитской, увидели сегодняшнего триумфатора. Он шествовал впереди нас, ведя под руку хорошенькую девушку, отлично известную нам, и что-то жарко шептал ей на ухо.
- Вот что значит успех! - заметил кто-то из нашей компании, указывая на нежную парочку.
- Они будут щипать друг друга за ямбы! - проворчал Багрицкий.
И в этом неожиданном и, надо думать, необоснованном предположении мне послышалась не столько зависть к шенгелиевскому успеху у дам, сколько желание помериться силами перед публикой с этим баловнем счастья, так легко и так незаслуженно завоевавшим сегодня ее внимание.
* * *
А теперь следует рассказать кое-что о быте и нравах кунцевских «составителей» вообще и о некоторых происшествиях из жизни Багрицкого в тот период.
Поселение это - я имею в виду колонию одесских литераторов, обосновавшихся в Кунцеве, - образовалось совершенно так же, как некогда образовывались в Москве землячества плотников, каменщиков или ресторанных официантов, приезжавших в столицу на заработки.
Колония состояла из молодых людей, по преимуществу поэтов, которым нелегко приходилось в те времена, достаточно суровые даже и для создателей более реальных ценностей. Но времена эти были вместе с тем легкомысленные, поэты не падали духом, неутомимо бродили по редакциям, непрерывно влюблялись, очень много читали, спорили обо всем на свете и, поголадывая, мечтали о славе и счастье.
Огромную роль в жизни всех этих молодых людей играли книги. Можно даже сказать, что роль эта была несколько чрезмерной. Читая, поэты по временам переселялись из мира, их окружавшего, в книжный, воображаемый мир и располагались в нем с непринужденностью литературных персонажей или исторических лиц.
Характерна для этого рода увлечений история ссоры Багрицкого с одним из его друзей из-за Сен-Жюста, в которого оба они были тогда влюблены.
В то утро Эдуард Георгиевич мимоходом упомянул в разговоре с неким молодым поэтом о том, как Сен-Жюст, написав текст своей речи «О непримиримости к равнодушию», решил, перед тем как идти в Конвент, прочесть ее своему другу Марату. Сен-Жюст, как утверждал Багрицкий, вышел из дома несколько раньше обычного и, воспользовавшись тем, что квартира Марата была по пути, постучался в дверь Друга народа.
- Он не мог постучаться к Марату по дороге в Конвент, - послышалось из угла, где сидел, перелистывая истрепанную книжонку, главный кунцевский библиофил - огромный детина с давно не стриженной, мелко вьющейся шевелюрой.
- Интересно, почему это он не мог? - строптиво спросил Багрицкий.
- Марат жил совсем в другой стороне. Багрицкий, ни слова не говоря, достал с полки книгу с планом Парижа и развернул его на столе.
- Сейчас мы это выясним, - сказал он, склоняясь над планом. - Идите сюда, смотрите сами.
- Мне не нужно ничего смотреть, - невозмутимо ответствовал библиофил. - Я и так себе все представляю.
- Значит, так, - бормотал Багрицкий, водя пальцем по плану и пытаясь показать, что он непоколебимо уверен в своей правоте, - вот здесь жил Сен-Жюст, здесь - Марат, а здесь... а здесь...
- Если я чего не знаю, я про это не говорю, - назидательно заметил библиофил.
Реакция Багрицкого была неожиданной.
- Севка! - крикнул он.
Явился Севка и вопросительно уставился на отца.
- Возьми мое ружье и стреляй в этого человека, - скомандовал тот.
Севка обрадованно бросился в угол и извлек оттуда некое подобие охотничьего ружья, которым его хозяин очень давно, а может быть и совсем никогда, не пользовался.
Библиофил вскочил с места и протянул перед собой руки.
- Бросьте эти дурацкие шуточки! - закричал он.
Но так как Севка и не думал бросать эти шутки, а вместо того, подпрыгивая и гримасничая, подступал все ближе и ближе к знатоку топографии великого города, тому пришлось «покинуть зал заседаний», так и не насладившись своей победой.
И ссора между друзьями длилась до тех пор, пока, столкнувшись где-то нос к носу, они не нашли в себе силы посмеяться над недавними разногласиями.
Следующая их размолвка произошла по более существенному поводу.
Случилось так, что библиофил явился однажды к Багрицкому с весьма причудливой просьбой,
- Слушайте, Эдя, - сказал он, садясь и отводя глаза в сторону. - На Моховой продаются пять томов афанасьевских сказок. Я уже давно хочу их купить.
- Вы же знаете, что у меня нет денег, - ответил Багрицкий, обнаруживая недюжинную догадливость.
- Кто вам сказал, что я к вам пришел за деньгами?
- Просто мне показалось...
- Ничего подобного. Я у вас вот о чем хочу попросить... - Библиофил полез в карман и вытащил оттуда листок бумаги, исписанный короткими строчками. Разгладив листок, он положил его перед Багрицким. - Я написал это стихотворение для «Гудка», и если вы его подпишете, они его напечатают в два счета и я смогу купить Афанасьева.
- Мне не жалко, я подпишу, - сказал Багрицкий, проглядев стихи и поморщившись, - но я бы на вашем месте купил не Афанасьева, а пальто для Семена. Сердце болит смотреть, в чем ходит парень.
Семен был молодой поэт, который жил вместе с библиофилом и, как это всем нам было известно, начисто не умел позаботиться о себе.
- Там будет видно, - загадочно промолвил автор стихов для «Гудка», складывая подписанный Багрицким листок и пряча его в карман.
Стихотворение действительно напечатали в два счета, но разговор о пальто не возобновлялся, и однажды Багрицкий увидел, как мимо его окна прошел Семен, осторожно ступая по мокрому снегу и придерживая у горла окоченевшей рукой поднятый воротник пиджака.
Багрицкий приоткрыл форточку и окликнул его.
Обрадованный возможностью обогреться, Семен вошел в комнату, потирая руки и шмыгая носом.
И тогда ему было сделано предложение, о котором долго потом толковали, хихикая, в кругах кунцевских «составителей».
Багрицкий заявил, что напишет на его имя доверенность на получение гонорара за стихотворение, напечатанное в «Гудке». По этой доверенности Семену надлежало завтра же получить деньги и купить себе пальто, которого он, разумеется, не увидел бы как своих ушей, ежели бы понадеялся на великодушие библиофила.
Уразумев смысл всей это махинации, Семен решительно от нее отказался.
- Боже мой, да отдадите ему при первой возможности его грязные деньги! - убеждал Багрицкий совестливого поэта, очень терзаясь при мысли, что его отлично придуманный план может вдруг провалиться.
Но последний довод наконец подействовал, коварный замысел был осуществлен, и на следующий день к вечеру Семен пришел к своему благодетелю в новом теплом пальто.
А наутро явился библиофил за доверенностью на получение своих более или менее честно заработанных денег.
О чем уж они толковали с Багрицким в то утро, никто никогда не узнал. Но на этот раз охлаждение между ними продолжалось довольно долго.
Еще одно происшествие такого же рода было связано с поэмой под интригующим названием «Не Васька Шибанов», в написании которой участвовали на равных началах Багрицкий и упомянутый выше библиофил.
В поэме были осмеяны нравы, процветавшие в РАППе, и вожди, боровшиеся за власть в этой организации. Начиналась она строкой «Лелевич от рапповской злобы бежал...», в которой авторы перефразировали первую строку «Василия Шибанова» А. К. Толстого, а кончалась сценой, где посла Лелевича, доставившего от него дерзкое, обличительное письмо Авербаху, предают мучительной пытке, читая ему целую ночь напролет стихи рапповских поэтов. Посол, разумеется, умирает в ужасных муках.
Поэма была написана, так сказать, для домашнего употребления и особыми достоинствами не блистала, что не мешало ей, однако, несколько месяцев потешать московскую поэтическую молодежь. Она ходила по рукам в списках, передавалась из уст в уста и на короткое время блеснула на поэтическом небосклоне так ярко, что у одного из авторов закружилась голова. Нетрудно догадаться, что произошло это не с Багрицким. Библиофил же, читая поэму вслух, частенько намекал своим слушателям на то, что истинным ее создателем был он один, а участие Багрицкого в сочинении поэмы сильно преувеличено.
Узнав о вероломстве соавтора, Багрицкий рассвирепел. И так как негодование его разделяла целая компания почитателей и друзей, оно вылилось в заговор, имевший целью примерно наказать человека, поправшего священные принципы соавторства.
Началось с того, что в адрес библиофила пришла повестка, в которой его приглашали зайти в учреждение не вполне ясного профиля, помещавшееся на Мясницкой улице (нынешней улице Кирова), что само по себе не могло не встревожить и без того не очень отважного самозванца. Надо сказать, что во времена Дзержинского, как и нынче, разумный человек, не чувствующий за собой никакой вины, не очень испугался бы, получив такую повестку.
Итак, в назначенный день и час библиофил, замирая от страха, вошел в нынешнее здание Центросоюза и, поднявшись во второй этаж, разыскал указанную в повестке комнату. Было это всего-навсего помещение редакции журнала «Город и деревня», но горемыке было не до чтения табличек, и, войдя в комнату, он увидел перед собой только одно - строгое лицо сидевшего за столом человека.
Человек указал посетителю на стул и предложил папиросу. Он утверждал потом, что эта папироса окончательно доконала библиофила.
Затем начался разговор, в котором чем дальше, тем все более заметную роль играла злополучная поэма.
Человек за столом, - скажем прямо, это был ныне покойный писатель Иван Катаев, автор отличных рассказов, известных в ту пору всем, кроме библиофила, по уши погруженного в французскую поэзию восемнадцатого столетия, - итак, человек за столом был полон священного гнева. «Устраивать балаган вокруг принципиальной борьбы между старым и новым руководством РАППа! Издеваться над творчеством пролетарских поэтов!» Он просто не находил слов, чтобы квалифицировать вредоносность поэмы.
Библиофил пытался защищаться, но когда дело дошло до строки: «Вождям славословья там Жаров поет...» - он рухнул.
А рухнув, заявил, что, в сущности, не имеет к поэме прямого отношения, что сочинил ее один Багрицкий, а сам он повинен лишь в том, что несколько раз читал друзьям небольшие отрывки из нее, которые ему удалось запомнить, и что, наконец, теперь, осознав свои кратковременные заблуждения, он полностью соглашается с суровой оценкой, данной поэме его собеседником.
Того, казалось, несколько смягчила эта покаянная речь, и, взяв с библиофила торжественное обещание никогда больше не читать вслух злокозненное сочинение, он продиктовал ему текст заявления, в котором тот торжественно отказывался от своего участия в сочинении «Не Васьки...», и только после этого отпустил его с миром.
А на другой день Багрицкий в присутствии большого количества благородных, с трудом удерживающихся от смеха свидетелей, во всеуслышание огласил текст этого отречения и потребовал у своего соавтора объяснений.
Соавтор молчал. Охотнее всего он бы, вероятно, в эту минуту заплакал, или выстрелил в воздух из пистолета, или провалился сквозь землю, но, увы, все это было одинаково неосуществимо.
Тогда он сделал единственное, что ему оставалось, - выбежал из комнаты, хлопнув дверью с таким отчаянием, что из стены вывалился большой кусок штукатурки.
- Сцена из быта полковницкой жизни, - сказал Багрицкий, поглядев ему вслед.
* * *
В декабре 1930 года семейство Багрицких наконец переехало из Кунцева в Москву.
Теперь у Эдуарда Георгиевича имелась своя комната, светлая, солнечная, с балконом, правда, балкон был еще без перил - в те времена сдавали дома в эксплуатацию с очень странными недоделками, - но комната была в полном смысле слова своя, и это было самое главное.
Здесь Багрицкий наконец устроился так, как ему хотелось, и зажил спокойно и счастливо в той мере, в какой это могло быть возможно для тяжело больного человека, обуреваемого всеми страстями и сомнениями, положенными по традиции истинному поэту.
В комнате стоял жесткий топчан, прикрытый пестрой украинской плахтой, вплотную к нему были придвинуты квадратный стол и два стула. Еще стояли в комнате книжный шкаф и два больших металлических стеллажа с аквариумами. Вот и все, если не считать электрической машинки для нагнетания в аквариумы воздуха и большой клетки с попугаем.
Попугай этот был склочной и крикливой птицей и в течение нескольких месяцев отравлял жизнь самому Багрицкому и его домочадцам с упорством и изобретательностью вполне разумного существа. Самое же печальное было то, что от него долго не удавалось избавиться, потому что, прослышав о его буйном нраве, никто не желал не то чтобы покупать его, но даже и брать задаром. Между тем попугай был говорящий и, приходя в хорошее настроение, хлопал крыльями и кричал «ура». Кроме того, он умел при помощи своего огромного, зловеще изогнутого клюва извлекать из мебели обойные гвозди с той же легкостью, с какой взрослый человек вынимает травинки из рыхлой почвы. Разумеется, об этом его последнем умении Багрицкий в разговорах с возможными покупателями не распространялся, особенно после того, как однажды, пользуясь своим могучим инструментом, попугай напрочь разорвал туфлю у поэтессы Адалис, только чудом не повредив ей ногу.
В конце концов попугая удалось куда-то пристроить, и, кроме рыб, в комнате у Эдуарда Георгиевича не осталось никакой другой живности.
Кстати, чтобы не распространяться об увлечении Багрицкого рыбами, о чем существует уже целая литература, сообщу лишь, что среди рыбоводов он был не менее знаменит и авторитетен, чем среди литераторов. Я убедился в этом однажды, побывав с ним в зоологическом магазине. Записные знатоки этих дел, жилистые старики с прокуренными усами, с которыми и заговорить-то бывает страшно человеку, недостаточно осведомленному о свойствах и обыкновениях обитателей аквариумов, адресовались к Багрицкому с почтительностью робких учеников. И как мне удалось заметить, он гордился рыбоводческой своей популярностью не меньше, чем успехами в литературе. Здесь, так же как и во многом другом, в нем появлялось что-то мальчишеское, по временам превращавшее этого вполне взрослого уже человека в фантазера, вертопраха и выдумщика, какими бывают люди не старше пятнадцати лет.
Одним из проявлений этого свойственного Багрицкому милого мальчишества было его пристрастие ко всякого рода холодному и огнестрельному оружию. Револьверы, охотничьи ружья, кинжалы, ятаганы, рапиры, палаши, кортики - все это вызывало в нем чувство благоговейного интереса.
На стене над топчаном в своей новой комнате он повесил казацкую шашку и, показывая ее, неясно намекал на какие-то необыкновенные ее достоинства, каких, судя по ее виду, никак нельзя было в ней предположить. Обыкновенная была шашка, в довольно потрепанных ножнах, ничем внешне не примечательная и, как это ни странно, очень мирная на вид.
Только раз за все то время, что она пробыла у Багрицкого, ей посчастливилось побывать в руках у человека, умевшего с ней обращаться.
Человеком этим был Дмитрий Петрович Святополк-Мирский, именовавшийся в литературных кругах, несмотря на преклонный возраст и почтенную внешность, царем Димой. Прозвище это придумал Юрий Олеша, приятельствовавший с Дмитрием Петровичем и утверждавший, что у того имеется больше прав на российский царский престол, чем у кого бы то ни было из уцелевших к тому времени претендентов. Сколько я мог заметить, Олеше это обстоятельство казалось гораздо более важным, чем самому Мирскому, весьма мало озабоченному вопросами российского престолонаследия.
Дмитрий Петрович приехал в Москву в начале тридцатых годов из Англии, где он был преподавателем русской литературы в Оксфордском университете и членом Английской коммунистической партии, и, приехав, сразу же стал полноправным участником множества литературных сообществ и предприятий в качестве автора, редактора, собеседника и амфитриона. Это был высокий, грузный человек в очках, с клинообразной бородкой и всегда небритыми щетинистыми щеками, внешне напоминавший русских литераторов начала века, каких давно уже никто не видел в Москве. К Багрицкому он пришел, позвонив ему предварительно по телефону и тут же заявив, что считает его одним из первых советских поэтов. А придя, рассказал о себе, о своих приключениях и о своих занятиях по истории русской поэзии столько интересного, что совершенно завоевал всегда открытое для новых впечатлений и для хороших людей сердце хозяина. Вдобавок же ко всему оказалось, что Мирский, в прошлом кавалерист, отлично владеет искусством сабельной рубки и может показать некоторые приемы этого редкого по нынешним временам искусства тут же, не сходя с места, если ему дадут обыкновенный кухонный табурет, который заменит ему коня, и шашку, висящую на стене.
Багрицкий задохнулся от счастья, шашка была снята со стены и вытерта от покрывавшей ее пыли, табурет принесен, после чего Дмитрий Петрович уселся в центре комнаты и продемонстрировал собравшимся сабельные приемы на таком недосягаемо высоком уровне, о каком можно было только мечтать.
О Мирском следовало бы рассказать подробнее. Это был человек удивительный. Сын царского министра, он бежал из России с белой армией. Но, прожив в Англии много лет, понял многое из того, чего не понимал, живя на родине, и чудодейственно освободился от всего, что увело его на чужбину.
Мне довелось встретиться с Дмитрием Петровичем сразу же после его возвращения в одном немноголюдном собрании, где обсуждались новые стихи Николая Асеева. Обсуждение было, по обыкновению тех лет, горячим, говорили умно и взволнованно; не соглашаясь - ссорились, соглашаясь - только что не обнимались. Помню, с какой великолепной язвительностью разругались в тот вечер Мандельштам с Пастернаком и как рассердился на них Асеев, когда оказалось, что спорят они уже не о его стихах, а о чем-то своем, о чем разговор у них был начат давным-давно.
Мирский сидел неподвижно, полуприкрыв глаза, и только изредка поднимал их, чтобы взглянуть на очередного оратора.
Понаблюдав за ним некоторое время (мы сидели рядом), я не удержался и в перерыве между двумя выступлениями полюбопытствовал, как выглядит происходящее здесь с его точки зрения, то есть на взгляд человека, непривычного к нашим литературным нравам и видящего такое впервые.
Мирский поглядел на меня прищурившись и спокойно заметил:
- Как это выглядит с моей точки зрения? Да совершенно так же, как с вашей.
Я был очень разочарован этим ответом. Стоило ли проделывать столь причудливый жизненный путь, чтобы видеть вещи такими же, какими их видели мы, молодые люди тридцатых годов, с прямолинейными и такими обыденными, на наш тогдашний взгляд, биографиями.
А между тем ответ Дмитрия Петровича был чистейшей правдой. Этот человек, словно в скорлупе прожив годы изгнания, сохранил какую-то первозданную восприимчивость к советскому обиходу и очень скоро стал неотъемлемой частью московского литературного пейзажа, составляя в нем привычную и вместе с тем примечательную подробность.
Каждый божий день с самого утра Дмитрия Петровича можно было видеть в кафе «Националь», за дальним от входа столиком, на котором стояла неизменная бутылка боржома и высокий бокал. Мирский быстро что-то писал, покусывая усы и по временам рассеянно обводя зал невидящими глазами.
К середине дня вокруг него собирался кружок завсегдатаев. Они балагурили, злословили, обменивались впечатлениями о последних событиях, читали друг другу свои сочинения. Сюда приносили самые свежие новости (справедливости ради следует отметить, что некоторые из них здесь же и сочинялись), здесь выносились приговоры книгам, статьям и спектаклям, отсюда шли по городу остроты, крылатые словечки, смешные прозвища.
Мирский выглядел в окружении завсегдатаев «Националя» как скала, омываемая прибоем. В отличие от них, он чаще всего молчал и даже редко улыбался шуткам окружавших его «испытанных остряков». Но, видимо, он им был совершенно необходим - то ли просто как резонер, подававший в нужный момент нужные реплики, то ли как слушатель особого рода, из тех, кто особенно раззадоривает записных острословов. Ведь невзыскательный партнер, встречающий каждую остроту готовым смешком, - радость только для невзыскательных говорунов. Настоящим мастерам этого жанра требуется слушатель, которого не сразу проймешь. Дмитрий Петрович, с его скупой, еле пробивающейся сквозь густые усы улыбкой, именно и был таким слушателем. И молчаливое, еле заметное его одобрение, судя по всему, было лучшей наградой для собеседников.
Иногда Дмитрий Петрович, посидев часок в шумной компании, брал свою бутылку боржома и перебирался за другой столик, где принимался за прерванное писание, потому что, в отличие от большинства завсегдатаев «Националя», он был настоящим тружеником, и статьи за его подписью регулярнейшим образом появлялись в толстых журналах и всякого рода академических изданиях.
Мирский был одинок, нелюдим, замкнут, у него не было в Москве настоящих друзей, и когда в 1937 году он по ложному доносу был арестован, многие из тех, кто называли себя приятелями Дмитрия Петровича, стали судить и рядить - почему так трагически сложилась его судьба, даже не задумываясь о том - виновен ли он в чем бы то ни было.
А задуматься следовало бы, потому что теперь, после реабилитации Дмитрия Петровича, мы знаем, что он был одним из великого множества ни в чем не повинных людей, вырванных из жизни Сталиным и его сподвижниками, в их стремлении отдалить свою гибель, убивая всех тех, кто за барабанной похвальбой о том, что «жить стало лучше, жить стало веселей», могли увидеть горькую и страшную правду.
Багрицкого в ту пору уже не было в живых, но можно голову прозакладывать, что он бы ни на мгновение не усомнился в совершенной невиновности Мирского. Слишком бескорыстно и самозабвенно Дмитрий Петрович был влюблен в литературу, чтобы совмещать эту страсть с нечистыми помыслами, слишком прост он был, чтобы лгать, обдумывая каждое слово, и вместе с тем слишком сложен, чтобы оказаться годным на роль иностранного «наблюдателя», которую, как выяснилось позднее, ему пытались приписать.
При всей своей житейской наивности Багрицкий не мог этого не понимать. Он не так уж часто дарил людям свое доверие, но мне не случалось видеть, чтобы, подарив, он потом отбирал его назад.
Вообще же после переезда в Москву у Эдуарда Георгиевича стало бывать очень много народа. И, к величайшему его удивлению, внезапно оказалось, что одни идут к нему, чтобы поучиться, другие - чтобы попросту познакомиться, что, нежданная и незваная, к нему пришла слава, приход которой решительно изменил его жизнь, усложнив ее и лишив столь необходимой ему укромности.
Радостными в этом новом образе жизни оказались для Багрицкого только встречи его с молодежью. Как-то само собой случилось, что вокруг него образовался кружок молодых поэтов, приносивших свои стихи и молитвенно внимавших его указаниям.
Его это очень смущало.
- Понимаете, они меня слушают как оракула, - жаловался он. - А я не оракул, я частное лицо и сам еще учусь писать стихи. И если говорить правду, в последнее время я не очень доволен своими успехами. А они смотрят мне в рот. Хорошие мальчики, а не понимают, что нельзя научить человека писать стихи.
- О чем же вы с ними беседуете?
- Мало ли о чем?.. Научить писать нельзя, зато можно помочь научиться. Я и помогаю.
И он действительно помогал.
Рядом с ученической тетрадкой, лежавшей на его столе, тетрадкой, куда он вписывал огрызком карандаша, бесконечно перемарывая, строчку за строчкой свои собственные стихи, появилась стопка исписанных листков с творениями молодых стихотворцев. И мне случалось видеть, как, отложив в сторону свою тетрадку, Багрицкий читал и перечитывал эти старательно переписанные стихотворные строчки, сопровождая чтение ритмическим гудением и по временам что-то отмечая на полях своим карандашным огрызком. Это он готовился к очередной встрече с молодыми поэтами.
То были времена «призыва ударников в литературу», и при всей наивности и вздорности этой рапповской затеи, над которой Багрицкий не уставал потешаться, его собственная работа с молодыми людьми, влюбленными в поэзию, была полезным и важным, а главное - от всей души осуществляемым предприятием.
Так бывает иногда в некоторых кампанейских затеях. Кампания сама по себе - вздор, пускание пыли в глаза, но в общем ее потоке, неожиданно даже для самих организаторов, возникает светлый, живой ручеек настоящего дела.
Вообще же говоря, взаимоотношения Багрицкого с РАППом, в который он вступил в начале тридцатых годов, заслуживают специального рассмотрения.
Побывав перед тем в «Перевале», он неожиданно примкнул к сообществу конструктивистов, с которыми у него не было решительно ничего общего, если не считать приятельских отношений с главой группы Сельвинским. Но в конце двадцатых годов конструктивисты стали почему-то называться «Бригадой М-1» и деятельность их приняла несколько странный характер. Илья Ильф писал о ней в своей записной книжке: «Это было в те счастливые времена, когда поэт Сельвинский, в целях наибольшего приближения к индустриальному пролетариату, занимался автогенной сваркой. Адуев тоже сваривал что-то. Ничего они не наварили. Покойной ночи, как писал Александр Блок, давая понять, что разговор окончен».
Причудам конструктивистов действительно вскоре пришел конец, и некоторые из них вступили в РАПП, который к тому времени стал самой многолюдной и влиятельной писательской организацией. Вступил в РАПП и Багрицкий. Вступил еще и потому, что его туда очень звали. Рапповцам же, как выяснилось позднее, Багрицкий был нужен как один из виднейших «поэтов-попутчиков», обращение коего на путь истины они считали важнейшей своей победой.
Бедняги и не подозревали, с каким поистине языческим лукавством Багрицкий относился к своему «обращению». Не говоря уж о том, что молодым поэтам, приходившим к нему, он внушал взгляды, весьма отдаленные от ортодоксальных рапповских воззрений, в собственной работе он тоже упрямо шел своим трудным путем, молился своим богам, от всей души ненавидя свойственную рапповцам сектантскую узость и нетерпимость. Во времена, когда Беранже и Курочкин почитались в РАППе единственным животворным источником советской поэзии, он зачитывался староверческими песнопениями, переводил Бёрнса, увлеченно читал друзьям только что написанную и уже преданную рапповцами анафеме поэму Заболоцкого «Торжество земледелия». И, совершая все эти прегрешения, спокойно предоставлял своим собратьям по группе истолковывать их как им будет угодно.
Они и истолковывали. Работу с молодыми поэтами зачисляли по ведомству «призыва ударников», любовь к Блоку, Тютчеву, Бёрнсу истолковывали как «учебу у классиков», а чтение вслух зловредной поэмы и всякого рода иные проявления своеволия рассматривали как не изжитые поэтом заблуждения предрапповской поры. Зато как же возликовали они, когда Багрицкий закончил и опубликовал «Человека предместья» и «Смерть пионерки». Какой визг подняли рапповские критики, утверждая, что только их благотворным влиянием объясняется появление этих стихотворений, в которых поэт будто бы впервые приблизился к правильному изображению современности.
Что было делать Багрицкому, как не посмеиваться над всей этой критической суетой? Стоило ли возражать против утверждения рапповских нянек, будто ребенок научился ходить только благодаря их усилиям?
Стоило ли доказывать, что задолго до встречи с ними он возненавидел любые проявления амбарного бытия и мировоззрения, что он стал безбожником, когда они еще и не помышляли об учреждении Ассоциации пролетарских писателей, что замысел «Человека предместья» и «Смерти пионерки» возник у него давно, еще в пору кунцевского его соприкосновения с душным мирком пригородных домовладельцев и огородных стяжателей?
Разумеется, всего этого делать не стоило. Но воздерживаться от обсуждения назойливой болтовни критических опекунов и в связи с этим от язвительного комментирования многих других рапповских дел и делишек у себя дома, с друзьями, с учениками и даже с посетителями, которых он видел впервые, - это было не в обыкновениях и не в характере Багрицкого.
И вскоре до рапповских заправил стали доходить странные вести.
Передавали, что новообращенный, сидя по-турецки на своем топчане и неинтеллигентно хохоча, высмеивает самые святые и основополагающие рапповские заветы, не щадя в своих глумлениях даже главу и теоретика РАППа - Леопольда Авербаха, кстати, не повинного ни в одном из тех смертных грехов, которые ему были приписаны позднее, но в полной мере ответственного вместе со своими соратниками за многие максималистские и очковтирательские деяния, ознаменовавшие деятельность Ассоциации в пору ее расцвета.
- Как вам нравится этот свистун? - будто бы говорил Багрицкий, комментируя очередное выступление Авербаха по поводу все того же призыва ударников в литературу. - Он, видите ли, хочет у себя, в своем рапповском инкубаторе, вырастить собственных чистопородных пролетарских писателей! Федин у него - колеблющийся интеллигент, у Маяковского темное футуристское прошлое, Бабель - певец стихийного бунта. Его это все не устраивает. Его устраивает, чтобы писатель родился между молотом и наковальней, как это описано у Ильфа и Петрова. А то, что этот самый писатель пишет не пером, а той самой наковальней, на которой родился, это ему неважно!
Можно не сомневаться, что очень скоро Багрицкий жестоко поплатился бы за свое вольнодумство, потому что «свистун» был человеком тщеславным и мстительным, а его соратники не без основания считались мастерами злых проработок. Но, как говорится, бог спас. В апреле 1932 года специальным постановлением ЦК партии РАПП был ликвидирован, и проработка Багрицкого не состоялась.
А месяцем позже мы сидели рядом с Эдуардом Георгиевичем на писательском собрании в зале бывшего Театра миниатюр на Никольской улице (ныне улице 25 Октября), где бывшие рапповцы «отчитывались» в своих прегрешениях.
Началось это собрание выступлениями рядовых рапповского воинства. Эти молодые люди, которые еще так недавно беспощадно громили, изгоняли и искореняли все, что стояло на их пути и мешало им превратить литературу в согласный хор поющих в унисон послушных РАППу писателей, нынче наперебой признавали свои ошибки. Потом на трибуну вышел один из главных рапповских заправил, безмятежно откашлялся и принялся в гладеньких, закругленных периодах поносить своего недавнего вождя и единомышленника Авербаха, с которым у него якобы никогда не было близкой дружбы и полного единомыслия и который ныне недостаточно самокритично признает свои ошибки.
В отличие от Авербаха, оратор все свои ошибки признавал и, видимо, очень этим гордился.
С тех пор прошло много лет, но я до сих пор помню слова, которые прошептал мне на ухо Багрицкий, кивнув в сторону мастера покаяний:
- Как ему не стыдно так гладко, в таких круглых фразах предавать друзей. Если бы он запинался, если бы было видно, что человек мучается, тогда - другое дело. Но так красноречиво, так спокойно. Честное слово, не понимаю!
И, гремя сапогами, он пошел к выходу, потянув меня за собой. А в коридоре, с трудом отдышавшись, взволнованный гораздо больше, чем те, что выходили в этот день на трибуну, он снова развел руками и повторил:
- Не понимаю. Убейте меня, не могу понять!
И правда, где ему было понять этих кающихся грешников? Слишком все это было далеко от мира, в котором он жил, и от его представлений о том, каков должен быть человек, писатель, товарищ.
Вероятно, и они не поняли бы Багрицкого с его нерасчетливым чистосердечием, с его любовью к литературе, любовью, вытеснившей из его помыслов все другие житейские побуждения, с его способностью жить поэзией так, как некоторые его коллеги живут стремлением преуспеть, прославиться, победить и затмить соперников.
Врачи и сестры в больнице, где Багрицкий провел последние свои дни, говорили, что среди тяжелых больных они давно не видели такого мужественного, терпеливого и веселого человека.
Сначала они полагали, что он не сознает всей серьезности своего положения, потом увидели, что он все понимает. И неизменное его спокойствие и шутливость - не от неведения, а именно от понимания неотвратимости и огромности того, что ему предстоит.
Кто знает, может быть, в награду за честно и чисто прожитую жизнь человеку даруется эта способность - спокойно и с достоинством встретить смерть.
1961
ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ
Нет на свете более трудной задачи, чем описать наружность человека так, чтобы читатель увидел его воочию. Что же до Бабеля, то его наружность описать особенно трудно.
Все в нем казалось обыкновенным - и коренастая фигура с короткой шеей, и широкое доброе лицо, и часто собирающийся в морщины высокий лоб. А все вместе было необыкновенным. И это чувствовал всякий сколько-нибудь близко соприкасавшийся с ним.
Прищуренные глаза и насмешливая улыбка были только внешними проявлениями его отношения к тому, что его окружало. Самое же отношение это было неизменно проникнуто жадным и доброжелательным любопытством. Он был, как мне всегда казалось, необыкновенно проницателен и все видел насквозь, но, в отличие от множества прозорливцев, проницательность порождала в нем не скептицизм, а веселое удивление. Видимо, поводы для этого открывались ему не на поверхности вещей, а в их глубине, где таятся невидимые для невнимательных людей радостные неожиданности.
И еще. Существует такая манера вести себя, которая называется - важность. Глядя на Бабеля, даже и в голову не могло прийти, что эта самая важность бывает на свете. И это тоже очень существенная черта его облика. Наша первая встреча была поначалу вполне деловой. Произошло это году в тридцать шестом, а может быть, немного позже. В редакции «Знамени», где я тогда работал, редакции предприимчивой, удачливой и честолюбивой, стало известно, что Бабель написал киносценарий. Он давно уже ничего не печатал, и заполучить для журнала новое его сочинение, пусть даже предназначенное для кино, было очень заманчиво.
Долго спорили, кому поручить переговоры с Исааком Эммануиловичем, и, наконец, выбор пал на меня. Причина была в том, что незадолго перед тем я напечатал в «Литературной газете» статью о бабелевских рассказах, и предполагалось, что мне с ним удастся быстрее поладить.
Переговоры наши начались по телефону, и мне пришлось долго объяснять моему собеседнику, откуда и по какому делу ему звонят. Уразумев наконец, о чем идет речь, Бабель сразу же заявил, что печатать свой сценарий не собирается.
Тогда я принялся исчислять все выгоды и радости, какие сулило бы ему это предприятие, ежели бы он на него решился. Мой собеседник не прерывал меня, и, неведомо почему, я вдруг почувствовал, что он размышляет не о том, что я говорю, а о чем-то другом. Исчерпав свои доводы, я замолчал и стал слушать потрескивание и шорох, хорошо известные всем, кому случалось вести тягостные переговоры по телефону. На мгновение мне показалось даже, что Бабель повесил трубку. Но тут я услышал его мягкий, слегка пришепетывающий голос.
- Приходите, побеседуем, - проговорил он медленно, видимо еще раздумывая, и стал диктовать мне адрес.
На другой день утром я позвонил у дверей крохотного двухэтажного особняка в переулке у Покровских ворот. Бабель сам открыл мне, и мы прошли в большую комнату первого этажа, судя по всему - столовую. Здесь хозяин указал мне на стул, а сам устроился на большом, стоявшем в углу сундуке.
Об этом сундуке я уже слышал прежде. Утверждали, что Бабель хранит в нем рукописи, тщательнейшим образом скрывая их от чужих взоров и извлекая на свет только для того, чтобы поправить какую-нибудь строку или слово, после чего снова укладывает назад пожелтевшие от времени листки, обреченные на то, чтобы пролежать без движения еще долгие месяцы, а быть может, даже и годы.
Теперь, увидев сундук своими глазами, я окончательно уверовал в правдивость этой легенды.
Беседа наша поначалу оказалась гораздо короче, чем мне бы хотелось. Видимо, Бабель все обдумал еще до моего прихода и изложил свое решение кратко и ясно. Сценарий в нынешнем его виде он согласен дать в «Знамя» только для ознакомления. Печатать его еще нельзя. Это не принесет лавров ни журналу, ни автору. Что же касается договора, то, если редакции сценарий понравится и она поверит в его счастливое завершение, он согласен договор подписать, так как, получив аванс, сможет быстрее закончить работу, не отвлекаясь ничем другим. За рукописью можно прислать дня через два - к этому времени он приготовит для нас экземпляр.
Таким образом дело, из-за которого я пришел, было улажено быстро и, как говорится, к взаимному удовлетворению.
Минуту мы помолчали. Я встал.
Бабель посмотрел на меня поверх очков и, увидев, что я оглядываю комнату, заметил:
- Это столовая. Она у нас общая с соседом.
И, прочтя в моих глазах безмолвный вопрос, добавил:
- А сосед у меня такой, что о нем можно долго рассказывать... Нет, он не писатель. Он инженер, и не простой, а в высшем смысле этого слова. Вы сядьте, я вам про него расскажу.
Я сел. Нужно ли говорить, как мне была по душе внезапная разговорчивость моего хозяина!
- Я сказал - инженер в высшем смысле, - продолжал Бабель, - но это неточно. Штайнер - инженер до мозга костей, так было бы правильнее о нем сказать. Он на все смотрит инженерским глазом и все вокруг себя стремится упорядочить и усовершенствовать. Инженерская сторона есть ведь во всем на свете, а он только ее и замечает. И все может сделать своими руками. Как бы вам это объяснить... Ну вот несколько дней назад утром, уходя из дому, я увидел, что Штайнер возится с дверным замком, который, по-моему, отлично работал, а по его мнению, требовал немедленного ремонта. Вернулся я домой к середине дня. Штайнер лежал на полу, держа замок над головой, и сердито разговаривал с ним. На меня он даже и не взглянул, хотя мне пришлось перешагнуть через него, чтобы пройти в комнату. Через некоторое время я услышал оттуда его голос.
«Тебя сделал плохой мастер, - говорил Штайнер замку, - но я тебя переделаю. Слышишь? Я тебя переделаю, и ты будешь работать как следует, а не только тогда, когда привёрнут неровно. Что это за мода такая - работать только в неправильном положении?»
Он спрашивал так, что мне почудилось, будто разговор ведется с живым существом, и если бы я вдруг услышал, как замок тоненьким металлическим голосом оправдывается или спорит, я ничуть бы не удивился. Но замку, видимо, нечего было ответить, и он молчал. А часом позднее Штайнер постучался ко мне, сел, вытер платком лоб и сообщил, словно продолжая начатый разговор:
«Все в порядке. Теперь он работает как следует. Но я вам должен сказать, что человек, который стоит на сборке этих замков, - негодяй».
И он изложил мне свою теорию происхождения скверно сделанных вещей, которая многое в жизни объясняет. Теория эта состоит в следующем: на свете нет людей, которые брались бы за работу с намерением сделать ее заведомо скверно, с мыслью - «сделаю-ка я плохой замок», например. Но горе в том, что, принимаясь за работу с самыми лучшими намерениями, человек слабый и лишенный чувства ответственности на каком-то этапе вдруг обмякает и, вместо того чтобы преодолеть очередную трудность (а ведь всякая работа состоит из больших и малых преодолений), решает, что «сойдет и так». И вот тогда на свет рождаются нелепые, уродливые, глупые вещи, которые портят нам жизнь. Похоже на правду, как вы считаете?
Бабель смотрел на меня искоса и ждал ответа. Мне понравилась теория инженера Штайнера, и я об этом сказал.
Нравится она мне и сейчас. И, вспоминая тот разговор, я подумал, что люди, работающие по принципу «сойдет и так», по всей вероятности, руководствуются этим принципом не только в своей работе, но и в манере жить, и в отношениях с окружающими, и в воспитании детей, да мало ли в чем еще. И не будь у этих людей могущественных противников, вроде бабелевского соседа, в мире воцарился бы хаос и человечество погибло бы в необъятной, бездонной трясине небрежно сработанных вещей, непродуманных дел и опрометчивых слов. Но это, разумеется, шутка. Если же говорить серьезно, то именно Бабель, может быть даже в большей степени, чем его сосед, представляется мне олицетворением высокого чувства долга во всем, что он говорил и думал, а главное - во всем, что писал.
И даже окончание истории со сценарием для «Знамени», которое на первый взгляд противоречит этому моему представлению, на самом деле может служить отличным доводом в его защиту.
Окончилась же эта история так.
В назначенный день рукопись сценария была получена в редакции, и мы сразу принялись читать ее, передавая по листкам из рук в руки. Происходило это в одной из двух комнат Дома Герцена на Тверском бульваре, где помещалось тогда «Знамя», и участвовали в читке молодые литераторы, фактически делавшие журнал.
Прочтя сценарий, мы смущенно переглянулись. Был он не то чтобы плох или по каким-то причинам неудобопечатаем, - вовсе нет. С этой стороны все в нем было совершенно благополучно. Но это был «не Бабель» в том смысле, в каком это говорится о произведениях художников, представляющих собой копии картин или рисунков прославленных мастеров, хотя каждая строка в рукописи, лежавшей перед нами, без всякого сомнения, была написана собственной бабелевской рукой.
В живописи - самый небрежный набросок, несколько торопливых штрихов, сделанных большим художником на обрывке бумаги, не оставляют сомнений в их принадлежности именно данному автору, несут на себе неповторимый отпечаток его творческой личности, а главное - в какой-то мере выражают его талант.
В литературе - не то. Здесь индивидуальная писательская манера становится явственно ощутимой только после того, как первоначальный набросок будет много раз перечеркнут, выправлен и заново переписан.
В живописи индивидуальность художника ощутима, как почерк, как тембр голоса, как походка. В литературе она становится видна простым глазом лишь после того, как писатель, основательно потрудившись, найдет для своей мысли то единственное выражение, которое характерно для него одного и которое почти никогда не является ему сразу. Даже и самый талант писателя чаще всего сказывается не в случайно оброненной фразе, а в способах ее обработки, не в словах, какие первоначально вылились на бумагу, а в тех, что в дальнейшем были выбраны автором, как «кратчайшее» и наиболее точное выражение его замысла.
Так вот, рукопись, только что прочитанная нами и вне всякого сомнения принадлежавшая перу Бабеля, была наброском, еще не отмеченным его манерой, талантом и мастерством. В качестве материала для работы кинорежиссера сценарий был совершенно готов, но украшением для журнала, каким мы представляли себе сочинение Бабеля, он, разумеется, оказаться не мог.
Установив это, мы до крайности огорчились. И только один из нас, самый старший и поэтому больше всех других умудренный опытом и, разумеется, именно поэтому занимающий должность ответственного секретаря редакции, снисходительно улыбнулся и поспешил нас всех успокоить.
- Не горюйте, - сказал он. - Зло еще не так большой руки! - Секретарь знал классиков и любил при случае об этом напомнить. - Договор с Бабелем мы заключим, а ежели он, как это в последнее время с ним частенько случается, не выполнит взятых на себя обязательств, мы эту самую рукопись возьмем и тиснем в нынешнем ее виде и ничего при этом не потеряем. Понятно?
Нам было понятно. Потому что, касаемо лавров автору, Бабель был прав и ждать радостей от этого своего сочинения ему не приходилось. Но с журналом дело обстояло иначе. Появление в «Знамени» любого сочинения прославленного молчальника при всех обстоятельствах было бы воспринято как подлинная сенсация.
Итак, договор был подписан, аванс автору выплачен, и мы стали терпеливо ждать его сообщения о том, что работа закончена.
Прошел месяц, за ним другой. Бабель молчал. И тогда мне было поручено осведомиться у него, как идут дела, и выяснить, к какому номеру журнала он даст нам сценарий.
Помаявшись и выслушав несколько раздраженных напоминаний от непреклонного секретаря, я наконец нашел в себе силы позвонить Исааку Эммануиловичу и получил приглашение посетить особнячок у Покровских ворот.
И вот я снова сижу в большой, сумрачной в этот осенний день комнате, и снова напротив меня сидит этот загадочный человек, что-то рассказывает, лукаво и победительно улыбаясь, и так же, как в первую нашу встречу, я пытаюсь разобраться в тайне его бесовской власти, заставляющей меня глядеть на все его глазами, и так же, как в прошлый раз, ничего не могу понять.
Может быть, тайна его очарования в этой улыбке? В глазах, весело и внимательно поблескивающих из-за круглых очков? В чуть заметном еврейском акценте, придающем оттенок язвительного и вместе с тем беззлобного юмора всему, что он говорит? Нет, пожалуй, все-таки дело не в этом. Пожалуй, секрет здесь в удивительном даре видеть вещи по-своему и говорить о них так, что они и перед собеседником предстают в неожиданных ракурсах, обретя при этом неожиданный смысл, цвет и значение.
Ведь вот - холодная, не очень уютная комната, мокрое полуголое дерево за окном, тягостная миссия, с которой я сегодня сюда пришел, а сижу я в этой комнате с ощущением праздника и век бы не уходил и слушал этот высокий пришепетывающий голос, век бы провел в стране чудес, где обитает и куда приоткрыл мне дверь этот человек, которому все на свете интересно, мило и весело и который глядит на все словно сквозь цветные стекла, придающие самым будничным вещам видимость праздничного великолепия.
Я принуждаю себя вспомнить, что пришел сюда с прозаическим и суровым служебным заданием, и, хоть это очень трудно дается мне, произношу наконец слова, которые мне было поручено произнести, которые я обязан был произнести, чтобы добыть для «Знамени» сочинение Бабеля, необходимое нам для вящей славы нашего детища. Так же, как и мои товарищи из редакции, я люблю наш журнал и пекусь о его успехе, и это помогает мне найти силы сказать Бабелю о намерении нашего секретаря напечатать сценарий в нынешнем виде, если в ближайшее время мы не получим новый его вариант.
Надо было видеть, как испугали мои слова Исаака Эммануиловича. Как мгновенно исчезла улыбка с его лица, каким озабоченным оно стало при одной мысли о том, что эта угроза может осуществиться.
- Вы еще очень молодой человек, - произнес он грустно и укоризненно, - такой молодой, что, вероятно, никогда не задумывались о том, какая странная у нас с вами профессия. Корпим в полном одиночестве у себя за столом, во время работы боимся каждого нескромного взгляда, а потом все свои мысли, все тайны выбалтываем читателю. Ведь вот, казалось бы, - чего проще? Напечатать этот самый сценарий, как предлагает ваш секретарь редакции... О нем напишут, что он не поднимается до уровня прежних моих вещей или, наоборот, что знаменует собой новый этап в моем творчестве... Бр-р, терпеть не могу этих слов - творчество... знаменует... А потом напечатают рассказ, который я сейчас пишу, и все опять станет на место... Ничего страшного. Да? Немного заголиться, а потом прикрыть стыд. Как вы считаете?
- Разве вы еще не начали работать над новой редакцией? - спросил я с некоторым даже ужасом в голосе.
- Над какой новой редакцией? О чем вы говорите?
- Над новой редакцией сценария.
- Нет, не начал. И не начну. Он мне не нравится. Я его написал не для чтения, а для кино.
- Разве вы... зачем же вы нам его дали?
- Чтобы иметь возможность кончить рассказ. Понимаете?
- Нет, не понимаю. Любой журнал заключил бы с вами договор на этот рассказ. Почему же...
- Почему? Потому, что, когда я его кончу, в нем будет самое большее четыре страницы.
- На машинке? - зачем-то полюбопытствовал я.
- Да. На машинке, - с вежливой язвительностью ответил Бабель.
Мы замолчали. Голое дерево за окном было теперь именно таким, каким ему надлежало быть, - мокрым, уродливым и печальным, да и в комнате стало как-то сумрачно, еще более сумрачно, чем на улице.
- Что же делать?
Я задал этот вопрос, вдруг почувствовав настоятельную потребность найти выход не столько для «Знамени», сколько для Бабеля, интересы которого стали мне почему-то очень близки.
- А черт его знает, что делать! Вероятно, не писать рассказы по четыре странички, да еще тратя на них по нескольку месяцев. Романы нужно писать, молодой человек, длинные романы с продолжением, и писать быстро, легко, удачливо.
Он замолчал и, опершись руками о край сундука, на котором сидел, забарабанил пальцами по его крышке.
- Вы меня не поняли, - сказал я, прижав руку к груди, - я говорю не вообще, а о том, как быть сейчас. Как быть со «Знаменем», со сценарием? Ведь если вы не дадите ничего другого, он его напечатает.
- Нет у меня сейчас ничего другого. Слушайте, а что, если я попрошу вашего секретаря вернуть мне рукопись? Могло же быть так, что у меня не осталось для работы ни одного экземпляра?
Я ответил не сразу. Но через мгновение тишина, воцарившаяся в комнате, показалась мне невыносимой, и я прервал ее с тем чувством, с каким делаешь глоток воздуха, долго пробыв под водой.
- Что вы имеете в виду? - спросил я, отведя глаза.
- Ничего я не имею в виду, - сердито ответил Бабель и встал.
Я продолжал сидеть. И вдруг, решившись и все еще глядя в сторону, предложил:
- Лучше я сам с ним поговорю. Вам он рукопись не отдаст.
Бабель посмотрел на меня с удивлением и пожал плечами.
- Пусть будет так, - согласился он. И, помолчав, спросил: - Это вы написали статью о моих рассказах в «Литературной газете»?
Я кивнул. Говорить мне было трудно.
- Я уже не помню, там тоже были эти самые слова - «творчество», «знаменует», «шаг вперед»? - улыбнувшись, спросил Исаак Эммануилович.
- Кажется, были. Во всяком случае, могли быть, - проворчал я.
Хоть я и чувствовал, что в моем решении помочь Бабелю получить назад рукопись не было ничего дурного, мне было до смерти стыдно.
Позднее я понял, что стыдиться здесь было совершенно нечего, и удивительный, чуть ли не лучший бабелевский рассказ, над которым он тогда работал (это был рассказ об итальянском трагике ди Грассо), может оправдать любые уловки, необходимые для того, чтобы довести его до конца. Но в тот день, когда, простившись с Исааком Эммануиловичем, я брел по мокрым переулкам и скользким бульварам, и на следующее утро, когда повел с секретарем редакции хитроумные переговоры, неожиданно увенчавшиеся успехом, это чувство стыда не покидало меня ни на минуту.
Разумеется, я понимал, что интересы «Знамени» и редакционный патриотизм не должны заслонять от меня целей гораздо более высоких и значительных. Не мог я не понимать и того, что, дождавшись, когда Бабель даст нам рассказ вместо сценария, мы поступим умнее и дальновиднее, но, понимая все это, собственную мою роль во всей этой истории, я продолжал считать недостойной, а о вероломстве Бабеля старался не вспоминать.
Теперь я думаю обо всем этом совершенно иначе. Теперь, множество раз перечитав его сочинения, перелистав пожелтевшие странички его писем, записок и заявлений, установив, что рассказ «Любка Казак» был переписан двадцать два раза, вспомнив то, чему сам был свидетелем, я с полной уверенностью могу утверждать, что Бабель, преследуемый кредиторами самых разных профессий и рангов, редакторами толстых и тонких журналов, имевших неосторожность заключить с ним договоры, юрисконсультами издательств, пытавшихся поправить последствия легкомысленной тороватости своих шефов, Бабель, о затянувшемся молчании которого в тридцатые годы писались статьи и фельетоны, произносились речи на писательских пленумах, даже, кажется, пелись куплеты с эстрады; что этот лукавый, неверный, вечно от всех ускользающий, загадочный Бабель был человеком с почти болезненным чувством ответственности и героической добросовестностью, человеком, готовым вытерпеть любые лишения, лишь бы не напечатать вещь, которую он считал не вполне законченной, человеком, для которого служение жестокому богу, выдумавшему муки слова, было делом неизмеримо более важным, чем забота о собственном благополучии и даже о своей писательской репутации.
* * *
А теперь я расскажу о маленьком чуде (мне вдруг подумалось, что оно, может быть, было и не таким уж маленьким, но пусть судит об этом читатель), которое Бабель совершил на моих глазах вскоре после происшествия со сценарием.
Эта история началась с того, что Исаак Эммануилович позвонил мне по телефону и, сообщив, что собирается прислать к нам в редакцию одного начинающего писателя, просил повнимательнее к нему отнестись. Разумеется, я обещал ему это со всем радушием и обязательностью, на какие был способен в те далекие времена, когда все подобные формы человеческого общения считались предосудительно старомодными.
На другой день посланец Бабеля явился в редакцию. Это был очень странный начинающий писатель. Маленький, кривоногий, одновременно тщедушный и жилистый, с пергаментным лицом, по которому решительно нельзя было определить его возраст, он бочком протиснулся в дверь и, пожав мне руку своей маленькой, похожей на птичью лапу рукой, оказавшейся на ощупь твердой, как камень, положил передо мной на стол тощую папочку.
Любопытство разбирало меня, и не успел посетитель уйти, как я развязал на папке тесемки и принялся за чтение.
Рукопись представляла собой несколько рассказов, о которых у меня сейчас сохранились самые смутные воспоминания. Помню только, что речь в них шла о лошадях, что рассказы показались мне решительно ничем не примечательными и что о печатании их не могло быть и речи. Что в них могло понравиться Бабелю, было мне совершенно неясно.
Не откладывая дела в долгий ящик, я тут же позвонил Исааку Эммануиловичу и откровенно рассказал ему о моем впечатлении. Мне показалось, что он немного смутился.
- Ладно, если у вас есть возможность, пришлите мне рукопись, я в ней поковыряюсь, - сказал он и повесил трубку.
У меня такая возможность была, и назавтра наша редакционная курьерша Шурочка, худенькая молодая женщина, знавшая решительно всех писателей и очень здраво и осмотрительно распределявшая между ними свои симпатии и антипатии, отнесла Бабелю злополучную папку. Кстати, Шурочка утверждала потом, что в жизни не видывала таких вежливых и стеснительных чудаков.
Прошло несколько дней. И однажды, не позвонив предварительно, начинающий писатель с кривыми ногами снова явился в редакцию и, ни слова не говоря, снова положил передо мной свою рукопись.
Теперь я не испытывал к ней никакого интереса и удосужился взяться за нее далеко не так скоро, как в прошлый раз. К моему удивлению, в папке было всего только два рассказа. Но, прочтя их, я испытал страстное желание немедленно выбежать на улицу, чтобы рассказать их историю всем без исключения друзьям и знакомым. Редакционные мои товарищи, ставшие первыми жертвами моего энтузиазма и разделившие его полностью, показались мне для этого недостаточно широкой аудиторией.
Надо сказать, что удивляться и восхищаться здесь действительно было чему. Рассказы стали попросту превосходными!
Те самые рассказы, которые две недели назад были вполне посредственными, теперь светились и искрились так, что читать их было истинным удовольствием. И самое удивительное заключалось в том, что достигнуто это было совершенно чудесным способом.
Однажды Бабель сам рассказал о том, как некий молодой литератор, очутившийся в Петербурге с фальшивым паспортом и без гроша денег, помогает богатой и неумелой почитательнице Мопассана переводить «Мисс Гарриэт». В переводе, сделанном этой дамой, «не осталось и следа от фразы Мопассана, свободной, текучей, с длинным дыханием страсти», и герой «всю ночь прорубает просеки в чужом переводе».
«Работа эта не так дурна, как кажется, - пишет
Бабель. - Фраза рождается на свет хорошей и дурной в одно и то же время. Тайна заключается в повороте, едва ощутимом. Рычаг должен лежать в руке и обогреваться. Повернуть его надо один раз, а не два».
Это место из бабелевского рассказа множество раз цитировалось, но я не могу удержаться, чтобы не привести его вновь, потому что сказать об этой тайне превращения посредственной фразы в хорошую никто до сих пор не сумел лучше, чем Бабель.
Есть такая манера исправления чужих сочинений, когда поверх зачеркнутых строк правщик лепит новые строки, которые, в лучшем случае, сохраняют всего лишь смысл того, что было написано автором.
Здесь было совсем другое. Пять-шесть поправок (и притом незначительных) на страницу - вот все, что сделал Бабель с сочинениями своего питомца. Пять-шесть поправок! И страница, перед тем ни единой своей строкой не останавливающая внимания, словно равнина, по которой бредешь, думая только о том, как бы поскорее дойти до ее конца, стала живописной, как лесная тропа, то и дело дарящая путнику новые впечатления. Я бы не поверил, что такое возможно, если бы не убедился в этом своими глазами. Но я это видел и считаю своим долгом засвидетельствовать истинность всего здесь рассказанного.
К тому же в происшествии этом была еще одна сторона.
Однажды мы рассказали о чуде, сотворенном Бабелем, нашему постоянному автору и другу журнала, биографу Свифта и поклоннику Бернарда Шоу, Михаилу Юльевичу Левидову, печатавшему в «Знамени» язвительные критические статьи о литературе и публицистические заметки на международные темы.
Выслушав эту историю и пробежав в гранках рассказ, о котором шла речь, Михаил Юльевич весело расхохотался.
- А вы не догадываетесь, в чем здесь дело, - я имею в виду, конечно, не правку, а причину, из-за которой Бабель заинтересовался этим начинающим писателем, как вы его называете? - спросил он, похохотав.
Мы недоуменно переглянулись.
- Не все ли равно, почему он заинтересовался? - заметил кто-то из нас.
- Разумеется, все равно, - согласился Левидов. - Я понимаю, что самое интересное здесь именно чудо, сотворенное Бабелем. Но вам все же следовало бы знать, что он давний и пламенный ценитель и завсегдатай бегов, а автор этих рассказов, судя по вашим описаниям да и по его собственным сочинениям, не кто иной, как наездник. Вот и пораскиньте мозгами и попытайтесь понять, откуда это знакомство и почему Бабель подарил этому человеку свое высокое покровительство.
Дальновидный наш секретарь вперил в меня свои устроенные в форме буравчиков глазки, острый блеск которых с трудом умеряли роговые очки, и спросил, прищурившись:
- И после этого вы все еще будете утверждать, что мы получим обещанный сценарий или рассказ у вашего Бабеля, который играет на скачках и водится с наездниками и лошадьми? Помните, как у него у самого сказано в «Закате»? «Еврей, который уважает раков, может себе позволить с женским полом больше, чем себе надо позволять, и если у него бывают дети, так на сто процентов выродки и биллиардисты»!
Секретарь процитировал Бабеля почти точно, лишний раз оправдывая свою репутацию литературного начетчика, на меня же и самая эта цитата, и то, как к месту она была приведена, произвела очень тягостное впечатление. Здесь и впрямь было от чего загрустить.
И все же заключительный аккорд этой сцены, несмотря ни на что, оказался мажорным.
- Прежде всего, - заметил Левидов, обращаясь к редакционному секретарю, - не следует путать скачки с бегами. Мне, как лошаднику, тяжело это слышать. А потом, разрешите сказать вам, что вы не знаете Бабеля. Он настоящий чудак, а настоящие чудаки никогда не действуют в зависимости от выгоды или исходя из чего-нибудь такого, чем руководствуются другие люди.
Упомянув о «других людях», Левидов принялся разглядывать секретаря безо всякой нежности, и можно было предположить, что в споре между «другими людьми» и чудаками он сочувствует чудакам. А покончив с разглядыванием и повернувшись к нам всем своим маленьким, костлявым стариковским корпусом, он закончил свою речь так:
- Самое же смешное во всей этой истории то, что Бабель никогда не играл на бегах. Слышите? Никогда не играл и не играет. Просто он без памяти влюблен в лошадей, и на ипподроме, в этом богом проклятом месте, где люди сходят с ума от азарта и жадности, он смотрит только на них. Понимаете? Только на лошадей и ни на что другое. А вы говорите - раки!
* * *
Было время, когда деятели РАППа сочинили и принялись прилежно распространять легенду о Бабеле как об отшельнике, как о человеке, далеком от современности, как о таком, что ли, буржуазном специалисте, который мастерски делает свое дело, не задумываясь о том, чему он служит и чему служат плоды его трудов. Рассказывали, что редактор одного из наших толстых журналов пригласил Бабеля к себе и, усадив в мягкое глубокое кресло, такое глубокое, что сидящий в нем человек начисто терял чувство собственного достоинства, стал убеждать его познакомиться с жизнью, написав для начала «что-нибудь о тружениках метро». Рассказывали, что редактор этот, впервые в тот день познакомившись с Бабелем, сразу же стал говорить ему «ты» и называть его просто Исааком.
Выслушав наставления своего нежданного литературного покровителя, Исаак Эммануилович встал с кресла и благодушно заметил:
- Слушай, дружок, а не поговорить ли нам о чем-нибудь другом? О литературе у тебя как-то не получается.
Покровитель не сразу понял, что ему было сказано. Он привык фамильярничать сам, но никогда и не предполагал, что ему могут ответить тем же. А пока он собирался с мыслями, Бабель вежливейшим образом откланялся и ушел.
Говорят, беднягу долго потом отпаивали валерьянкой, утешая рассказами о том, как упорен Бабель в своих заблуждениях и как с ним и прежде ничего не могли поделать все, пытавшиеся обратить его на путь истины.
Что же до виновника всех этих треволнений, то он и после описанного здесь разговора продолжал проводить жизнь в разъездах по колхозам и городкам, не всегда отмеченным на карте кружками, продолжал завязывать знакомства и дружбы с людьми самых разнообразных профессий, продолжал жадно всматриваться в приметы нового в душевном обиходе советских людей, приметы, о которых он и прежде так великолепно писал в «Карле-Янкеле», в «Нефти», в «Марии».
Однажды мне посчастливилось присутствовать при беседе Исаака Эммануиловича с молодыми писателями. Он говорил в этот вечер о разном и, в частности, о столь необходимом писателю любопытстве и способности удивляться.
Но самым важным мне показались его высказывания о Толстом. Я записал их и перескажу сейчас с почти стенографической точностью.
- Я очень удивился, - сказал тогда Бабель, - узнав, что Лев Николаевич весил всего три с половиной пуда. Но потом я понял, что это были три с половиной пуда чистой литературы.
- Что это значит? - спросил кто-то из сидевших за большим столом, за которым велась беседа.
Мне показалось, что Бабель не расслышал этого вопроса.
Во всяком случае, начало его следующей фразы было не похоже на ответ человеку из-за стола.
- У меня всегда, когда я читал Толстого, было такое чувство, словно мир пишет им, - произнес он медленно и задумчиво. - Понимаете? Его книги выглядят так, будто существование великого множества самых разных людей, животных, растений, облаков, гор, созвездий пролилось сквозь писателя на бумагу. Как бы это сказать поточнее?.. Вам известно, что в учебниках физики называют «проводниками» и что имеют в виду, когда говорят о сопротивлении, которое оказывает проводник электрическому току, текущему в нем? Так вот, совершенно так же, как и в случае с электрическим током, среди писателей есть проводники, более или менее близкие к идеальным. Толстой был идеальным проводником именно потому, что он был весь из чистой литературы.
Не надо думать, что писательский талант состоит в умении рифмовать или сочинять замысловатые, неожиданные эпитеты и метафоры. Я сам этим когда-то болел и до сих пор давлю на себе эти самые метафоры, как некоторые не очень чистоплотные люди давят на себе насекомых.
И именно поэтому я говорю вам! Как можно меньше опосредствований, преломлений, стараний щегольнуть способом выражения! Высокое мастерство состоит в том, чтобы сделать ваш способ писать как можно менее заметным. Когда Толстой пишет: «во время пирожного доложили, что лошади поданы», - он не заботится о строении фразы или, вернее, заботится, чтобы строение ее было нечувствительно для читателя... Представьте себе человека, выбежавшего на улицу с криком: «Пожар!» Разве он думает о том, как ему следует произнести это слово? Ему это не нужно. Самый смысл его сообщения таков, что дойдет до всякого в любом виде. Пусть же то, что вы имеете сообщить читателю, будет для вас столь же важным, пусть в поисках выражения ваших замыслов перед вами всегда сияют золотые пушкинские слова: «Точность и краткость - вот первые достоинства прозы».
Бабель помолчал и вдруг, улыбнувшись, - он иногда улыбался так, что, глядя на него, казалось, будто греешься у огня, - предложил:
- Хотите, я вам расскажу про старого-старого еврея, который разговаривал с богом?
И принялся рассказывать байки про старика, так твердо верившего в существование вседержителя, что это следовало называть уже не верой, а уверенностью. Байки были явно рассчитаны на то, чтобы дать аудитории отдохнуть от непривычных для нее, да и для самого Бабеля, отвлеченных рассуждений.
Как жаль, что их не слышал редактор, призывавший Бабеля изучать жизнь. Он бы, разумеется, тоже устал от них, но это по крайней мере пошло бы ему на пользу.
* * *
В 1939 году по ложному доносу Бабель был арестован.
Прошло много лет. И вот 18 декабря 1954 года дело Бабеля было пересмотрено Военной Коллегией Верховного Суда СССР. В нотариальной копии справки об этом, которая лежит сейчас передо мной, сказано, что «приговор Военной Коллегии от 26 января 1940 года в отношении Бабеля И. Э. по вновь открывшимся обстоятельствам отменен и дело о нем, за отсутствием состава преступле-ния, прекращено».
Скупые и невыразительные эти слова означают, что те, Кто явились ночью 1939 года в особнячок у Покровских ворот, а потом в дачный городок писателей, разбудили Исаака Эммануиловича, его жену и крохотную дочку и увели с собой этого человека, олицетворявшего гордость и радость нашей литературы, а потом, доподлинно зная, что он ни в чем не повинен, убили его и сожгли бесценное его наследие, состоявшее из пяти папок рукописей, где было несколько десятков рассказов, начало романа и много других работ, о которых мы никогда ничего не узнаем, что эти люди, и даже не они сами, а те, кто приказали им сделать все это, совершили бессмысленное и вопиющее злодеяние.
Обо всем этом трудно говорить даже сейчас, через много лет после гибели Бабеля. Утешением - очень слабым, но все-таки утешением - может служить нам лишь мысль о том, что книги, которые он написал, остались навсегда молодыми.
Молодым осталось и стремление Лютова, робкого очкастого юноши, попавшего в Конную Армию, заслужить уважение товарищей по оружию, и горячая, безрассудная удаль окружающих его конармейцев, и горести еврейского мальчика, рвущегося из подвального мещанского захолустья в широкий мир, полный солнца, мужества и поэзии, и благородство, которое пробуждает своим искусством в душах провинциальных негоциантов и театральных барышников итальянский трагик ди Грассо, и, разумеется, непобедимое, непоколебимое убеждение создателя всей этой пестрой, многоликой и разноголосой толпы, что все идет к лучшему в этом лучшем из миров, какими бы тяжелыми ни были испытания, выпадающие на долю его обитателей.
Убеждение это следует ценить особенно высоко: ведь Бабель на собственном опыте убедился, как нелегко завоевывается власть над сердцами читателей и каким нескончаемо длинным и каменистым бывает писательский путь, если писатель, учась у Толстого, единственным своим героем делает правду. Он прошел этот путь, ни разу с него не свернув, он научился писать о торжестве добра, благородства и мужества, не скрывая от читателя, что на свете существуют зло, измена и трусость. Повидав на своем веку немало смертей, он писал в своих книгах не о них, а о жизни.
И именно поэтому я не буду рассказывать здесь о горестной участи Бабеля и о скорбном его конце.
Ведь его вера в лучшее будущее не была мечтой о собственном счастье, да и самое счастье он - истинный сын своего времени - всегда представлял себе добытым в бою и пахнущим порохом.
1964
М. М. ЗОЩЕНКО
Впервые я увидел его году в тридцатом в Гагре, на пляже, жарким осенним утром.
Широкая, раскаленная солнцем прибрежная полоса была сплошь покрыта весело шевелящейся пестрой толпой купальщиков, темно-зеленые горы глядели на эту суету свысока и осуждающе неподвижно, ветер доносил из парка звуки какого-то музыкального ширпотреба - словом, все было именно таким, каким ему полагалось быть в эту пору на кавказском берегу Черного моря. И только Зощенко выглядел совершенно не так, как должен был выглядеть знаменитый писатель-юморист тридцати пяти лет от роду, отдыхая и развлекаясь на юге.
Он стоял, опершись на трость, в парусиновом костюме и белой фуражке, невысокий, узкоплечий, худой, с печально приподнятыми бровями на темном иконописном лице, и разговаривал с дикарски раскрашенной блондинкой в купальном халатике, картинно полулежащей у его ног на горячих гагринских камушках.
Девица, судя по всему чрезвычайно польщенная вниманием своего собеседника, невпопад похохатывала в ответ на каждую его фразу, он же был задумчив и невозмутимо серьезен. Помню, как удивила меня церемонная почтительность, с какой он слушал щебетание своей дамы, ни единым движением не выдавая своего истинного к ней отношения. В том же, что отношение это не могло быть никаким иным, кроме пренебрежительного, я, зная Зощенко только по его сочинениям, нимало не сомневался.
Позднее, уже познакомившись с ним, я понял, что в то утро, на пляже, он и не думал кривить душой. Оказалось, что он относится серьезно и уважительно ко всем без исключения людям, с которыми его сводит судьба, даже и в тех случаях, когда не испытывает к ним решительно никакой симпатии.
Вот и верь после этого первому впечатлению, если, руководствуясь им, я готов был заподозрить в неискренности одного из самых чистосердечных, простодушных и правдивых людей на земле.
* * *
Меня познакомили с ним в одной из московских редакций, и я сразу же, не помню уже по какому поводу, счел нужным поведать ему, что собираюсь писать статью об эстетизации страдания как об одном из мотивов русской дореволюционной литературы, ныне неожиданно обнаруженном мной в некоторых сочинениях наших советских писателей.
Михаил Михайлович живо заинтересовался моим намерением, рассказал о письме Горького на эту тему, которое незадолго перед тем получил, и даже пообещал прислать мне копию этого письма.
Расставшись в тот день с Зощенко и размышляя о нашем с ним разговоре, я был очень смущен. Во-первых, статья, о которой я сообщил ему, существовала еще только в моем воображении и у меня не было никакой уверенности, что мне удастся ее написать; во-вторых, я поделился с Михаилом Михайловичем совсем еще незрелыми соображениями об ее предмете, и теперь мне казалось, что наговорил при этом множество глупостей, а главное - я начисто не был приучен к интересу известных писателей к моим замыслам и, вспоминая наш разговор, внезапно пришел к заключению, что некоторые интонации в голосе моего нового знакомого были явственно ироническими.
Каково же было мое удивление, когда через неделю я получил от Зощенко письмо, которое неопровержимо свидетельствовало о том, что он и не думал иронизировать по моему адресу, а, напротив, отнесся к нашему недавнему разговору вполне серьезно.
В письме содержалось признание моей якобы правоты каком-то, как я сейчас понимаю, не слишком существенном рассуждении; мысль самого Зощенко о том, что в борьбе со страданием «недостаточно изменить философию», ибо корень зла здесь не в отношении к нему философов и литераторов, а в условиях, его порождающих; сообщение о том, что в книге, которую Михаил Михайлович сейчас пишет, будет содержаться ответ Горькому на его письмо, и, наконец, просьба - прислать мою статью, когда она будет написана, с тем, что он, «возможно, ответит на нее» в той же книге. В конверт была вложена копия широко известного теперь горьковского письма по поводу «Голубой книги».
«Комплименты мои едва ли интересны для Вас и нужны Вам, - писал Алексей Максимович в этом письме, - но все же кратко скажу: в этой работе своеобразный талант Ваш обнаружен еще более уверенно и светло, чем в прежних».
Дальше в горьковском письме шли рассуждения о литераторах, превративших страдания в лейтмотив человеческого существования, а завершалось оно таким призывом:
«Высмеять профессиональных страдальцев - вот хорошее дело, дорогой Михаил Михайлович, высмеять человека, который, обнимая любимую женщину и уколов палец булавкой, уничтожает болью укола любовь свою, человека, который восхищался могучей красотой Кавказа до поры, пока не споткнулся о камень на дороге, ушиб большой палец на ноге и - проклял «уродливое нагромождение чудовищных камней», - высмеять всех, кого идиотские мелочи и неудобства личной жизни настраивают враждебно миру...
...Страдание - позор мира, и надобно его ненавидеть для того, чтобы истребить».
Помню, какое поистине оглушительное впечатление произвело на меня все, вместе взятое, - и горьковское письмо, и внимание ко мне Зощенко, и самая прикосновенность, или, точнее, прикосновение мое к миру, где живут, размышляют и пишут настоящие большие писатели, о которых мы с моими университетскими товарищами жарко спорили, которых читали, перечитывали и почитали, но почти никогда не видели и с которыми совсем уж редко общались.
Непосредственным же следствием этого потрясения оказалось то, что я совершенно запутался в своих собственных размышлениях о страданиях и страдальцах в литературе и, живо представив себе Михаила Михайловича первым читателем моей будущей статьи, до смерти перетрусил и не сумел довести свой замысел до конца, что, впрочем, не помешало мне испытать чувство горячей благодарности к Зощенко, так внимательно и серьезно отнесшемуся к моим литературным мечтаниям.
* * *
Прошло еще несколько лет, прежде чем мне удалось познакомиться с ним поближе. Было это уже в конце тридцатых годов, когда мы с Евгением Петровичем Петровым, работая вместе над киносценариями для Ленфильма, стали часто бывать в Ленинграде.
У Петрова с Зощенко были давние дружеские отношения, и, встретившись с ним в один из наших приездов, он пригласил Михаила Михайловича пообедать с нами у нас в гостинице.
Жили мы тогда с Евгением Петровичем в «Астории», в большом двухкомнатном номере, состоявшем из спальни и кабинета, который по прихоти устроителей гостиничного уюта был густо населен изваяниями и изображениями медведей всех мастей и размеров. Они резвились на письменном столе в виде пепельниц, чернильниц и бокалов для карандашей, бродили во всех направлениях в качестве безделушек и крупных скульптур - словом, вели себя вполне непринужденно и своенравно, как это свойственно диким животным, попадающим в родную стихию. Венцом же всего этого медвежьего неистовства было чучело стоящего на задних лапах очень милого медвежонка средних размеров, которому злые люди вбили в голову железный штырь, служивший опорой для электрической лампы с абажуром какого-то совершенно медвежьего цвета.
В этой комнате и должен был происходить устроенный нами для Зощенко званый обед.
Наш гость пришел точно в назначенный час, по обыкновению задумчивый и любезный, внимательно оглядел комнату, в отличие от всех других наших посетителей ничего смешного о ней не сказал и уселся в уголке дивана в несколько принужденной, даже, пожалуй, застенчивой, позе.
Несколько минут прошли в разговоре о том о сем, после чего Евгений Петрович позвонил в ресторан и распорядился, чтобы подавали еду. Глаза его засверкали, нижняя челюсть выдвинулась вперед. Ничего не свете он, кажется, так не любил, как потчевать хороших людей хорошей едой. Пожалуй, единственное, что можно было в этой области поставить ему в вину, была деспотичность, с какой он это свое пристрастие осуществлял. Садясь с ним за стол, нечего было думать даже об искре свободомыслия. Следовало безропотно есть и пить только то, что считал вкусным сам Евгений Петрович, и делать это непременно в установленном им порядке. Разумеется, в своем тираническом гостеприимстве Петров руководствовался исключительно заботой о благе ближних, но, увы, не все это понимали и частенько, подчиняясь ему, за глаза поругивали за деспотизм.
Надо полагать, что Михаилу Михайловичу повадки Петрова были отлично известны, но повел он себя совершенно не так, как можно было ждать от такого мягкого и уступчивого человека.
С учтивой, но непоколебимой твердостью отказавшись от водки, к которой была подана тщательно выбранная закуска, он попросил пива, не глядя положил себе на тарелку несколько грибков и принялся разговаривать, не обращая никакого внимания на великолепие раскинутого перед ним пиршественного стола.
Петров судорожно, совершенно по-детски, вздохнул и занялся едой, не забывая, впрочем, заботиться обо мне и бдительно наблюдая за тем, чтобы бокалы и рюмки ни на мгновение не оставались пустыми. Подливая Михаилу Михайловичу пиво, он всякий раз принимал вид человека, вынужденного уступать грубой силе, и старался при этом не смотреть на строптивого гостя.
А гость между тем рассказывал о любопытнейших вещах.
Оказывается, вот уже несколько лет, после того как вышла «Возвращенная молодость», к нему обращаются за помощью и советом сотни людей, жаждущих узнать секрет, которым, как они полагают, владеет автор повести о профессоре Волосатове, вернувшем себе утраченную с возрастом бодрость. Причем в последнее время количество телефонных звонков и писем стало угрожающе увеличиваться, и Михаил Михайлович очень этим обеспокоен.
- Сами виноваты! - злорадно буркнул Петров, когда рассказ дошел до этого места. - Не надо было давать советы.
- Нет, почему же? Нет, Женя, это неправильно.
Если человек что-то знает, он обязан поделиться с другими.
- А что вы такое знаете?
Михаил Михайлович примирительно улыбнулся. Он решительно не желал замечать строптивого тона Евгения Петровича.
- Как вам сказать... Есть у меня кой-какие наблюдения... Но, может быть, об этом не стоило бы сейчас говорить...
- Почему же? Выпили мы немного, время у нас есть, как-нибудь разберемся. Валяйте рассказывайте. Только допейте, пожалуйста, ваше пиво.
- Спасибо, я пью... - Зощенко пригубил из своего бокала. - Как бы вам объяснить... Ну вот, случалось ли вам замечать, что между людьми, скажем, между двумя собеседниками, возникает некая атмосфера взаимопонимания, непринужденности или, наоборот, какой-то скованности, замешательства, неловкости? Потом к двоим собеседникам присоединяется третий - и все меняется, возникает новое качество, новая атмосфера, новое настроение...
- Случалось. И что из этого следует?
- Просто мне подумалось, что это происходит, может быть, потому, что каждый человек окружен своей, только ему одному присущей атмосферой, и те, кто общается с ним, начинают ее ощущать еще прежде, чем он успеет вымолвить хотя бы слово.
- Я знал одного такого человека. С ним без опасности для жизни можно было общаться не больше трех минут. После этого в комнате оставался один азот. Кислород он поглощал весь, без остатка.
- Это другое. Вы говорите про дураков или про людей со скверным характером. Я не то имею в виду. Мне, понимаете, пришло в голову, что каждый из нас представляет собой источник какого-то, ну, что ли, излучения... Когда-то это называли флюидами. Вы понимаете?
- Не понимаю, а знаю! Вы говорите про митогенетические лучи. И это не вам пришло в голову, а одному ученому-биологу... Возьмите-ка лучше рыбки.
- Спасибо, сейчас возьму. Я читал про митогенетические лучи. Но я не это имею в виду.
И Зощенко принялся толковать о чем-то очень возвышенном и туманном, проникновенном и вместе с тем наивно-фантастическом, про некую излучаемую людьми психологическую эманацию, похожую на то, что физики называют «полем», и про то, что эта самая эманация в гораздо большей степени, чем даже слова и поступки, определяет отношения между людьми и место каждого человека в обществе.
Он говорил взволнованно, по временам словно робея, но сейчас же снова обретая уверенность, старательно подбирая слова, чтобы выразить свою мысль как можно понятнее, и, видимо, очень огорчаясь от того, что Петров не то чтобы не мог эту мысль уразуметь, а как-то упирался, не принимая ее, упрямо не желал ею заинтересоваться.
Мне же было видно и еще кое-что в поведении Евгения Петровича, и это смущало меня гораздо сильнее, чем строптивость, с какой он до того воспринимал рассуждения Зощенко. По некоторым признакам я почувствовал, что Петров вот уже несколько минут делает героические усилия над собой, чтобы не расхохотаться. Увы, очень скоро это заметил и Михаил Михайлович. Одушевление его померкло, он начал путаться, искать слова и, наконец, не кончив очередную фразу, неожиданно замолчал, поглядывая на нас обоих с виноватой и смущенной улыбкой.
Даже сейчас, через много лет, вспоминая эту сцену, я не могу отделаться от чувства мучительной неловкости, какое испытал в ту минуту, когда Петров, так и не сумев совладать с собой, с лицом, налившимся кровью, повалялся на диван, на котором сидел, и дрыгая ногами, как капризный ребенок, залился грубоватым, заразительным смехом.
Зощенко молча пожал плечами и принялся за еду.
- Ой, не могу! - кряхтел Петров, садясь и вытирая глаза. - Как вы сказали, Миша? Эманация? Как же, как же, я про это читал в журнале «Нива» в одна тысяча девятьсот тринадцатом году. Помните, там тогда на обложках рекламировались средства для ращения волос и предлагалось приобрести за три рубля девяносто пять копеек четырнадцать ценных предметов, и в том числе карманные часы и кольцо с бриллиантом?
- Помню, - кротко промолвил Зощенко. - Вы ужасный грубиян, Женя. Но, может быть, и такие люди нужны, чтобы фантазеры вроде меня были осмотрительнее и не заносились слишком высоко. Кстати сказать, вы ведь тоже не просто грубиян, а с примесью фантазерства... - Он потрогал салфеткой углы губ, повернулся ко мне и, указывая на Евгения Петровича, спросил: - Вы когда-нибудь слышали, как Ильф не позволял ему округлять числа?
Я не сразу понял, о чем идет речь, но Михаил Михайлович не стал ждать моего ответа.
- Жене тоже нужен человек, который бы не позволял ему заноситься, - продолжал Зощенко. - И когда он рассказывал о чем-нибудь в присутствии Ильи Арнольдовича и при этом таращил глаза и называл большие круглые числа, Ильф улыбался и замечал: «Женечка, вы округляете. Не тысяча пятьсот, а тысяча четыреста семьдесят...» И все становилось на свои места. Понимаете?
Теперь я понял. Эта сторона отношений между Петровым и Ильфом мне тоже была хорошо известна.
* * *
Уже давно замечено, что среди писателей-юмористов редко удается встретить весельчаков. Как-то не способствует писание смешного авторскому оптимизму. И хотя в предисловии к своей «Голубой книге» Зощенко пишет, что «веселость его никогда не покидала», даже самая эта книга опровергает его утверждение.
Разумеется, можно встретить людей, профессия которых верой и правдой служит им в житейском обиходе: композиторов, всегда готовых поиграть для друзей; юристов, дающих советы попутчикам в поезде; актеров, «неподражаемо рассказывающих анекдоты»; врачей, хранящих в памяти рецепты для ухода за кожей лица.
Профессия Зощенко никогда не была для него подспорьем в практической жизни. Начать с того, что в этой самой практической жизни он был человеком печальным и неразговорчивым. Даже если ему и случалось рассказывать что-нибудь смешное (а ведь это может случиться со всяким), он вовсе не старался рассмешить своих слушателей. Я заметил даже, что он в таких случаях с нетерпением ждет, пока слушатели отсмеются, чтобы продолжить свой рассказ. Мне никогда не приходилось видеть, чтобы Михаил Михайлович претендовал на роль души общества, но я не раз наблюдал, как он уклонялся от этой чести, если ему пытались ее навязать. Он неизменно предпочитал роль слушателя роли рассказчика и даже с чтением своих сочинений выступал до крайности редко. И это при том условии, что многие свои вещи он знал наизусть, как стихи. Помню, как удивила меня его фраза о том, что он не пишет, а записывает свои рассказы. Михаил Михайлович сказал тогда об одном из них: «Он уже весь придуман, осталось только записать». И в ответ на мой недоуменный вопрос сообщил, что работает над своими рассказами мысленно, и только когда вещь совершенно готова и запечатлелась в памяти до последнего слова, записывает ее, почти ничего в ней при этом не изменяя. Можно ли придумать более странный способ работать над сочинениями, главная прелесть которых - в тончайшем словесном рисунке, раскрывающем авторский замысел и характеры действующих лиц более полно и точно, чем это можно сделать в пространнейших рассуждениях и характеристиках? Но ведь Зощенко и вообще-то был человеком странным, человеком, понять и оценить которого нелегко, пользуясь обычными мерками.
* * *
Разве не удивительными для сатирического писателя были его мягкость, терпимость и доброта? А ведь знавшим его невозможно представить себе Михаила Михайловича рассерженным, язвительным, недоброжелательно отзывающимся о людях.
В предисловии к одному из сборников своих фельетонов он однажды писал:
«В этих фельетонах нет ни капли выдумки. Здесь все - голая правда. Письма рабкоров, официальные документы и газетные заметки послужили мне материалом. А живые люди, которых, быть может, я здесь пихнул локтем, - пущай простят меня.
Впрочем, в последний момент у меня дрогнула рука, и я, по доброте душевной, слегка изменил фамилии некоторых героев, чтобы позор не пал на ихние светлые головы».
Нетрудно понять, какими ракалиями были эти самые «живые люди», фамилии которых Зощенко «изменил в последний момент», найдя в себе силы отнестись к ним с истинным человеколюбием и извиниться перед ними даже за то, что под вымышленными именами выставил их на всенародное осмеяние.
Веселый, необходимый человеческому обществу как воздух писательский дар - видеть в людях нелепое и уродливое и смешно об этом писать - дан был Зощенко вместе с человеколюбием и великой жаждой помочь своим современникам стать умнее, честнее, добрее и благороднее. Поэтому ни один из его рассказов не выглядит зубоскальством или, еще того хуже, олицетворением этакого «гусарского» пессимизма (судьба - индейка, жизнь - копейка), каким проникнуты творения некоторых, по преимуществу зарубежных, сатирических и не сатирических писателей, видящих свое назначение в том, чтобы, сидя в мягких креслах за роскошными письменными столами и вооружившись золотыми перьями, убеждать читателей, что все в этом мире насквозь прогнило и идет к черту.
В отличие от литераторов этого рода, Зощенко не переставал скорбеть о несовершенстве человеческой природы вообще и о неустройствах нашего житейского обихода в частности - неустройствах, порой мешающих советским людям жить и работать разумно и дружно, как это им подобает. И всю силу своего писательского таланта он устремлял на то, чтобы пробудить в своих согражданах, рядом с непримиримостью к глупости, злобе и пошлости, уважение друг к другу и веру в то, что счастливое будущее человечества они держат в своих руках.
Все это до боли отчетливо видишь сейчас, перечитывая сочинения Зощенко и вспоминая, как искаженно воспринимались они теми критиками, которые умудрились увидеть в его рассказах злопыхательское стремление очернить всех без исключения советских людей, представив их скопищем дураков, мещан и прохвостов.
К величайшему нашему счастью, критикам никогда еще не удавалось надолго разлучить читателей с любимыми авторами. И судьба книг Зощенко как нельзя лучше это правило подтверждает.
* * *
В первые годы войны мы не встречались с Михаилом Михайловичем, и довольно долго я ничего не слышал о нем. Потом в журнале «Октябрь» появилась первая часть его повести «Перед восходом солнца», которая, как известно, вызвала целый взрыв резких критических нареканий. В результате вторая часть повести так и не была тогда напечатана, а ее автору каким-то журнальным редактором, чье отношение к Зощенко, надо думать, было доброжелательным, но покоилось на полном непонимании его «творческих возможностей», было рекомендовано попробовать свои силы в «серьезном» жанре.
И вот через некоторое время после всех эти происшествий Михаил Михайлович привез в редакцию «Крокодила» несколько рассказов о партизанах, рассказов, имевших целью продемонстрировать его готовность делом ответить на суровую критику.
Приехав в Москву, Михаил Михайлович позвонил мне по телефону, и в тот же вечер я пришел к нему в гостиницу.
Он встретил меня со своей всегдашней любезной и чуть печальной улыбкой, мы уселись и некоторое время беседовали о посторонних и не очень интересных предметах. Обоим нам казалось невозможным говорить о том, что произошло, и оба мы - он с некоторым даже блеском, а я не умея скрыть своего замешательства - делали вид, что не произошло решительно ничего, пока разговор наш не оборвался и в гостиничном номере, вознесенном над Манежной площадью, не воцарилась напряженная и словно бы даже на ощупь осязаемая тишина.
И тогда Михаил Михайлович смущенно откашлялся и внезапно попросил у меня разрешения (не предложил, а именно - попросил разрешения) прочесть несколько только что написанных им коротких рассказов. Он так упирал на то, что рассказы короткие, что было понятно: он в них не очень уверен. Мне же было все равно - какие они, потому что до того я ни разу не слышал чтения Зощенко и только с чужих слов знал, что он великий мастер этого дела.
Так оно и оказалось. Читал Михаил Михайлович великолепно. Просто, почти без всякой акцентировки и вместе с тем придавая необыкновенную значительность каждому слову.
Рассказы же были невыразительны, и талант их автора был в них почти совершенно неразличим. Не могло быть никакого сомнения, что идея покровительствующего Михаилу Михайловичу редактора, вздумавшего превратить его в военного летописца, не увенчалась успехом. Удивительнее же всего было то, что сам Зощенко, очевидно, придавал своим опытам в новом жанре большое значение, очень волновался, читая, все поглядывал на меня, пытаясь определить, нравятся ли мне рассказы, и все спрашивал перед тем, как начать читать следующую вещь, не надоело ли мне слушать.
Каюсь, я не сказал ему тогда правды. Прежде всего потому, что, как мне показалось, эта правда была ему не нужна, а главное - при всей моей тогдашней угловатой нелицеприятности, мне удалось уразуметь, что преподнести Михаилу Михайловичу теперь мои критические, пусть даже справедливые, недовольства было бы все равно что ударить ребенка.
Поэтому я пробормотал что-то в общем справедливое о простоте, лаконичности и прозрачности прочитанного, попутно выяснив для себя, что уклончивые эти любезности говорить не в пример легче, чем резать пресловутую «правду-матку».
Что же до Михаила Михайловича, то он удовлетворился сказанным, ни о чем больше меня не спрашивал, аккуратно сложив, спрятал рукопись в ящик стола и стал рассказывать о своих планах на ближайшее будущее. Планы были самые что ни на есть оптимистические и, как выяснилось в дальнейшем, беспочвенные.
Но прежде чем рассказать о том, что за этим последовало, я должен оговориться. В известном постановлении Центрального Комитета о журналах «Звезда» и «Ленинград», с которого все началось, был раздел, содержавший суровое осуждение рассказа Зощенко «Приключения обезьяны». В обстановке тех лет это было воспринято как сигнал к тому, чтобы охаять все написанное Михаилом Михайловичем и пресечь всю его дальнейшую писательскую деятельность.
Нужно ли говорить, что кампания эта была воспринята читателями Зощенко как бессмысленная жестокость, да еще и проникнутая, мягко выражаясь, «нехозяйским» отношением к нашему литературному достоянию.
Увы, остановить эту лавину уже было нельзя, и дальнейшие события развивались, в самом точном значении этого слова, стихийно.
Причем, следя за развитием этих событий, мы все не переставали дивиться несоответствию между поводом, то есть рассказом Зощенко про обезьяну, и критической лавиной, о которой только что говорилось. По словам друзей Михаила Михайловича, общавшихся с ним в это время, сам он тоже ничего во всем этом не мог понять и пытался убедить себя и окружающих, что в ближайшее время все разъяснится, окажется недоразумением и сразу же сгинет, как страшный сон.
Но время шло, а сон все длился и длился.
В десятках статей, обзоров, рецензий, читательских писем, «творческих отчетов» и интервью Зощенко прорабатывали и поносили с такой монотонной, слепой и неистовой яростью, какой мы не видывали со времен недоброй памяти РАППа.
Поэтому прошло не меньше года, прежде чем в Союзе писателей было решено попытаться что-либо сделать, чтобы облегчить положение Зощенко, и он был вызван в Москву.
Приехав, Михаил Михайлович позвонил мне по телефону и пришел ко мне, а придя, рассказал об удивительных обстоятельствах, сопровождавших его нынешний приезд, причем рассказ этот был, пожалуй, первым смешным рассказом, какой мне удалось за все время нашего знакомства услышать от Зощенко.
Все началось с того, что еще с вокзала он позвонил в Союз писателей, чтобы узнать, когда его смогут принять. Ему ответили, что час приема еще не назначен, а пока ему надлежит ехать в гостиницу «Метрополь», где для него забронировано место. Он отправился туда.
Администратор выслушал его, полистал какие-то бумажки и сообщил, что место для него действительно имеется на четвертом этаже, комната номер такой-то. При этом администратор, видимо узнав Михаила Михайловича, очень смущался и сетовал на трудные послевоенные времена.
Уже поднимаясь в лифте, Михаил Михайлович подивился внимательному взгляду и странному тону администратора, каким тот сообщил номер отведенной ему комнаты.
Дежурной по этажу не оказалось на месте, и Зощенко решил поискать ее в коридоре, но, проходя мимо чуть приоткрытой двери и увидев на ней цифру, названную администратором, толкнул ее и вошел. А войдя, остановился в остолбенении.
Комната оказалась апартаментом довольно внушительных размеров, сплошь уставленным кроватями, между которыми ветвились узкие, замысловато перекрещивающиеся проходы.
Дело происходило утром, еще до начала рабочего дня, и почти на всех кроватях лежали люди. Одни, уже одетые, размышляли о чем-то, уставившись в потолок, или читали газеты, другие спали, свернувшись калачиком под тонкими, сиротскими одеялами.
Михаил Михайлович поздоровался, поискал глазами свободную кровать и, стараясь не побеспокоить спящих, добрался до нее, осторожно ступая на цыпочках. Здесь он поставил в ногах свой портфель, скинул пиджак и ботинки и прилег, а прилегши, незаметно для себя самого задремал.
Очнулся он от резкого телефонного звонка и, оглядевшись, только сейчас заметил, что в центре комнаты стоит стол, а на столе - телефон.
Между тем звонки следовали один за другим, что, впрочем, не мешало людям, лежавшим вокруг, продолжать нежиться в своих постелях, видимо в ожидании, пока кто-нибудь первым не выдержит характера и возьмет трубку.
Наконец один из соревнующихся, вне всякого сомнения наименее выносливый, яростно чертыхнулся, встал и подошел к телефону.
- Слушаю вас! - сказал слабохарактерный этот человек и некоторое время действительно слушал невидимого своего собеседника, не прерывая. Потом лицо его отразило крайнюю степень недоумения. - Кого, кого? - переспросил он и, убедившись, что на этот раз не ослышался, торжественно отчеканил: - Нет! Зощенко в гостинице «Метрополь» в настоящее время не проживает! - после чего, сочтя вопрос исчерпанным, приготовился бросить трубку.
Но тут Михаил Михайлович вскочил со своей кровати и принялся показывать знаками, что он и есть Зощенко, которого зовут к телефону.
Молчаливое это притязание привело человека, стоявшего у стола, в смятение. Он недоверчиво и даже враждебно оглядел Михаила Михайловича с головы до ног, пожал плечами и только после этого протянул ему телефонную трубку.
Оказалось, что звонят из Союза писателей, чтобы сообщить, что секретарь примет Зощенко сегодня во второй половине дня. Выслушав эту добрую весть и поблагодарив, Михаил Михайлович снова улегся, но заснуть не пытался, понимая, что без объяснений с соседями по комнате теперь уж дело не обойдется. Так оно действительно и оказалось.
- Значит, вы тот самый Зощенко и есть? - адресовался к нему лежащий на соседней кровати плотный пожилой человек, глядя на него с интересом.
Михаил Михайлович подтвердил, что тот самый.
И сразу же к его кровати подошло несколько любопытных, а один даже присел у него в ногах.
По словам Михаила Михайловича, это было похоже на то, как если бы с кем-то приключился на улице обморок и вокруг столпились любопытствующие и сочувствующие прохожие. Однако очень скоро он понял, что сочувствующих здесь, пожалуй, не меньше, чем любопытных. Выяснилось, что некоторые обитатели «Боярского зала» (так почему-то с незапамятных времен именовалась комната, в которой происходила вся эта сцена) читали не только «Приключения обезьяны», но и многие другие его рассказы и вовсе не склонны считать Зощенко злопыхателем и клеветником. А один из собеседников Михаила Михайловича, тот самый, что устроился у него в ногах, вообще отказывался верить в то, что сыр-бор загорелся из-за одной «Обезьяны», и стал убеждать его порыться в памяти и вспомнить, нет ли у него еще каких-либо прегрешений.
Иначе, чем другие, повел себя только тот человек, который давеча подходил к телефону. Понаблюдав некоторое время за поведением роящихся вокруг Михаила Михайловича доброжелателей, он окинул их мрачным и пронзительным взглядом и заскрежетал:
- Любопытно! До чрезвычайности любопытно! - И, повернувшись к участнику разговора, сидевшему на кровати, потребовал: - Вот вы, например... потрудитесь сообщить... по-вашему, эту самую «Обезьяну» критиковали напрасно? По-вашему, нынче, когда все мы, а если взять конкретно, например, я, на своем, пусть незначительном, предприятии, - я лично работаю на консервном заводе, - не щадя сил, восстанавливаем хозяйство, разрушенное войной, а товарищ писатель себе позволяет всякие, понимаешь, хиханьки да хаханьки, мы это будем терпеть?!
И он еще раз обвел глазами тех, что стояли вокруг, на этот раз как бы пунктиром, остановившись на каждом в отдельности.
Охотников спорить с суровым оратором не нашлось, кружок любопытных, столпившихся вокруг Михаила Михайловича, стал быстро редеть, и уже через минуту он остался в одиночестве.
Последним покинул его тот, что сидел у него в ногах. Сделав вид, будто вспомнил о неотложном каком-то деле, он кинулся к телефону.
И все же от всей этой сцены, которая в изображении Михаила Михайловича была исполнена какого-то иронического сочувствия к ее участникам, у меня осталось непреложное убеждение: неправедно суровые критические оценки, при каких бы обстоятельствах они ни выносились и какой бы аргументацией ни сопровождались, ничего, кроме сочувствия к автору, подвергнутому такой критике, даже у сторонних и беспристрастных наблюдателей вызвать не могут.
* * *
Следующая наша встреча с Михаилом Михайловичем произошла уже в Ленинграде, у него на квартире, кстати сказать, новой, меньшей, чем предыдущая, в которую он переехал совсем недавно.
Комната, куда он проводил меня, открыв мне дверь, выглядела очень печально. Было похоже на то, что хозяин не только спит, ест и работает в ней, но даже, кажется, готовит здесь пищу.
Жаркий летний день был в разгаре, и сквозь пыльные, непромытые окна било не по-северному яркое солнце, освещая давно не метенный пол, книжные полки, покрытые густым слоем пыли, письменный стол и высокую конторку, за которой, как мне было известно, Михаил Михайлович имел обыкновение работать.
Усадив меня и расспросив о моих делах - а надо сказать, что он всегда делал это с непритворной заинтересованностью, - Михаил Михайлович осведомился, слышал ли я что-нибудь о его встрече с английскими студентами. Я сказал, что об этой встрече ходят самые противоречивые слухи, но мне говорили, будто он с честью выдержал выпавшее ему на долю нелегкое испытание.
Михаил Михайлович покачал головой:
- Вам не все рассказали... Один из вопросов, который мне задали эти самые англичане, был о том, считаю ли я справедливыми упреки, которые были мне сделаны.
Вероятно, чтобы с честью выдержать испытание, я должен был сказать, что согласен со всем, что обо мне говорилось... Но я не мог. Я офицер, дважды воевал, награжден Георгиевскими крестами, добровольцем вступил в Красную Армию, а меня называли трусом, меня упрекали в том, что я будто бы убежал из осажденного Ленинграда... Ведь это неправда!.. Не говоря уже о ругани... С чем же я должен был соглашаться?..
Михаил Михайлович помолчал, потом взял со стола маленький кожаный портсигар, вынул из него тоненькую папиросу из тех, что именуются «гвоздиками», и закурил.
- Если же вам говорили, что я не искал сочувствия у этик белоподкладочников, то чему здесь удивляться? Во-первых, я давно недолюбливаю субъектов этого сорта, а во-вторых, они ведь намерены были убедиться, что я «гонимый»... Так вот я решил не дать им возможности насладиться этим зрелищем. Пускай смотрят другие достопримечательности... А я нарочно надел свой лучший костюм - коричневый, вы его знаете, - сделал непромокаемое лицо и был, вероятно, так не похож на страдальца, что им, по-моему, стало жалко потраченного на меня времени. И отлично! Пусть не думают, что я нуждаюсь в их заморском барском сочувствии.
И Михаил Михайлович так гордо, я бы даже сказал, так высокомерно усмехнулся, что мне вчуже стало неловко за бестактных и самоуверенных его интервьюеров.
{Но здесь я не могу отказать себе в удовольствии привести рассказ неизвестного мне автора о дальнейших событиях:
«1954 год. Опять терзают Зощенко. Дело в том, что незадолго до этого в Ленинград приехала группа английских студентов, студенты захотели встретиться с Ахматовой и Зощенко, дабы убедиться, что те существуют; встреча была организована, студенты спросили у Зощенко - согласен ли он с тем, что о нем сказано в постановлении о журналах «Звезда» и «Ленинград», Зощенко сказал, что не согласен, студенты стали ему аплодировать... И вот - его снова терзают. Специально для этого в помощь Кочетову, Друзину и другим прибыл из Москвы К. М. Симонов.
Общее собрание лениградских писателей. Полный зал народу. Докладчик - В. П. Друзин обстоятельно и долго, как подобает литературоведу, объясняет собравшимся, как Зощенко идейно нам чужд, какой он закоренелый антипатриот и как мы все должны единодушно осудить его за несогласие с постановлением ЦК. Затем слово предоставляется Зощенко.
Прямой, сухонький, с темным лицом и плотно сжатыми губами, он идет через зал к президиуму, поднимается на эстраду, проходит к трибуне. Молча смотрит в зал. Становится очень тихо. И тогда высоким раздраженным голосом, в котором усталость и холодное отчаяние, Зощенко говорит:
- Что вы от меня хотите?.. Вы хотите, чтобы я сказал, что я согласен с тем, что я подонок, хулиган и трус? А я - русский офицер, награжденный Георгиевскими крестами. И я не бежал из осажденного Ленинграда, как сказано в постановлении, - я оставался в нем и дежурил на крыше, и гасил зажигательные бомбы, пока меня не вывезли вместе с другими... Моя литературная жизнь окончена. Дайте мне спокойно умереть.
Спустился в зал, в мертвой тишине прошел между рядами и ушел, ни на кого ни разу не взглянув.
И долго еще в зале стояла тишина. Все сидели, опустив головы, каждый боялся встретиться глазами с соседом.
В президиуме забеспокоились, зашептались. Надо было исправлять положение. Встал К. М. Симонов. Картавя, он сказал:
- Тут това'ищ Зощенко бьет на жа'ость...
И дальше произнес все те же железобетонные, непробиваемые слова, о которых очень хотел бы сегодня позабыть, а может быть даже и позабыл...
Но другие помнят».}
А он помолчал и вдруг спросил:
- Помните наши с вами давние разговоры о литераторах, полагающих, что, заставив своего героя страдать, они представляют его читателям с самой что ни на есть выгодной для него стороны? Так вот, чем больше я живу на свете, тем непоколебимее убеждаюсь, что нет на свете, если не считать жестокости, ничего более отталкивающего, чем человек, щеголяющий своими душевными язвами... Была у меня однажды смешная встреча. Стою я в очереди за железнодорожным билетом на городской станции. Народу немного, ждать, судя по всему, предстоит не больше четверти часа. И вот подходит моя очередь, ныряю я с головой в окошечко кассы и вдруг чувствую, кто-то сверлит мне спину пальцем. Я, понимаете, боюсь что-нибудь напутать в разговоре с кассиршей, стараюсь быть деловитым, лаконичным, а он сверлит и сверлит... Наконец справился я со своей задачей, кассирша начала что-то там подсчитывать и стучать компостером, а я, улучив минуту, оборачиваюсь и вижу - стоит за моей спиной пожилая дама с неаккуратно выкрашенным злым ртом и голубоватыми сухими морщинками и смотрит на меня с ненавистью. «Что, говорю, с вами? Почему вы волнуетесь? Сказали бы прежде, что торопитесь, я бы вам уступил очередь...» А она отвечает: «Пострадали бы вы с мое, молодой человек, я бы посмотрела, как бы вы не волновались!» И такой мне показалась противной эта ее уверенность в каких-то своих правах, заработанных страданиями, сказать не могу... Мне ведь сейчас многие считают нужным выразить сочувствие, а для меня это сочувствие...
Михаил Михайлович помотал головой и улыбнулся.
- Однажды я самому себе письмо написал, чтобы избежать сочувствия... причем в значительно менее жгучей ситуации, чем нынешняя... Я вам не рассказывал эту историю?
- Нет, не рассказывали.
- Ну так вот. Отправился я однажды в Ялту отдохнуть и условился, но не твердо, с одной приятельницей, что она, если сможет, тоже приедет туда через недельку после меня и, выезжая, пошлет мне до востребования телеграмму: мол, выехала, встречайте тогда-то. Еду я в поезде и представляю себе, как прихожу в назначенный день на почту, спрашиваю, есть ли на мое имя почтовые отправления, а девица в окошке, перебрав пальчиками конверты на букву «3», небрежно отвечает: «Пишут!» Знаете, как они в таких случаях отвечают? Или еще того хуже, не сострит, а с сочувствием на меня посмотрит. Представил я себе эту картину и стал думать, как бы мне этого сочувствия избежать... И придумал. Написал на конверте адрес: «Ялта, до востребования. Зощенко М. М.», вложил в конверт листок чистой бумаги и опустил письмо в ящик то ли в Харькове, то ли в Орле.
Прошел положенный срок, отправился я на почту, и все произошло именно так, как я себе это представлял. Девушка в окошечке перебрала конверты, нашла мое письмо и подала его мне. Телеграммы же от моей приятельницы, как, впрочем, я и ожидал, не было и в помине. Нужно ли вам говорить, что благодаря моей выдумке я перенес это разочарование гораздо легче, чем ежели бы на почте совсем не оказалось никакого письма... Вы это понимаете, я надеюсь? Что? Не понимаете? Значит, вы менее стеснительны, чем я... Вы не обиделись?.. Вот и хорошо. У вас есть мой перевод финского писателя Майю Лассила?.. Не слышали о таком писателе? Я вам подарю эту книжку, вы ее прочтете и непременно его полюбите.
Михаил Михайлович взял с полки книгу, на переплете которой значилось: «М. Лассила. За спичками» (о том, что литературная обработка перевода сделана М. Зощенко, как я установил позднее, сообщалось мельчайшим шрифтом на обороте титульного листа), и удивительным своим почерком сделал на ней дарственную надпись, которая вот уже многие годы служит мне утешением в невзгодах и недовольстве собой - неизбежных спутниках нашей литераторской жизни: «Дорогому Георгию Николаевичу. Сердечно любящий Вас. Мих. Зощенко». Потом подумал и приписал немного пониже еще две строчки:
Грехи людей мы отливаем в бронзу,
Их подвиги мы пишем на воде...
Пока он был занят этим делом, я принялся перебирать стоявшие на полке издания его книг. Их было очень много - разных форматов, толстых, тонких, на множестве языков. Одна из них мне приглянулась. Это был очень хорошо составленный сборник, изданный в сороковом году в Ленинграде. Увидев, что я особенно внимательно проглядываю его, Михаил Михайлович спросил:
- Подарить вам эту книжку?
- Но ведь у вас только один экземпляр.
- Ничего. Мне не жалко.
Мне почудилось в этой щедрости Михаила Михайловича настроение, которое один из моих друзей определил когда-то формулой «все - все равно». Но формула эта была шуточной, здесь же было совсем другое. Сердце у меня сжалось. И даже подарок не утешил меня.
* * *
Были у меня после того и другие, по преимуществу мимолетные, встречи с Михаилом Михайловичем, но отделаться от чувства тревоги за него мне так и не удалось. Очень уж он стал ко всему равнодушен, обращен внутрь, замкнут. И не то чтобы он совсем перестал улыбаться, шутить, интересоваться судьбами друзей, хорошими книгами... Но все это было в нем как-то расплывчато, не отчетливо и не ярко, словно он смотрел на все сквозь серую кисею.
Вероятно, именно поэтому, когда в газетах появилось сообщение о кончине Михаила Михайловича, для меня оно не было неожиданным.
1966
ИЛЬЯ ИЛЬФ
Любой человек, которому довелось бы познакомиться с Ильфом и Петровым в начале тридцатых годов, испытал бы, глядя на них, чувство зависти. Нынче принято такую зависть именовать «здоровой», но тогда этот термин был еще неизвестен, и, завидуя моим новым знакомым, я испытывал некоторое смущение.
Для зависти было множество оснований. Такие они были умные, веселые, дружные, удачливые, такие неистощимые острословы, такие неуязвимые насмешники, так великолепно шла у них работа, так все их любили, так нарасхват шли их книги...
И только много лет спустя мы узнали, что именно в это время Ильф записывал в записной книжке, по временам служившей ему дневником: «Дело обстоит плохо, нас не знают... Если читатель не знает писателя, то виноват в этом писатель, а не читатель».
Что это было такое? Сплин? Неверие в свои силы? Болезнь? Нет! Ни то, ни другое, ни третье. Эти строки были продиктованы высокой художественной требовательностью к себе и своей работе. Так рассуждать мог писатель, твердо знающий, что книги, которые ему предстоит написать, должны быть и будут гораздо лучше тех, что уже написаны. Так говорить о себе, уже будучи знаменитым писателем, мог человек, младенчески лишенный честолюбия, не подозревающий о своем успехе и не для успеха пишущий.
А Ильф был именно таким, сурово требовательным к себе, начисто лишенным честолюбия человеком.
Помню его в день премьеры их пьесы «Под куполом цирка» в только что открывшемся в Москве Мюзик-холле. Это была очень праздничная, торжественная премьера, в спектакле участвовали лучшие комедийные актеры, зал был полон, спектакль то и дело прерывался аплодисментами - словом, было от чего возликовать авторским сердцам. Они, вероятно, и ликовали, хотя у Ильфа, сидевшего в глубине литерной ложи, как мне удалось заметить, на лице было написано только смущение. А когда спектакль окончился и в этой самой ложе, где сидели авторы и приглашенные на премьеру гости, возник шепоток о том, что не худо бы отпраздновать успех где-нибудь в ресторане, Илья Арнольдович, отведя меня в сторону и пугливо озираясь, спросил со свойственной ему застенчивой резкостью:
- Слушайте, найдется у вас в доме стакан чаю? - И, установив, что найдется, отправился со мной, в мою совершенно студенческую комнатку в Большом Козихинском переулке, и битых два часа рассказывал мне и еще одному приятелю, составившему нам компанию, о морских сражениях адмирала Нельсона, явно не давая разговору соскользнуть на обсуждение только что происходившего триумфа.
Успех был нужен ему, как я понял впоследствии, только для того, чтобы убедиться, что их книги читают. Ни любопытные и почтительные взгляды сотрудников редакций и издательств, ни бесчисленные приглашения на всякого рода встречи с читателями, торжественные заседания и банкеты, ни почет, каким они с Петровым были окружены в театрах, киностудиях и организациях Союза писателей, не вызывали в нем решительно никаких радостных эмоций. Раскланиваться на премьерах было не его амплуа.
Интересная книга, общество добрых друзей и хорошее путешествие - вот что ему требовалось от жизни. Хотя, пожалуй, не все. Требовалась еще одна малость - нужно было, чтобы теми же благами располагали кроме него все его сограждане и современники. По его собственному утверждению, быть счастливым в пределах собственного организма, в пределах своей семьи, он не мог. Было необходимо, чтобы этот крохотный микрокосм благополучия плавал в благополучной среде. В ледяном океане человеческих бед и горестей было невозможно, более того, было безнравственно наслаждаться теплом своего очага.
* * *
Он терпеть не мог людей, внешним своим видом старающихся продемонстрировать свою необыкновенность и свою «причастность к искусству». Сам он выглядел, разговаривал и держался до чрезвычайности просто, так что случайному его собеседнику и в голову бы никогда не пришло, что перед ним писатель, да еще и знаменитый. Подчеркнуто обыкновенный костюм, обыкновенная манера говорить, умение внимательно слушать, очень прозрачные и блестящие стекла очков без оправы, чисто выбритое лицо с тяжелым, твердым подбородком и прищуренные, немного насмешливые глаза - все было в нем таким, каким могло быть у любого инженера, врача или учителя; пожалуй, он к этому даже стремился. Боязнь банальности - почти профессиональное свойство многих писателей - была ему совершенно неведома.
Была у него даже такая идея, что существуют в человеческом обиходе банальности, которые следует считать священными, и всякий раз, когда с человеком случается что-нибудь такое, что приводит ему на ум миллионы раз произносившиеся слова, следует эти слова произносить. Однажды, спустя несколько дней после того как у него родилась дочь, он сказал мне, соблюдая все традиционные интонации, принятые у счастливых отцов и искоса на меня поглядывая: «Рождение ребенка - это ведь все-таки чудо, правда?» Нужно признаться, я не удержался от протестующего, кажется даже иронического, замечания. И тогда он страшно на меня накричал. Не помню, какие именно доводы он приводил в защиту чувств и фраз, освященных тысячелетней традицией, но готов свидетельствовать, что ни один из известных мне апологетов оригинальности никогда не размышлял так самостоятельно и не защищал свои взгляды так красноречиво и веско, как этот человек, осмелившийся поднять голос в защиту банальности.
В нем не было и тени той мечтательной артистичности, какая бывает свойственна многим служителям муз. Слишком обдуманными были его слова, слишком скупо и точно он двигался, слишком спокойной и корректной была его манера держаться, чтобы можно было заподозрить его в художнической одержимости, которую по старой и ложной традиции мы привыкли считать естественной в поведении и внешнем облике людей, занимающихся искусством.
И вместе с тем Ильф был настоящим художником.
Способность удивляться и любопытствовать была в нем неистощима. Он все вокруг замечал, ко всему приглядывался, всем интересовался. И если представить себе, что когда-нибудь, на какой-нибудь час в его поле зрения осталась бы всего лишь какая-нибудь спичечная коробка, он бы и тогда не соскучился и стал бы, покашливая, ее разглядывать и нашел бы в ней бездну интересных подробностей, а главное - непременно придумал бы способ ее усовершенствовать.
Его интерес к окружающему миру не был интересом собирателя редкостей. Как всякий настоящий человек, в истинно революционном понимании этого слова, он был инстинктивным преобразователем нашего мира.
У Белинского в «Литературных мечтаниях» есть великолепная мысль о назначении и средствах комедии. - «Предмет комедии, - пишет он, - не есть исправление нравов или осмеяние каких-нибудь пороков общества; нет: комедия должна живописать несообразность жизни с целию, должна быть плодом горького негодования, возбуждаемого унижением человеческого достоинства...» И дальше, говоря о комедии Грибоедова, он замечает: «...Ее персонажи давно были вам известны в натуре, вы видели, знали их еще до прочтения «Горе от ума», и однако ж вы удивляетесь им, как явлениям совершенно новым для вас: вот высочайшая истина поэтического вымысла!»
Смысл этих утверждений, как мне кажется, в том, что сатирикам надлежит, видя смысл и цель человеческого существования, подвергать осмеянию то, что с ними несовместимо, то, что унижает людей, то, что в их собственных поступках умаляет человеческое достоинство.
Вспомните книги Ильфа и Петрова, и вы увидите, что они удовлетворяют требованиям Белинского.
И в полной мере соответствовало этим требованиям отношение Ильфа не только к его писательскому долгу, но и к роли, какая была ему суждена в мире, его окружавшем.
Чувство гражданственности было свойственно этому человеку в необычайных размерах. Все касалось его. Форма садовых скамеек в парке культуры и отдыха, посевы колосовых, способы производства автомобилей, преподавание истории в школе, структура Союза писателей и многое-многое другое заставляло его серьезно и надолго задумываться. Прочтя однажды в очерке одного литератора, посвященном описанию недавно открытой станции метро, что своды этой станции «опираются на изящный карниз», он долго не мог успокоиться. И, слушая его сетования по этому поводу, нельзя было не почувствовать, что он и себя считает в какой-то мере ответственным за архитектурную безграмотность одного из своих собратьев.
Суждения обо всем, что попадалось ему на глаза, были неизменно «хозяйскими». Другого слова не подберешь. Только чувствуя себя настоящим хозяином всего, чтo тебя окружает, можно так деловито, заинтересованно и обдуманно судить обо всем.
Я помню шутливый лозунг, который он любил повторять, глядя на многочисленные городские неустройства Москвы начала тридцатых годов: «Не надо бороться за чистоту, надо подметать»! Последнее слово он отчеканивал с интонацией яростной убежденности, которая вообще была ему свойственна в тех случаях, когда он относился к своим шуткам серьезно.
Бродить с Ильфом по городу было удовольствием, ни с чем не сравнимым. Замечания его об архитектуре, об одежде прохожих и предполагаемых их биографиях, о тексте вывесок, афиш и объявлений, да и обо всем другом, что можно увидеть на городских улицах, так великолепно сочетали в себе иронию с деловитостью, что время и расстояние в таких прогулках начисто переставали существовать.
В житейско-обывательском смысле он был, пожалуй, злой человек. Только вежливостью умерялась порой его резкость в отношениях с глупыми, чванными и бездарными человечками, которых так много вьется вокруг литературы, театра, кино. Но конечно же это была святая жестокость, вызванная несовместимостью существования этих, с позволения сказать, деятелей, с жизнью и работой, какую ведут в нашей стране настоящие люди. И когда на горизонте появлялся такой экземпляр «в горностаевых брюках с хвостиками», взгляд у Ильфа становился жестоким не потому, что человечек был просто глуп и смешон, а потому, что эти свойства делали его опасным и вредным и он, чего доброго, мог помешать работать и жить другим людям. А этого Ильф не склонен был никому прощать.
Он был необыкновенно требовательным читателем. И странно, его - профессионального литератора - интересовало в первую очередь не то, как эти книги сделаны, а жизненный опыт, содержащийся в них. И если этот опыт оказывался незначительным или автор, упаси бог, позволял себе немного приврать, лучше ему было не встречаться с Ильфом.
Он ненавидел литераторов, склонных злоупотреблять доверием читателя, чем, в сущности, и оборачивается всякая попытка написать о предмете, недостаточно хорошо знакомом. И был беспощаден, защищая свои и чужие читательские права. В своей записной книжке он записывает;
«У нас уважают писателя, у которого «не получается». Вокруг него все ходят с уважением. Это надоело. Выпьем за тех, у кого получается».
Это жестоко? Как на чей взгляд. По-моему - справедливо.
* * *
Из того, что рассказано здесь об Ильфе, чего доброго, может возникнуть представление о нем как о человеке суховатом и, прежде всего, ироническом. Если это случится, виноват в этом будет не Ильф. Потому что ирония и резкость умудренного опытом, мужественного человека сочетались в нем с добротой, чуткостью и мечтательностью поистине юношескими. И в его сдержанных отношениях с товарищами по работе, в его требовательности к ним было гораздо больше внимания и заботы о людях, чем в показном и неискреннем благодушии, свойственном - что греха таить - некоторым из нас. Ведь нет ничего проще, чем, встретившись с автором книги, которая тебе не понравилась, промямлить что-нибудь уклончивое и увернуться от прямого разговора, храня свое спокойствие, не восстанавливая против себя собрата по перу, не нарушая равнодушно-дружественных с ним отношений.
Ильф никогда не поступал так. Но о том, как трудны ему были откровенные, прямые разговоры с авторами книг, которые ему не нравились, можно было бы многое рассказать.
Я помню, как он несколько раз перечитывал сочинение одного из своих знакомых, человека кротчайшего в быту, но вполне равнодушного к правам и интересам читателей, изо всех сил стараясь найти в нем хоть что-нибудь путное, как он был обескуражен, ничего не найдя, как озабоченно готовился к неприятному, но неизбежному, с его точки зрения, разговору и как смело и честно он этот разговор повел.
Нет, сухому и ироническому человеку неведомы такие переживания. Чувство своей правоты делает его беспощадным. В самом лучшем случае он равнодушен к чужим заблуждениям, слабостям и обидам. Ильф не был таким. Сухой человек никогда бы не написал, уже будучи знаменитым писателем: «Я тоже хочу сидеть на мокрых скамейках и вырезать перочинным ножом сердца, пробитое аэропланными стрелами. На скамейках, где грустные девушки дожидаются счастья». Сухой человек просто бы не заметил ни скамеек, ни девушек. Ильф сумел позавидовать им.
Читатели его записных книжек знают, каким был Ильф внимательным путешественником, как безошибочно он чувствовал вес, смысл и окраску слов и их сочетаний, как строго относился к себе и своей работе, какой неистощимо изобретательной была его фантазия, как тонко и верно он умел находить главное в вещах, о которых писал, как великолепно подмечал и писал смешное.
И еще в этих книжках видно, каким скромным он был человеком. Причем это была настоящая скромность, без примесей, полновесная, как чистое золото.
Мне случалось видеть множество самых разнообразных скромников. Были среди них такие, которым эта манера себя вести казалась импозантной, и именно поэтому они и были скромны; были державшиеся в тени по той простой причине, что им нечем было похвастать; были наступавшие на горло собственному самодовольству, но ведущие себя при этом как принцы в изгнании; были люди кокетливо скромные.
Ильф был не таким. Он был из тех не часто встречающихся людей, о которых следовало бы сказать, что они не придают значения факту собственного существования. Его радости и невзгоды, его успехи и неудачи, его любовь к своему ребенку, его самочувствие - все это он никогда не считал достойной темой для разговора. Говорил он всегда о том, что наверняка могло быть интересно его собеседнику. И чаще всего расспрашивал, делая это с такой заинтересованностью, что было ясно - дай ему волю, и он целые дни напролет будет пытаться узнать у знакомых и даже у незнакомых, как они живут, как относятся друг к другу, о чем мечтают, с кем и почему дружат, с кем и почему враждуют.
И что особенно характерно - этот интерес у Ильфа не выглядел профессиональным, писательским интересом. Ни у одного из его собеседников никогда не возникало ощущения, что, выслушав его исповедь, Ильф незамедлительно сядет за письменный стол и вставит ее в свой роман. Видимо, самый тон разговора был у Ильфа не литераторский, а дружеский, видимо, его интерес к человеческим судьбам был вполне бескорыстным. И люди не могли не чувствовать этого.
* * *
Он был вполне взрослым человеком в ту пору, когда мы встретились и познакомились, но, как у всех очень хороших людей, в нем сохранилось что-то мальчишеское, какая-то совершенно детская склонность к играм, способность играть увлеченно, всерьез.
Поводом для таких игр, в которые он неизменно вовлекал окружающих, могло быть что угодно - недавно прочитанное стихотворение, название книги, мероприятие Союза писателей, газетный заголовок... Когда вышел в свет роман с загадочным названием «Бруски»,
Ильф стал придумывать названия в этом же роде. Запроектированы были романы: «Ухо», «Форточка», «Дышло» и множество других, столь же причудливых.
- Роман «Ухо»! - восклицал Ильф. - Не правда ли, здорово? Коротко, броско, загадочно!
Однажды ему попалось на глаза лирическое стихотворение, где влюбленный повествовал о том, что «месяц ходил звеня». И хоть речь шла о луне, а никак не о календарном месяце и звон имелся в виду чисто метафорический, Ильф с комическим ужасом принялся повторять эту строчку, упорно не желая трактовать ее так, как это было угодно автору.
- Вы подумайте! - уверял он. - Целый месяц человек ходил, не переставая звенеть! А еще говорят, что в наше время разучились любить.
Еще была такая игра. Называлась фамилия какого-либо деятеля литературы или кино и после короткого раздумья - цифра. Недоумевающему собеседнику, не осведомленному о смысле и правилах игры, сообщалось, что речь идет о том, сколько было «переплачено» названному только что деятелю за его творения. Увы, цифры были неизменно высокими. Счет шел на тысячи. Особенно, помнится мне, доставалось в этой игре кинорежиссерам.
Материалом для множества шуток послужило Ильфу открытие в Москве диетического магазина. Заметка в записной книжке о колбасе для идиотов и прочем - только часть целого ряда забавных выдумок о возможных для этого магазина товарах специального назначения.
Очень смешно рассказывал Ильф об одном из первых московских кинофестивалей, на котором он побывал, и обо всем, что ему удалось там увидеть и услышать.
Случилось так, что его место на всех просмотрах оказалось по соседству с местом одного из наиболее свирепых рапповских критиков Ермилова, воззрения которого всем нам были хорошо известны и чрезвычайно далеки от ильфовских.
- Вы только подумайте! - удивлялся Ильф. - Он все время смеялся там же, где я, сочувствовал тем же героям, что и я; однажды мы даже с ним разговорились и оказалось, что ему нравятся те же фильмы, что и мне, и по тем же самым причинам... А сегодня я прочел его статью о фестивале и не знаю, что и подумать. У него там написано все наоборот! Неужели он все это время врал? Врал - смеясь, врал - плача, врал - восторгаясь, врал - негодуя? Вы что-нибудь понимаете?
Я понимал, но Ильфу мои объяснения не требовались. Он и сам отлично разбирался в природе явления, с которым столкнулся. Но вот отнесся он к своему недавнему «единомылшеннику» несколько неожиданно.
- Мне его очень жаль, - промолвил он, вдруг опечалившись. - Вы думаете, это легко - быть совладельцем литературной фирмы, торгующей явно недоброкачественными изделиями, и поступаться своими читательскими и зрительскими вкусами и пристрастиями? Вы себе представляете, как этому человеку хочется написать о том, что он действительно думает, и насколько хлеще он бы написал свои сочинения, если бы ему это разрешали его компаньоны по группе? Вот то-то. А вы смеетесь!
И, посмотрев на мое вполне серьезное в эту минуту лицо, Ильф рассмеялся.
Вспомнив об этом разговоре, я подумал о том, каким широким человеком был Ильф. Рядом с заморышами из тогдашних литературных сект, все мировоззрение которых укладывалось в какие-нибудь две мысли и четыре соображения, рядом с ревнителями групповщины, позволявшими себе восхищаться только общепринятым в группе набором «правильных» сочинений, круг его литературных симпатий и интересов был просто безбрежен. Достаточно было в книге, фильме или спектакле появиться хотя бы отблеску мысли или таланта, свидетельствующему о том, что автор размышляет, трудится, ищет, как у Ильфа возникали к этому автору интерес и симпатия.
- Будьте лояльны, - любил он повторять. - Будьте благожелательны. Ждите от людей добра, верьте в человеческие возможности. Упаси вас бог от предубеждений. Научитесь радоваться тому, что писатель, от которого вы ничего не ждали, «обманул ваши надежды» и написал хорошую книгу!
И всем своим поведением - литературным и житейским - в общении с коллегами и с людьми, не имевшими отношения к литературе, Ильф подтверждал искренность этих своих призывов.
Однажды он сказал об авторе довольно посредственной книги:
- Подумайте, мы с Женей уже были всамделишными писателями, когда он только начинал бороться со словом «который». А теперь, вот видите, написал не очень плохую книжку. Вы себе представляете, как ему было трудно?
И в голосе Ильфа мне послышалась не насмешка, а уважение к трудолюбивому литератору, победившему почти непреодолимые для него преграды.
Однако, при всей своей благожелательности и готовности видеть в людях добро, а может быть, именно благодаря этому его обыкновению начинать свои отношения с людьми с доверия, Ильф был очень опасным противником для любителей выехать на кривой. Он в совершенстве умел распознавать их в самой густой толпе, и никакие громкие фразы о борьбе за правду или о горестной судьбе, толкнувшей такого субъекта на путь лжи и стяжательства, не могли помочь ему скрыть истинные свои цели и побуждения от ильфовского иронического и ледяного взгляда.
Таким, вероятно, был Чехов - корректным и резким, до грубости, мягким и беспощадным, доброжелательным и безошибочно распознающим злобу и ложь.
* * *
В начале апреля 1937 года в зале Политехнического музея происходило общемосковское писательское собрание. На нем Евгений Петров прочел их общую с Ильфом речь, имевшую шумный успех и напечатанную через несколько дней в «Литературной газете» и «Известиях». В этой речи есть такие слова:
«Наша литература тяжело страдает от большого количества дутых, фальшивых писательских репутаций... Они возникают от неумения многих критиков и редакторов отличить настоящее произведение искусства от галиматьи, от дребедени... Вспомним, сколько неправильных, отброшенных жизнью оценок было сделано в литературе, сколько выпущено книг, беспрерывно переиздающихся и почти никем не читаемых».
Дальше в этой речи говорилось о том, что дилетантизм и невежество издательских редакторов и критиков, поднимающих сразу же после выхода такой книги «восторженный, однообразный и скучный крик», приводят к тому, что книга сразу же зачисляется в «железный инвентарь» или в «золотой фонд» и ложится на библиотечную полку всеми забытая и никому не нужная.
Когда Петров кончил читать, ему долго хлопали, а Ильф - мы сидели с ним высоко наверху, в одном из последних рядов амфитеатра - взволнованно улыбался и пытался говорить о другом.
Но собрание вскоре закончилось, и вокруг Ильи Арнольдовича сразу же собрался кружок почитателей и друзей, все принялись толковать о только что произнесенной речи, все хвалили ее, повторяли смешные места, смеялись. Настроение у всех было приподнятое, и, когда вышли на улицу и остановились, дожидаясь Петрова, кто-то предложил зайти в кафе «Националь». Время было раннее, вечер только начинался, но на дворе стояла описанная когда-то Ильфом «ледяная, красноносая весна», и всем понравилось это предложение.
В кафе было тепло, очень светло и пусто, и мы расселись за двумя сдвинутыми вместе столами у широкого, обращенного к Кремлевской стене, окна. И тут, вмешавшись в веселый спор о том, что бы выпить, Ильф предложил заказать шампанского.
- Шампанское среди бела дня? - удивился кто-то, но он настаивал.
Вино принесли, разлили по бокалам, стали чокаться, все весело тараторили, перебивая друг друга... И вдруг, дождавшись минуты тишины, Илья Арнольдович поднял свой бокал и, разглядывая его на свет, негромко, но внятно произнес:
- Шампанское марки «Ich sterbe».
Все знали, что он тяжело болен той самой болезнью, от которой умер Чехов, все помнили, что «Ich sterbe» были последние слова, произнесенные Чеховым перед смертью, и шутка Ильфа никому не показалась смешной. Да и сам он, поняв, как печально она прозвучала, улыбнулся невесело.
* * *
Через десять дней, 13 апреля 1937 года, он умер.
1938-1975
ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ
Некоторые думают, что писать вдвоем легче, чем одному. Бог им судья, этим приверженцам элементарной арифметики. Другие, отдавая дань таинственности и сложности творческого процесса и неизменно вспоминая при этом о двух пешеходах, которым, чтобы пройти километр вдвоем, нужно пройти его каждому порознь, готовы признать, что писать вдвоем так же трудно, как в одиночку. И только те, кто сами писали вдвоем, знают, что это ровно вдвое труднее.
Мне пришлось в этом убедиться на практике, когда мы с Петровым принялись за писание «Музыкальной истории».
Дело было зимой 1939 года. В комнате, где мы работали, было холодновато, музыкальных сценариев мы до этого не писали, а срок сдачи нашего первенца был угрожающе близок. Все это не способствовало лучезарности нашего настроения.
Несколько помогало делу то, что мы сразу же нашли мальчиков для битья, чтобы вымещать на них все наши напасти. На эту почтенную роль единогласно были выбраны те, кому предстояло решать судьбу нашего будущего творения. Причем, так как этих людей мы тогда еще совсем не знали, нам открывалась полная свобода наделять их любой степенью глупости и злонравия. Страшно подумать, каких чудовищ создало в первую же неделю работы наше раздраженное воображение.
Их было почему-то семеро, все они не отличались умом, были, разумеется, физическими уродами, и их отношение к искусству было по меньшей мере сторонним. В музыкальных сценариях они не смыслили решительно ничего.
- Можете себе представить, как отнесется к этому тот, косой? - сардонически вопрошали мы друг друга, когда нам, по нашему мнению, удавалось придумать что-нибудь смешное.
Косой был начисто лишен чувства юмора, что не мешало ему считать себя непогрешимым экспертом по вопросам смешного.
Одним словом, работа не клеилась.
Потом дело пошло лучше, чудовища из воображаемого сценарного отдела стали упоминаться реже, и установилось рабочее настроение с нормальным чередованием успехов и неудач.
Но не следует думать, что нравы при этом достаточно сильно смягчились. Непримиримость по-прежнему царила в холодной комнате. Ни одна фраза не ложилась на бумагу в том виде, в каком кто-нибудь из нас ее предлагал.
* * *
Надо сказать, что Петров был громогласным, горячим, порывистым, восторженным человеком. В обычной беседе проекты реорганизации всех на свете человеческих установлений - от студенческих общежитий и до Лиги наций - так и сыпались из него.
В работе же им овладевал какой-то демон осмотрительности. Насупившись и в тысячный раз протирая рукавом пиджака и без того блистающий чистотой полированный кожух пишущей машинки, он без конца перебирал все возможные варианты каждого сюжетного положения, каждой ремарки, каждой реплики действующего лица.
Как бы ни был удачен первый проект решения любого вопроса, он принимался только после того, как бывали придуманы десять других и с очевидностью установлено, что они хуже первого.
Вначале эта осмотрительность пугала меня. Кому не известна прелестная легкость, которая по временам овладевает пишущим человеком, когда фразы послушно следуют одна за другой, а мгновенные колебания сменяются спокойной уверенностью, что все идет хорошо. Что до меня, то я в ту пору привык дорожить такими минутами, и даже, несмотря на то что частенько на другой день мне случалось вымарывать целые страницы, написанные с «прелестной легкостью», я любил отдаваться этому настроению ради отдельных мелких удач, которые обычно ему сопутствуют.
Петров был решительным противником такой работы. К счастью, мне не потребовалось много времени, чтобы убедиться в его правоте.
- Работать должно быть трудно! - повторял он всякий раз, когда мы обсуждали этот вопрос, и, как я скоро установил, опыт неизменно подтверждал эту мысль. Чем труднее нам давался тот или иной кусок, тем лучше он получался.
Дни шли за днями, герой «Музыкальной истории» Петя Говорков быстрыми шагами приближался к успеху и счастью, а наши споры не прекращались. Правда, теперь уже эти споры велись не о том, как писать, и меня уже не покидала уверенность, что они приносят несомненную пользу нашей работе. Но некоторое беспокойство вызывал у меня ожесточенный характер, какой они по временам принимали.
Петров, видимо, заметил это, и однажды, когда на какое-то его предложение я миролюбиво кивнул головой, он, вместо того чтобы отстучать на машинке очередную фразу, подозрительно скосил на меня глаза. Потом, помолчав, спросил:
- Почему вы не спорите? Я ведь вижу, что вам не нравится.
Я попытался уверить его, что он ошибается, мысленно представляя себя плывущим по воздуху в белых одеждах с пальмовой ветвью в руке.
Тогда он по-настоящему рассердился и произнес горячую, великолепную речь о соавторстве. Из этой речи следовало, между прочим, что нигде лучше, чем в совместной писательской работе, не применимо древнее изречение о спорах, рождающих истину.
- Знаете, как мы спорили с Ильфом? - гремел он. - До хрипоты, и не до фигуральной хрипоты, а до настоящей, которая называется в медицине катаральным воспалением голосовых связок! Мирно беседовать мы с вами будем после работы. А сейчас давайте спорить! Что, трудно? Работать должно быть трудно!
И мы снова принялись спорить.
К концу того дня, когда мы наконец кончили писать «Музыкальную историю», программа была осуществлена полностью. Катаральное состояние голосовых связок было налицо. И мирную беседу, которая завершила последний этап работы, мы вели голосами, напоминающими звук скверных пастушьих свирелей.
Сейчас, вспоминая те дни, я отчетливо вижу фигуру Петрова, слегка наклоненную вперед, с приподнятым правым плечом и руками, заложенными за спину. Он ходил взад и вперед по комнате, и проекты, один другого увлекательнее, громоздились на его пути - проекты, долженствовавшие сделать счастливыми нас самих, наших сограждан и всех остальных жителей земного шара.
Эти проекты ничем не напоминали воздушные замки записных фантазеров и отличались чрезвычайной практической продуманностью. Во всяком случае, излагались они с таким блеском, что у слушателя неизменно возникала потребность засучив рукава немедленно взяться за их осуществление.
Евгений Петров очень любил делать прогнозы. И совершенно по-детски радовался, когда они сбывались.
Усмехаясь, он сам себя называл «пикейным жилетом» и по временам действительно напоминал своими пророчествами тех старичков, которых они с Ильфом некогда изобразили в «Золотом теленке». Лучшим способом подшутить над ним в этих случаях было сделать вид, что не помнишь о его прогнозе, который сбылся. Страшно волнуясь, он начинал вспоминать мельчайшие обстоятельства, при коих был сделан прогноз, а заметив улыбку на лице собеседника, но еще боясь поверить, что все это только шутка, начинал упрашивать его отнестись к разговору серьезней и так при этом томился и горевал, что только закоренелый злодей способен был бы довести до конца злую шутку.
Есть люди, которые, поселившись в комнате, кем-то до них обжитой, так и живут в ней, оставив все на своих местах. Такой человек в лучшем случае переставит письменный стол поближе к свету или сдвинет с места кресло, чтобы сделать шире проход. В других областях своей жизни и деятельности эти люди ведут себя так же. Легко входя в новую область, они живут в ней, подчиняясь до них созданному порядку вещей, не стремясь ничего изменить, дорожа своим и чужим спокойствием.
Петров был не таким человеком. Представляя себе его переезд в новую, пусть даже гостиничную, комнату, я отчетливо вижу, как он, поставив на пол чемодан и критически оглядев обстановку, начинает кряхтя, передвигать тяжелый платяной шкаф, требует, чтобы вынесли вовсе какую-нибудь не понравившуюся ему кушетку, и убеждает заглянувшего на шум соседа произвести в своей комнате точно такие же изменения.
Он был полон стремления все вокруг себя перестроить, всех вокруг убедить в необходимости такой же перестройки, во все вмешаться, все переделать своими руками.
Когда мне пришлось вместе с ним соприкоснуться с жизнью кинофабрики, я убедился в этом воочию.
Кстати, решали судьбу «Музыкальной истории» люди совершенно разумные, а период так называемого «прохождения сценария в производство» не был отмечен ни одним из тех колоритных и злых разговоров, какие мы рисовали себе в начале работы.
Колоритные разговоры начались потом.
Режиссер, которому была поручена постановка, по привычке, установившейся издавна, под видом режиссерской трактовки переписал сценарий по-своему. Как он объяснил нам, сделано это было не потому, что сценарий ему не нравился, а потому, что «так» он ему нравился больше.
Тут-то и началась перестановка мебели в кинокомнате. Ознаменовалась она тем, что озадаченный режиссер выслушал речь об авторском праве, в которой Петров камня на камне не оставил от трактовки этого самого права на кинофабриках в те времена. За речью последовала кипучая деятельность, приведшая к тому, что этот вопрос подвергся обсуждению на большом собрании киноработников. И наконец, после того как была одержана полная победа, сценарий был кое в чем переделан так, как этого хотел режиссер, но переделан нами самими и только в тех местах, где мы признавали справедливость требований, которые нам были предъявлены.
Режиссер недоумевал.
- Зачем было поднимать такой шум? - говорил он нам, пожимая плечами. - Отлично бы поладили без собраний, без резолюций...
Разумеется, поладили бы. Но Петрову не этого было нужно.
И если теперь автору киносценария посчастливится встретить на фабрике внимательное и уважительное отношение к своей работе и вместо насильственных, чужой рукой внесенных изменений он сможет сделать в своем сценарии то, что сам найдет нужным, пусть знает, что этим он обязан и Петрову, который любил во все вмешиваться и мало заботился о сохранении своего спокойствия.
* * *
Незадолго перед войной мы с Евгением Петровичем начали писать сценарий, который должен был называться «Беспокойный человек». Героиня этого сочинения - молодая девушка, окончившая философский факультет, - одержима идеей немедленной перестройки мира на разумных основаниях и поэтому бросает научную работу, чтобы ввязаться в практическую деятельность. В сценарии описаны многие ее трагикомические похождения, которые, по нашему замыслу, должны были завершиться полной победой, впрочем, не приносящей героине никакого успокоения.
Из трех наших сценариев ни один не вызывал у Петрова такой горячности и энтузиазма, как этот. Похождения Наташи Касаткиной - так звали героиню «Беспокойного человека» - мы обсуждали, словно она была реально существующим и обоим нам близким и милым человеком.
Ее споры с отцом, который не одобрял ее поведения и настаивал на том, чтобы она вернулась к занятиям философией, давались нам особенно трудно, потому что мы были целиком на стороне Наташи и никак не могли придумать убедительных реплик для ее милого, но заблуждающегося отца.
Судя по всему, для Петрова эти размышления были в значительной мере автобиографичными. Стремление к практической деятельности было у него всегда неистощимо сильным и по временам вступало в настоящую борьбу с любовью к писательству. Однажды он признался мне, что ему до смерти хочется хотя бы год поработать директором большого универсального магазина. Со своей стороны могу заверить читателя, что, если бы мечта
Евгения Петровича когда-нибудь осуществилась, это был бы лучший универсальный магазин в Советском Союзе.
* * *
Давным-давно кто-то из наших кинодеятелей, побывав в Америке, написал подобие отчета о своей поездке. В сочинении этом, помимо действительных диковинок, какие ему удалось увидеть в Голливуде, он восторженно описывал в качестве достижения американской кинематографии обыкновение прежде чем приступить к съемкам раздавать сценарий будущего фильма для ознакомления всем участникам будущей работы. Кинодеятель настоятельно рекомендовал это нехитрое «достижение» американских кинематографистов нашим работникам кино, видимо полагая, что без его помощи они сами до этого не додумаются.
Судьбе было угодно, чтобы этот отчет попал в руки Петрова.
Я не буду приводить эпитетов, которыми он характеризовал автора, прочтя до этого места его творение. Читателю придется представить себе эти эпитеты самому. Но следует принять во внимание, что Петров сам побывал в Голливуде и очень горячо относился к идее использования американского опыта нашей кинематографией.
Причем надо сказать, что, в отличие от автора упомянутого отчета, он сумел увидеть у американцев не ерунду, о которой не стоило говорить, а то действительно важное, чему надлежало у них поучиться.
Они описали с Ильфом в «Одноэтажной Америке» способы, какими американцы «выстреливают» свои картины. Но, как всегда, описать ему было недостаточно. Его активная натура требовала действий практических и решительных.
Осуществить кое-что в этой области ему удалось, когда мы работали над сценарием об Антоне Ивановиче
Все это предприятие вообще было несколько амерканизированным. Предложение написать после «Музыкальной истории» еще один музыкальный сценарий было сделано нам внезапно. Никаких предположений о его сюжете и характере у нас не было. Сроки, предложенные киностудией, были до чрезвычайности сжаты. И все же Петров настоял на том, чтобы взяться за эту работу.
Несколько дней мы провели, блуждая по тропинкам подмосковного леса, где Петров жил на даче. Я полагаю что люди, встречавшие нас в лесу в эти дни, имели все основания принимать нас за опасных маньяков, удравших из сумасшедшего дома. Мы кричали, размахивали руками и по временам даже в лицах представляли сцены, подвергавшиеся обсуждению.
К вечеру третьего дня перед нами стали вырисовываться контуры будущего сценария.
Антон Иванович уже был тогда органистом, Сима была певицей, но ее избранник - Мухин был не композитором, а совершенным профаном в музыке. По нашему замыслу, Сима должна была научить Мухина понимать и любить музыку и таким образом примирить его со своим отцом.
Когда придумывание сюжета дошло до этого пункта, Петров внезапно остановился, преградив мне дорогу. Мы шли друг за другом по узкой тропинке.
- Сколько, по-вашему, нужно времени на то, чтобы научить человека понимать и любить музыку, - спросил он, повернувшись ко мне лицом, - если до этого человек был в музыке как кусок дерева?
- Если как кусок дерева, - малодушно ответил я, ощущая в груди неприятный холодок, - тогда, по-моему, год!
- Самое меньшее три года! - отчеканил Петров, - И вы это знаете не хуже меня.
Я сделал еще одну попытку спасти наш замысел:
- Ну, а что, если у Мухина это произойдет как у испуганной орлицы? Помните «Пророк»: «Отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы».
Цитируя Пушкина, я чувствовал, что голосу моему не хватает твердости.
Петров ухмыльнулся:
- Удивительно, какой вы становитесь хитрый, когда речь заходит о том, чтобы начать работу сначала. Как вы сказали? Как у орлицы? Интересная мысль!
Я пристыженно замолчал, и мы стали придумывать дальше.
Не буду рассказывать о дальнейших этапах нашей работы. Важно другое. Сценарий был написан ровно за месяц и, перепечатанный на машинке, сдан точно в назначенный день.
И уж тут в разговорах с кинофабрикой Петров не поскупился на голливудские параллели. Напирая на то, что сценарий был написан так же быстро, как это делают в Голливуде, он просто требовал, чтобы картина была снята такими же темпами. Нет, он не только требовал, он убеждал, угрожал, что-то высчитывая на бумажке, предлагая свою помощь в качестве помощника режиссера - словом, переставлял мебель со всей доступной ему энергией.
Трудно сказать, в какой именно степени помогли делу его уговоры, но картина была снята довольно быстро. И его склонность принимать активное участие во всех областях работы, через которые ему случалось проходить, получила новое подкрепление.
Последний свой сценарий - «Воздушный извозчик» - он написал меньше чем в месяц.
Война разлучила нас с Петровым. И после долгого перерыва я увидел его в номере московской гостиницы, где он остановился, вернувшись из очередной поездки на фронт.
В комнате было сильно накурено, на письменном столе стояла пишущая машинка с вложенным в нее листом бумаги, рядом на стуле лежал трофейный немецкий автомат.
- Садитесь. Курите. Я сейчас кончу.
Он сел за стол и, громко кряхтя, что было у него признаком умственного напряжения, с длинными остановками после каждой фразы, дописал до конца корреспонденцию, предназначенную для американской газеты. Потом прочел мне ее.
Это был короткий рассказ о виденном на фронте в последние дни с отчетливо выраженным стремлением описать все как можно более точно. В рассказе были зимний лес, дымящиеся развалины оставленных немцами деревень и непоколебимая уверенность в победе.
Рассказ мне понравился. Говорить об этом мне было не нужно, Евгений Петрович и так меня понял, и мы помолчали. Потом он порылся в ящике стола и протянул мне продолговатый кусок картона с маленькой фотографической карточкой в правом углу. Это было удостоверение члена фашистской партии, закончившего свою жизнь и деятельность несколько дней назад где-то в районе Ржева. С фотографии на меня глядело худосочное, наглое, прыщеватое личико с белесыми глазками. Такое лицо могло бы быть у блохи, если бы она мечтала о мировом господстве.
- Гегемоны! Поработители! - проворчал Петров, бросая карточку в ящик стола. - Те из них, с которыми я говорил, не годятся даже на роли околоточных надзирателей. Ну да черт с ними! Что сегодня в опере?
Но в оперу мы не пошли, а отправились ко мне и всю ночь продежурили на чердаке, застигнутые воздушной тревогой. Вместе с нами дежурил мой сосед - дирижер симфонического оркестра Николай Павлович Аносов.
К середине ночи Петров очень с ним подружился и, размахивая руками, прочел ему целый доклад о том, как следует исполнять Четвертую симфонию Чайковского, а потом спел чуть ли не с начала до конца оперу Верди «Отелло».
Под утро, когда Евгений Петрович ушел к себе в гостиницу, Николай Павлович, проводив меня до моей двери, сказал:
- Знаете, он очень интересно говорил о Четвертой симфонии. А «Отелло» он знает гораздо лучше меня.
Это была моя последняя встреча с Петровым.
* * *
Не знаю, удалось ли мне хоть в какой-либо степени дать в этих заметках представление о том, какой человек был Петров. Помог ли я читателю увидеть Петрова таким, каким его помнят те, кто с ним встречался, - всегда взволнованным и вместе с тем, когда это бывало нужно, удивительно сдержанным и корректным, всегда готовым взяться за любое дело, куда угодно поехать, подружиться с человеком, если он стоил того, или повздорить, если для этого были причины.
Почувствует ли читатель, как великолепно этот человек был приспособлен для жизни, для работы, для борьбы, как жадно он жил, работал, боролся?
И как многому можно было научиться, работая вместе с ним и следуя за ним по тем неизменно трудным дорогам, которые он избирал.
1943
ДВЕ ВСТРЕЧИ
Из воспоминаний об А. С. Макаренко
В то лето в Ялте, где я впервые встретился с Антоном Семеновичем, стояла тропическая жара. Судьба свела нас в писательском доме отдыха, который, сколько я помню, не носил еще тогда гордого наименования «Дом творчества», что, впрочем, не мешало проживавшим в нем литераторам не столько отдыхать, сколько предаваться этому самому творчеству целые дни напролет.
По утрам, после завтрака, стараясь не глядеть в сторону ласково блестевшего моря и с трудом преодолевая сонную истому, обитатели дома расходились по своим комнатам и выходили из них только к обеду, когда можно было наконец всласть побеседовать с собратьями по перу, с гордой небрежностью сообщив, сколько страниц было сегодня написано, и не без огорчения установив, что и собратья написали не меньше. После краткого послеобеденного отдыха многие снова садились за стол и только под вечер позволяли себе сбегать к морю и поиграть в волейбол, которым в те годы увлекались у нас и стар и млад, причем эти самые «стар» часто предавались перебрасыванию мяча через сетку с такой самозабвенной запальчивостью, что невинное это занятие можно было с полным на то правом причислить к разряду азартных игр.
К середине месяца, когда все обитатели дома между собой уже перезнакомились и размеренный, отдохновенно-трудовой образ жизни всем порядком надоел, в доме отдыха появилось новое лицо.
Машина, в которой новый отдыхающий приехал из Симферополя, пришла перед самым ужином, и приезд новичка наблюдали все старожилы. Это был пожилой, коротко остриженный, похожий на композитора Рахманинова человек в железных очках, в полувоенном парусиновом костюме и высоких, тщательно начищенных сапогах.
Появление его не вызвало особого интереса, несмотря на то что в приезжем узнали автора ставшей уже знаменитой к этому времени книги, - авторы хороших книг были не так уж редки тогда в писательских домах отдыха. Но в ближайшие дни всеобщее любопытство было разбужено.
Как уже говорилось, Антон Семенович приехал под вечер, а ранним утром следующего дня все собравшиеся на веранде в ожидании завтрака могли наблюдать, как он появился на лужайке перед домом, сгибаясь под тяжестью огромной пишущей машинки канцелярского образца. Поставив ее на скамью, он куда-то исчез и вскоре вернулся, неся небольшой столик и стул. И уже через час к воробьиному стрекотанию портативных машинок, принятых на вооружение другими художниками слова, присоединился могучий грохот печатного агрегата, на котором работал Макаренко.
Удивительной показалась всем нам и эта машинка, и то, что работал Антон Семенович, несмотря на жару, все в том же тщательно отглаженном, застегнутом на все пуговицы парусиновом костюме и ослепительно начищенных сапогах, и то, что, в отличие от обычного писательского стремления найти для работы местечко потише и поукромнее, он писал, сидя на самом людном месте, совершенно не обращая внимания на сновавших вокруг обитателей и работников дома.
Прошло еще несколько дней, и наше представление о новом отдыхающем как о человеке особенном окончательно укрепилось.
Для Макаренко не существовало часов отдыха, морских и мирских соблазнов, жары, потребности пообщаться с себе подобными. Он не интересовался суждениями соседей по столу о международном положении, о литературе, даже о его собственной книге. Он ел, спал и работал. И молчал. Упорно, непоколебимо молчал, отделываясь односложными замечаниями в ответ на все попытки присяжных говорунов втянуть его в разговор.
С утра до поздней ночи он сидел за машинкой, делая перерывы лишь для того, чтобы передвинуть свой столик в тень. И только изредка, в сумерки, его подтянутую фигуру можно было видеть на тропинке, которая вела в гору, мимо теннисных кортов и волейбольных площадок.
Но однажды, в один из таких вечеров, отступив от обычного своего распорядка, Макаренко не отправился на прогулку, а свернул с тропинки и уселся на одной из скамеек, врытых в землю рядом с волейбольной площадкой, где шла обычная в это время игра.
Играли в тот вечер с обычным азартом и гамом. Особенно волновался и горевал по поводу каждого проигранного мяча поэт и драматург Андрей Глоба, известный всем своей голубиной кротостью, что не мешало ему на волейбольной площадке становиться свирепее тигра.
К тому времени, как Макаренко появился на площадке, атмосфера здесь накалилась до крайности. Дело было в том, что в одной команде с Андреем Павловичем оказались двое подростков (кто-то сказал нам потом, что это были сыновья директора дома отдыха), которые решительно не желали серьезно относиться к игре. Они дурачились, балагурили, били по мячу кое-как и пропускали мячи один за другим, даже и не думая принимать близко к сердцу интересы своей шестерки. Некоторое время все это сходило им с рук безнаказанно, но наконец разразилась буря.
Андрей Павлович остановил игру и голосом, дрожащим от горя и ярости, обращаясь к мальчуганам, воскликнул:
- Ребята, я вас прошу, играйте как следует! А если не хотите, убирайтесь с площадки! Вы нам все портите!
- А что она, ваша, что ли, площадка? - с невозмутимой наглостью процедил один из подростков.
- Немедленно убирайтесь отсюда! Слышите? - воскликнул Глоба, впадая в обычное свое волейбольное неистовство.
Мальчуганы на мгновение опешили, но тут на помощь им пришел широколицый, очкастый, заросший черными жесткими волосами литературный критик, которому не раз попадало от Андрея Павловича за суматошную и бессмысленную беготню во время игры.
Критик стал доказывать, что к игре не следует относиться серьезнее, чем она того заслуживает, что ребята поэтому ничего дурного не совершили и что, наконец, он не потерпит диктаторства на волейбольной площадке. Кроме того, он отпустил какое-то весьма язвительное замечание о «непедагогических выкриках», которые позволяют себе некоторые лица, без всякого на то права и основания склонные всех поучать.
Было совершенно очевидно, что замечание о «непедагогических выкриках» было рассчитано на одобрение Макаренко, который и ухом не повел во время всей этой перебранки.
Игра возобновилась, но очень скоро стало ясно, что теперь уж с мальчуганами сладу не будет. Они дурашливо гоготали, били по мячу ногами - словом, совсем закусили удила. Андрей Павлович чуть не плакал, все мы пришли в уныние, и только очкастый критик пытался делать вид, что все идет так, как надо.
Увы, именно ему вскоре пришлось убедиться в том, как жестоко он ошибался. Проиграв очередную подачу и делая вид, что перебрасывает мяч под сеткой на противоположную сторону, один из подростков явно рассчитанным движением изо всей силы стукнул бедного критика мячом по затылку, да так, что тот зашатался, поводя перед собой растопыренными руками.
На площадке воцарилась мертвая тишина. Все замерли. И тут Макаренко поднялся со скамьи.
Сколько я помню, он не сделал никакого жеста, даже, кажется, не повысил голоса. Он лишь шагнул вперед, пристально поглядев на провинившегося мальчугана и негромко сказал:
- Убирайтесь вон с площадки. Оба. Немедленно.
- А вы кто такой? - гнусавым, насморочным голосом заверещал тот из мальчишек, что был постарше. - Вот скажу отцу... Посмотрим, кто кого выгонит!
И тут мы увидели Макаренко таким, каким минуту назад даже и представить себе невозможно было этого корректного, сдержанного, молчаливого человека. Он выпрямился, стекла его очков сверкнули, и голосом, каким, вероятно, подают кавалерийскую команду в степи, оглушительно гаркнул:
- Вон!
Гаркнул он так, что подростков словно смыло с лица земли. Они исчезли, как дурной сон, будто их никогда и не было.
И тогда, неожиданно улыбнувшись, Антон Семенович повернулся к очкастому критику.
- Очень много вреда молодежи приносят такие защитники, - сказал он с мягким пренебрежением. - И знаете, я бы на вашем месте ни при каких обстоятельствах не пробовал браться за педагогическую работу. Она вам противопоказана, все равно как слепому - управление автомобилем. Вы меня понимаете?
- Ничего я не понимаю, - буркнул очкастый смущенно. - Что это за методы такие - горланить на детей, как на собак?
- С детьми следует быть справедливыми, - сказал
Макаренко, подняв перед собой очень длинный и очень строгий палец. - Это главное. А кричать на них пришлось именно потому, что вы несправедливо взяли их под защиту.
И, круто повернувшись на каблуках, он зашагал прочь от нас по тропинке, ведущей в гору.
* * *
Вторая моя встреча с Антоном Семеновичем произошла в том же году, несколькими месяцами позднее, в одной из московских редакций.
В большой приемной, уставленной тяжелыми коваными креслами и диванами, было пусто и против обыкновения тихо. За окнами валил пушистый, словно бы даже теплый, медленный снег.
Антон Семенович вошел, протирая стекла очков, и, кивнув мне, уселся рядом. Он выглядел возбужденным. Чувствовалось, что ему необходим слушатель. И действительно, отдышавшись, он поглядел на меня оценивающим взглядом, видимо прикидывая, годен ли я для предстоящего разговора, и, словно отвечая на мой вопрос, промолвил:
- Только что из суда. Пригласили в качестве, так сказать, специалиста по малолетним правонарушителям. И ведь какое счастье, что пригласили! Вы в юриспруденции что-нибудь смыслите?
Увы, я ничего не смыслил в юриспруденции, но это не помешало Антону Семеновичу начать свой рассказ.
- Вообразите себе такой состав преступления, или нe знаю, как это у них называется, - заговорил он, потрясая сжатой в кулак рукой. - Четверо мальчишек-восьмиклассников вечером - заметьте: не ночью, а вечером, когда на улице полно народу, - взломали продуктовый ларек и вытащили бутылку портвейна и круг колбасы. Вино выпили, колбасу съели и... что бы вы думали, учинили после всего этого? Сбили замок у сарая на соседнем дворе, выволокли салазки и принялись кататься с горы. За этим занятием их всех и застукали. Нравится? Да уж конечно, хорошего мало. Но вы мне вот что скажите. Как, по-вашему, все это происшествие называется на юридическом языке? Кража со взломом - вот как оно называется! Да еще двойная кража к тому же. И причитается за правонарушения этого рода, даже принимая во внимание возраст учинивших его, несколько лет тюрьмы.
Макаренко помолчал, видимо заново переживая обстоятельства дела, о котором рассказывал. Потом заговорил снова:
- Сижу, понимаете, слушаю и диву даюсь. Люди серьезнейшим образом доискиваются, имело место преступление или нет. Допрашивают, уличают, сопоставляют. А никто ничего и не отрицает. Мальчишки сознались, сторож свидетельствует, чего еще? И, можете себе представить, никому и в голову не придет спросить себя: правильно ли называть эту ребячью выходку преступлением? Или это не преступление вовсе, а шалость? Глупая, граничащая с преступлением, но шалость! Вы вспомните про салазки, да еще взятые на соседнем дворе. По-моему, чрезвычайно характерная деталь. А это ли не характерно? Ведь помимо круга колбасы и бутылки дрянного портвейна в ларьке было и еще кое-что?! Так ведь не взяли! Ничего больше не взяли! Значит, цели-то были очень уж недалеко идущие, как вы считаете? Вот про это самое я и произнес речь на суде. И уже после моего выступления выяснилось, что в зале сидят школьные учителя и товарищи взломщиков, и пришли они, чтобы засвидетельствовать, что взломщики эти никогда и ни в чем дурном доселе замечены не были и что все четверо - отличные ребята, хорошие товарищи. Пришли, чтобы засвидетельствовать, а сидят и молчат. Вас это не удивляет?
Меня это не удивляло, потому что мне была известна сила инерции, иной раз клонящей дело в одну, а иной раз в другую сторону, когда встать и сказать слово вразрез с тем, что говорится вокруг, труднее, чем броситься В огонь или в ледяную воду. Что-то похожее я и попытался высказать. Макаренко кивнул головой.
- Это вы правильно говорите? - промолвил он. - но откуда инерция эта самая взялась? Ведь знаете, чего не хватало судье, который вел дело? Здравого смысла - вот чего ему не хватало! Способности на мгновение отвлечься от всяких там процессуальных хитросплетений и взглянуть на вещи попросту, по-человечески, со стороны. А взгляни он так, сразу бы ему стало ясно, что перед ним мальчишки, которые до смерти напуганы тем, что натворили, и которые не только сами никогда в жизни не учинят ничего подобного, но и детям своим и внукам закажут близко подходить к продуктовым палаткам. Профессиональное отношение к делу - необходимейшая вещь, но иногда человек должен уметь... Одним словом, помните - у Пруткова сказано: «Специалист подобен флюсу». Вам понятно?
Мне было понятно. Убедившись в этом, Антон Семенович подмигнул мне, осмотрелся по сторонам, словно боясь, что кто-нибудь нас может услышать, и прошептал:
- Помните, тогда в Ялте... с мальчишками на волейбольной площадке?
Я с удивлением посмотрел на него, не сразу сообразив, в какой связи он вспомнил то происшествие.
- Так вот... Я тогда действительно поступил непедагогично, - сказал Макаренко и коротко рассмеялся. - Непедагогично, но правильно. Вы согласны со мной?
Я был согласен. Больше того, мне вдруг подумалось, что наш разговор становится еще интереснее и серьезнее, чем мне представлялось вначале.
- И вот что я вам еще скажу, - промолвил Макаренко, сжав губы. Он иногда сжимал их в ниточку, отчего суховатое его лицо становилось еще замкнутее и суше. - Вот что я вам скажу. Не приходило ли вам в голову, что высшая профессиональность состоит именно в том, чтобы уметь без вреда для дела стать иногда выше этого самого профессионального к нему отношения? И, будучи во всеоружии знания и понимания в своей специальности, суметь взглянуть на вещи прямо и просто, вооружившись одним только здравым смыслом? Вы не согласны?
Я был согласен и с этим. Но мне не терпелось узнать, чем кончилось судебное разбирательство, в котором Макаренко сегодня участвовал.
- Чем кончилось? А тем, чем должно было кончиться. Решили совершенно правильно, - отвечал он на мой вопрос. - Приговорили к году условно. Что? Да нет... можете быть спокойны. Легче себе представить в роли взломщиков нас с вами, чем этих ребят во всю остальную их жизнь. - И, помолчав, Антон Семенович сказал доверительно: - Если же говорить прямо, то мое сегодняшнее выступление в суде я считаю одним из самых важных дел моей жизни.
* * *
Рассказав обо всем этом, я вдруг подумал, что суждения Антона Семеновича, высказанные им в совершенно частном разговоре, могут быть восприняты некоторыми теоретиками как новые начертания на педагогических скрижалях. Дело в том, что имя Макаренко очень часто упоминается как имя пророка и законоучителя. И за всем этим иногда забывают, что Макаренко был живым, горячим, размышляющим человеком, и далеко не все его рассуждения следует возводить в степень законов.
И еще одно. «Педагогическая поэма», помимо узко воспитательного своего значения, попросту великолепная книга, и это, пожалуй, не менее важно в ней, чем все остальное.
Это очень прискорбно, когда имена некоторых авторов, названия их книг и назидательно препарированный их смысл успевают навязнуть в зубах еще прежде, чем эти книги успеешь прочесть. Памятуя об этом, критикам вашим следует соблюдать осторожность не только в спорах с прозаиками и поэтами, но и в пропаганде их замыслов, не только в строгостях, но и в ласках.
Решительно, в способах, какими следует прославлять писателей, есть какая-то тайна. И если не знать здесь меры, даже от большого художника может остаться одно только имя.
Было бы очень прискорбно, если бы это случилось с Макаренко. Он ведь не виноват в том, что некоторым его последователям дороги не столько его сочинения и мысли, сколько возможность стать первосвященниками в храме, воздвигнутом в память о нем.
1959
ПОИСКИ НЕ УВЕНЧАЛИСЬ УСПЕХОМ
Это чувство знакомо всем, кто после долгих странствий возвращается в родные места. Все кажется меньше, бледнее и будничнее, чем представлялось в воображении. Приземистее, чем прежде, выглядят дома, более узкими тротуары, не такими раскидистыми деревья. И хоть я никогда не бывал прежде в Париже на улице Кардинала Лемуана, а только читал о ней в удивительной книге Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой», я испытал это чувство в сильнейшей степени в тот сумрачный день ранней весны, когда мы с моей спутницей, пройдя несколько десятков шагов по узенькому тротуару этой самой улицы Лемуана, остановились перед домом № 74, у самой площади Контрэскарп, такой крохотной, что ее даже и площадью можно было назвать лишь с некоторой натяжкой.
Дом тоже был мал и невзрачен, узкий, четырехэтажный, обшарпанный, может быть и обычный в этом районе Парижа, но какой-то уж слишком неподобающий для памяти великого писателя, жившего здесь когда-то. Мы протиснулись в узкую парадную дверь с ржаво проскрежетавшей нам вслед пружиной и очутились в узеньком коридорчике, в котором, слева от лестницы, другая стеклянная дверь вела в квартиру консьержки. Но прежде чем продолжить рассказ о том, что за этим последовало, я позволю себе сказать несколько слов о моем отношении к экскурсиям такого рода вообще. Речь идет о посещении мест, которые хранят память о замечательных людях и будто бы с особенной яркостью вызывают в воображении их образ. Как мне ни прискорбно в этом сознаться, но я почти не испытываю при этом приличествующего случаю священного трепета. Мне представляется, что лучший способ «прикоснуться» к писателю - это лишний раз перечитать его книги. Что же до мест, где он жил и работал, то они, как мне кажется, заслуживают внимания лишь в том случае, если сами по себе чем-либо примечательны.
Поэтому, войдя в дом, где в двадцатых годах Хемингуэй прожил, по собственному его утверждению, самые трудные и самые светлые дни своей голодной беспечной юности, я не собирался разыскивать бывшую его квартиру, где теперь, вероятно, жили десятые по счету жильцы. Целью моей было побродить по узким уличкам Монпарнаса, судя по всему почти не изменившимся за последние сорок лет, побеседовать с теми из их обитателей, которые еще помнят писателя, а главное - попытаться ощутить ту атмосферу праздника, о которой писал Хемингуэй и которую, как он утверждал, ему удалось сохранить на всю жизнь.
Итак, постояв минуту у стеклянной двери консьержки в расчете на то, что она заинтересуется нами, и установив, что множество раз описанное любопытство представительниц этого сословия сильно преувеличено, мы сами постучались к ней и вошли в маленькую комнатку, где за покрытым клеенкой столом сидели сама хозяйка квартиры, ее муж и их сынишка лет шести, тихонький благонравный мальчик с очень городским цветом лица и большими грустными глазами.
Взрослые были заняты делом - наклеивали пестрые фирменные значки на белые целлулоидные каскетки, предназначавшиеся, как мне объяснили, для разносчиков рекламных плакатов. Работа, видимо, была срочная, потому что, отвечая на вопросы моей спутницы и мои, которые она им переводила, консьержка и ее муж ни на мгновение не прерывали своего дела.
Из ответов же их сразу выяснилось, что мы в своем любопытстве не одиноки. Оказывается, некоторое время назад в одной из парижских газет появилась заметка о доме на улице Лемуана, и теперь нашу собеседницу буквально осаждают любопытные почитатели Хемингуэя. К сожалению, ничего интересного ни им, ни нам она сообщить не может, так как работает в этом доме недавно и об американском писателе, жившем здесь когда-то, услышала только теперь, после появления заметки в газете. Кстати, фамилию этого неизвестного ей писателя консьержка произносила на французский манер - Эминуэй, - и это была, пожалуй, единственная любопытная подробность, какую мне удалось извлечь из знакомства с нею. И только когда мы совсем уже собрались уходить, она вспомнила, что в их доме есть один человек, живущий здесь еще с времен Хемингуэя. Услышав это, моя спутница торопливо перевела мне сообщение консьержки и сразу же закидала ее вопросами.
До сих пор, сопровождая меня в качестве проводника и переводчика, Елизавета Ивановна выполняла эти добровольно взятые на себя обязанности любезно и пунктуально, явно не веря в успех моего предприятия и без истинной в нем заинтересованности. Теперь же в ней, видимо, проснулась страсть, свойственная всем следопытам, и в голосе ее появились нотки, позволяющие думать, что равнодушию ее приходит конец.
К сожалению, наши надежды оказались напрасными. Человек, о котором шла речь, - по словам консьержки, нелюдимый и хмурый старик, - прочтя заметку в газете, страшно разгневался. К величайшей его досаде, он никак не мог сообщить ничего сколько-нибудь существенного об американце, жившем здесь сорок лет назад. Старику удалось припомнить лишь то, что американец этот был высок и широк в плечах да к тому же еще нестерпимо громыхал сапожищами, поднимаясь к себе на четвертый этаж. Этим и ограничивались его воспоминания. Да и кому тогда могло прийти в голову интересоваться этим молодчиком и его сочинениями! Мало ли в Париже искателей счастья, марающих у себя на чердаках холсты и бумагу! А теперь американец стал всемирно известным писателем и репортеры ходят сюда стадами, чтобы хоть что-нибудь о нем разузнать. Старик из третьего этажа был зол на весь свет за то, что так глупо опростоволосился, и гонит прочь всех, кто заговаривает с ним о его бывшем соседе.
Нет, консьержка не советовала нам связываться со стариком, уверяя, что мы непременно нарвемся на грубость, и мы с Елизаветой Ивановной решили не искушать судьбу. Попрощавшись с хозяевами, мы вышли из жарко натопленной комнатушки, причем, пропустив мою спутницу вперед, я счел своим долгом сделать «козу» мальчугану, все это время смирненько простоявшему у стола. Но он ответил на это всего лишь вежливой и бледной улыбкой, дав мне понять, что не одобряет моей фамильярности.
Очутившись на тротуаре, мы остановились. Визит в дом на улице Лемуана, по всем данным, следовало считать неудачным, но мы оба почему-то повеселели. И перед тем как отправиться на поиски книжной лавки Сильвии Бич, решили обойти площадь Контрэскарп и спуститься от нее, по «узкой торговой улице Муфтар», которая и теперь, как во времена Хемингуэя, оставалась такой же узкой и такой же торговой.
Площадь, как я уже говорил, была до смешного мала, немногим больше баскетбольной площадки, и смотреть на ней было совершенно нечего, если не считать нескольких молодых маляров в перепачканных комбинезонах, расположившихся позавтракать, сидя прямо на земле, или, вернее, на решетке метро, откуда поднималась волна теплого воздуха. Но, как известно, завтракающие маляры не любят, когда их разглядывают, и, чтобы не смущать их, мы сразу же двинулись дальше. Именно этим путем множество раз ходил Хемингуэй и даже описал его в своей книге.
«Я прошел мимо лицея Генриха Четвертого, - пишет он, - мимо старинной церкви Сент-Этьен-дю-Мон, пересек открытую всем ветрам площадь Пантеона, ища укрытия, свернул направо и вышел на подветренную сторону бульвара Сен-Мишель».
Мы поступили так же. Но, миновав бульвар Сен-Мишель, мы не пошли по нему до бульвара Сен-Жермен, как это сделал Хемингуэй, идучи в «уютное, чистое и теплое кафе», где написал в тот «очень холодный, ветреный и неуютный день» свой рассказ «У нас в Мичигане», а свернули к театру Одеон и по узкой улочке, начинавшейся за театром, дошли до дома № 12, где помещалась сорок лет назад книжная лавка и библиотека Сильвии Бич, под названием «Шекспир и компания».
Погода была совершенно такая же, как сорок лет назад, хотя тогда «внезапно кончилась осень», а теперь - начиналась весна. Ветер гнал по небу клочья облаков, а по улицам - пыль и обрывки бумаги, и, остановившись перед витриной лавки, стекло которой, видимо, очень давно не протиралось и которая выглядела давно и как-то безнадежно заброшенной, мы с Елизаветой Ивановной вновь усомнились в успехе нашего предприятия.
Но не такова была моя спутница, чтобы поддаваться элегическим чувствам. Сойдя на мостовую и окинув взглядом поле предстоящего боя, она уверенно подошла к двери, расположенной по соседству с витриной, и, жестом пригласив меня следовать за собой, толкнула ее. И снова мы оказались в узком коридоре, и снова в глубине его увидели лестницу, ведущую наверх, а слева - дверь в квартиру консьержки.
Но, может быть, читатель не помнит, как описана у Хемингуэя его первая встреча с Сильвией Бич, «лучше которой к нему никто никогда не относился»?
«Когда я впервые пришел в ее лавку, - рассказывает он, - я держался очень робко - у меня не хватало денег, чтобы записаться в библиотеку. Сильвия сказала, что я могу внести залог позже, когда мне будет удобнее, завела на меня карточку и предложила взять столько книг, сколько я захочу.
У нее не было никаких оснований доверять мне. Она меня не знала, адрес же, который я ей назвал, - улица Кардинала Лемуана, 74, - говорил только о бедности. И все же Сильвия была мила, обаятельна и приветлива, а за ее спиной поднимались к потолку и тянулись в соседнюю комнату, выходившую окнами во двор, бесчисленные книжные полки со всем богатством ее библиотеки.
Я начал с Тургенева и взял два тома «Записок охотника» и, если не ошибаюсь, один из ранних романов Д. Г. Лоуренса «Сыновья и любовники», но Сильвия предложила мне еще несколько книг. Я выбрал «Войну и мир» в переводе Констанс Гарнетт и Достоевского «Игрок» и другие рассказы.
- Если вы собираетесь прочитать все это, то не скоро зайдете снова, - сказала Сильвия.
- Я приду заплатить, - ответил я. - У меня дома есть деньги.
- Я не это имела в виду, - сказала она. - Заплатите, когда вам будет удобно».
Так началась эта дружба, о которой, с ему одному присущим умением - в немногих, подчеркнуто обыкновенных и внешне суховатых словах передавать сложные и нежные чувства - рассказал Хемингуэй в своем «Празднике», щедро вознаградив маленькую библиотекаршу за добро, каким она его одарила когда-то.
И вот теперь нам предстояло узнать, как сложилась судьба Сильвии Бич, ненадолго пережившей своего друга.
- Ну как же мне не помнить ее! - воскликнула наша новая собеседница, консьержка дома № 12 по улице Одеон, изможденная женщина, похожая одновременно на балерину и на прачку Дега, не проявив ровно никакого интереса к нашему появлению в ее совсем уже крохотной комнатушке, где она сидела в обществе своих четверых неправдоподобно красивых, чистеньких ребятишек.
Да и откуда было взяться у нее интересу к вещам, непосредственно ее не касавшимся, в этот день, когда ей по горло хватало собственных неудач и горестных размышлений, о которых вскоре она нам рассказала сама.
- Здорово мне удружила ваша Сильвия Бич! - так начала она свой рассказ, в котором ее собственные злоключения лишь изредка перемежались воспоминаниями об интересующих нас предметах. - Нет, вы не думайте, я к ней всегда очень хорошо относилась и сейчас добром вспоминаю ее. Но отдать богу душу в тот самый день, когда мы крестили нашу Симону!.. Я понимаю, она это сделала не нарочно, но вы должны согласиться, что это было очень некстати... Симона у меня третья, ей недавно исполнилось шесть, значит, Сильвия умерла ровно шесть лет назад. А всего у меня их пятеро, эти и еще старшая. Ей одиннадцать. Она сейчас в школе.
За этим сообщением, которое Елизавета Ивановна торопливо и кратко перевела, последовала длиннейшая тирада, как мне тут же было объяснено, не имевшая никакого отношения к Хемингуэю и Сильвии Бич.
Я попросил, чтобы мне хотя бы в двух словах сказали, о чем идет речь, и узнал, что нашу хозяйку постигла беда.
Она работает в этом доме вот уже скоро одиннадцать лет. Дом старый, и живут в нем по преимуществу старики. Но вот несколько времени назад все они выплатили стоимость своих квартир и таким образом выкупили дом у его владельца. И начали с того, что решили упразднить должность консьержки. Виданное ли это дело! И теперь нашей новой знакомой и ее мужу - он механик, чинит все, что придется: водопровод, электричество, дверные замки, детские коляски, велосипеды - предстоит подыскивать себе новое жилье и работу, потому что чертовым старикам зачем-то понадобились эти каморки. Пусть бы попробовал кто-нибудь из них поискать пристанище с пятью ребятишками!
Горемычная женщина еще долго говорила, сколько я мог понять, все о том же, и ее сетования показались скучными не только мне, но и собственным ее детям, которые, виновато поглядывая на мать и стараясь делать это как можно незаметнее, выскользнули один за другим в соседнюю комнату.
Но тут наконец открылась дверь, и моим испытаниям пришел конец. Вошел муж хозяйки, и сразу стало понятно, почему так красивы ее ребята, откуда взялся в этой крохотной, совершенно нищенской квартирке старенький телевизор на высоком шкафчике против окна и, наконец, кому принадлежит альбом с марками, лежащий на подоконнике. А главное, разговор снова вернулся к Сильвии Бич и к дружбе наших хозяев с этой, как они утверждали, необыкновенно милой, но чудаковатой американкой.
Не будем осуждать консьержку дома № 12 по улице Одеон за ее приверженность к разговорам о житейских невзгодах. Мне не раз случалось замечать, что именно эта так называемая приземленность некоторых женщин позволяла их мужьям даже в зрелые годы предаваться мальчишеским увлечениям, сохранять склонность к мечтам и интересоваться вещами, не имеющими прямого отношения к хлебу насущному. И если с приходом главы семьи мы заговорили наконец о делах, не имевших прямого отношения к злоключениям наших хозяев, это следует считать не заслугой пришедшего, а скорее счастливой его привилегией. Кто знает, может быть, его жена тоже была бы не прочь побеседовать с нами об отвлеченных предметах, но ведь, как говорится, у кого что болит...
Итак, разговор наконец сосредоточился на Сильвии
Бич, и неожиданно на свет появились принесенные из соседней комнаты три ее книжки.
Они были аккуратно завернуты в старую наволочку и, видимо, представляли собой семейную реликвию. Дарственных надписей я на них не обнаружил, но, по словам консьержки и ее мужа, все три книжки были подарены им в разное время самой Сильвией, которая всегда была к ним добра и очень баловала их ребятишек.
Одна из книжек называлась «Шекспир и компания», была издана в Нью-Йорке в 1957 году и повествовала о посетителях и друзьях библиотеки Сильвии Бич. Их фотографическими портретами она и была иллюстрирована. Другая была посвящена американским литераторам и их жизни в Париже, а третья - странствиям самой Сильвии, видимо исколесившей немало стран и морей.
В одной из этих книг, уже не помню, в какой именно, мы увидели фотографию, где молодая Сильвия была снята рядом с совсем еще молодым Хемингуэем, голова у которого была забинтована широкой марлевой повязкой. Настроение у него тем не менее, судя по широкой улыбке, было в тот день совершенно безоблачное. Я спросил, известна ли нашим хозяевам история этого снимка, и они наперебой, видимо со слов Сильвии, принялись рассказывать, что незадолго до того, как была сделана эта фотография, друг Сильвии вздумал взобраться по фасаду своего дома на второй этаж (кажется, это было сделано на пари) и его стукнуло по голове оторвавшимся ставнем, что, впрочем, не помешало успеху предприятия в целом.
На другой фотографии Сильвия вместе с Скоттом Фицджеральдом сидели рядышком в традиционных фотографических позах; на третьей, гораздо более поздней, она была снята на фоне своего магазина уже старенькая, с седой головой, и в каком-то очень американском костюме. Были здесь портреты Джеймса Джойса, Гертруды Стайн, Эзры Паунда и многих других литераторов, но главная прелесть всех этих фотографий была в их непререкаемой подлинности, подтверждающей достоверность всего, о чем рассказано в парижских записках Хемингуэя, хотя сам он в предисловии к ним почему-то предлагает читателю, «если тот пожелает», считать его книгу вымыслом.
Вместе со всеми остальными читателями я и прежде понимал, что предложение это - шутка и что «Праздник» не что иное, как рассказ об истинных происшествиях и живых людях, но по-настоящему убедиться в этом мне удалось только в тот день, когда я побывал у консьержки на улице Одеон, перелистал книжки Сильвии Бич и посмотрел фотографии, которыми они иллюстрированы.
Но мне хочется привести здесь заключительную главку из «Шекспира и компании», которая играет в этой книге роль эпилога. Она занимает всего полстранички, и я приведу ее целиком. Называется главка «Хемингуэй освобождает улицу Одеон», и рассказано в ней о встрече друзей в последние дни войны, когда, как известно, Хемингуэй оказался в Париже с отрядом французских партизан, обогнав при этом даже передовые отряды союзных войск, к которым был прикомандирован в качестве военного корреспондента.
«На улице Одеон все еще шла стрельба, и нам это начинало надоедать, - пишет Сильвия Бич. - Но вот однажды под нашими окнами остановилась целая вереница «джипов», и я услышала, что кто-то зовет меня зычным басом:
- Сильвия! Сильвия!
- Это Хемингуэй! - воскликнула Адриенна, выглянув в окно.
Я выбежала из комнаты, буквально скатилась с лестницы и столкнулась в дверях с моим другом, который обхватил меня своими ручищами, закружил и расцеловал в обе щеки. Все, кто наблюдал эту сцену, стоя на улице и глядя из окон, шумными возгласами выразили свою радость по поводу нашей встречи.
Мы поднялись в комнату Адриенны, и Хемингуэй - он был в военной форме, грязный и окровавленный - с грохотом опустил на пол свой автомат и уселся. А усевшись, сразу же осведомился у Адриенны, нет ли у нее мыла. Она отдала ему свой последний кусок, и, побеседовав с нами о нашем житье-бытье, Хемингуэй спросил не нужна ли нам в чем-либо его помощь. Мы попросили, если это возможно, унять нацистских снайперов, которые засели на крыше нашего дома. Он сказал, что попробует, кликнул своих товарищей и повел их на крышу. И тут мы в последний раз услышали стрельбу на улице Одеон, после чего Хемингуэй и его товарищи спустились вниз, расселись по своим «джипам» и укатили, как сказал нам наш друг, - освобождать винный погреб в отеле «Ритц».
Так заканчивается эта книга, попавшая мне в руки, благодаря любезности консьержки с улицы Одеон и ее мужа.
И, от всей души поблагодарив за это наших хозяев, мы с Елизаветой Ивановной попрощались с ними и вышли на улицу.
Постояв несколько минут перед пыльной витриной бывшей библиотеки и погрустив о былой ее славе, мы двинулись вниз по отлого спускавшейся улице и вдруг увидели в одном из соседних домов витрину книжной лавки, в отличие от той, которую мы перед тем разглядывали, ярко освещенную и уставленную множеством книг. Одна и та же мысль появилась у нас обоих, и, войдя в лавку, мы осведомились у костлявого молодого человека в профессорских очках, вышедшего нам навстречу из соседней комнаты, можно ли купить у него книги Сильвии Бич. Оказалось, что нельзя, - последний экземпляр он продал еще в прошлом году, и теперь эти книги вообще невозможно достать.
Между тем начало вечереть, стал накрапывать дождик, и хоть следующим местом, где нам предстояло побывать, был ресторан «Тулузский негр» и туда можно было не торопиться, мы решили доехать до бульвара Монпарнас на такси. И опять нам обоим пришла в голову одна и та же мысль, на этот раз о том, что молодому Хемингуэю и в голову бы не пришло пользоваться столь изысканным способом передвижения в те времена, когда он, чтобы немного сэкономить, говорил жене, что приглашен на обед, а потом, погуляв в Люксембургском саду, рассказывал ей, как великолепно его угощали.
В «Тулузском негре», после вечерней холодной и многолюдной улицы, нам показалось очень тепло и тихо. В маленьком ресторанном зальце, обшитом досками, чуть тронутыми желтоватым лаком, не было в этот час ни одного посетителя. Но ресторан не только не выглядел из-за этого пустынным, а, наоборот, был как-то по-домашнему уютен и привлекателен. За стойкой, перетирая стаканы, стояла пожилая женщина в белом фартуке, а за ее спиной выстроилась целая галерея бутылок с такими пестрыми этикетками, что они были похожи на райских птиц, рядком сидящих на жердочке.
Мы спросили у женщины за стойкой, можем ли мы повидать хозяина ресторана месье Лявиня, но она как-то странно поглядела на нас и, не прерывая своего занятия, осведомилась, зачем он нам нужен. Елизавета Ивановна довольно пространно объяснила ей это, после чего мы узнали, что месье Лявинь удалился на покой уже лет тридцать назад, продав свой ресторан сестрам Ноэль, одна из которых сейчас перед нами.
Поистине удача никак не желала сопутствовать нам, и мы оба внезапно почувствовали, что очень устали. Мадам Ноэль, видимо, поняла это и радушно предложила нам присесть. Увидев же, что мы колеблемся, выбирая столик, она улыбнулась и указала уютный угол, сбоку от входа.
- Я вижу, вы устали и огорчены тем, что не нашли здесь месье Лявиня и не можете расспросить его о Хемингуэе, - сказала она, - но я постараюсь немного утешить вас. Столик, который я вам указала, - тот самый за которым всегда сидел Хемингуэй. Да, да, я его помню! Смутно, но помню. Он был милый и простой человек. И веселый. Мы с сестрой помогали тогда месье Лявиню, и я помню даже такую подробность: Хеминугуэй пил в этом ресторане всегда одно и то же вино. Оно у нас есть и сейчас. Это кагор, он продается в маленьких и больших бутылках.
Она взяла со стойки бутылочку с одной из самых скромных этикеток и показала нам. Это действительно было то самое вино, о котором Хемингуэй упоминает в «Празднике», сообщая, как, обедая с женой в «Тулузском негре», они заказывали его и обычно на одну треть разбавляли водой. Кстати, только теперь мне довелось узнать, что кагор, который у нас относится к категории сладких, я бы даже сказал - сладчайших вин, здесь - сухое вино, так же, как портвейн или херес.
- А месье Лявинь живет теперь в департаменте Кот-д-Ор и в Париж приезжает редко, - продолжала между тем мадам Ноэль. - Напишите ему, и он вам, вероятно, ответит. Он любит вспоминать о Хемингуэе и о тех временах. Вас удивляет, что он так рано ушел на покой? Но ведь как же иначе? Надо же и другим дать заработать! Он здесь сколотил капиталец, да к тому же и от нас с сестрой получил немалые деньги. Теперь наша очередь. Разве это не справедливо?
Мы заверили мадам Ноэль, что справедливо, и она, удовлетворенная нашим сочувствием, поведала нам еще об одном любопытном обстоятельстве.
Оказывается, в «Тулузский негр» раза два в месяц аккуратно наведывается какой-то человек из числа давних друзей Хемингуэя, который свято чтит память о нем.
- Он всегда садится за этот стол, - сообщила мадам Ноэль, - а если место занято, ждет, пока оно освободится. Говорит, что здесь даже стены напоминают ему о его друге... Кто он такой, этот человек? Откуда же мне знать? Но он всегда очень прилично одет, очень мило с нами здоровается и вообще, судя по всему, чрезвычайно достойный господин... Писатель ли он? Не знаю... Здесь он не пишет. А месье Хемингуэй - писал. Я его помню Смутно, но это я помню.
Вот и все, что нам удалось почерпнуть у нынешней хозяйки «Тулузского негра». А так как на другой день мне предстояло уезжать из Парижа, то это было вообще все, что в этот свой приезд я разузнал о парижских друзьях Хемингуэя, которые могли бы хоть что-нибудь о нем рассказать.
Так что мои поиски действительно не увенчались успехом, и, всего вероятнее, потому, что накануне, ярким солнечным утром, поглядев из окна гостиничного номера на кипящую народом, суматошно веселую площадь Сен-Лазар, я подумал, как счастливо все складывается у меня в этом путешествии и «...как дурак, не постучал по дереву, чтобы не сглазить», хотя именно в хемингуэевском «Празднике», откуда взяты эти слова, мог прочесть, к каким печальным последствиям приводит подобное легкомыслие.
1970
АДМИРАЛ ИСАКОВ
Известно, что чем незначительнее человек, тем больше усилий он делает, чтобы придать себе вес в глазах окружающих и завоевать среди них «ведущее» положение. И что только по-настоящему большие люди не испытывают потребности первенствовать и верховодить, довольствуясь в своих честолюбивых стремлениях способностью понимать и делать нечто такое, что не всегда понимают и не умеют делать другие.
Это не слишком новое соображение приходит на ум, когда пытаешься уяснить себе главное в характере и поведении Ивана Степановича Исакова.
Людей высокого ранга, к которому он принадлежал по своему служебному и общественному положению, принято превозносить за скромность и простоту, особенно если у них эти свойства имеются. Но, видимо, Исакову они были так органично присущи, что никому из знавших его и в голову бы не пришло считать их примечательной чертой его характера и относить к числу его достоинств. Корректность и дружелюбие были неизменными в его отношениях с окружающими, и, в отличие от тех, кому нравится иногда без всякой нужды затевать споры и обезоруживать собеседников, он старался помочь людям, с которыми соприкасался, обрести уверенность в себе и почувствовать себя в наилучшей форме. Такими они были интереснее ему, тем более что у многих из них можно было чему-нибудь поучиться, а учиться, в самом широком смысле этого слова, он до старости лет любил больше всего на свете.
Мне пришлось убедиться в этом с первой же нашей встречи.
Произошла эта встреча дома у Ивана Степановича, в его большом, заставленном книжными полками кабинете, выходящем окнами на упорядоченную и чинную в этом районе Москву-реку. Дело, которое привело сюда нас с Александром Борисовичем Раскиным, было чисто литературным. Состояло оно в том, что Иван Степанович выразил желание участвовать в качестве автора в сборнике воспоминаний об Ильфе и Петрове, который мы с Раскиным взялись тогда составлять. Оказывается, летом сорок второго года судьба свела Исакова с Евгением Петровым, когда тот, в качестве военного корреспондента Информбюро, ездил в Новороссийск, а оттуда - в осажденный Севастополь, и именно об этой тогдашней их встрече Иван Степанович намерен был написать.
Первым об этом узнал Александр Борисович. Он отнесся к предложению Исакова со свойственной ему горячностью и, сообщив мне о нем, передал приглашение Ивана Степановича побывать у него.
- А почему, собственно, мы должны ехать к нему, а не он к нам? - спросил я строптиво. - Другие авторы поступают в подобных случаях именно так, и я не вижу никаких оснований делать для Исакова исключение в таком поистине демократическом предприятии, как наше.
- Исключение сделать придется, даже невзирая на демократичность нашего предприятия, как вы это остроумно отметили, - с иронической назидательностью заявил Александр Борисович. - Дело в том, что адмирал Исаков, в отличие от других наших авторов, был тяжело ранен на фронте и ходит на костылях.
Возразить на это мне было нечего, и два дня спустя, созвонившись с Иваном Степановичем, мы отправились к нему на Смоленскую набережную.
Исаков встретил нас на пороге своего кабинета, пригласил сесть и опустился сам на край широкого дивана вокруг которого было расставлено и разложено все, что могло понадобиться ему для работы, для отдыха и для связи с внешним миром.
Отчетливо запомнилось мне первое впечатление, какое произвела на меня внешность Ивана Степановича.
Как не шли ему костыли! Он был высок, строен, широкоплеч и даже передвигался на этих своих костылях с каким-то ему одному присущим изяществом. Наши глубоко штатские фигуры явно проигрывали от соседства с этим человеком, так великолепно справляющимся со своей ущербностью.
Еще запомнился мне тон, каким повел он первый наш разговор.
Передавая нам рукопись своих воспоминаний о встречах с Петровым, он явно робел и, называя себя начинающим автором, делал это совершенно чистосердечно и без всякой рисовки. И уже очень скоро мы с Александром Борисовичем почувствовали себя вполне непринужденно, совершенно так же, как чувствовали бы себя в разговоре с действительно молодым писателем, передающим на наш суд свои первые литературные опыты.
Надо думать, именно по этой причине, подходя через несколько дней к дому на Смоленской набережной, мы с Александром Борисовичем были несколько смущены.
Причина здесь была в том, что срок сдачи сборника в издательство был угрожающе близок, времени для работы с авторами почти не оставалось, и мы позволили себе произвести в сочинении Исакова довольно решительные исправления и сокращения. Поэтому у нас были все основания ждать, что этот второй наш с ним разговор будет нелегким.
Он и оказался нелегким, но не совсем по той причине, какая нам представлялась.
Усадив нас и взяв у меня из рук свою рукопись, уже первая страница которой была испещрена множеством поправок и сокращений, наш «молодой автор» поначалу ни единым движением не выразил своих чувств по поводу варварского вмешательства в его авторские права.
Потом, внимательно прочитав очерк от первой до последней строки и по-прежнему не промолвив ни слова, он вернулся к началу и принялся так же медленно его перечитывать. А перечитав, аккуратно сложил листки рукописи, скрепил их проволочной скрепкой и, задумчиво потеребив загнувшийся уголок, промолвил:
- Вам, конечно, виднее... Да и мне теперь ясно, что в моем сочинении слишком много войны и военных действий и мало Петрова. Но ведь ежели посмотреть с другой стороны... я ведь рассказываю об участии писателя в этих самых военных действиях, так ведь?
Мы с Александром Борисовичем молчали, и Исаков, сочувственно оглядев нас, продолжал:
- Вот видите, вы молчите. А если говорить правду, то ваш вариант моего сочинения мне нравится больше, чем мой собственный. Сожалею только, что он - ваш... Кто-то рассказывал мне, что ежели человеку хирургическим способом исправляют нос, то как бы хорош ни был новый, он оказывается хуже прежнего. Не вяжется, так сказать, с остальным, нарушает ансамбль... Не знаю, как там с носами, но всякий раз, когда редактируют мои сочинения, у меня возникает такое чувство, будто они перестали быть моими. У вас так не бывает?
У нас так бывало не раз, но углубляться в рассуждения о принципах редактирования нам было в тот день не с руки. И мы принялись убеждать Ивана Степановича, что, сократив его очерк за счет собственно военных описаний и отступлений, мы сделали его более уместным в сборнике писательских воспоминаний. Увидев же на лице нашей жертвы сомнение, мы удвоили наши усилия и, ссылаясь на то, что возвращаться к первому варианту и заново переделывать всю работу значит пропустить все сроки, предложили, не откладывая, вместе поработать над рукописью и, обсудив каждое наше исправление в отдельности, решить, какие из них он сочтет приемлемыми.
Поколебавшись, Иван Степанович согласился попробовать, и ближайшие за тем два часа были посвящены именно этому увенчавшемуся полным успехом занятию. Причем за всю мою многолетнюю редакторскую практику мне почти не случалось видеть автора, который был бы так терпим к критике своего труда, так готовно принимал советы, казавшиеся ему разумными, и так твердо стоял на своем в тех случаях, когда эти советы касались существа его замысла.
Надо сказать, что почти все молодые авторы, с которыми мне приходилось иметь дело, одинаково относились к тому, что я бы назвал «редакторскими подарками». Удачно подсказанный сюжетный ход, красноречивая подробность, точный эпитет - поистине «всякая веревочка» годилась этим писателям в их пока еще небогатом литературном хозяйстве. Причем, на мой взгляд, в этом не было решительно ничего предосудительного.
Ведь чаще всего редактор, правильно понимающий свою задачу, стремится к тому, чтобы помочь автору выразить его собственную мысль, осуществить его собственный замысел. А если это так, то нужно ли отказываться от помощи подобного рода?
И все же, если говорить совсем уж начистоту, мне всегда нравилась и продолжает нравиться строптивость вроде той, что возникла в тоне Ивана Степановича, когда поправка, предлагаемая ему, какой бы заманчиво привлекательной она ни казалась, была, что называется, «не своя». И, не требуя от всех молодых и немолодых литераторов такой же аскетической щепетильности, я не могу не порадоваться всякий раз, когда встречаюсь с ее проявлениями. Хотя бы уж потому, что, редактируя молодого писателя и стремясь исправить все ошибки, на наш взгляд им допущенные, мы подчас забываем о том, что самые эти ошибки могут оказаться проявлением неповторимой писательской индивидуальности...
Что же до завершения всей этой истории, то оно очень запоминает традиционный для нравоучительных повествований эпилог с наказанным пороком и торжествующей добродетелью.
Когда сборник воспоминаний об Ильфе и Петрове вышел в свет, многие его читатели утверждали, что очерк Исакова, именно благодаря своей военно-морской несхожести с сочинениями других авторов, внес в книжку оттенок, который несомненно пошел ей на пользу.
* * *
Удивительная энергия была у этого человека. Удивительная еще потому, что для ее определения никак не подходят эпитеты «кипучая» или тем более «вулканическая», какими часто сопровождаются рассказы об этом человеческом свойстве. Энергию Исакова правильнее всего было бы назвать методической. Он не загорался перед тем, как начать действовать, он - действовал. И, как мне вскоре удалось установить, никогда ничего не откладывал, никогда не мешкал с ответом на деловые предложения, никогда не упускал случая вмешаться в спор, казавшийся ему важным, и никогда не отказывал в помощи человеку, который этого заслуживал.
Однажды я оказался тому свидетелем.
Случилось это при следующих обстоятельствах.
Узнав о том, что я встречаюсь с Иваном Степановичем, один из моих друзей, драматург и прозаик Александр Александрович Крон, всю войну прослуживший на флоте, поведал мне печальную историю бывшего офицера-подводника А. И. Маринеско.
Сын матроса, некогда бежавшего из румынского военного флота, и украинской крестьянки, этот природный моряк, еще в мирное время получивший звание штурмана дальнего плавания, к началу войны стал командиром подводной лодки. Отлично провоевав всю войну, он незадолго перед ее концом получил повышение, но в канун нового, 1945 года (к этому времени война в Финляндии уже была закончена), стоя со своей лодкой в гавани Турку, отправился в город, загулял и пропал на двое суток, чем, вполне заслуженно, навлек на себя гнев своего командования.
Как утверждал Александр Александрович, спасло Маринеско от суда единодушное заступничество экипажа лодки С-13, горой вставшего на защиту своего командира, да еще здравый смысл, проявленный при разборе его дела. Отложив на время решение судьбы Маринеско, его отправили в очередной поход, предоставив ему возможность искупить свою вину в бою с противником.
Он и искупил ее, да еще и на самом высоком уровне, пустив на дно огромный нацистский лайнер «Вильгельм Густлов», под охраной боевых кораблей переправлявший из Данцига в Киль восемь тысяч эсэсовцев. В том же походе подводная лодка С-13 потопила еще и вспомогательный крейсер «Штойбен».
Гитлеровское командование ознаменовало свои потери днем траура и внесло Маринеско в список «главных военных преступников», - у нас же подвиг подводной лодки С-13, из-за недавнего проступка ее командира, прошел почти незамеченным. Награды, выданные по этому случаю, были гораздо ниже, чем можно было ожидать, а сам Маринеско получил всего лишь орден Красного Знамени.
Что же касается дальнейшей судьбы удивительного этого человека, то она оказалась очень похожей на судьбы множества людей его типа, мальчишески своенравных, до грубости правдивых и не знающих страха. Сорвавшись однажды, он так и не сумел «войти в колею». Верный себе, он затевает ссору с комдивом и сразу же после окончания войны уходит в отставку. В перспективе - служба в торговом флоте, но подводит зрение, и Маринеско приходится менять профессию. Он становится хозяйственником, однако, надо думать, нет на свете профессии менее для него подходящей. Столкнувшись с компанией мошенников-снабженцев, он пытается вывести их на чистую воду и в результате сам оказывается под судом. Инкриминируется ему всего-навсего то, что он развез по домам низкооплачиваемых сотрудников, в виде праздничного подарка, несколько тонн торфяных брикетов, мертвым грузом лежавших на складе. Директор предприятия, давший на это свое устное согласие, потом от всего отперся, и, несмотря на то, что на суде прокурор-фронтовик, поняв, что дело не стоит выеденного яйца, отказался от обвинения, Маринеско получил три года тюрьмы.
И вот теперь, когда вся эта история отошла в прошлое, а Маринеско, отсидев свой срок, вернулся в Ленинград и после нескольких лет работы на одном из ленинградских заводов смертельно заболел и остался совершенно без средств, Александр Александрович, исчерпав множество других возможностей помочь своему другу, решил обратиться за помощью к Исакову. И надо сказать, повод для этого был достаточно уважительный. Человек, еще не так давно признанный на сборе ветеранов-подводников первым асом Балтики, человек, вся беда которого состояла в том, что ему были неведомы чувства умеренности, осторожности и боязни, пройдя длинный путь унижений и горестей, был теперь тяжко болен, беспомощен и всеми забыт.
Выслушав все это, я пообещал Александру Александровичу попытаться устроить их встречу с Исаковым. И случилось так, что мне удалось очень скоро сдержать свое обещание. Во всяком случае, Иван Степанович заверил меня, что затребует материалы о деле Маринеско и примет нас с Кроном, как только ознакомится с ними.
Так оно и произошло.
Он встретил нас, как всегда, в дверях своего кабинета и, внимательно оглядев моего спутника, несколько более официальным тоном, чем обычно, предложил нам сесть. Ощутил этот холодок, по-видимому, и Крон. Во всяком случае, рассказывая о злоключениях Маринеско, он держался с какой-то совершенно военной скованностью, да и самый его рассказ прозвучал на этот раз гораздо более кратко и сухо, чем несколько дней назад, когда я услышал его впервые.
Иван Степанович выслушал речь моего друга, ни разу его не прервав и ни единым движением не проявляя своего отношения к предмету повествования.
Потом он повернулся к полке, стоявшей у него за спиной, снял с нее тонкую папочку с несколькими машинописными листками, проглядел их, видимо уже не впервые, и, обращаясь к Крону, заметил:
- Мне вот здесь, в ответ на мой запрос, сообщают о деле Маринеско некоторые подробности... Но не все... А мне бы хотелось получить полную информацию. - И, повернувшись ко мне, добавил, вдруг улыбнувшись: - После нашего с вами разговора я, как видите подготовился к сегодняшней встрече, но по некоторым пунктам разъяснений не получил.
В комнате наступило молчание. Крон уставился в пол, я разглядывал коллекцию кинжалов и ятаганов, висевшую на стене над диваном. С улицы, сквозь двойные рамы, не доносилось ни звука.
Наконец я решился.
- Может быть, это и не существенно, но сегодня Александр Александрович рассказывал про Маринеско гораздо короче и суше, чем мне в прошлый раз, - сказал я и сразу понял, что говорить этого не следовало, потому что Крон посмотрел на меня с осуждением, а Иван Степанович, снова улыбнувшись, промолвил:
- Тем более не существенно, что дело здесь не в красноречии, а в фактах. В своем рассказе Александр
Александрович умолчал о том, где и почему пропадал Маринеско в новогоднюю и следующую за ней ночь тысяча девятьсот сорок пятого года. Сам Маринеско тоже не пожелал сообщить об этом в свое время командованию. А между тем изменить его судьбу можно было бы только в том случае, ежели бы это белое пятно было заполнено. Вы можете это сделать?
Последний вопрос был обращен к Александру Александровичу, но тот ответил не сразу. Потом, минуту поколебавшись, спросил:
- А можно мне не говорить, а прочесть вам несколько страничек вот отсюда... - И он вынул из портфеля, стоявшего на полу, толстую тетрадь в черном клеенчатом переплете. - Это мой военный дневник. Здесь есть записи, сделанные со слов Маринеско.
Иван Степанович кивнул и, откинувшись на спинку кресла, приготовился слушать. Крон полистал тетрадь, нашел нужное место и начал читать.
Но здесь мне придется сделать небольшое отступление. Всем ведущим записки, что называется, по горячему следу, известно, что живая речь, наспех воспроизведенная на бумаге, почти всегда звучит безжизненно и недостоверно. Так вот на этот раз дело обстояло иначе. Каким-то чудом Александру Александровичу в его дневнике удалось избежать этой опасности. Мы услышали, видимо записанный почти дословно, запинающийся, грубоватый, смущенный рассказ человека, которому, судя по всему, нелегко далась его откровенность, рассказ, в котором начисто отсутствовала какая бы то ни была рисовка и который был доведен до нашего сведения в той самой первозданной простоте и правдивости, в какой много лет тому назад родился на свет.
В рассказе повествовалось о том, как в новогоднюю ночь на пороге 1945 года Маринеско и его товарищу, фамилия которого не была названа, удалось получить отпуск на берег, чтобы осуществить давнюю свою мечту - провести праздник на твердой земле, в настоящем ресторане и совершенно «мирной» обстановке. Происходило это в финском порту Турку, где они стояли тогда и где ни у того, ни у другого, разумеется, не было, да и не могло быть ни одной знакомой души.
Было у обоих только одно - вера в чудо. И она оправдалась. Очень скоро они нашли ресторан при небольшой уютной гостинице, где заказали очень изысканный по тем временам ужин. А так как время приближалось к полуночи и никаких других возможностей не предвиделось, ужин был заказан на шесть персон и друзья, со всей возможной галантностью, предложили четырем официанткам быть их гостьями на новогоднем пиру. Ресторан был пуст, и те, ничуть не жеманясь, согласились, но как на грех через некоторое время после того, как пробило двенадцать, в зале появились посетители, и девушкам пришлось вернуться к своим служебным обязанностям, о чем напомнила им хозяйка гостиницы, молодая шведка, немного говорившая по-русски. Установив это, моряки пригласили ее к осиротевшему своему столу, и только тут Маринеско, рассердившийся было на нее за официанток, наконец увидел, как она хороша собой и как мило держится.
Нет, в его рассказе ничего не говорилось о внезапно возникшем родстве душ или о любви с первого взгляда. Речь шла, да и то какими-то грубовато-застенчивыми намеками, всего лишь о том, каким диковинным счастьем, каким бесценным подарком судьбы показалось ему общество этой красивой женщины за празднично убранным столом в ту новогоднюю ночь.
И надо думать, что это его чувство было таким откровенным и было так простодушно и сильно выражено, что оно не могло не тронуть ее. И все произошло так, как должно было произойти у этих очень еще молодых людей, блаженно потрясенных предвестием мира, только что снизошедшим на город, нечаянной встречей и хмельной, жадной радостью жизни.
А наутро в комнату хозяйки постучала горничная и сообщила, что внизу ее ждет жених, пришедший с букетом цветов, чтобы поздравить ее с Новым годом.
«Я ей сказал - прогони его! - записано было в этом месте со слов Маринеско. - Она спросила: - А ты на мне женишься? - Я ответил: - Нет, не женюсь... - Сказал, как думал... Но она все равно его прогнала...» И потом, много позже, когда в дверь постучал товарищ Маринеско, с которым они вместе пришли и который неизвестно где провел эту ночь и, постучав, напомнил, что давно пора возвращаться на лодку, тогда уж она потребовала, чтобы он не уходил с товарищем. И Маринеско так и сделал... И явился на пирс только через двое суток после того, как «отбыл».
Дочитав свои записки до этого места, Александр Александрович остановился, полистал свой дневник и прочел еще несколько страниц из рассказа Маринеско про то, как нелепо, нечестно и оскорбительно был организован суд по делу о торфяных брикетах, как уже по дороге в лагерь, объединившись с несколькими морячками, он не на жизнь, а на смерть схватился с компанией уголовников и одолел их, как после лагеря вернулся в Ленинград, был восстановлен в партии и поступил на завод, где никому из своих новых знакомых не стал рассказывать, кто он такой и кем был прежде, как женился и с каким трудом достал комнатку, в которой теперь живет, как, вспоминая о своей прежней жизни, иногда не верит, что все это действительно было, и как старается не думать о том, что с ним будет дальше...
Когда чтение подходило к концу, я украдкой посмотрел на Ивана Степановича. Он слушал очень внимательно, и мне почудилось даже, что лицо его потеплело, но ручаться за это я бы не стал. Очень трудно было установить по его лицу, что он думает.
К счастью, на этот раз он сразу же сам сообщил нам об этом.
- Меняю свое мнение, - сказал он и встал, тяжело опершись на костыли. - Меняю не потому, что нахожу оправдание для самовольной отлучки в иностранном порту на двое суток. Но считаю, что наказание должно соответствовать не только преступлению, но и послужному списку человека, который преступление совершил... Тут у меня имеются мемуары одного из бывших гитлеровских вояк...
Он взял со стола книжку, заложенную в нужном месте аккуратной закладкой, положил перед собой и постучал по ней пальцем.
- В этих мемуарах сказано, что потопление «Густлова» было одной из самых блистательных подводных операций, какие известны автору. А уж в чем, в чем, но в подводных операциях этот господин разбирается... Так что ваш Маринеско хоть и виновен, но заслуживает снисхождения... И поэтому позволю себе обратиться к вам с покорнейшей просьбой. Пересмотр дела Маринеско - вопрос сложный. Сам же он, как вы утверждаете, тяжко болен и беден. Вот я и попрошу вас, друзья мои, передать ему дружеский мой привет и сообщить, что все то время, какое понадобится для пересмотра этого дела, он будет получать от меня по сто рублей в месяц. Вам же, Александр Александрович, приношу глубокую благодарность за то, что обратились ко мне.
Этим и закончился в тот день наш визит к Исакову. И сколько мне помнится, распрощавшись с ним, выйдя на улицу и идучи по набережной, мы с Кроном не обсуждали того, что только что произошло. Но все это время мы, если можно так выразиться, молчали об одном и том же. И пожалуй, это молчание наилучшим образом выражало полное единодушие, кстати сказать, не такое уж частое в наших давних дружеских отношениях.
...Иван Степанович не любил говорить об обстоятельствах своего ранения, так круто и страшно изменившего всю его жизнь. И только однажды, вспоминая первые годы войны, он рассказал мне о происшествии, с этим связанном.
Первые месяцы войны он провел в Ленинграде, в качестве уполномоченного Верховного командования по Балтийскому флоту. И вскоре после того как город оказался в блокадном кольце, ему, как и другим руководителям обороны, было предоставлено право эвакуировать на Большую землю тех, кого они сочтут нужным уберечь от превратностей осадного положения и надвигающейся зимы. Между другими его выбор пал на флагманского хирурга флота Юстина Юлиановича Джанелидзе, человека очень уже немолодого и поэтому мало приспособленного к голоду и лишениям.
Иван Степанович вызвал Джанелидзе к себе и предложил ему немедленно собираться в дорогу. Тот сердито поглядел на него и сказал:
- Основатель русской военной хирургии, один из тех божьей милостью лекарей, на кого всем нам хочется быть похожими, - я имею в виду, как вы понимаете, доктора Пирогова, - в начале Крымской кампании, быстро собравшись в дорогу, двинулся не от фронта, а к фронту. Что же касается моего возраста, то я считаю, что человеку должно быть не столько лет, сколько написано у него в паспорте, а сколько требуется в данный момент.
И несмотря на явную спорность последнего утверждения, никакие доводы не могли победить упорство старого доктора.
Прошло довольно много времени. Иван Степанович был отозван из Ленинграда, побывал на Дальнем Востоке, куда его направили, как он говорил, «поглядеть, как бы японцы не устроили нам Пирл-Харбор», оттуда перевели на Черноморский бассейн, и вот здесь-то, в районе Туапсе, он был тяжело, непоправимо ранен бомбой, сброшенной вражеским бомбардировщиком на вереницу автомобилей, двигавшихся через перевал.
Когда в тяжелом состоянии Исакова привезли в один из прифронтовых госпиталей и хирурги всех рангов принялись судить и рядить о том, как следует поступать с его искалеченной ногой, кому-то из них пришло в голову срочно вызвать из Ленинграда для консультаций флагманского хирурга.
Тот приехал, поглядел раненого, высказал свое мнение и, видимо стремясь приободрить Исакова, с сердитой шутливостью проворчал:
- Ишь какой упрямый! Нашел-таки способ выманить меня из Ленинграда. А для чего? Для чего меня здешние доктора вызвали? Чтобы снять с себя ответственность! Трудно им, конечно, лечить человека высокого звания. Был бы на вашем месте краснофлотец, они бы сами решили, как быть. - И, назидательно подняв палец и отчеканивая слова, закончил: - Доктор лечит лучше всего, когда всем сердцем хочет помочь больному. Понятно? Хочет вылечить, а не боится не вылечить! Страх, как известно, плохой советчик, это вам, как военному человеку, известно.
Передавая мне слова Джанелидзе, Иван Степанович утверждал, что в его собственном случае они полностью подтвердились. Лечили его робко, неуверенно и неверно, и это привело к тому, что его до сих пор мучают по временам сильнейшие боли.
Мне же представляется, что утверждение старого доктора следовал бы толковать еще и расширительно. Горячее желание - стимул гораздо более могучий, чем самая сильная боязнь, не только в медицине, но и в любой другой области. И очень печально, что эту простую истину иногда забывают.
* * *
Пытаясь восстановить в памяти и донести до читателя то, что мне посчастливилось увидеть и узнать о Иване Степановиче за годы нашего с ним знакомства, я чувствую совершенную свою неспособность собрать воедино вce те мелочи, из которых сложилось мое представление об этом человеке.
Слишком он был сложен, слишком из многих элементов состоял его характер, слишком разносторонней была его деятельность, чтобы можно было дать о нем цельное представление, рассказав об отдельных происшествиях и разговорах, сохранившихся в моей памяти. И все же некоторые из них кажутся мне любопытными.
Вспоминается мне, например, рассказ Исакова о письме какого-то незнакомого ему старого моряка, который сообщал с возмущением, что в одном из черноморских портов, где он, выйдя на пенсию, поселился, местные власти переименовали улицу Крузенштерна на том основании, что сейчас уже никто не помнит о нем и его имя звучит недостаточно актуально. Переименовали улицу не слишком изобретательно - в Большую Морскую.
По просьбе автора письма Иван Степанович адресовался в исполком городского Совета, учинивший это нововведение, с предложением исправить ошибку. Оттуда ответили, что переименование осуществлено потому, что негоже в наше время называть улицы именами царских сатрапов. Иван Степанович терпеливо разъяснил работникам исполкома, что называть замечательного русского мореплавателя царским сатрапом так же нелепо, как если бы речь шла о Ломоносове или Кутузове, но на это свое письмо ответа не получил. Гонители Крузенштерна признавать свои ошибки, видимо, не любили.
- Все дело в том, - заметил Исаков, повествуя о позиции своих оппонентов, - что у многих наших деятелей, воспитанных на пафосе ниспровержения, отсутствует то, что я назвал бы чувством преемственности. А переучиваться они не желают. Но пусть не надеются - Крузенштерна я им в обиду не дам.
Не знаю, чем кончилась эта история, но, надо полагать, новаторы из горсовета в конце концов уступили. Иван Степанович имел обыкновение доводить до конца все, за что брался.
Чрезвычайно характерным для него было его отношение к обязанностям члена Союза писателей, которые он понимал по-своему, в полном соответствии с присущей ему обязательностью, добросовестностью и трудолюбием. Совмещая писательскую работу с множеством других дел, этот талантливый военачальник и организатор, кстати сказать, носивший самое высокое в нашей стране военно-морское звание - Адмирала Флота Советского Союза, член-корреспондент Академии наук, состоящий в множестве коллегий, советов и комиссий, считал своим непременным писательским долгом печатать свои рассказы и очерки не реже чем два раза в год.
Однажды он специально позвонил мне, чтобы посоветоваться об одном недавно законченном рассказе, который ему предложили опубликовать, не дожидаясь следующего, который тематически должен быть связан с первым, и в ответ на мое предложение - кончить второй и печатать их вместе - жалобно заметил:
- Понимаю, что вы правы. Я и сам так думаю. Но не могу же я себе позволить так долго молчать.
И в ответ на мое сообщение, что многие авторы позволяют себе молчать годами, возразил:
- Так ведь то - настоящие писатели, а я не писатель, я - соискатель. - И, услышав, что я рассмеялся, добавил: - Вам хорошо смеяться, а вот побыли бы вы в моей шкуре...
Нет, очень трудно рассказать об Иване Степановиче, связав воедино все, что я знаю о нем.
Был ли он умен, добр, честен, решителен, деловит? Обладал ли он силой воли, умел ли видеть себя со стороны? Да, разумеется, да! Но разве можно с помощью простого перечисления отдельных черт постигнуть характер человека, воссоздать его душевный облик, показать его таким, каким его видели те, кому посчастливилось с ним повстречаться? Едва ли. Надо полагать, простым вложением этого не достигнешь.
Здесь требуется воображение, художество, писательский домысел, то есть вещи, необязательные для мемуариста. Его задача гораздо скромнее. И состоит она, как мне кажется, в том, чтобы обстоятельно рассказать обо всем, что сохранила ему его память, выбрав из этого пестрого вороха наиболее существенное и любопытное. Такую задачу я перед собой и поставил.
1973
ЮРИЙ ГЕРМАН
Однажды поздно ночью мне принесли телеграмму. Долгий и, как это всегда кажется по ночам, очень пронзительный звонок поднял меня с постели. Ощупью добравшись до двери и отворив ее, я взял из рук почтальона сложенный манжеткой телеграфный бланк и стал шарить на столе в поисках карандаша, чтобы расписаться. Потом, когда эта операция завершилась успешно, подошел к окну и, отодвинув штору - на дворе уже светало, - принялся разбирать слепые строки. Телеграмма была такая:
«Возмущен равнодушием, кошмарным отношением животрепещущим вопросам любви и дружбы. Не уходи из дома круглосуточно, жди телефонных звонков. Юра». В верхнем углу телеграммы была пометка: «Ночная» Сомнений быть не могло. Отправителем телеграммы был Юрий Павлович Герман, животрепещущие вопросы любви и дружбы существенной роли в ней не играли, истинный же ее смысл состоял в том, что отправителя следовало ждать в Москве в ближайшие дни. Что же до срочности, с какой это уведомление было послано, то причина, видимо, была всего лишь в том, что Юрий Павлович, отправляя его, был шаловливо настроен.
Справедливости ради нужно отметить, что такое с ним бывало нечасто. К модным в те времена «розыгрышам» он был не склонен, а если шутил, то по преимуществу умно и добродушно. Вообще же, собираясь в Москву, он меня обычно заранее не предупреждал и, только приехав и обосновавшись в гостинице, звонил по телефону и сообщал, где остановился.
- Я приехал! - говорилось в таких случаях. - Приходи, вместе позавтракаем и все обсудим.
И такая была в его голосе победительная, непоколебимая уверенность в том, что собеседник, услышав этот призыв, бросит все дела и как лист перед травой предстанет перед ним в ту же минуту, что не знаю, как другим, а мне бывало очень трудно, чем бы я ни был занят, устоять и отложить нашу встречу на вечер.
Тем более что вечером уже не могло быть и речи о том, чтобы «все обсудить». К этому времени в номере гостиницы, где останавливался Юрий Павлович, начиналось истинно праздничное столпотворение. Беспрестанно звонил телефон, приходили и уходили друзья и знакомые, кто-то приглашал хозяина на премьеры, «прогоны», просмотры и генеральные репетиции, кто-то уславливался с ним о совместных визитах или настойчиво звал к себе, - словом, жизнь, как говорится, била ключом.
И только в тот вечер, который последовал за упомянутой здесь телеграммой, я застал у Юрия Павловича всего лишь одного посетителя.
Это был маленький человечек, в громадных, не по росту, я бы сказал, «литературоведческих» очках, с вьющейся и вместе с тем гладко прилизанной шевелюрой и остренькими, шустро бегающими глазками. Человечек выглядел и держался с какой-то суетливой вальяжностью, изо всех сил стремясь подчеркнуть свою короткость с Юрием Павловичем, которому это было явно не по душе.
Разговор не вязался, и вскоре после моего прихода гость попросил разрешения позвонить по телефону. Получив же его, так самозабвенно занялся разговором с какой-то Лизочкой, что мы с Юрием Павловичем почувствовали себя попросту лишними.
- Слушай, ты его знаешь? - шепотом спросил меня Герман, смущенно косясь на человечка в очках. - Он меня зовет Юрой и с минуты на минуту перейдет со мной на «ты», а я никак не могу вспомнить, где и когда мы с ним встречались и кто он такой.
К великому моему сожалению, я ничем не мог помочь Юрию Павловичу. Мне тоже казалось, что я уже встречал его гостя, но вспомнить, кто он такой, мне решительно не удавалось.
Гость же между тем разливался соловьем.
- Ну, как же вы не помните? - бархатным голосом укорял он свою собеседницу. - Как вы можете не помнить, если именно в тот вечер мы с вами условились... Заняты? Что значит - заняты, когда речь идет о закрытом просмотре, на который почти невозможно попасть!.. Ну, как знаете. Мое дело - предложить... Что? Что вы говорите? Алло! Алло! Разъединили. Очень скверно работает телефон!..
Последнее утверждение было адресовано нам с Юрием Павловичем и имело целью скрыть то неприятное обстоятельство, что Лизочка, по-видимому, на полуслове прервала разговор, повесив трубку.
- Как говорится, слабые токи! - продолжал человечек, горестно разводя руками и все еще стремясь возложить ответственность за свою неудачу на плохо работающий телефон. - Вы разрешите мне еще позвонить?
Юрий Павлович кивнул. Человечек набрал номер и попросил к телефону Марию Викторовну. Когда она подошла, он прочистил горло и проворковал:
- Мусенька? Это Марик.
Мы с Юрием Павловичем переглянулись. Наконец мы узнали имя загадочного незнакомца. Все остальное еще оставалось в тумане, но теперь у нас в руках была путеводная нить.
Незнакомец же, судя по всему, опять оказался в затруднительном положении.
- Что значит - какой Марик? - вопрошал он с шутливым негодованием. - Тот самый, которому вы недавно поклялись в верности... Даже и не думаю шутить... Как не помните? Минуточку, я вам сейчас напомню... Что? Почему - не сейчас? А-а! Хорошо, я позвоню позднее... А завтра?.. Ладно, позвоню на той неделе. Привет!
Нам с Юрием Павловичем становилась все более противной эта сцена. И хоть мы ни капельки не сочувствовали нашему незадачливому ловеласу, было очень тягостно оказаться невольными свидетелями его неудач.
Зато сам он держался молодцом и, подмигнув на этот раз почему-то мне, изрек:
- Женщина всегда остается женщиной! Сама бы рада до смерти принять приглашение, но как же можно не пожеманиться... Знаете анекдот про женщину и дипломата - какая между ними разница?..
Мне этот анекдот был известен, и я не счел нужным это скрывать.
- А вы? - с надеждой адресовался человечек к Юрию Павловичу. - Вы тоже его знаете?
Юрий Павлович сокрушенно кивнул головой.
- Ну что ж, ничего не поделаешь... - Человечек разочарованно улыбнулся и, уже не спрашивая разрешения, снова взялся за телефонную трубку.
На этот раз ему повезло. Его узнали, приглашение было принято, и, условившись о встрече и рассказав нам напоследок о каком-то, известном ему из личного опыта, случае женского коварства, он наконец откланялся.
- Как он к тебе попал? - спросил я у Юрия Павловича.
- Встретился в вестибюле, поздоровались, и он за мной увязался.
- Но ведь ты даже не знаешь, кто он такой? Как же ему это удалось? Что он при этом говорил?
- Ох, уж это мне твое стремление допытываться, как было дело, - поморщился Юрий Павлович. - Не помню, что именно он говорил, но вел он себя как давний знакомый и почитатель таланта. Глупо было спрашивать у него фамилию...
- Еще бы! У почитателя таланта - и вдруг фамилию.
Юрий Павлович пропустил мимо ушей бестактное мое замечание.
- Это во-первых, - продолжал он. - А во-вторых, я вообще не считаю правильным отпихивать от себя человека только на том основании, что не помню, кто он такой. И пускай ты будешь высокопринципиальный и взыскательный в выборе друзей и знакомых, а я беспринципный и неразборчивый, но не надо меня перевоспитывать. Кроме того, я считаю, что хвалить мои сочинения можно иногда и не кривя душой. И давай не будем продолжать этот разговор. Ты - такой, я - этакий, и прекрасно. Будем радоваться, что на свете существуют разные люди и разные взгляды. По-моему, так интереснее.
И мы заговорили о другом. Нынче же, вспоминая этот и многие другие наши споры, я считаю, что Юрий Павлович был прав не только радуясь, что на свете есть разные люди, но и защищая свою склонность водиться с теми из них, которые никак не могли ему нравиться. Тем более что часто это было необходимо ему как писателю, и, общаясь со своими кратковременными дружками, он отлично в них разбирался, о чем свидетельствовали его собственные рассказы, отличавшиеся достаточной беспощадностью.
Вот один из таких рассказов:
«...Он жил у меня на даче, и мне с ним было интересно и миленько. И не будем обсуждать вопрос о том, положительный он или отрицательный. Просто я тебе расскажу случай из жизни, а мораль ты выведешь сам, запишешь ее в свою записную книжечку, а потом отобразишь все это в своих художественных и критических сочинениях.
Было это около года назад, прошлым летом. Однажды мы с моим гостем решили с утра поработать - я у себя в комнате, а он - на веранде. Он говорил, что ему для ясности мысли необходим свежий воздух. В доме, кроме нас, в то утро никого не было, и мы, пожелав друг другу удачи, разошлись по своим местам и принялись за дело. Первые полчаса работа у меня не ладилась, потом пошло лучше, но не так, как мне бы хотелось. Что-то мне все время мешало, не давало сосредоточиться. Я остановился, прислушался... нет, все тихо, и в доме, и на дворе. Вдруг - скрипнула дверь, и я наконец уразумел, что именно мне все время не давало покоя: именно этот еле слышный скрип через каждые десять - пятнадцать минут и после него осторожные крадущиеся шаги. Меня, как говорится, заело, и я стал слушать дальше. Некоторое время все было тихо. Потом снова раздался скрип и все те же шаги. Я встал, подошел к двери в столовую и заглянул в щелку. Заглянул и оторопел. Мой гость, которому надлежало в это время, прилежно склонившись над столом, запечатлевать на бумаге яркие образы и глубокие мысли, осторожно, на цыпочках, переступая с ноги на ногу и пугливо озираясь по сторонам, подкрадывался к буфету, на котором стояла большая банка с только что сваренным вареньем, прикрытая сверху марлей. Здесь он остановился, перевел дух, прислушался, совершенно как заяц, приподняв одно ухо, и, убедившись, что все спокойно, снял эту самую марлю, запустил в банку всю пятерню и прямиком отправил в рот пригоршню сиропа и ягод. Как он при этом умудрился весь не измазаться, до сих пор не могу понять. Хотя... очевидно, все дело в опыте... Но это еще не все. Подкрепившись сладеньким и, судя по всему, уже не впервые за это утро, злодей взял со спинки стула, стоявшего рядом, мои старые брюки, которые я там вчера оставил, чтобы их починили, вывернул наизнанку карман этих брюк и тщательнейшим образом обтер об него руку, побывавшую только что в банке с вареньем. Потом осторожно, чтобы не запачкаться, снова заправил карман обратно и на цыпочках пошел к двери.
И самое странное, что, глядя на все это, я больше всего на свете боялся пошевельнуться. Чувство у меня было такое, будто передо мной идущий по краю крыши лунатик, которого упаси боже спугнуть.
Вот какие бывают в жизни случаи! У тебя, человека упорядоченного, эта история, разумеется, не вызывает никакого другого чувства, кроме гражданского негодования, а по-моему, в ней все очаровательно. И ежели бы я стал писать об ее герое, я бы слова не сказал об отсутствии у него моральных устоев, а рассказал бы про варенье, и все. А главное, показал бы многозначность этого происшествия. Потому что именно в многозначности вся его прелесть. И человек здесь виден с разных сторон - себялюбец, каналья, но ведь с несомненной примесью детскости. А детскость, как известно, всегда мила, ты ведь не будешь этого отрицать?»
Я не отрицал, но, если говорить честно, та форма детскости, о которой шла речь, мне не внушала симпатии.
* * *
Однако не надо думать, что «многозначность» так нравилась Юрию Павловичу, что он предпочитал приятельствовать и избирал своими героями не вполне порядочных людей более охотно, чем тех, кто заслуживал уважения.
Вовсе нет. Всем знавшим его и уж во всяком случае тем, кто читал его книги, известно, как бурно он радовался встрече с хорошим человеком и как безраздельно отдавал свое сердце людям, которые действительно этого стоили. Как горячо, с какой разумной обоснованной влюбленностью он распространялся о скромности, доброте и трудолюбии этих своих избранников, неизменно подчеркивая их героизм именно в будничных, повседневных делах.
Кстати сказать, превыше всего ценя в своих друзьях и героях именно эту их способность целиком отдаваться черновой, кропотливой работе, сам он работал иначе. И если не считать обыкновения печатать свои сочинения на машинке с помощью указательного пальца одной правой руки, самый творческий процесс протекал у него с какой-то поистине безмятежной легкостью.
Но об этом речь еще пойдет впереди. Сейчас же мне хочется рассказать о свойственной Юрию Павловичу душевной потребности уважать и преклоняться перед людьми, которых он избирал своими учителями.
Истинное благоговение вызывали в нем на протяжении всей его жизни два недостижимо высоких имени - Толстого и Пирогова. Но то были воплощения его идеалов, к которым, как известно, можно стремиться, но которым нельзя подражать. Ему этого было мало. Нужны были живые, земные, может быть даже грешные, люди, о которых можно было думать, не испытывая благоговейного ужаса, - учителя в подлинном, житейском значении этого слова.
Однажды он рассказал мне о встречах с Мейерхольдом, который еще в самом начале писательской деятельности Германа заинтересовался им, помог превратить в пьесу один из его ранних романов и поставил ее в своем театре. Я помню этот рассказ до мельчайших подробностей и мог бы воспроизвести почти дословно, но спустя несколько лет после того, как я услышал его из уст Юрия Павловича, он сам написал воспоминания о Мейерхольде, где этот удивительный человек изображен с подлинным блеском. Так что лучше всего попросту привести здесь отрывок из его описания одной из прославленных мейерхольдовских репетиций.
«Ничего у меня не выходило с эпизодом под названием «Горький миндаль», - пишет Герман. - В этом эпизоде Нунбах в лаборатории моего главного героя Кельберга принимал цианистый калий, который, как известно, пахнет горьким миндалем.
Была глубокая ночь, когда все в очередной раз поняли, что эпизод не вышел. Свердлину нечего было играть.
Мейерхольд пил молоко, курил, потом поднялся и ушел на сцену.
Сначала рабочие выкатили рояль.
Потом Всеволод Эмильевич поставил на полированную черную крышку рояля узкую, очень высокую хрустальную вазу и опять надолго исчез. Рабочие в это время принесли большое облезлое кресло и кусок серебряной парчи.
В зале все затихли. Мы присутствовали, понимая это, при рождении чуда в искусстве.
Вернулся Мейерхольд, вставил в вазу странный большой кактус, слепленный из станиоля. И в подсвечники рояля он вставил две свечи. Третья была на маленьком столике - возле кресла. Попыхивая сигаретой, Мейерхольд долго закрывал кресло серебряной парчой. Три свечи уже горели. Красивейший из всех известных мне на земле людей медленно и гордо оглядывал то, что создал тут своими руками.
В зале было так тихо, словно все ушли.
Но не ушел, конечно, никто.
Три свечи горели на сцене. Огоньки их отражались в черном лаке рояля. Парча, хрусталь и серебро - все вместе создало простую, лаконичную и чудовищно безжалостную картину смерти.
- Ты можешь тут умереть, Лева? - спросил Мейерхольд со сцены в темноту зала.
- Да! - сдавленным голосом крикнул Свердлин. - да, спасибо, Всеволод Эмильевич!»
За этим описанием ночной репетиции и нескольких других встреч с Мейерхольдом в очерке Германа следует такое признание:
«...А потом Мейерхольд меня бросил. Я больше не был ему нужен, он умел общаться с людьми по-настоящему, только вместе работая с ними. Или если люди были ему интересны в самом, разумеется, высшем смысле этого слова. А я не был ему больше никак интересен. И, наверное, я слишком его полюбил, может быть, это его раздражало».
Вот ведь как: «Слишком полюбил!», «Красивейший из всех известных мне людей!»... И это - о человеке пусть гениальном в своей области, но, по свидетельству всех знавших его, обладавшем неслыханно трудным характером и весьма причудливой внешностью, которую можно было назвать красивой только в состоянии восторженного, безрассудного преклонения.
Не знаю, как на чей взгляд, но мне всегда представлялась завидной эта способность Юрия Павловича совершенно по-юношески отдавать свое сердце людям, которых он избирал своими наставниками. И ведь в их числе были не только люди искусства, но и врачи, и летчики, и криминалисты, и моряки, и архитекторы, и педагоги, в которых далеко не всякий писатель распознал бы то, чем эти люди могут его одарить. Позавидовать можно было еще и тому, что, преклоняясь перед ними, Герман всеми порами своего человеческого и писательского естества впитывал то, чему хотел научиться.
Воспоминания о Мейерхольде кончаются так:
«Мне хотелось посмотреть «Даму с камелиями» - билетов не было; я позвонил Мейерхольду. Он долго притворялся, что очень рад моему звонку, но пустил меня только в яму оркестра. Я обиделся ужасно, как обижаются только в молодости, и ушел.
Больше я его никогда не видел. И не увижу.
Но когда я пишу сценарий, или повесть, или роман те удивительные месяцы моей молодости вновь оживают передо мной. За эти месяцы близости к Мейерхольду я очень многое понял, как мне кажется. И если в работе моей что-то удается, я знаю, не без тех давно минувших дней. Если же нет - значит, дней этих было слишком мало».
Но это - давние, почти юношеские впечатления Германа, воспоминания младшего о старшем, ученика об учителе. Более поздние его встречи с людьми, у которых он «набирался ума» и о которых писал, выглядели иначе.
С одним из таких людей Юрий Павлович однажды познакомил меня, и я имел возможность в этом убедиться.
Человек этот - работник Управления ленинградского уголовного розыска Иван Васильевич Бодунов - был приятелем Германа и прототипом героя одной из его книг. Книга называлась «Две повести», и Лапшин, главное действующее лицо одной из них, даже внешне напоминал Бодунова.
Однажды в разговоре с Юрием Павловичем я похвалил эту повесть. И сейчас же подвергся очередному его нападению за свой якобы слишком замкнутый образ жизни.
- Жалкий мирок! - восклицал Юрий Павлович с неподдельным негодованием. - Ты живешь в жалком, крохотном мирке пишущих, размышляющих и мечтающих! А литератору необходимы происшествия, треволнения, он должен дружить с людьми, совершающими поступки! Можешь ты это понять?
Понимать-то я это понимал и даже не раз пытался убедить Германа, что не так уж узок мир, в котором я живу, но ему требовалось самому, и к тому же немедленно, расширить круг моих друзей и для этого познакомить меня с Бодуновым, которым он был тогда увлечен.
К сожалению, обстоятельства сложились так, что это знакомство состоялось через много времени после описанного здесь разговора. Иван Васильевич уже переехал тогда в Москву и сменил беспокойную деятельность ловца и перевоспитателя заблудших душ на должность директора научно-исследовательского института и музея криминалистики.
Прочтя письмо от Юрия Павловича, которое я ему передал и в котором, как мне было известно, содержалась шутливая просьба «помочь подателю сего расширить свой кругозор», он виновато улыбнулся и с сожалением заметил, что в нынешнем своем положении не сможет помочь мне ничем другим, кроме обстоятельного ознакомления с экспонатами вверенного ему учреждения. Я ответил, что буду очень ему благодарен за это, и он повел меня по музею и по институтским кабинетам, из которых мне запомнились два. В одном из них занимались тем, что сличали конфигурации револьверных пуль с отверстиями, которые они оставляли, а в другом молодая и очень застенчивая женщина объяснила мне, каким методом следует пользоваться, чтобы распознавать на официальных бумагах, что чему предшествует: подпись - печати или, наоборот, печать - подписи.
И вот уже к концу этой экскурсии, когда я усвоил все это и вдоволь насмотрелся на ничем не примечательные физиономии знаменитых грабителей и убийц, на их зверские орудия и фотографии их жертв, Бодунов устало опустился в кресло, стоявшее в глубокой оконной нише (музей помещался в ту пору в здании бывшего монастыря), и, усадив меня рядом, принялся рассказывать о своих встречах с Юрием Павловичем и о значении этих встреч для расширения его собственного, в те поры не очень широкого кругозора. Причем рассказ этот был проникнут таким искренним уважением к нашему другу, что я не мог не испытать чувства гордости за все сословие «пишущих, размышляющих и мечтающих». Оказалось, что у рассказчика, всю свою жизнь только и делавшего, что «совершавшего поступки», по его собственному утверждению, было множество оснований не только глубоко уважать, но даже считать в чем-то своим учителем литератора, который о нем написал.
В рассказе Бодунова о Юрии Павловиче, разумеется, не было и тени того весьма распространенного похлопывания по плечу, какое иногда позволяют себе «практические деятели» в своих взаимоотношениях с литераторами, интересующимися их работой и жизнью. Видимо, Герман не давал для этого повода, и, интересуясь деятельностью работников уголовного розыска, не только не выглядел простофилей, дивящимся всякой мелочи, но подчас умудрялся находить в новом для него мире нечто такое, чего не видели постоянные его обитатели.
Мало того, - и это тоже можно было установить из рассказа Бодунова, - даже учась и заимствуя у криминалистов их опыт и таинства их профессии, Юрий Павлович сумел установить со всеми ними отношения, основанные на взаимном уважении, что не всегда удается «собирающим материал» литераторам.
Однажды я рассказал Герману о моем знакомстве и первом разговоре с известным физиологом, учеником И. П. Павлова, академиком А. Д. Сперанским, к которому меня направила редакция одного журнала, чтобы написать очерк о работе его института и о нем самом. Ученый очень неприветливо встретил меня. Как мне стало известно позднее, это было вызвано тем, что незадолго передо мной у него побывал бойкий и, в отличие от меня, пытавшийся скрыть свое невежество литератор, который отнял у него много времени попусту и вооружил его неприязнью ко всем представителям нашей профессии.
- Вообще вам следует знать, что я человек сердитый, - сказал мне тогда Сперанский. - Так что придется уж потерпеть.
Выслушав этот рассказ и установив, что я не реагировал должным образом на незаслуженно грозное это предупреждение, Юрий Павлович укоризненно покачал головой.
- Напрасно ты промолчал, - сказал он. - Хорошо ему быть сердитым, сидя по ту сторону письменного стола, за которым он тебя принимал. А ты бы спросил, сохраняет ли он эту сердитость, сидя на твоем месте.
И долго убеждал меня не давать спуску людям, не соблюдающим законы гостеприимства и считающим, что положение героев будущих сочинений дает им право относиться свысока к тем, кто эти сочинения собирается написать.
Должен сознаться, что, встретившись со Сперанским в следующий раз, я не удержался, напомнил ему о предыдущем нашем разговоре и рассказал о совете Германа. Он расхохотался, и отношения между нами заметно улучшились.
Вообще при всей склонности Юрия Павловича к дружбе с медиками, криминалистами или капитанами дальнего плавания он и не думал утверждать, что эти люди обладают широким кругозором по самому роду своей деятельности. Вовсе нет. Чтобы оказаться в числе его «избранников», требовалось еще кое-что. Такой человек должен был быть умен, трудолюбив и порядочен. И если обладателем перечисленных здесь качеств оказывался свой брат писатель, да к тому же еще и талантливый, Юрий Павлович не колеблясь отдавал и ему свое сердце.
Говоря о писателях, вызывавших у Германа чувство преклонения и нежности, нельзя не вспомнить об его отношении к Михаилу Михайловичу Зощенко.
Они были знакомы много лет, жили в одном городе но встречались редко. Так получалось, по словам Юрия Павловича, из-за того, что он робел перед Зощенко и стеснялся навязывать ему свое общество.
- С хорошо воспитанными людьми вообще нелегко, - жаловался Герман. - Поди разбери, почему он тебе улыбается при встрече: потому что действительно рад тебя видеть или просто из вежливости. А с Михаилом Михайловичем - особенно сложно. Уж так он кроток, так мягок, что совсем ничего невозможно понять. Вот я и робею. И к тому же, говоря по правде, я никогда не перестаю ощущать дистанцию между ним и собой. А ведь у нас, в Ленинграде, многие до сих пор не понимают, какой это замечательный, какой огромный писатель. И вероятно, все из-за того же. Уж очень он со всеми уважителен, прост, я бы даже сказал, застенчив. Даже с теми, которые судят о человеке не по его делам, а по умению «себя подать», он разговаривает и ведет себя так, будто собеседник умнее, чем он. Вот эти самые собеседники и приходят к заключению, что они умнее... Не все, конечно, но многие...
Однажды перед началом какого-то литературного собрания мы с Юрием Павловичем оказались в обществе Зощенко и очень молодой литераторши, с которой Михаила Михайловича незадолго перед тем познакомили. Дама эта, усмотрев в его тоне интерес ко всему, что она ему сообщала, и ту самую уважительность, о которой упоминал Юрий Павлович, сразу же почувствовала себя «царицей бала» и развернулась вовсю. То и дело поправляя свои, увы, недостаточно своенравные локоны и бойко стреляя глазами, она с совершенной непринужденностью принялась выкладывать Зощенко свои чрезвычайно незрелые и столь же категорические взгляды на литературу вообще и на некоторые его рассказы в частности. Михаил Михайлович слушал ее, учтиво склонив голову и растерянно улыбаясь. Мы молча стояли рядом.
Внезапно Юрий Павлович потянул меня за рукав и отвел в сторону.
- Слушай, - прошептал он взволнованно, - а она понимает, с кем имеет дело? У меня ведь уже в ушах рябит от ее болтовни, а он ведь физически слабее меня...
И, снова подойдя к Михаилу Михайловичу, он вмешался в разговор и очень скоро, тонким маневром, принял огонь на себя. Попутно было сделано все необходимое, чтобы внушить молодой литераторше уважение к Зощенко, который продолжал улыбаться так же вежливо и так же растерянно, видимо думая о чем-то своем.
Мне показалось, что беззащитность Зощенко была в этом случае сильно преувеличена, но таково уж было обыкновение Юрия Павловича - ограждать людей, которых он чтил, от малейших видов неуважения. Дело в том, что среди качеств, которые он особенно высоко ценил в людях, скромность была одним из важнейших. Но ведь, как известно, скромники далеко не всегда умеют за себя постоять. И была у него такая идея, что каждый порядочный человек просто обязан прийти на помощь, если увидит скромника в критическом положении.
Да и вообще приходить людям на помощь было одним из самых любимых его занятий. Шумно, весело, деятельно, иногда даже деспотически, он вмешивался в жизнь друзей и знакомых, помогая им осуществлять их планы, побуждая их эти планы менять; знакомил людей, которые, как он полагал, должны друг другу понравиться, уговаривал ленивцев взяться за работу, а тружеников - отдохнуть, людей инертных - совершить путешествие, а путешественников - непременно написать о виденном. Если ему случалось прочесть интересую книгу, он не давал никому покоя, пока не заставлял всех, с кем в это время общался, непременно ее прочесть; если ему нравился спектакль или фильм, все должны были его посмотреть; в пору его увлечения кинематографией он убеждал всех писать сценарии; с совершенно необычным для него постоянством дружа с медициной и медиками, требовал, чтобы все окружающие разделяли это его пристрастие, и, уж разумеется, широко использовал свои связи с врачами всех специальностей, чтобы помогать тем из своих друзей, которые нуждались во врачебной помощи.
У меня сохранилось одно из писем Юрия Павловича двадцатилетней давности, свидетельствующее о том, что все здесь сказанное - чистая правда. Вот несколько выдержек из него:
«Я живу смирненько, переписываю роман, мне это доставляет удовольствие... Моя жена и дети здравствуют... Темные люди, читаете ли вы Байрона? Наверное, наверняка нет. Я тоже раньше не читал, а сейчас почитал и очень обрадовался. Особенно письма и дневники. Скажи там всем своим, чтобы читали... Прочитал я еще забавную книжку Дрепера, под названием «История отношений между католицизмом и наукой». Почитай! Она издана в прошлом веке...»
И несколькими строками ниже:
«Была беда с Катей Шварц. Болел-болел у нее живот, все думали, что это просто так - дамское, а оказался аппендицит, да еще с прободением. Оперировали час сорок минут, но теперь все в порядке и температура нормальная. Произошло чудо - здесь оказался мой приятель профессор Арьев, у него обедали еще два доктора - подполковники медицинской службы, я уговорил Женю Шварца позвонить туда, они приехали недообедав и отправили Катю на «скорой помощи» в клинику, минуя приемный покой. Сразу прооперировали и спасли, иначе было бы невесть что.
Во время операции Катя сказала хирургу:
- Покойный Греков оперировал аппендицит восемь минут, а вы чикаетесь второй час. Сапожник вы, а не доктор.
Старик хирург был потрясен характером оперируемой. Теперь они добрые друзья».
А рядом, в конце того же письма Германа, полугрустное, полуироническое признание:
«Мне очень стало скучно. Мы все живем, как жили много лет. Мы уже знаем, как кто сострит и в каком случае, мы подолгу говорим о своих недомоганиях... Я очень что-то вдруг состарился...»
Не правда ли, как удивительно соседствуют здесь жалобы на внезапную старость и на однообразие ленинградской писательской жизни - со всем, что рассказано рядом и в чем можно увидеть все что угодно, только не старческую апатию и не равнодушие к чужой судьбе. И настойчивое требование, чтобы решительно все прочли книги, которые показались ему важными, и совсем уж юношеская готовность броситься на помощь товарищу, взяв на себя связанные с этим мучительные хлопоты (у Юрия Павловича это называлось «валяться в ногах»), потому что иначе ведь не заставишь ко всему привыкших стариков хирургов, недообедав, везти больную в клинику и сразу же оперировать, неся всю ответственность за исход операции! И ведь рассказано обо всей этой истории более чем скромно, да еще и с явным искажением действительности, потому что, как мне известно, знакомство Евгения Львовича Шварца с профессором Арьевым произошло после описанного здесь происшествия и он никак не мог бы обратиться к Арьеву с такой рискованной просьбой, не будучи с ним знакомым.
Но не нужно представлять себе Юрия Павловича этаким олицетворением самоотверженности и деятельного добра, без каких бы то ни было проявлений той самой «сложности», о которой мы с ним толковали когда-то. Это бы значило не понять главного в его натуре и в его отношениях с окружающими.
Дело в том, что та самая многозначность, какую он стремился находить и показывать в героях своих сочинений, в сильнейшей степени была свойственна ему самому. И отзывчивость к чужим невзгодам, да и самая потребность с кем-нибудь непременно дружить соседствовали в его характере с таким удивительным непостоянством и такой совершенно детской капризной изменчивостыо, что временами, правда, по преимуществу в мелочах, его поступки по отношению к недавним да и давним друзьям граничили с прямым вероломством. И фраза о Мейерхольде, в которой он вспоминает, как тот его «бросил», как нельзя более точно характеризует его собственное поведение в тех случаях, когда он внезапно разочаровывался во вчерашнем предмете своего поклонения и начисто терял к нему интерес.
Надо было слышать, с каким уничтожающим сарказмом повествовал в таких случаях Юрий Павлович о небезукоризненных поступках и неудачных высказываниях недавнего своего друга, который, сочтя их отношения «дружбой навек», капельку разоткровенничался, раскрыл ему свою душу и не оправдал в этой позиции надежд, которые на него возлагались, или, еще того хуже, оказался в чем-то смешным. Тут уж Юрия Павловича совершенно покидала терпимость, с которой он еще так недавно склонен был относиться к своему опрометчивому избраннику.
- Нет, нет, количество перешло в качество! - заявлял он в таких случаях в ответ на упреки в непостоянстве. - Я жестоко обманулся в этом человеке. До сих пор он был ко мне повернут лучшей своей стороной, а теперь я увидел другую. И оказалось, что он плоский и нарисован на холсте, как декорация. Да еще к тому же на обратной стороне у него нарисовано такое, что хоть святых выноси... И наконец, я не обязан всем все прощать!
И говорилось это всякий раз так искренне, с таким горестным негодованием и такими убедительными были доводы, которыми он обосновывал свое новое мнение, что собеседнику оно начинало казаться и впрямь справедливее прежнего.
Но самое смешное происходило в тех случаях, когда по прошествии некоторого времени, то ли позабыв о своем недавнем разочаровании, то ли открыв в низвергнутом кумире новые добродетели, Юрий Павлович принимался, кряхтя, снова взгромождать его на несколько покосившийся пьедестал и снова возносить хвалы его уму и таланту. Причем следовало иметь в виду, что на всех стадиях своего отношения к одному и тому же человеку он бывал предельно искренен и непоколебимо уверен в своей правоте.
Был среди кратковременных его друзей какой-то не то морячок, не то театральный администратор, о котором он рассказывал мне совершенно восторженно и которого рекомендовал как истинное воплощение мужественности, порядочности и очень им ценимой «бывалости». И столько было, по его словам, в этом молодом еще человеке «подлинности», так много он пережил за свою короткую жизнь, так здорово обо всем рассказывал, так здраво обо всем судил, что просто слов не хватало, чтобы охарактеризовать это сокровище. И вот однажды в один из моих приездов в Ленинград, когда я уже предвкушал радость предстоящего мне знакомства с героем этих рассказов, мне было сообщено следующее:
- Иду я, понимаешь, несколько дней назад по Невскому поздно ночью, на улице пусто, но ведь весна, так что светло, и вижу: впереди - драка. Большая морская драка, с таким количеством участников, что дерущиеся уже неточно знают - кого и за что они бьют. И ходит эта самая драка по мостовой, колыхаясь, взад и вперед, как живая. А на тротуаре - несколько человек стоят и глазеют. Я тоже стал глазеть. И вдруг в самом центре дерущихся вижу моего морячка - я тебе, кажется, о нем рассказывал, помнишь? Хотя он, в сущности, не моряк... а может быть - моряк, я не знаю. Он меня тоже увидел и, представляешь, поднимает вверх руку, с этаким заграничным приветствием, и кричит мне оттуда, из драки: «Хелло, Юра!» Это чтобы я подивился его геройству. Крикнул и сразу исчез, провалился куда-то, в это самое месиво из голов, кулаков, спин... и в ту же минуту вся толпа откатывается на середину улицы, раздаются свистки, крики, набегают милиционеры... Так мне противно стало, не рад был, что остановился.
Дослушав до этого места рассказ Юрия Павловича, я чуть было не напомнил ему о его недавнем намерении познакомить меня с морячком, но вовремя удержался. Однако он и сам, видимо, почувствовал необходимость упомянуть об этом.
- Знаю, знаю, что ты хочешь сказать. Мне и прежде была отвратительна его дурацкая страсть строить из себя завсегдатая заморских портовых кабачков со всеми вытекающими отсюда последствиями, вроде костюма и лексикона. А тут это самое «хелло, Юра!» - мне просто в нос ударило. Ты бы и сам почувствовал то же самое на моем месте. - И, хитренько улыбнувшись, добавил: - Конечно, если бы у тебя были такие приятели и если бы ты мог оказаться на Невском в такой поздний час. Но разве это возможно при твоем нежном литературном воспитании и с твоими строгими правилами?
Нет, решительно он был в чем-то прав. И, отвергая его иронические замечания о моем благонравии, я должен признаться, что мне уже и тогда его проникнутая симпатией к людям всеядность была гораздо милее неприязненной недоверчивости общепризнанных мудрецов. Тем более что эти самые мудрецы, однажды обжегшись, дуют и дуют на всех вокруг, обрекая себя на полное одиночество либо на существование в тесном кружке одинаковых и поэтому надоевших друг другу приятелей и знакомых.
Но об этом уже говорилось. А теперь настало время рассказать о том, как относился Герман к своему и чужому писательству, и о том, каким писателем сам он хотел бы стать.
* * *
По мнению многих разумных людей, занимаясь наукой, называть себя ученым - нескромно. Они утверждают, что это похоже на то, как если бы архитекторы называли себя зодчими, а военные - полководцами. Юрий Павлович не раз говорил мне, что это в полной мере относится и к людям, занимающимся литературой. По его мнению, им бы следовало называть себя не писателями, а литераторами. И по возможности не демонстрировать свою принадлежность к этому сословию, обещаясь с представителями более скромных профессий. А также не претендовать на роль учителей жизни и не щеголять своим умением разбираться в людях с первого взгляда.
Однажды, еще на заре нашей дружбы, сидя с ним в сквере на Пушкинской площади, я позволил себе высказать несколько соображений о людях, сидевших вокруг. Что-то об их предполагающихся профессиях, характерах, образе жизни.
Восприняты были эти мои психологические прозрения совершенно непримиримо.
- Какой ты у нас проницательный! - проворчал Юрий Павлович с шутливой яростью. - Если не ошибаюсь, в конце прошлого века такие люди именовались тайновидцами духа?
И он тут же прочел мне целую лекцию о пагубной роли физиономистики и о том, как сам он множество раз ошибался, пытаясь по внешности человека определить его профессию и характер.
- В жизни не встречал такого количества злодейских физиономий, как в филармонии на концертах симфонической музыки! - утверждал он. - А если бы ты знал, какое добродушное, лучезарное личико было у одного нашего школьного учителя - истинного садиста и злобного негодяя! И ведь самое смешное, что в литературе эта самая физиономистика определяется не стремлением проникнуть, так сказать, в суть вещей, а попросту - модой. Изображали, например, сыщика сначала долговязым чудаком с орлиным профилем, потом на смену ему пришел кругленький добродушный простак, с ничем не примечательной внешностью и повадками. А читатель верит и тому и другому, верит еще и потому, что по собственному опыту знает, что все это пустяки и что не дураки считают внешность обманчивой.
Проницательность нужна нашему брату не для того, чтобы по лицу и повадкам определять, какой у человека характер, а чтобы догадаться о мотивах его поведения, - продолжал рассуждать Юрий Павлович. - И именно тогда, когда он совершает несвойственные ему поступки... А вообще-то черт его знает - что нашему брату нужно. Кажется, прежде всего быть графоманом!
* * *
Писательская судьба Германа была одновременно и горестной, и счастливой.
Первый его роман был напечатан, когда ему исполнился двадцать один год. Второй он выпустил в двадцать четыре. А еще через два года, приехав однажды к Илье Ильфу в Красково, где тот жил на даче, я застал его за чтением толстенной книги, очень похожей на читаный-перечитаный библиотечный экземпляр какого-нибудь диккенсовского романа.
- Очень советую прочесть, - сказал Ильф, заложив книгу закладкой и показав ее мне. - Отличное сочинение! Наконец-то начали и у нас понимать, что романы должно быть интересно читать. А то ведь держат читателя в так называемом черном теле и все учат его, учат... учить-то ведь тоже надо умеючи...
Книга была - роман Юрия Германа «Наши знакомые».
Встретившись вскоре после этого с Юрием Павловичем, я рассказал ему о своем разговоре с Ильфом. Мне показалось, что мое сообщение его обрадовало, но вместе с тем немного смутило. Ильф слыл дотошным и строгим читателем, и хоть «Наши знакомые» пользовались несомненным успехом, их автор был не очень уверен, что этот успех им заслужен. Во всяком случае, выпустив через некоторое время свой роман новым изданием, он весьма основательно его переделал.
Что-то поликратовское было в его отношении к своему успеху, к тому, как рано этот успех к нему пришел, и особенно к легкости, с какой шла у него работа.
Этому трудно поверить, но он завидовал черной завистью тем, кто мучительно корпел над каждой своей строкой, бесконечно выбирая и переставляя слова и с отвращением перечитывая и перечеркивая то, что было написано накануне.
Свой истинно счастливый дар увлекательного рассказчика, свое умение с налету находить нужное слово, свою цепкую память, безошибочное ощущение композиционной соразмерности и великолепное чувство юмора - все это он совершенно ни во что не ставил.
Святое авторское недовольство только что сделанной работой - вот о чем он мечтал. Увы, это недовольство посещало его почти всегда слишком поздно, чаще всего уже после того, как книга была напечатана. А между тем дружеские или редакторские замечания делаемые по рукописи, только раздражали его. В отличие от авторов, испытывающих настоятельную потребность показать кому-нибудь свое только что законченное сочинение, он делал это до крайности редко. Недовольство ему требовалось свое, чужого он не терпел.
В ту пору, когда я еще не был об этом осведомлен, он прислал мне верстку первой части своего романа «Россия молодая» и попросил сказать, что я о нем думаю.
К несчастью, мне не удалось сразу же засесть за чтение, и через несколько дней я получил письмо, в котором содержались такие строки:
«Если бы ты написал роман в сорок печатных листов и дал мне прочитать половину, я бы нашел время сообщить свое мнение. Но ты, конечно, очень занят, и я тебя прощаю».
Эти совершенно змеиные интонации были свойственны Юрию Павловичу в тех случаях, когда он бывал очень сильно рассержен. И, отложив в сторону все остальное, я внимательно прочел кипу шероховатых листов с вдавленными в бумагу жирными литерами, после чего совершенно откровенно, без обиняков, изложил автору свои сомнения и недовольства. Результат был неожиданный: Юрий Павлович рассердился на этот раз не на шутку. Что он говорил тогда в защиту своего детища, я уже не помню, но ясно было одно - в обиду он его не даст. И только много времени спустя, когда это уже не имело никакого практического значения ни для романа, ни для наших отношений, приехав в очередной раз в Москву, он рассказал мне следующее:
- Вчера стою в очереди за железнодорожным билетом и слышу такой разговор. Какая-то женщина говорит своей знакомой: «Пошли давеча с мужем на «Неаполь - город миллионеров». Думала, отдохну. Ничего себе кино из жизни миллионеров! Сегодня пошли посмотреть «Рим в одиннадцать часов». Чуть с ума не сошла. Ничего красивого не показывают!..» Понятно тебе?
Этот вопрос уже относился ко мне.
- Что ты имеешь в виду? - спросил я.
- Все, вместе взятое... Помнишь, за что ты ругал «Россию молодую»?
- Какое это имеет отношение к «Городу миллионеров» и к тому, что говорила эта самая женщина?
- Косвенное... Мне тогда нравилось писать эпохально, красиво, ароматично, а тебе - не нравилось.
- Ну и что?
- Теперь мне тоже не нравится.
Я наконец понял. Это было то самое святое недовольство своей работой, которое по обыкновению пришло Юрию Павловичу с большим опозданием.
* * *
Он так рано умер! Так рано, что не успел сделать и малой доли того, что было ему предназначено. Это понимают все, кто его знал, все, кто помнит, как он щедро талантливо жил, шутил, говорил о книгах и людях, каким ненасытным он был в своем желании все увидеть, все испытать, во всем разобраться, как много ему было нужно друзей, путешествий, работы, каким он был добрым и веселым, как он был нужен и мил всем, кто хотя бы однажды с ним повстречался...
1974
ВЕЛЬМОЖА
Как известно из истории нашего государства, в двадцатых и начале тридцатых годов каждый представитель городского населения мужского пола, достигший призывного возраста, чем-нибудь непременно заведовал. В полном соответствии с этой исторической аномалией автор нижеследующих строк, едва достигнув восемнадцати лет, стал заведующим библиотечным отделом Наркомпроса Грузии, а в двадцать пять, только что окончив Московский университет, взвалил на свои далеко еще не окрепшие плечи тяжкое бремя забот, возглавив отдел критики в недавно перед тем учрежденной «Литературной газете». Младенчески неопытный, я еще не понимал тогда, что наступают времена, когда настоящему заведующему следует отличаться от всех других своих сограждан умением говорить «нет», в ответ на любое обращение и на любую, даже самую резонную просьбу. Не подозревая о непреложности этого правила, я считал своим долгом, сидя за колченогим столиком в своей редакционной клетушке, на двери которой красовалась надпись: «Отдел критики», самым радушным образом встречать всех посетителей и, выслушав их просьбы, по возможности таковые удовлетворять.
Вот и случилось, что в тот день, когда передо мной впервые предстал человек, о котором пойдет здесь речь, я отнесся к нему со всей возможной доброжелательностью.
Он был до удивления невзрачен. В не по росту широком и длинном пальто, с лицом какого-то совершенно альбиносьего цвета, он разительно отличался от обычных моих посетителей. Они были грубовато самоуверенны, он - вкрадчив и робок, они - склонны к простецкой фамильярности, он - искателен и до крайности церемонен.
Как и следовало ожидать, сочинение, которое он мне оставил, вытащив его из огромного, ветхого своего портфеля, было таким же.
Мне трудно вспомнить сейчас, о чем шла речь в этой первой его статье (за ней последовало много других, и они слились в моей памяти в один бесцветный и бесформенный ком), но вернее всего, то была статья о Некрасове, о котором тогда часто писали, противопоставляя его Пушкину и неизменно отдавая предпочтение его стихам, проникнутым гражданской скорбью, перед легкомысленными сочинениями «певца своей печали». Но горе было даже не в замысле этого сочинения. Рассуждения других авторов на ту же тему были иногда не лишены остроумия и даже искренности - молодые литературоведы, с тем же разрушительным упоением, с каким избалованные дети ломают свои игрушки, расправлялись со всем, что оставила нам в наследство великая наша литература, - горе было в том, как была написана эта статья.
Такого неумелого, такого вялого, ничем не одушевленного «ниспровержения» мне еще не доводилось читать.
Судя по всему, автор лежавшего передо мной сочинения не испытывал никакой потребности сбрасывать что бы то ни было с корабля современности. Его намерения сводились всего лишь к тому, чтобы продемонстрировать свою искательную готовность сделать это, если потребуется, и уж во всяком случае к стремлению идти в ногу со временем или хотя бы казаться похожим на тех, кто шел в эту самую ногу. Вот он и подпевал им, но делал это так неумело и так фальшиво, что ничего не стоило распознать фальшь в его дребезжащем фальцете.
И когда через несколько дней мой незадачливый автор пришел в редакцию, чтобы осведомиться о судьбе своего творения, мне не оставалось ничего другого, как сказать ему то самое «нет», которое мне так трудно давалось. Увы, я и на этот раз не сумел произнести это слово как следует. Пробормотав что-то невнятное о непригодности его статьи, я тут же предложил ему попробовать свои силы в другом, менее трудном жанре и написать для начала рецензию на какую-нибудь вышедшую недавно книгу.
Он готовно согласился. И, почувствовав в моем тоне сочувствие, так благодарно и кротко заулыбался, что окончательно растрогал меня.
Теперь легко вспоминать об этом, но тогда мне было не до шуток. При всей моей тогдашней неопытности, я отлично понимал, что чудес не бывает и литературная беспомощность, в сочетании с лакейской искательностью и полным отсутствием собственных мнений, никак не могут произвести на свет ничего путного. Так оно и оказалось.
Не прошло и недели, как мой подопечный притащил новое свое сочинение, которое даже по объему было раза в три больше, чем полагалось быть газетной рецензии, а по содержанию... я понимаю, что этому трудно поверить, но содержания в этом сочинении попросту не было.
Уныло ползая по страницам разбираемой книги, рецензент так и не сумел дать читателю представление о ней и сформулировать свое о ней мнение. Слова служили ему здесь не средством выразить свою мысль, а всего лишь для того, чтобы скрыть полное ее отсутствие.
Установив это и решив уклониться от тягостного разговора с автором, я переписал его рецензию заново, кое-что в ней «прояснив» и кое-что добавив. А переписав и даже не показав ему убогого результата нашего совместного труда, понес этот «материал», прикрыв его двумя другими статьями, на визу заместителю редактора - моему непосредственному начальнику. Расчет был на то, что заместитель этот, отличавшийся удивительным для работника литературной газеты свойством - патологическим отвращением к чтению, как таковому, бегло просмотрит все три статьи и не заметит убожества одной из них. Расчет оправдался. Он не заметил. Но, будучи в этот день в особенно нерешительном настроении, визировать ничего не стал. И на вопрос - что он думает о предложенном мною материале, ответил обычным для него в таких случаях способом: опершись локтями на край своего стола и сжав голову ладонями, развел пальцы в стороны и при этом высоко поднял узкие свои плечи. Это значило, что мнения о прочитанном он высказывать не намерен и решать ничего не будет. По опыту было известно, что в тех случаях, когда заместитель уклонялся от основной своей обязанности замещать и выражал эту свою позицию указанным выше способом, добиваться от него толку было бессмысленно.
К сожалению, редактор газеты (им был тогда С. С. Динамов) решил на этот раз внимательно прочесть весь приготовленный к номеру материал.
Но о Динамове непременно нужно сказать несколько слов. Нынче он заслуженно забыт, но для своего времени был чрезвычайно характерен.
Узкий, длинный, с костлявым, тоже длинным, лицом, он выглядел так, будто существовал только в двух измерениях, что, впрочем, не мешало ему быть человеком очень неглупым и не лишенным чувства юмора. В деятельности своей он был законченным образцом литературного бюрократа и, вероятно, именно поэтому не стал членом РАППА - организации слишком для него суетливой и авантюристической. Конец его был трагичен. Преданный ближайшим другом, которого, с полным на то основанием, молва окрестила Ванькой-Каином, он бесследно исчез в сталинских лагерях. Пока же, в тот период, когда мне довелось работать под его началом, Динамов старался не давать воли ни своему уму, ни чувству юмора и довольно успешно справлялся поэтому с множеством порученных ему обязанностей. Редактирование «Литературной газеты» было только одной из них.
Итак, прочтя рецензию, о которой идет здесь речь, Динамов внимательно посмотрел на меня поверх своих очень блестящих, пожалуй, даже щеголеватых очков, и спросил, отодвигая от себя сколотые булавкой листки:
- А это нам зачем?
Поняв, что дело плохо, я что-то пробормотал о литературной неискушенности и старательности автора рецензии и о его готовности выполнить любые пожелания редакции.
Динамов насмешливо прищурился.
- Помнится мне, в своей тронной речи, при вступлении на пост заведующего отделом критики, вы настаивали на том, что критические статьи должны обладать самостоятельным излучением, - промолвил он язвительно. - Эта рецензия, по-вашему, излучает?
Мне ничего не оставалось, как промолчать. И это привело к тому, что рецензия «не пошла», а в последовавшие за этим месяцы совершенно ученические статьи того же автора о народных демократах, о Герцене, Горьком, а также скучнейшие рецензии на самые скучные книги современных писателей с удручающей регулярностью стали появляться на моем, ничем не защищенном от такого рода посягательств столе.
Но однажды произошло чудо, а может быть, и не чудо, а одно из проявлений скрытой от нас закономерности. Очередное свое сочинение мой незадачливый автор принее именно в тот день, когда газете срочно потребовалась статья именно на эту тему и «так, как надо» написанная.
После мучительного процесса правки, перекомпоновки и замены вполне идиотических мест чуточку менее идиотическими я положил этот опус на стол редактора и уселся против него, стараясь не встречаться с ним глазами.
Он молча прочел статью, брезгливо поморщился и, и слова не говоря, написал в верхнем углу первой страницы: «В набор».
Мы отлично понимали друг друга, и говорить нам, в сущности, было не о чем. Разве мы могли знать тогда, разве мы могли предвидеть, как нелепо и трагически сложится судьба участников этого происшествия, как низвергнется в пропасть один из них и как высоко вознесется другой?
* * *
Прошло пятнадцать лет. О Динамове давно уже не было никаких вестей, и только спустя еще много времени в «Краткой литературной энциклопедии» появилась заметка о нем, где было сказано, что он «в условиях нарушения социалистической законности в период культа личности Сталина был репрессирован и посмертно реабилитирован». Что же до второго моего героя, то я надолго почти совсем потерял его из виду. Слухи о нем иногда до меня доходили, но, хорошо его зная, я этим слухам не верил. Слишком уж преуспел в науке и слишком высоко вознесся его двойник, чтобы можно было представить себе в этой роли известного мне неуча и прирожденного неудачника, робость и душевная мешковатость которого никак не вязались с головокружительными успехами человека, о котором шла речь. И вот однажды, году в сорок шестом, мы с ним оказались соседями в крохотном, по нынешним временам, самолетике, одном из первенцев нашей пассажирской авиации, совершавшем рейсы между Москвой и Сочи.
Самолет летел в Москву. Почти все пассажиры расселись по своим местам, когда в кабину вошли мужчина и дама. Свободных мест, расположенных рядом, уже не было, и дама устроилась где-то впереди, а в кресло рядом со мной опустился ее спутник, в плаще каменноугольного цвета и ярко-зеленой шляпе, почему-то надетой задом наперед и поэтому с полями, опущенными на затылке и приподнятыми над лбом.
Я не сразу его узнал, но через минуту именно этот причудливый способ носить головной убор помог мне распознать в нем давнего моего знакомца. Это был он - мой автор из «Литературной газеты». Сомнений быть не могло даже после того, как он снял свою шляпу, открыв для всеобщего обозрения лысину, обрамленную светлыми спутанными волосиками.
К чести ему следует отметить, что на мое приветствие он ответил с искренней готовностью и даже как бы обрадовался нашей встрече. Мало того, вспоминая о давнем нашем знакомстве, он назвал меня своим покровителем, чего никак нельзя было ждать от человека его ранга и положения. Правила поведения для новых сановников начали уже тогда складываться, и в неписаном этом кодексе даже простая вежливость в обращении с «нижестоящими» почиталась излишней. Мой герой и в этом по обыкновению запаздывал, хотя в нынешних его повадках и чувствовалась несвойственная ему прежде вальяжность, а в лице появилась этакая барственная округлость.
С первых же его слов мне стало ясно, что слухи об успехах человека, которого я считал его двойником, были его успехами. И теперь он возвращается в Москву после заслуженного отдыха в одном из очень привилегированных сочинских санаториев. В санатории этом ему и его супруге, по его словам, была предоставлена вроде отдельная квартирка, куда им, если бы у них возникло такое желание, приносили бы «на дом» завтраки, обеды и ужины, такие обильные и такого высокого качества, то в те годы о лучших нельзя было и мечтать.
Сообщив мне об этом и умилившись удивлению, каким я его рассказ выслушал, мой сосед предложил моему вниманию любопытнейшее свое наблюдение. Оказывается, прогуливаясь с супругой по аллеям сочинских парков, ему удалось установить факт чрезвычайной важности.
- Обратили ли вы внимание, - спросил он, доверительно склонившись к моему уху, - обратили ли вы внимание на то, как выглядят эти самые сочинцы?
Я ответил, что не нашел в их облике ничего примечательного.
- Ну, как же? - укоризненно промолвил он. - Как же вы не заметили, какой у всех у них болезненный вид?! Я бы даже сказал - изможденный!
- Чему же здесь удивляться? - заметил я и собрался было растолковать моему собеседнику, что в нынешнее послевоенное время так выглядит большинство наших сограждан. Но он не позволил мне продолжать.
- Ну, что вы! - проговорил он с некоторым даже сочувствием к моей слепоте. - Ну, что вы! Неужели вам не ясно, что все дело в климате! Да, да, да! Слишком влажно и душно! И слишком много цветов! Здесь даже зимы настоящей не бывает.
Я решил с ним не спорить. Этот прозорливец, еще так недавно щеголявший в потрепанном пальто с чужого плеча, в нынешней его квартирке санатория «закрытого типа» совсем потерял способность видеть в истинном свете то, что его окружало, и умудрился (здесь это слово всего уместней), умудрился не заметить ни длинных очередей у продовольственных магазинов, ни рынка, на котором в ту пору процветала меновая торговля и «болезненные» горожане отдавали за комок масла и ведро картофеля дедовские шубы и хрустальные вазы.
Нет, с ним не стоило спорить. Как знать, может быть его открытие, касаемое вредоносного климата одного из прославленнейших наших курортов, было необходимо ему для оправдания благоденствия, каким он наслаждался в своем санаторном мирке?
Но если это так, то чем же можно объяснить его деятельное участие в травле Корнея Чуковского, а позднее и Зощенко, книгу которого он посмел назвать пошлой.
Полно. Угрызения совести здесь и не ночевали. Как ни мало он смыслил в литературе, как ни был похож в этой области на жениха из пьесы Островского, с трудом отличавшего мыло от пряника, «пошлой» он эту книгу считать не мог.
И все же окончательно установить, когда мой герой лгал, а когда заблуждался, мне удалось много позднее. Для этого понадобились совсем уже красочные события, увенчавшие его историю несколько лет спустя.
Кстати, я не называю моего героя по имени из соображений вполне гуманных. Если существуют и здравствуют ныне его потомки и если им неведомы некоторые подробности его похождений, мне бы не хотелось их огорчать. Пусть не будет у них оскомины от винограда, который он ел.
Что же до этих самых похождений, то мне следует оговориться. Мне не пришлось быть их очевидцем, и я расскажу о них с чужих слов. Летописцу ведь далеко не всегда удается быть свидетелем событий, о которых он повествует; важно лишь, чтобы источник сведений о них был достаточно достоверен.
Но прежде, чем перейти к финалу жизнеописания моего героя, следует рассказать еще об одном, незначительном, но крайне характерном происшествии, в котором я участвовал самым непосредственным образом.
Произошло это на пороге сорок девятого года. Время было тревожное и волна арестов, затихшая было после тридцатых годов, вновь начала накатывать. И снова сакраментальные «шаги на лестнице» заставляли испуганно настораживаться всех, кто был умудрен недавним печальным опытом.
И вот однажды, в сумрачное зимнее утро, я услышал такие шаги и, хоть тревогу они вызывали по-преимуществу в ночные часы, стал настороженно к ним прислушиваться. Шаги остановились у моей двери, и после краткой паузы раздался громкий, пожалуй даже сердитый, звонок. Я никого не ждал в этот час, и звонок очень мне не понравился.
Еще больше мне не понравился человек, которому я открыл. Это был молодцеватый лейтенант, весь в металлических пуговицах, в ремнях и нашивках. Лейтенант назвал мою фамилию, и мне ничего другого не оставалось, как признаться, что я и есть тот самый, кто был ему нужен.
- Приказано передать, - отчеканил он и протянул мне объемистый пакет, запечатанный сургучной печатью, после чего взял под козырек и удалился так же, как прежде, тяжело и мерно ступая.
Усевшись за стол и отдышавшись, я вскрыл пакет. От сердца у меня отлегло. В пакете была недавно вышедшая книга моего высокого друга и спутника по дороге из Сочи, с дарственной надписью. Книга была о Горьком, надпись была решительно ничем не примечательна. Необычным был только способ, каким этот подарок был мне вручен. Использовать фельдъегерскую связь для столь незначительных поручений мог только очень «значительный» человек, такой значительный, что ему и в голову не могло прийти, какую тревогу может вызвать у получателя появление военизированного гонца в такое смутное время.
Но вернемся к рассказу о дальнейших похождениях моего героя, достойно увенчавших его руководящую деятельность.
В тот год, в одной из московских литературных редакций, какими-то проходимцами было создано некое заведение - то ли дом свиданий, то ли ночной клуб - для сановников культурного фронта, утомленных борьбой с тлетворным влиянием Запада. О том, что в этом заведении происходило, циркулировали самые разнообразные слухи, правдоподобие которых проверить трудно, и поэтому я не буду их повторять.
Вполне достоверно лишь то, что одним из постоянных посетителей упомянутого увеселительного заведения был мой герой, очень уж к тому времени пожилой и, как говорили, еще более невзрачный, чем прежде.
О ночном клубе очень скоро стало известно тем, кому надлежало этим ведать, его разогнали, повинных в его устроении примерно наказали, а так как скрыть это скандальное происшествие стало уже невозможно, было решено поручить низовым партийным организациям заняться рассмотрением морального облика посетителей предосудительных сборищ.
И на одном из многолюдных собраний такого рода предстал перед живо заинтересованной происходящим, жаждущей «крови» аудиторией мой герой.
Очевидцы рассказывали, что он был похож в этот день на надувную резиновую игрушку, из которой выпустили воздух. Зная, как он выглядел до того, можно себе представить, какое это было печальное зрелище.
Припертый к стене фактами, которые опровергнуть было невозможно, он упорно отказывался признать свое поведение безнравственным.
Было установлено, что его подругой, или, точнее говоря, партнершей в доме свиданий, была совсем еще молоденькая и довольно миловидная девица легчайшего поведения. И вот о ней-то и о своих с ней отношениях наш оратор лепетал нечто совершенно бессвязное, пытаясь представить дело так, будто его грехопадение было вызвано одной только жалостью. Девица, видите ли, была в него по уши влюблена, а он, движимый состраданием, поддерживал отношения с ней, боясь, что оттолкнув, разобьет ее нежное сердце.
Говорят, что именно в этом месте его речи, когда он остановился, чтобы вытереть пот со лба, кто-то из сидящих в зале промолвил веско и внятно:
- Да! Красота - это страшная сила!
И, будто бы именно после этого возгласа, вызвавшего громкий и дружный хохот и даже аплодисменты, мой герой, окончательно обескураженный, замолчал и, по-стариковски шаркая и весь поникнув, сошел с трибуны.
А вскоре после этого он заболел и умер. В отличие от многих своих однокашников по институту красной профессуры, где он когда-то набирался мудрости, умер в своей постели.
* * *
Что же можно сказать об его истории? Поучительной ее не назовешь, типичной - тоже. Правильнее всего было бы, вспоминая о ней, привести здесь фразу Оливера Кромвеля, которой М. Зощенко заканчивает свою «Голубую книгу».
«Меня теперь тревожат не мошенники, а дураки», - заявил, по его словам, еще триста лет назад этот прославленный государственный деятель, который, надо полагать, знал толк в трудностях, с какими приходится иметь дело в борьбе за новый общественный строй.
Пусть же его слова послужат моралью этой правдивой истории.
1982
ПРОРАБОТКА
В давние, школьные мои времена слово «проработка» было сродни понятиям «внимательно рассмотреть», «изучить», «разобраться». Но все меняется в этом мире. И в тридцатые годы, когда закладывались основы всеобщего взаимного недоверия, доносительства и враждебности между людьми, это слово обрело новый зловещий смысл. Оно стало синонимом слов «уличить», «разоблачить», «наказать». И те, кто подвергались тогда «проработке», сразу же попадали в разряд - в лучшем случае подозрительных, а в худшем - отверженных.
Однажды мне выпало на долю испытать на себе новое значение этого, еще недавно такого мирного слова. Шел пленум Союза писателей. Был он таким многолюдным, что крохотный зал особняка на тогдашней Поварской улице, о котором говорили, что он послужил Толстому прототипом для дома Ростовых, не мог вместить всех желающих. И чтобы помочь делу, зал радиофицировали, развесив в коридорах и комнатах по соседству круглые черные громкоговорители.
И вот, стоя в коридоре под одним из них и рассеянно слушая картонные голоса ораторов, мирно докладывавших об успешном отображении нашей литературой успехов нашей тяжелой и легкой промышленности, я вдруг услышал свою фамилию.
- В результате мы имеем явно ошибочные политические высказывания. Я имею в виду статью товарища Мунблита: «Мера и грация» в «Литературной газете» за 1934 год, - сказал, вроде бы обращаясь ко мне громкоговоритель.
Услышав эти слова, я сделал все возможное чтобы протолкаться в зал. И удалось мне это потому, что стоявшие в дверях великодушно потеснились, понимая чувства владеющие мной, и отдавая мне таким образом горестное предпочтение.
В жарком, ярко освещенном, благоговейно безмолвном зале на трибуне стоял тогдашний секретарь Союза писателей А. Щербаков, тот самый, чьим именем названа теперь одна из станций московского метрополитена - большой, круглый, розовый человек в свободном щегольском френче и блестящих круглых очках и, рубя воздух рукой, говорил... Слух не обманул меня - говорил обо мне.
Нынче, после того как стенографический отчет о пленуме Союза писателей в марте 1935 года издав отдельной книгой, я могу восстановить его выступление в точности.
Оказывается, я много потерял тогда, невнимательно слушая начало его речи. А оно было весьма любопытно. Вот что в нем содержалось:
«...Несколько лет тому назад ряду писателей наши критики говорили: «Ты пишешь идеологически неприемлемые для нас вещи, но ты действительно большой художник, мастер слова, твои произведения - значительные художественные ценности». И такой писатель иногда ходил важный и надутый и говорил: «Да, конечно, с идеологией неблагополучно, но я подлинный представитель художественного слова». На самом деле и тогда во многих случаях это было не так, а теперь мы можем прямо сказать А. Платонову: если раньше в твоих произведениях были проблески талантливости, то твои последние рассказы и с точки зрения художественной формы имеют ничтожную ценность. И должны мы еще сказать: жалок путь писателя, цепляющегося за старые, обветшалые разбитые жизнью идейки.
Мы обязаны предупредить таких писателей: делайте еще и еще усилие, перестраивайтесь, подравнивайтесь под общий фронт советской литературы, мы вам в этом всячески поможем, а иначе скоро читатель забудет о вас... А читатель наш - особенный, и я думаю, мы сделаем правильно, если несколько слов скажем о читателе, а затем сделаем свои выводы...
Позвольте привести несколько фактов.
Москва. Электрозавод. Заводская библиотека имеет тринадцать с половиной тысяч подписчиков. Средняя читаемость - двадцать книг на читателя в год, т. е. каждый читатель читает в месяц больше, чем одну книгу...
...Иностранные писатели, разъехавшиеся после съезда (писателей) по стране, с волнением рассказывали, как они в рыбацком колхозе имени Сталина, в доме колхозницы - члена сельсовета, нашли томик стихов Беранже, любимого автора колхозницы...
Красноармеец после того, как отстоял свое время на посту, охраняя границы социалистической родины, отдыхает за чтением статей Белинского...
К чему я все это говорю? Я хочу сказать, что для ...укрепления связи писателей с трудящимися массами у писателей есть один путь: дать больше хороших книг.
Советские писатели, следуя требованиям съезда писателей - писать хорошо и только хорошо, сейчас упорно работают над качеством своих произведений. Этим объясняется тот факт, что многие произведения, которые должны были бы уже появиться, не появились. Над ними производится дополнительная работа...»
И здесь оратор переходит к рассмотрению деятельности критиков, отмечая присущие им недостатки и укоряя их за то, что проблемы социалистической эстетики разрабатываются ими слабо и не без ошибок. «Так, - говорит он, - в одном из своих докладов. -
«Проблемы социалистической эстетики» - т. Лифшиц заявил: «существует несколько условий общественно-политического свойства, которые обусловили собой то обстоятельство, что в настоящее время вопросы эстетики ставятся у нас в порядок дня и что все теперь интересуются проблемами именно такого типа. Тов. Лифшиц считает, что в основе этого лежит, во-первых, стремление к зажиточной жизни и, во-вторых, то объективное политическоe обстоятельство, что классовый враг в нашей стране разбит... Односторонняя формула, а потому неправильная. Тов. Сталин на XVII съезде говорил не так. Он учил нас, что враг разбит, но еще не добит. В таких вопросах надо быть абсолютно точным, ибо, если бы мы стали исходить из основной позиции т. Лифшица, мы наделали бы массу ошибок, льющих воду на мельницу гнилого либерализма»...
Следует отметить, что речь здесь идет об М. А. Лифшице, известном тогда философе, искусствоведе и профессоре, - о человеке, написавшем немало статей и книг и, разумеется, не несущем никакой ответственности за «условия, которые обусловили», и уж конечно - за «воду, пьющуюся на мельницу гнилого либерализма»...
Но не будем отвлекаться, тем более что оратор переходит теперь к основополагающей идее, породившей его недовольство деятельностью некоторых литераторов. Она, разумеется, принадлежит Сталину, и А. Щербаков, чтобы напомнить о ней, приводит отрывок из «Вопросов ленинизма».
«Но можно ли сказать, - пишет Сталин, - что мы уже преодолели все пережитки капитализма в экономике? Нет, нельзя этого сказать. Тем более нельзя сказать, что мы преодолели пережитки капитализма в сознании людей. Нельзя этого сказать не только потому, что сознание людей в его развитии отстает от их экономического положения, но и потому, что все еще существует капиталистическое окружение, которое старается оживлять и поддерживать пережитки капитализма в экономике сознании людей в СССР и против которого мы, большевики, должны все время держать порох сухим».
И сразу же, после этого призыва о порохе и о том, как с ним следует обращаться, Щербаков переходит к признанию Всеволода Мейерхольда, о котором рассказывает театральный критик Иосиф Юзовский в статье, посвященной новой постановке «Дамы с камелиями».
«Я устал от одной только ненависти, - заявляет будто бы Мейерхольд. - Я хочу, чтобы зритель у меня страдал, сочувствовал, чтобы он учился у меня не только ненавидеть, но и любить. Я не хочу больше аскетической отрешенности моих героев, моих декораций, моих костюмов... Я хочу радости моему зрителю».
Здесь, судя по стенограмме, пафос оратора достигает вершины.
«Как можно устать от классовой ненависти?» - гневно вопрошает он и, смело переходя из театрального мира «огней и цветов» к суровым военным будням, восклицает: «Боец, с которым так бы случилось, - пропащий для борьбы человек». (Голоса: «Правильно!»)
И на этой волне, одушевленный сочувственными возгласами рьяных единомышленников, Щербаков приглашает слушателей взглянуть на то, какие кромешные политические ошибки возникли в литературной критике на почве, унавоженной Лифшицом, Юзовским и Мейерхольдом.
«На одном таком выступлении я считаю необходимым остановиться, - говорит он. - Я имею в виду статью т. Мунблита «Мера и грация» в «Литературной газете» № 153 за 1934 год. Мунблит в этой статье утверждает: «...образ незаметного и самоотверженного героя, всего себя отдающего любимому делу и гибнущего ради него, был совершенно реален в условиях партийного подполья дореволюционных лет. Тогда он впервые и был описан...
И тогда этот образ был героичен, тогда жизнь «незаметного героя» была подвигом, заслуживающим восхищения и подражания. Но условия изменились и теперь, стало быть, такого образа незаметного героя быть не может». Чудовищное утверждение!.. Разве в реконструктивный период не было тысяч и тысяч людей, окончивших свою жизнь на посту... Другое дело, что многие авторы не сумели по-настоящему, со всей силой художественного убеждения отобразить этот образ и привнести в него много от штампа и трафарета. Но это никому не дает права развенчивать этот образ. Тов. Мунблит говорит: «Трудно поверить тому, чтобы он (этот незаметный герой, умирающий на посту) умел распределять свое время, и ему не удавалось выгадать час на обед. Трудно верить необыкновенной его трудоспособности, если его болезнь была так серьезна. И наконец, трудно ощутить его реально, если писатель скрыл от нас неизбежные у такого человека черные ногти, засаленный ворот рубахи, давно небритую щетину на подбородке, усыпанные перхотью плечи и стоптанные сапоги».
Товарищи, хотел этого Мунблит или не хотел, но он в данном случае явился рупором враждебных настроений, и не случайно наши враги одобрительными аплодисментами встретили статью Мунблита». (Голоса: «Позор!»)
Но здесь мне представляется правильным подробнее рассказать о том - что я тогда писал.
Статья была посвящена недавно вышедшей первой книге молодого писателя Василия Гроссмана «Глюкауф». «Эта книга, - писал я тогда, - несет на себе следы бесчисленных трудностей, преодоленных писателем, причем некоторые из них преодолены с блеском, свидетельствующим о большой работе и большом даровании... Говорят, нет ничего более трудного для молодого художника, чем провести округлую линию, не подсказанную движением руки, держащей карандаш, а точно копирующую линию бедра стоящей перед ним натуры.
Надо сказать, что дурные традиции этого рода в нашей литературе уже имеются в весьма достаточном количестве. Упрощенные, удобные для изображения человеческие характеристики, плоские и нарочито симметричные ситуации особенно сильно распространены у нас в книжках так называемых «писателей-середняков». И если истинные очертания предметов почти никогда не повторяют друг друга, то, лишенные своей сложности, округленные и описанные ленивой рукой, они становятся разительно схожими и немедленно обращаются в традицию, явственно порочную и тем не менее преодолевавшуюся с трудом даже опытными писателями.
Василий Гроссман легко переболел этой болезнью, умело преодолев в своей книге многие соблазны и трудности, и только в одном случае он позабыл о словах Виктора Гюго, отвечавшего своим критикам лет сто назад: «Автор заимствовал мысль своего произведения не из книг, - он не имеет обыкновения искать так далеко».
Одно из главных действующих лиц романа Гроссмана - секретарь шахтпарткома Лунин, возглавляющий борьбу за механизацию шахты, - именно такой, традиционный в дурном смысле этого слова образ, и эта ошибка весьма существенна. Условно он может быть назван «человеком, не успевающим пообедать». У Гроссмана о нем так прямо и сказано: «У него всегда получалось так, что времени хватало на все. Только вот пообедать он обычно не успевал...»
Характерной чертой «человека, не успевающего пообедать», является отсутствие того, что на комсомольских собраниях недавнего прошлого именовалось «личной жизнью». Нет этой «личной жизни» и у Лунина.
Большей частью «человека, не успевающего пообедать», гложет тяжелый недуг, причем на настойчивые предложения полечиться он отвечает обычно шутками и лечиться не едет. Поэтому Лунин беспрестанно кашляет и о лечении не помышляет.
И, наконец, неизменным и неизбежным концом этих людей бывает смерть на посту, предшествующая финальной сцене романа, в которой дело, возглавлявшееся покойным, тем не менее одерживает победу. Поэтому Лунин умирает в шахте, куда он спустился проверить механизмы перед пуском, и пуск тем не менее проходит успешно.
Два вопроса возникают при знакомстве с образом Лунина, традиционность которого вряд ли кто-нибудь возьмется оспаривать: правдив ли этот образ, во-первых, положителен ли он, во-вторых? Элементы правдоподобия в этом образе, несомненно, имеются, но ошибка Гроссмана заключается в том, что образ этот взят им не во всей его сложности, какая ему присуща в реальных условиях, а в упрощенном канонизированном воплощении, какое получил он в литературе. А так как жизнь идет вперед, литературные герои, однажды запечатленные, становятся неподвижными, образ Лунина получился нежизненным.
Этот образ незаметного и самоотверженного героя, всего себя отдающего любимому делу и гибнущего ради него, был совершенно реален в условиях партийного подполья дореволюционных лет. Тогда он впервые и был описан. И тогда этот образ был героичен, тогда жизнь «незаметного героя» была подвигом, заслуживающим восхищения и подражания.
Но условия изменились. Лишения перестали быть вынужденными для такого человека, если он стал секретарем шахтпарткома, отсутствие «личной жизни» не определяется теперь необходимостью конспирации, а небрежение к своему здоровью в сущности родственно небрежному отношению к механизмам, которое препятствует у нас внедрению социалистических методов труда. Следовательно, если «незаметный герой» прошел через революцию и гражданскую войну, если он живет сейчас и борется за механизацию шахты и если этот человек умен (а ему надлежит быть неглупым) и понимает смысл происходящего, он не может превратиться в «человека, не успевающего пообедать».
Что же касается этого последнего, то романтический ореол, каким его окружают в литературе, ему не принадлежит.
Трудно поверить тому, чтобы он умел распределять свое время, если ему не удавалось выгадать час на обед. Трудно поверить необыкновенной его трудоспособности, если его болезнь была так серьезна. И, наконец, трудно ощутить его реально, если писатель скрыл от нас неизбежные у такого человека черные ногти, засаленный ворот рубахи, давно не бритую щетину на подбородке, усыпанные перхотью плечи и стоптанные сапоги.
Нет, образ этот у Гроссмана упрощен и неверен, он взят не из жизни, а из литературы, он - та самая округлая, легко проведенная линия, подсказанная рукой, держащей карандаш, которую следует преодолеть, чтобы верно изобразить жизнь во всей ее сложности и полноте».
Легко заметить, что в этом давнем и, на сегодняшний мой взгляд, неосмотрительном моем сочинении не было и тени намерения высмеять и предать осуждению героев подполья и участников гражданской войны, жертвующих жизнью и пренебрегающих своим благополучием потому, что иначе было нельзя и дело этого требовало. Вовсе нет. Но в середине тридцатых годов страна начала строиться и ей потребовались другие люди. Привело это к тому, что литераторы моего поколения в начале тридцатых годов были одушевлены пришествием нового «героя нашего времени» и изо всех сил пытались представить его себе и помочь ему родиться. Он должен был знать и любить свое дело или, по крайней мере, этому делу учиться - новый человек, которого мы себе навоображали, - он должен был быть деловитым, умным, обладать чувством юмора, должен был уметь рационально использовать свои и чужие силы, быть непримиримым врагом штурмовщины, безалаберщины, верхоглядства, короче говоря, этот ангел во плоти должен был быть новым - в полном и подлинном смысле героем нашего времени.
Щербаков просто не понял меня. Следовало это ему объяснить и помочь ему, недавнему тогда руководителю Союза писателей, разобраться в таком очевидном для меня и для моих единомышленников умонастроении молодых литераторов.
Озабоченный этим намерением, я на следующее утро, созвонившись с секретаршей и узнав, что Щербаков принимает, отправился в «дом Ростовых».
Все благоприятствовало мне в это утро. И погода, и трамвай, сразу же подкатившийся к остановке, и безлюдный в этот ранний час вестибюль Союза писателей, и гостеприимная, как мне почудилось секретарша... И только, войдя в кабинет секретаря, я усомнился в том, что мир так прост и прекрасен.
Все было мрачным и неприветливым в этом кабинете - и самый этот кабинет, и его хозяин.
Он был занят, когда я вошел, сосредоточенно листая и делая какие-то пометки в большом, красивом блокноте, лежащем перед ним на столе. Так занят и так поглощен этим занятием, что не ответил мне на приветствие и не предложил сесть.
Но в ту пору я тоже не мог похвастаться воспитанностью и тактом. И, не дождавшись приглашения, с полной непринужденностью, изобразив на лице доброжелательную улыбку, уселся против него. Эта улыбка часто мне потом вспоминалась, причем воспоминание это, скажем прямо, было не из приятных.
Молчание затягивалось, и, убрав с лица улыбку, я стал оглядывать кабинет и по тогдашней своей манере прежде всего попытался определить - сколько моих девятиметровых комнатушек могло бы в нем уместиться. Выходило, на глаз, что-то не меньше шести. Кабинет был заставлен тяжелой мебелью. Кресла, и в том числе то, в котором я сидел, были явно рассчитаны на то чтобы сидящий в них посетитель сразу же потерял присутствие духа - такие они были глубокие и так мало возвышались над полом. Диван был огромным и преследовал те же цели. Но тут мои наблюдения были прерваны.
- Я вас слушаю, - сказал Щербаков.
Очнувшись, но сразу же позабыв все, что намерен был сказать, я принялся заново истолковывать моему собеседнику смысл моей статьи и намерения, с которыми я ее написал, причем даже мне самому она, в нынешнем моем изложении, показалась неинтересной и непонятно зачем написанной.
Мой собеседник, судя по его виду, слушал меня с почти демонстративным невниманием.
И вдруг все происходящее мне представилось увиденным его глазами.
Вчера он завершил то, что было ему поручено. Завершил успешно, во всяком случае аудитория была им покорена. Теперь все пойдет «наверх» и им будут довольны. Зачем же ему нужен этот незваный докучливый посетитель, которого он, прорабатывая, даже называл «товарищем», а ведь это многого стоит. Что ему еще нужно?
И так все это складно выстроилось в моем воображении, что мне стало ясно: нужно кончать разговор и как можно скорее уйти. Но тут зазвонил телефон, и мой собеседник, отключившись от меня, и каким-то совсем другим, чем он говорил со мной, голосом принялся обсуждать достоинства и недостатки какого-то неведомого мне Мокрецова. А я, теперь уже без всякого интереса, стал рассматривать кабинет и его хозяина.
Такие они были непоколебимые, тяжеловесные, уверенные в себе... И мне вспомнилось требование Щербакова, обращенное к писателям, - «подравниваться под общий фронт советской литературы», вспомнилось усталое, но такое неповторимо «свое» лицо Андрея Платоновича Платонова, вспомнились насмешливые «независимые» рассказы Михаила Булгакова, с которым несколько дней назад меня познакомил Ильф, и сам Ильф, с его светлым даром находить и показывать смешное там, где никто, кроме него, ничего смешного не видел... И это к таким, как они, он смел обращаться с такой «программой»? Нет, поистине непосильную задачу взвалил на свои круглые плечи этот человек, пытаясь «управлять» литературой такими негодными средствами!
И, дождавшись конца телефонного разговора, я вдруг озлился и спросил:
- А что обо мне писали эти... наши враги. Покажите мне. Если я действительно виноват...
Но он не дал мне договорить. И, жестом остановив меня, заявил:
- Я не уполномочен знакомить вас с белогвардейской литературой и не намерен...
Но тут уж я его прервал:
- Вы что, боитесь, что, прочитав белогвардейскую газету, я стану белогвардейцем?
- Не на-ме-рен! - повторил Щербаков, повысив голос.
Не помню - что уж тут было мной сказано, но, видимо, и я тоже заговорил громче, чем полагалось. Во всяком случае, в дубовой панели, окаймлявшей стены кабинета, открылась невидимая до того дверца и из нее вышел хорошо мне известный таджикский поэт Лахути. Гневно посмотрев на меня, он на цыпочках подбежал к Щербакову и стал с ласковой заботливостью поглаживать его по плечу.
Тут меня осенило: «Уж не считают ли хозяин кабинета и его друг, что нынешняя их работа может довести до гибели на посту?» - подумалось мне.
И, ошеломленный этим предположением, я пошел к двери, почти не попрощавшись.
* * *
А через несколько дней мне стало известно - решительно не помню откуда, - что «белогвардеец», по словам Щербакова, «рукоплескавший мне», был давно любимый и уважаемый мной поэт Владислав Ходасевич.
1984
ЗИМНИЙ ДЕНЬ
Маленькая повесть
Все последнее время у Саши Белова было очень много забот. Начались холода, люди на постройке работали вяло, вопрос об опалубке все еще не был решен. Куницын доказывал, что предложение Белова требует тщательной проверки, ждали приезда на стройку заместителя министра, который намерен был сам во всем разобраться, и настроение у всех было до крайности напряженное. С утра в большой, тесно заставленной чертежными столами комнате бюро организации работ были зажжены все лампы. За окнами стояла сизая морозная мгла, чуть подсвеченная оранжевым зимним солнцем, и Саше с его места были видны покачивающиеся в окне пушистые от инея провода, от которых по временам отрывались и падали легкие белые хлопья.
Куницын вошел неслышно, мягко ступая, подошел к столу Верочки Шаховой, скосив глаза, из-под очков поглядел на чертеж, над которым она склонилась, и недовольно поморщился.
- Не нравится? - спросила Верочка низким, грудным голосом, что служило у нее признаком крайнего раздражения.
- Н-да, - протянул Куницын. Это не было ответом на Верочкин вопрос - он явно думал сейчас о другом, но Верочка смерила его презрительным взглядом и, пожав плечами, снова принялась за работу.
Куницын подсел к Сашиному столу, вынул из кармана портсигар, достал из него сигарету, переломил ее пополам, вставил в прокуренный мундштук и закурил, выпустив изо рта и из носа облако густого, медленно расплывающегося дыма.
- Вполне хватает половины, - сказал он, указывая на сигарету. - И вреда меньше, и дешевле вдвое. Не так ли?
Это куницынское «не так ли?» всегда раздражало Сашу, и сейчас, чтобы не сорваться и не наговорить резкостей, он стал разглядывать чисто промытые морщинки и складочки на лице старика и его худую, узловатую руку с тонкой, сухой, глянцевитой кожей, пытаясь представить себе, как этот человек ведет себя с близкими, радуется, горюет. Средство помогло, и Саше удалось успокоиться.
- В два часа нынче, - сказал Куницын почему-то шепотом, наклонившись вперед.
- Что - в два часа?
- Гости пожалуют. Заместитель министра и эти самые... консультанты. - Куницын вдруг прищурился и улыбнулся. - Так что уж вы готовьтесь. Можно сказать, решительный для вас день.
- Ну, а вы как же, будете говорить против? - спросил Саша и почувствовал, как кровь прилила у него к лицу.
- Ежели спросят... Я, знаете ли, выскакивать не люблю. Не та школа. Что же касается предложения вашего, то, как говорится, семь раз отмерь...
- Мало мы с вами мерили?
- Для такого серьезного дела мало... Ведь это, шутка сказать, милый друг, это... - Не найдя слов, Куницын развел руками. - А?.. Тут ведь думать и думать надо!
- Мало мы с вами думали, - сказал Саша вяло, почувствовал, что повторяется, и, окончательно рассердившись, встал. - И кроме того, не такое уж это серьезное дело! - добавил он раздраженно.
Куницын, продолжая сидеть, взглянул на него с любопытством.
- Спокойствие, дорогой товарищ, спокойствие! - с рассудительной торжественностью промолвил он. - В двадцать пять лет пора научиться выдержке.
- К вашему сведению, мне двадцать шесть, - буркнул Саша.
- Тем более, - ответил Куницын язвительно и вдруг хитренько подмигнул.
* * *
Середина дня прошла для Саши словно в тумане. Хождение по стройке, требовательные расспросы заместителя министра, приторно рассудительные соображения и возражения консультантов, большая молодцеватая фигура начальника строительства Харитонова, уверенным баском деловито и кратко рапортовавшего начальству, и свой противно срывающийся, хрипловатый и, как ему казалось, какой-то угодливый голос - все это слилось в почти физическое чувство горечи, стыда и разочарования. Тяжко было вспоминать обо всем, что произошло в этот день, от первой до последней минуты.
Перебирая в памяти все это сейчас, через два с лишним часа после того, как все уже кончилось, Саша не переставал дивиться тому, как глупо он себя вел. Теперь в голову ему приходили превосходные доводы в защиту его предложения, остроумные возражения на придирки консультантов, спокойные, исполненные достоинства замечания, с которыми следовало обратиться к заместителю министра; он придумал даже отличную шутку, с помощью которой можно было очень тонко дать понять Харитонову, как невежливо тот поступил, оборвав Сашу на полуслове, когда он ввязался в спор с консультантами...
Но все это приходило Саше на ум только теперь, а тогда... он поежился, вспоминая испытанное им унижение.
Выйдя на улицу, он не застегнул пальто и заметил это, только вздрогнув от холода.
- Как следует все обдумать! - произнес он громко, то ли повторяя слова заместителя министра, сказанные им в конце совещания, то ли обращаясь к себе самому. - Как следует все обдумать!
Две девочки, лет по четырнадцати, проходившие мимо, удивленно посмотрели на него, переглянулись и прыснули. Их розовые личики, обрамленные облачками легких заиндевевших волос, показались Саше удивительно милыми, и он внезапно почувствовал, как у него отлегло от сердца. И сейчас же, точно испугавшись, заставил себя вернуться к размышлениям о сегодняшней неудаче, - легкомыслие Саша считал одним из главнейших своих пороков и упорно боролся со всеми его проявлениями.
На углу он остановился, пережидая, когда можно будет перейти улицу, и вдруг вспомнил Куницына и его странное поведение в разговоре с заместителем министра. На один из вопросов старик ответил так, что могло показаться, будто он сочувствует предложению Саши, а возражения консультантов сопровождал такими сердитыми репликами, что к концу совещания оба они даже несколько оробели.
«Непонятный какой-то старик», - подумал Саша и стал переходить улицу.
У входа в метро он заколебался. Домой идти не хотелось - он знал, что не утерпит и, не отдохнув, сразу же сядет работать; вспомнил свой пыльный чертежный стол, лампу, прикрытую пожелтевшей, обгорелой бумагой, груду читаных книг на подоконнике, ковровый диван в углу, и повернул к остановке автобуса.
Прождав минут пять и, наконец, усевшись на одно из передних сидений, он вдруг почувствовал, что очень устал, и пожалел, что не поехал домой. Днем у него не было времени позвонить Татьяне, и теперь он не был уверен, что застанет ее.
В автобусе было почти так же холодно, как на улице. Белый бархатный иней покрывал не только стекла, но и потолок, люди сидели нахохлившись и смешно раскачивались на поворотах. Саша укутался потеплее и втянул голову в плечи.
В сущности, только теперь он по-настоящему понял смысл того, что случилось. До сих пор его недовольство собой было безотчетным, а в горечи, которую он испытывал, было даже что-то приятное. И только теперь ему впервые пришли на ум слова, которыми можно было определить то, что сегодня произошло. Он провалился! Провалился в первой же своей серьезной попытке сделать что-то по-настоящему самостоятельное и важное, что-то, по его понятиям, оправдывающее его звание инженера. И провал этот никак нельзя было объяснить несчастным стечением обстоятельств или происками врагов. Это была полновесная, чистая от примесей неудача, и виноват во всем был только он сам. Куницын кругом прав: он действительно не сумел предусмотреть всех мелочей, он действительно работал все это время в состоянии мальчишеской одержимости, мешавшей ему взглянуть на свою работу со стороны и самому увидеть все ее слабые стороны. Это следовало признать и переварить, это было бесспорно.
Он снова вспомнил, как дрожал его голос, когда он давал объяснения членам комиссии, и острое чувство стыда заставило его стиснуть зубы. Чтобы отдохнуть от этих мыслей, он огляделся вокруг.
Автобус стремительно мчался по прямой и широкой улице, и сквозь стекла шоферской кабины были видны плывущие навстречу в вечерней морозной мгле красные, зеленые и желтые огни светофоров и уличных фонарей.
На какой-то из остановок рядом с Сашей села молодая женщина с мальчиком лет четырех, старательно устроив ребенка у себя на коленях так, чтобы тот не испачкал соседа валенками. Саша поглядел на женщину и на ребенка и подивился их сходству. Круглое личико сына, как в зеркале, повторяло черты миловидного, немного усталого женского лица. И снова, как тогда на улице при взгляде на девочек, он почувствовал радость, по его мнению, ничем не оправданную, и, снова подавив ее, он заставил себя вернуться к горестным мыслям.
* * *
Татьяна была дома. Она сама открыла ему, постояла рядом, пока он раздевался в огромной, сумрачной передней, потом проводила его в комнату и, извинившись, убежала на кухню.
В комнате горела яркая лампа, затененная абажуром. На круглом столе поверх скатерти была разостлана салфетка и на ней аккуратно расставлен обеденный прибор. Саша погрел руки у радиатора, удовлетворенно подумав о том, что в комнате у Татьяны радиатор никогда не бывает пыльным, сел и стал перелистывать ученические тетрадки, стопкой лежавшие на валике дивана.
Первая тетрадка была исписана таким неразборчивым почерком, что, кроме названия сочинения - «Труд в творчестве Некрасова», Саше ничего не удалось в ней прочесть. Фраза, которой начиналось сочинение на ту же тему во второй тетрадке, заставила его улыбнуться. Каллиграфическими детскими буквами под заглавием было выведено: «Труд - это то, что отличает человека от обезяны». Последнее слово было подчеркнуто красным карандашом, и тем же карандашом наверху был вписан большой, размашистый мягкий знак с хорошо знакомым Саше Татьяниным завитком.
Саша отложил тетрадки, откинулся на спинку дивана и закрыл глаза.
По-видимому, он задремал, потому что, очнувшись, не сразу понял, где находится. В комнате, кроме Татьяны, был кто-то еще. Саша заставил себя открыть глаза и прислушаться к разговору, который вела Татьяна с человеком, стоявшим у двери. Она приглашала незнакомца войти, а тот, бросая смущенные взгляды на Сашу, топтался на месте, потирая озябшие руки, и извинялся за то, что пришел, не позвонив предварительно по телефону. Потом, видимо убедившись, что Татьяна искренне уговаривает его остаться, он вышел в переднюю и вернулся уже без пальто.
- Это товарищ Мезенцев, - сказала Татьяна, знакомя Сашу со своим гостем и чуть смущенно поглядывая на обоих мужчин. - Помнишь, я тебе говорила?
- Как же, конечно, - ответил Саша, хотя решительно ничего не помнил. Ему не раз случалось думать о чем-нибудь другом, когда Татьяна рассказывала о своих школьных делах и знакомых.
Гости отказались от обеда, и Татьяна, налив им чаю, села обедать одна.
Разговор не клеился. Заговорили о холодах, и Саша стал ждать, кто первый скажет, что если тепло в квартире, то не страшен мороз на улице. Ему почему-то очень хотелось, чтобы высказал это не слишком оригинальное суждение Мезенцев, и когда это сказала Татьяна, он досадливо поморщился и поглядел на нее с укоризной. Неприятно было еще и то, что Мезенцев перехватил его взгляд и опустил глаза, как показалось ему, с подчеркнутой деликатностью.
- Охота тебе повторять то, что тысячу раз до тебя говорилось, - пробурчал Саша и сейчас же пожалел об этом, увидев, как смутилась Татьяна.
Мезенцеву, видимо, тоже стало не по себе. Покосившись в его сторону, Саша увидел, как он с ненужной тщательностью разглаживает загнувшийся край салфетки. И вдруг все в этом человеке стало неприятно ему - и крутой завиток волос над высоким лбом, и узковатый, лоснящийся на отворотах пиджак, и манера держаться, немного стесненная и вместе с тем, как показалось Саше, внутренне самоуверенная.
Молчание становилось тягостным. Саша уже собрался заговорить, когда Мезенцев неожиданно улыбнулся и сказал, обращаясь к Татьяне:
- Видели сегодня Марию Пудовну?
- Неужели она пришла? - спросила Татьяна, оживившись.
- Пришла, и как ни в чем не бывало. Странная женщина.
- Я на ее месте сгорела бы со стыда.
По веселому блеску в глазах Татьяны Саша понял, что разговор этот очень ей интересен. Он потянулся за газетой, лежавшей на столе, и, рассеянно проглядывая ее, принялся размышлять о том, как должен был именоваться отец неведомой ему Марии Пудовны. Судя по всему, старик носил странное имя Пуд, и это вызвало у него неожиданное чувство злорадства. Покончив с этим вопросом, Саша углубился в чтение и совсем перестал прислушиваться к тому, что говорилось дальше.
Только однажды, когда Татьяна весело рассмеялась какому-то замечанию своего собеседника, Саша поднял на нее глаза, но сейчас же опустил их и принялся помешивать ложечкой остатки чая в своем стакане.
- Налить тебе? - спросила Татьяна.
- Нет, спасибо.
Он встал и пересел на диван.
Татьяна кончила есть, собрала посуду и вышла.
В комнате снова воцарилось молчание. Мезенцев, судя по всему, не собирался начинать разговор. Поняв это и решив быть великодушным, Саша заговорил первый.
- Вы работаете с Татьяной Степановной в одной школе? - учтиво спросил он, не глядя на собеседника.
- Да, но очень недавно, - ответил Мезенцев, поправил галстук и встал.
Вошла Татьяна и, подойдя к окну, сдвинула шторы. Она выглядела очень усталой, и Саша решил не засиживаться. Но когда Мезенцев стал прощаться, он, чтобы не выходить с ним вместе, сделал вид, что еще не собирается уходить.
* * *
Проводив гостя, Татьяна скинула туфли и с ногами забралась на диван.
- Никак не могу согреться - в кухне у нас очень холодно, - сказала она, зябко поеживаясь, и подняла глаза на Сашу. - Что с тобой сегодня? Какой-то ты хмурый. Чем-нибудь огорчен?
Было приятно чувствовать в Татьяне близкого человека, которому ведомы его тайные мысли, и вместе тем тягостно быть беззащитным против ее проницательности.
Саша невесело улыбнулся.
- Да нет, - сказал он, - пустяки всякие. Нормальная порция неприятностей по службе.
«Неприятности по службе» - это был условленный у них термин для обозначения мелких, случавшихся на работе невзгод, о которых не стоило говорить.
- А мне показалось - что-нибудь серьезное, - сказала Татьяна. - Поди сюда, сядь поближе.
Саша сел на валик дивана и погладил Татьяну по голове. Она слегка отстранилась и поправила волосы.
- Нет, сядь вот здесь. - Она подвинулась и освободила место рядом с собой. - Я хочу тебя видеть.
Он послушно пересел туда, куда она указала.
- Слушай, ты по-настоящему хорошо ко мне относишься? - спросила Татьяна, и в ее голосе послышалось что-то, заставившее Сашу насторожиться.
Он пожал плечами.
- А ты сомневаешься?
- Как тебе сказать... Я понимаю, что хорошо, но...
- Что - но?
- Но я не знаю, достаточно ли хорошо, чтобы порадоваться тому, что я тебе собираюсь сказать.
- А ты этому рада?.. Тому, что ты собираешься мне сказать?
Татьяна зажмурилась и кивнула.
- Ну, тогда в чем же дело? Значит, и я обрадуюсь. Ты ведь знаешь, что я...
Саша не кончил фразы и вгляделся в лицо Татьяны. Она все еще не открывала глаз, и лицо у нее было точно освещенное изнутри.
- Что ты мне хотела сказать? Таня! Почему ты молчишь? - сказал он, взяв ее за руку.
- Все пытаюсь угадать, как ты к этому отнесешься. Она наконец открыла глаза и смотрела теперь на него внимательно и пытливо, видимо стараясь не пропустить ни одного его движения.
- Знаешь, Саша, я, кажется, могла бы влюбиться, - сказала она наконец, и по голосу ее было слышно, как трудно ей далось это признание.
Саша достал папиросу, тщательно размял ее и закурил.
- Не понимаю, что это значит - могла бы влюбиться? А могла бы и не влюбиться?
- Я сама удивляюсь. Но вот так у меня получилось.
- В этого? - Саша показал на дверь, в которую незадолго перед тем вышел Мезенцев.
Татьяна кивнула.
- А он? - Саша почувствовал, как у него дрогнул голос.
- Потому я, наверное, и могла бы, что он... Очень уж давно меня никто не любил.
- Вот как?
- Да, Сашенька. Меня все время не покидает чувство, будто наши отношения стали тебя тяготить.
- Какие ты глупости говоришь!
- Нет, не глупости. И ты это превосходно знаешь. Но ты добрый, и ты хорошо ко мне относишься и поэтому делаешь вид, что по-прежнему меня любишь.
- А он догадывается... - у Саши пересохло в горле, и он глотнул, прежде чем продолжать, - он догадывается, что ты... что ты к нему... так относишься?
- По-моему, нет. Он очень застенчивый, и я решила... ну, в общем, я решила, если я почувствую, что он мне вправду нравится, сказать сама, первая. Только прежде я хотела поговорить с тобой. Когда ты пришел, я подумала, что надо поговорить сегодня, а потом мне показалось, что ты чем-то расстроен... Ну а потом ты сказал, что ничего серьезного не случилось... И вот...
- Ты же говоришь, что я тебя больше не люблю. От чего же было меня беречь?
- Саша, не надо так со мной говорить, - голос Татьяны звучал обезоруживающе кротко.
- Ладно, не буду. А какие у тебя намерения? Он что, не женат?
- Нет. Он ведь совсем молодой. Только на год старше меня.
- И ты могла бы выйти за него замуж, если бы он тебе это предложил?
- Не знаю... может быть... Знаешь, я устала от наших с тобой сложностей, и мне надоело быть главой семьи, которая состоит из одного человека. И я хочу пожить как все, чтобы обо мне кто-то заботился, хочу возвращаться домой с работы и знать, что меня кто-то ждет... Ты когда-нибудь видел на улице старичков и старушек, которые идут рядом и думают об одном и том же? Так вот я хочу когда-нибудь стать такой старушкой и идти рядом со своим старичком.
- А я не гожусь на то, чтобы стать твоим старичком?
- Ты меня никогда не пытался в этом уверить.
Ему нечего было возразить на это, и он молча стал разглядывать лицо Татьяны, повернутое к нему в профиль.
Удивительно милое у нее было лицо. Саша вспомнил, что два с лишним года назад, когда он впервые увидел Татьяну, он подумал, что нет на свете женщины, которая могла бы ему понравиться больше.
- А он хороший человек? - спросил он, с усилием оторвавшись от своих мыслей.
- Очень хороший, - убежденно сказала Татьяна.
- Лучше меня?
Саша почувствовал, что этот вопрос прозвучал у него совсем не шутливо, как ему бы хотелось, и согнал с лица принужденную улыбку. Но Татьяна не смотрела на него и ничего не заметила.
- Нет, не лучше, - сказала она. - Но он меня очень любит, и я проще себя с ним чувствую.
- А со мной ты как себя чувствуешь? Сложнее? Татьяна будто не слышала.
- Он не смотрит на себя все время со стороны... и поэтому я, ну... - она замялась.
- ...Лучше себя с ним чувствуешь. Ты уж говорила.
- Как-то проще... И он меня очень любит.
- Ты так часто это повторяешь, что можно подумать, будто ты не очень в этом уверена.
- Не надо, Саша, не смейся.
- Ладно. Больше не буду. Знаешь, я действительно за тебя очень рад. Во-первых, очень уж хорошо быть влюбленной, а потом, если он действительно хороший человек... Только я одного не могу понять - почему непременно нужно говорить первой?
- Ты о чем? Ах, об этом... А почему не сказать?
- Потому, что не всякий мужчина сумеет понять это правильно.
- Что ты имеешь в виду?
- А вдруг он подумает, что ты вешаешься ему на шею?
- Не подумает.
- Не знаете вы мужчин, - сказал Саша и встал с дивана. Он прошелся по комнате и остановился у полки с книгами. - Просто удивительно, как вы нас плохо знаете.
И неожиданно для самого себя он вдруг произнес целую речь о том, как следует вести себя женщине, чтобы не уронить своего достоинства в глазах мужчины и чтобы надолго привязать его к себе. Здесь были и литературные примеры, и эпизоды из собственной Сашиной биографии, и происшествия, рассказанные ему друзьями. И вся эта речь, как ему в тот момент казалось, была проникнута искренним стремлением помочь Татьяне, уберечь ее от беды, сделать так, чтобы, оставшись одна, без Саши, она не наделала глупостей и счастливо устроила свою жизнь.
Татьяна слушала его молча. По временам он ловил на себе ее недоумевающий и печальный взгляд, и это точно подстегивало его, и он говорил все с большим увлечением и все более красноречиво, а в груди у него росло ощущение боли и пустоты, и, чтобы не дать этому чувству выйти наружу, он неожиданно оборвал свою речь и, пробормотав что-то о позднем времени и о том, что на днях позвонит, пошел к двери.
Татьяна все так же молча, не пытаясь его удержать, проводила Сашу в переднюю, поправила на нем шарф, который ни за что не хотел укладываться как следует, и, уже когда он вышел на лестничную площадку, тихо спросила:
- Ты не придешь завтра обедать?
У них было заведено по воскресеньям обедать вместе, иногда в ресторане, но чаще у Татьяны, которая любила в этот свой свободный от школы день повозиться с хозяйством.
- По-моему, мне лучше некоторое время не приходить, - сказал Саша и погладил Татьяну по плечу.
Уже спускаясь по лестнице, он услышал, как медленно закрылась за ним дверь.
* * *
Наутро щемящее чувство в груди не только не улеглось, но даже стало как-то острее. Саша попробовал поработать, но все валилось из рук, читать было нечего, видеть никого не хотелось. Он постоял у окна, провожая глазами снежинки, медленно падавшие на обледенелый асфальт двора, и вдруг решил выйти на улицу.
Было чуть теплее вчерашнего. По тротуарам двигалась густая толпа, и, как всегда в выходной день, было много принаряженных ребятишек, семенивших рядом с родителями. Огромное медное багровое солнце, ничего не освещавшее и непохожее на себя, висело между домами.
Саша медленно брел по улице, изо всех сил стараясь почувствовать удовольствие от этой бесцельной прогулки, но очень скоро притворство надоело ему, и он признался себе, что больше всего на свете ему бы хотелось сейчас свернуть к остановке автобуса, который шел к дому Татьяны. В голове возникли удобные мысли, что своим приходом он, в сущности, ничего не изменит, что отношения все равно выяснены, что вчерашний разговор показал, как искренне он рад счастью Татьяны, но, поняв, что хитрит с собой, он попытался прогнать эти мысли и, чтобы окончательно отвлечься от них, решил пойти на постройку.
Уже шагая по деревянным мосткам вдоль высокого забора, которым было отгорожено строящееся здание со тороны переулка, Саша понял, что правильно поступил, придя сюда. Конечно же только работа и мысли о ней могли помочь ему не думать о том, что произошло вчера у Татьяны.
В проходной в клубах холодного сизого табачного дыма, с газетой в руках сидел на табуретке сердитый инвалид в солдатской шинели - личность весьма популярная на строительстве. Был он всего-навсего сторожем, но ему до всего было дело. Рассказывали, как однажды, остановив у ворот главного инженера, он стал выговаривать ему за то, что не выполняется план по бетонным работам, а тот, опешив, принялся оправдываться и уверять, что в следующем месяце план будет перевыполнен.
Саша поздоровался со сторожем и вышел во двор. Здесь царил образцовый порядок. Контейнеры с кирпичом стояли ровными рядами на отведенном для этого месте, рядом были аккуратно сложены обернутые в бумагу облицовочные плиты, немного поодаль лежали штабеля стальной арматуры, похожие на огромные птичьи клетки. Саша взошел по мосткам в будущий вестибюль и стал подниматься по лестнице.
Непривычно выглядело сегодня строительство, погруженное в тишину и ледяное оцепенение. Все здесь хранило следы человеческих рук, но застыло, словно в сказочном сонном царстве, и было необыкновенно приятно чувствовать себя единственным обитателем этого огромного, неподвижного мира. Чем выше поднимался Саша с этажа на этаж, тем сильнее овладевало им это чувство.
Его опалубка была сооружена на двенадцатом этаже. Дойдя до площадки лестницы, где на фанерном щитке мелом была написана эта цифра, он остановился, чтобы перевести дыхание, и заглянул вниз. Улица, уходившая у него из-под ног, сверху казалась безлюдной. Лишенный подробностей пейзаж выглядел необыкновенно упорядоченным и аккуратным. Морозный воздух был неподвижен, столбы дыма подымались из труб пышными, прямыми султанами. На горизонте, тускло вырисовываясь в тумане, вздымались контуры строящихся многоэтажных домов. Точно братья-великаны среди обыкновенных строений, столпившихся у их ног, они приветствовали друг друга поднятыми вверх руками подъемных кранов.
Саша давно уже завидовал своим товарищам по институту, которым посчастливилось работать на стройке одного из таких домов. Он глубоко вздохнул и только теперь заметил в нескольких шагах от себя, именно там, где видны были кружала новой опалубки, фигуру Куницына в высокой каракулевой шапке и длинном, старомодном пальто. Куницын стоял спиной к нему, опираясь на палку, и что-то разглядывал у себя под ногами.
Стараясь ступать неслышно, Саша подошел к старику и окликнул его.
Тот обернулся и, ничуть не удивившись, заговорил, будто продолжая начатый разговор:
- Непреодолимое, видите ли, препятствие! Скажите пожалуйста, не отстанет! А мы пораздумаем и сделаем так, чтобы отстала. Не так ли?
Видимо, он имел в виду одно из возражений консультантов из министерства, которые опасались, что после того, как бетон затвердеет, трудно будет отделить от него опалубку, чтобы опустить ее этажом ниже.
- Так-то вот, - продолжал он, сердито глядя на Сашу поверх очков. - И не спорить нужно было вчера, а пошевелить мозгами и найти выход. За разумные возражения деньги платить следует. А ежели нет их, этих самых возражений, самому их придумывать. И не кидаться на людей, как мы с вами вчера кидались!
- Я не понимаю, о чем вы, собственно, говорите? - спросил Саша.
- Отлично вы все понимаете, - пробурчал Куницын. Он был сегодня суровее, чем всегда, и разговаривал с Сашей без тени своего обычного покровительственного юмора. - И понимаете все, - повторил он, - и решение могли бы найти. Но вот нет у вас, у молодых инженеров, привычки смотреть на свою работу со стороны. Выдумают что-нибудь и кудахчут, как наседки, на всех, кто осмелится подойти близко. Но самое обидное, что и я себя вчера так же вел. Люди дело говорят, а я их сбиваю. Будто не в том задача, чтобы научиться строить как следует, а в том, чтобы переспорить кого-то, покрасоваться перед начальством: вот, мол, как у нас языки-то привешены!
Куницын минуту помолчал и вдруг ткнул Сашу в грудь пальцем.
- Ну? Думайте! Как бы нам ликвидировать эту самую неприятность? Я вот уже целую неделю ломаю голову и ничего не могу придумать.
Саша с удивлением поглядел на Куницына.
- Так-таки ничего нельзя сделать? - требовательно переспросил тот.
- Как вам сказать... - нерешительно протянул Саша. - Была у меня одна мысль... Можно попробовать резиновую прокладку... она и поверхность бетона даст более ровную, но...
- Что - но? Что - но? Почему же вы до сих пор молчали? Попробуем прокладку. Всенепременно! Может быть, здесь-то и найдем решение вопроса! А не найдем, дальше будем думать. И не о чем больше толковать. И уж во всяком случае незачем нам с вами мерзнуть тут без толку. Не так ли?
Даже обычная присказка звучала сегодня у Куницына иначе, чем всегда. И, поглядев на то, как резво шагает старик через высоко выступающие над полом стальные балки, направляясь к лестнице, Саша подивился тому, как мало он знал до сих пор этого человека, с которым проработал бок о бок уже около двух лет.
* * *
Все время, пока они спускались по лестнице, Куницын толковал об опалубке, часто останавливаясь, размахивая палкой и чертя ею на полу и на стенах воображаемые схемы, подтверждающие справедливость его рассуждений. То, что Саша все время молчал либо отделывался односложными замечаниями, нимало его не заботило. И только выйдя на улицу, он вдруг остановился, с неожиданным участием посмотрел на своего спутника и спросил:
- Вы что, нездоровы?
Саша сказал, что здоров, но Куницын, видимо, не поверил ему.
- Совершенно незачем было больному выходить на мороз, - сказал он. - Позвонили бы по телефону, я бы зашел, и у вас бы потолковали. Вы один живете или с семейством?
- Да ничем я не болен, - недоумевая, сказал Саша. - И потом, я что-то не понимаю... Мы ведь с вами ни о чем не уславливались... И встретились, по-моему, совершенно случайно... Или я позабыл?
- Ничего вы не позабыли. Уславливаться мы действительно не уславливались, но хорош бы я был, ежели бы не предвидел, что вы отправитесь сегодня глядеть на свою опалубку. Время вот нелегко было угадать... Ну, думаю, схожу часам к двум, авось встретимся. Так что какой уж тут случай!
Саша недоверчиво улыбнулся.
- Смейтесь, смейтесь, - тоже улыбаясь, сказал Куницын. - Поживете с мое, тоже будете в мыслях читать. А нездоровье ваше даже в литературе описано... У Федора Михайловича Достоевского. У него этим недугом все герои страдают на почве тяжелых переживаний. Называется - нервическая лихорадка.
Куницын прищурился и подмигнул.
- Ну ладно, не сердитесь на старика, - добавил он примирительно.
Но Саша и не думал сердиться. По всему было видно, что Куницын от души сочувствует ему и изо всех сил стремится помочь. И так ко времени было это дружеское участие, таким добрым выглядел сейчас этот обычно замкнутый и насмешливый человек, что Саша вдруг почувствовал, что мог бы рассказать ему не только о вчерашних размышлениях по поводу своей инженерской никчемности, но даже и о разговоре с Татьяной, и обо всем, что с этим разговором для него было связано.
Они подошли к входу в метро. Из тяжелых дверей вырывались клубы пара. Продавщицы сластей топтались у своих лотков, дуя на закоченевшие пальцы.
Пропустив Куницына вперед, Саша вошел за ним следом в теплый после улицы вестибюль и направился было к кассе, но Куницын удержал его за руку.
- У меня книжечка, - сказал он и потянул его за собой к эскалатору.
Когда они вышли на перрон, поезд только что подошел. Толпа разделила их, и они всю дорогу молчали, лишь изредка поглядывая друг на друга, причем Саша всякий раз отводил глаза, испытывая смущение от внезапной близости, которая между ними возникла. Если бы он намерен был ехать к Татьяне, ему бы следовало сойти уже через две остановки, но он решил проводить Куницына и поехал дальше.
- Вы что, тоже в этих краях обитаете? - спросил тот, когда они вышли наконец из вагона.
- Нет, но мне спешить некуда, и я вас провожу, если вы не возражаете, - сказал Саша, почему-то опять смутившись.
Куницын пристально поглядел ему прямо в глаза, потом, видимо на что-то решившись, поманил его за собой пальцем и направился в сторону, противоположную выходу.
Саша, недоумевая, пошел за ним.
Дойдя до конца перрона, где было совсем безлюдно, Куницын уселся на мраморную скамью с деревянным сиденьем и указал Саше на место рядом с собой.
- К себе вас пригласить не могу, - сказал он, расстегивая пальто и усаживаясь поудобнее, - у меня сегодня племянник с женой и ребятами обедают, и по сему случаю в квартире дым коромыслом, а потолковать нам с вами следовало бы. Так что усаживайтесь, и поговорим здесь. Жалко - курить нельзя, да уж ладно, как-нибудь перемучаемся.
Саша сел рядом с Куницыным и уставился себе под ноги. Ему все еще было не по себе.
- Ну-с, - сказал Куницын, глядя на него поверх очков. - Так о чем же мы с вами толковать будем? Вы мне ничего не хотели поведать?
- Я, собственно... - замялся Саша.
- Правильно. Это не вы мне, а я вам имел намерение кое-что сказать.
Куницын помолчал немного, будто собираясь с мыслями, поправил очки и вдруг коротко хмыкнул.
- Удивительная манера у нас, у мужчин, - сказал он. - До смерти боимся всякой душевности. Ну что, в самом деле, мы с вами сегодня сделали такого, из-за чего бы следовало прятать друг от друга глаза... Ну, отправились в выходной день на постройку, встретились, разговорились... Ну, выяснилось, что один из нас не такой уж старый брюзга, как первоначально предполагалось, и что с ним, пожалуй, можно бы даже и подружиться... Так ведь этому радоваться надо, а не прятать глаза. А? Как вы считаете?
Саша смущенно пожал плечами и улыбнулся.
- Вот то-то. А все боязнь показаться смешным и еще одна боязнь, такая же глупая, как и первая, - упаси бог не пойти проторенными путями. Сколько эти две боязни бед на земле наделали, страшно подумать. Я вот, например, в вашем возрасте Новый год не справлял, пробор в волосах носил с правой стороны, барышнe в любви объясниться боялся... А недавно я у Толстого знаете что прочел? Он, оказывается, когда писал «Войну и мир», больше всего старался, чтобы у него получилось совершенно так же, как у других. Вот она где - настоящая сила, настоящая уверенность в себе!
Куницын в возбуждении даже привстал, но сейчас же снова сел, выжидательно глядя на Сашу. Мимо них с победным воем промчался ярко освещенный поезд и исчез в туннеле, оставив после себя вихрь теплого воздуха.
- Я вас второй год наблюдаю, - продолжал Куницын уже спокойно. - Связанный вы какой-то, весь в этих самых боязнях, точно в репьях. Смотрите все время на себя со стороны и очень себе не нравитесь. Разумеется, это хорошо, когда человек сам от себя не в восторге. Но мера во всем нужна, ме-ера! Не так ли? Вы только подумайте, в какое время и в каких обстоятельствах мы живем! Какую мы с вами свободу завоевали в одна тысяча девятьсот семнадцатом году! А вы тени своей боитесь! Вы как полагаете, - ошибку свою признать - это стыдно? Или поступить так, как все поступают? Или дать волю своему чувству? Эх, скинуть бы мне годиков тридцать! Сколько я на своем веку дел не сделал, сколько речей не произнес, со сколькими хорошими людьми не подружился, сколько вальсов не станцевал - вспомнить страшно!
Куницын помолчал и, досадливо покрутив головой, добавил:
- Бестолково я говорю. Хочется, понимаете, выразить свои мысли коротко, связно, а вот не получается. Что тут поделаешь?
- Совсем не бестолково, - сказал Саша. - И если бы вы только знали, как для меня сейчас важно то, что вы говорите.
Он полез в карман и вынул папиросы, потом вспомнил, что курить нельзя, и сунул коробку обратно.
- Пришел ко мне недавно один приятель и рассказывает такую историю, - начал он нерешительно, словно не зная, продолжать ли.
Но тут мимо опять промчался поезд, и пришлось подождать, пока не утихнет грохот.
- Я вру, это не приятель, - сказал вдруг Саша, - это со мной самим произошло.
И, торопясь, волнуясь, подыскивая слова, пытаясь иронией прикрыть волнение и сознавая, что Куницьщ все это видит и понимает, он рассказал ему всю историю своих отношений с Татьяной вплоть до вчерашнего вечернего их разговора. Рассказал про то, как они познакомились накануне Сашиного отъезда в Москву в южном курортном городке, где Татьяна гостила у своих родителей; как они провели вместе весь этот ослепительно-жаркий, счастливый день и расстались только под вечер, условившись, что назавтра Татьяна придет на вокзал к отходу московского поезда; как он ждал ее на другое утро, стоя у своего вагона, и, уже отчаявшись дождаться, увидел, что она бежит вдоль поезда и ищет его глазами; как расцеловались они на прощание, испуганные и счастливые внезапно возникшей между ними близостью; как встретились через две недели в Москве и он вскоре заболел воспалением легких, а она не позволила везти его в больницу и ухаживала за ним, проводя у него все свободное время. Рассказал о том, как понравилась Татьяна его матери, когда та приезжала в Москву, как мать убеждала их не мудрствовать и пожениться, а он доказывал, что, живя врозь и не обременяя друг друга, они вернее сохранят свое чувство. Тут Саша на минуту молк и, сморщившись, точно от боли, заставил себя вспомнить и повторить все свои тогдашние рассуждения - о работе, которая должна быть для человека «прежде всего», о том, что, ставя перед собой «большие цели», человек не вправе обзаводиться семьей и «размениваться на мелочи», - словом, рассказал обо всем, что после вчерашнего разговора с Татьяной с особенной яркостью всплыло в памяти, рождая чувство гнетущей тоски и стыда, с которым он никак не мог справиться.
Куницын слушал его молча, глядя куда-то в сторону. Когда Саша кончил, он медленно повернулся к нему и покачал головой.
- Н-да, хорош мальчик, - промолвил он сокрушенно. - И самое печальное, что ведь и ее, наверное, убедил в своей правоте. Шутка ли сказать - большие цели! Тут ведь кто угодно спасует. - Он переждал, пока пройдет поезд. - Ну, а сейчас что вы обо всем этом думаете?
- Сейчас я думаю только о том, что я жить без нее не могу, - криво усмехнувшись, прошептал Саша.
Куницын будто не слышал.
- И ведь что характерно? - продолжал он. - Характерно, что по-настоящему оценить весь этот мальчишеский вздор, со всеми этими рассуждениями о высоких целях и о личной жизни, которая, видите ли, мешает работе, нам только тогда удается, когда прищемит нас как следует. Простого не можем понять до времени, что ведь и для больших дел человеку нужна родная душа. А? Как вы считаете?
- Ничего я сейчас не считаю, - сказал Саша. - Просто мне очень худо.
- Ну вот видите, - чему-то вдруг обрадовавшись, воскликнул Куницын. - Тогда мы с вами вот как поступим: вы сейчас отсюда прямо к ней и ступайте.
- К кому? К Татьяне?
- Что у вас за манера, честное слово, делать вид, что вы не понимаете, о чем идет речь!
- Так ведь она...
- Ну уж, что она, об этом вам трудно судить. Молоды слишком. Тем более что она и сама этого, вероятно, не знает. Мой вам совет - ступайте сейчас к ней и про все расскажите. Про то, что сердце щемит, про то, что не спали всю ночь.
- Я спал, - жалобно сказал Саша.
- Спали? Н-да... Непонятный народ! Ну тогда про это не говорите. Врать не надо.
- Значит, вы считаете, что нужно идти? - сказал Саша, поднимаясь и застегивая пальто.
- Считаю, что нужно, и со всеми вытекающими отсюда последствиями, - сказал Куницын, тоже вставая. - А про опалубку завтра поговорим. Отличная вам пришла в голову идея. Хорошо бы эту самую резиновую прокладку поскорее соорудить. А? Как вы считаете?
Но Саша уже не слышал. Мысли его теперь были заняты тем, как проще всего добраться до дома Татьяны. И, решив доехать до центра на метро, он больше всего был озабочен мыслью о том, как бы поскорее распрощаться с Куницыным, чтобы попасть на первый же поезд.
К счастью, Куницын понял и это. Он вдруг заторопился и, не позволив Саше проводить себя, сам усадил его в вагон. Была еще подробность в их расставании: подталкивая Сашу к двери вагона, Куницын как-то совсем по-отечески погладил его по плечу. Но об этом Саша вспомнил уже много позднее.
Подойдя к знакомому серому дому, он остановился и перевел дух. Ему не хотелось, чтобы видно было, что он торопился. Отдышавшись и нарочито медленно поднявшись по лестнице, он позвонил три раза и стал прислушиваться к тому, что происходит за дверью.
- Татьяны Степановны нет, - послышался оттуда голос одной из Таниных соседок, и ему сейчас же открыли.
В полутьме он не разобрал, кто перед ним, поблагодарил и, что-то пробормотав о том, что он сам посмотрит, дома ли Татьяна, пошел к ее двери. Тихонько постучавшись раз и другой и не дождавшись ответа, он вошел в комнату. Зимний день подходил к концу, и здесь было сумрачно. На диване, укутанная белым пуховым платком, спала Татьяна.
Саша вышел в переднюю, снял пальто и, вернувшись, тихо прикрыл за собой дверь. Татьяна, ровно дыша, лежала все в той же позе. На цыпочках он подошел к окну и стал глядеть на улицу, пытаясь заново передумать то, о чем они говорили с Куницыным. Но это решительно не удавалось ему. В голову лезли обрывки каких-то давних воспоминаний, какой-то вздор, не имевший никакого отношения к сегодняшним его размышлениям; неожиданно ему вспомнилась улица, на которой он рос, потом почему-то лицо пианиста, которого они с Татьяной слушали на прошлой неделе; он вдруг представил себя на месте этого пианиста, выходящим на залитую светом эстраду, и даже похолодел от волнения, так явственно предстала перед ним эта картина. Прогнав ее, он отвернулся от окна и, взглянув на Татьяну, увидел, что она уже не спит и глядит на него, прищурившись и точно не узнавая.
- Ты давно пришел? - спросила она, поправляя платье.
- С полчаса, - ответил он, отходя от окна и садясь. - Ты обедала?
- Нет. Я поздно сегодня завтракала.
- А потом что делала?
- Убирала комнату, плакала, принимала посетителей, опять плакала, потом вот поспала немного.
- Каких посетителей?
- Может быть, тебе бы лучше следовало спросить, почему я плакала?
- Это я и так знаю.
- Вот как? А ты тоже еще не обедал?
- Нет... Так почему же ты плакала?
- Сама не знаю. Я очень тебя жалела, и потом... ну, трудно же мне все решать самой.
- Очень меня жалела? - искренне удивился Саша.
- Конечно. Если бы ты видел, какое у тебя было лицо, когда ты вчера уходил...
- У меня вчера на работе было все очень сложно.
- Почему же ты сказал, что ничего не произошло?
- Очень издалека нужно было рассказывать.
- Вот бы и рассказал... Вместо того чтобы учить меня уловлять сердца.
- Таня!
- А по-твоему, как это называется?
Саша вспомнил вчерашние свои поучения и поежился.
- Я тебе говорил когда-нибудь про мою опалубку? - спросил он.
- Нет, не говорил. Не переводи, пожалуйста, разговор.
- Я не перевожу. Ты же сама просила рассказать, что у меня вчера произошло на работе.
- При чем здесь опалубка?
- При том, что это вроде как бы мое изобретение, и я с ним вчера провалился.
- Какой ты все-таки скрытный, Саша. Я тебе всегда обо всем рассказываю, а ты...
Татьяна встала с дивана и, подойдя к зеркалу, провела щеткой по волосам.
- Трудно тебе живется на свете, - сказала она, глядя на Сашу в зеркало. - Все время один и один...
Саша молча глядел на Татьяну, чувствуя, как все слова, которые он готовился сказать ей, тускнеют и становятся лишними.
- Слушай, пойдем куда-нибудь пообедаем, - предложил он неожиданно для себя самого.
- Никуда я не пойду. Разве ты не видишь, какие у меня глаза?
Только теперь Саша обратил внимание на то, что глаза у Татьяны вспухли и покраснели.
- Знаешь, а тебе это идет, - заметил он, улыбаясь.
- Какой вздор! Кому могут идти заплаканные глаза?
- Тебе вот идут.
- Пожалуйста, не утешай меня. Я в этом совсем не нуждаюсь. Я сегодня сильная, самостоятельная и злая. Лучше расскажи про опалубку. Это имеет какое-нибудь отношение к палубе?
- Нет, не имеет. Для жены строителя ты плохо разбираешься в этих вещах.
- Я не жена, а возлюбленная строителя. И преподавательница русского языка в средней школе.
Татьяна взбила волосы на висках и, приблизив лицо вплотную к зеркалу, стала мизинцем разглаживать воображаемые, как всегда утверждал Саша, морщинки в углах глаз.
- Мы долго будем говорить в таком тоне?
- Нет, не долго. Расскажи про опалубку.
- Ну ладно... Что ж тебе рассказать... Значит, опалубка - это деревянная форма, в которой отливают бетонные части сооружений. Сейчас речь идет об опалубке для междуэтажных перекрытий. Понимаешь?
- Понимаю. Пол, потолок... Между этой комнатой и той, которая наверху, - она указала вверх пальцем.
- Правильно. Так вот, до сих пор такие перекрытия делались по мере того, как строители подвигались вверх с этажа на этаж. И когда бетон твердел, опалубку ломали. А я предлагаю в многоэтажных зданиях начинать отливку перекрытий сверху, и по мере того, как бетон будет твердеть, на блоках опускать опалубку, не ломая ее, и снова заливать бетоном. Вот и все. Как видишь, открытие не мирового масштаба.
- Ну, а дальше?
- Что дальше?
- Что с этим твоим предложением?
- Да ничего... Осенить, как говорится, меня осенило, а разработать свой метод я как следует не сумел. Вот и провалился.
- То есть как? Совсем провалился?
- Может быть, не совсем, но есть о чем поразмыслить... Слушай, Таня... - Саша замолчал и принялся рисовать пальцем на валике дивана воображаемые узоры. - Кто у тебя сегодня был? Мезенцев?
- Да.
- Ну и что же? Ты действительно думаешь, что он лучше, чем я?
- Действительно думаю. Но я ему сказала, что я не выйду за него замуж.
- Он тебе это предложил?
- Надо полагать, если я говорю, что мне пришлось ему отказать.
- А ты... а почему ты так решила? - произнеся эти слова, Саша вдруг почувствовал, как впервые за сегодняшний день исчезло чувство тяжести, мешавшее ему двигаться, дышать, говорить.
- Почему я решила так поступить? - медленно переспросила Татьяна и улыбнулась. - Неужели я должна тебе объяснять?
- Таня! - сказал Саша, вставая с дивана.
...О том, что случилось после этого, он всегда вспоминал со смешанным чувством умиления и неловкости. Ему вдруг стало трудно дышать и, шагнув вперед, он крепко прижал Татьяну к себе и стал гладить ее плечи, невнятно бормоча какие-то неуклюжие ласковые слова и отворачиваясь, чтобы она не увидела того, что с ним происходит. Но когда она наконец оторвалась от него и взглянула ему в лицо, глаза у него все еще были мокры от слез, и с этим уже ничего нельзя было сделать.
1965
Содержание
ТРУДНАЯ ПРОФЕССИЯ (Вместо предисловия)
ОХ, УЖ ЭТИ СПОСОБНЫЕ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ!
ДАВНИЕ ВРЕМЕНА (Эдуард Багрицкий)
ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ
М. М. ЗОЩЕНКО
ИЛЬЯ ИЛЬФ
ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ
ДВЕ ВСТРЕЧИ (Из воспоминаний об А. С. Макаренко)
ПОИСКИ НЕ УВЕНЧАЛИСЬ УСПЕХОМ (Хэмингуэй)
АДМИРАЛ ИСАКОВ (и об А.Маринеско)
ЮРИЙ ГЕРМАН
ВЕЛЬМОЖА
ПРОРАБОТКА (Щербаков)
ЗИМНИЙ ДЕНЬ (Маленькая повесть)
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
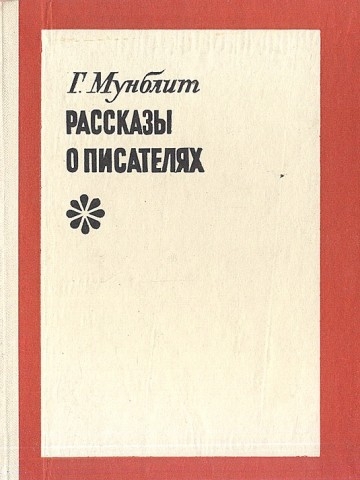

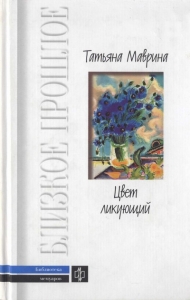



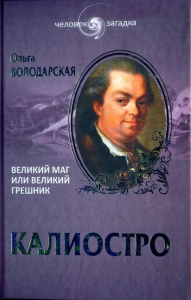

Комментарии к книге «Рассказы о писателях», Георгий Николаевич Мунблит
Всего 0 комментариев